Историческая культура императорской России. Формирование представлений о прошлом Коллективная монография в честь профессора И. М. Савельевой
Предисловие
Коллективная монография, посвященная основным формам и институтам «переработки прошлого» в императорской России, стала результатом общих усилий исторической «команды» Института гуманитарных историко-теоретических исследований. Нам особенно важно отметить, что к ее замыслу и первым обсуждениям состава и содержания был непосредственно причастен Андрей Владимирович Полетаев (1952–2010) – один из основателей ИГИТИ, ныне носящего его имя. Решающую роль в подготовке сборника на начальных стадиях его формирования сыграл декан факультета истории НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник ИГИТИ профессор Александр Борисович Каменский.
Эта книга посвящается юбилею директора ИГИТИ, ординарного профессора НИУ ВШЭ Ирины Максимовны Савельевой. Для членов авторского коллектива ее работы были и остаются ориентиром в области теоретического осмысления как наших собственных исследований, так и базовых характеристик того поля, в котором мы работаем как ученые. Изучение исторического сознания, исторической культуры, взаимосвязей и сложной эволюции представлений о прошлом в самых разных обществах и на всех континентах теперь неотделимо от ее вклада, системного мышления и характерного исследовательского почерка. Нам особенно отрадно отметить, что в ее работах (как и, мы надеемся, на страницах этой коллективной монографии) преодолевается привычное разделение исторической профессии на специализации по русской или зарубежной истории, со своими часто неотрефлексированными ограничениями и односторонностями. Национальную науку или историческое сознание – будь то в Германии позапрошлого века, в Америке или в нынешней России – профессор Савельева неизменно рассматривает и оценивает в широком международном контексте. То, что изучение своего прошлого оказывается особенно пристальным и многосторонним именно в свете уроков европейского и мирового опыта, всегда было для нее аксиомой.
Бесспорный научный авторитет Ирины Максимовны счастливо дополняется ее организаторскими заслугами, но главное – непрестанными усилиями по поддержанию качества и стиля работы нашего исторического и гуманитарного цеха. Во всем этом сказывается ее эрудиция и вкус к теории, редкое сочетание благожелательного внимания к чужому мнению и бескомпромиссного следования собственному видению и приоритетам в науке. Все эти характеристики – вовсе не дань юбилейной риторике или дежурные похвалы начальству (ибо работать с Ириной Максимовной интересно и ответственно, а не просто приятно). Скорее празднование юбилея – важный повод сказать то, что остается фоном разнообразных научных дел и хлопот, конференционных дискуссий, деловых или житейских бесед, но вслух произносится весьма редко. Мы, как и раньше, с нетерпением ждем новых статей и книг Ирины Максимовны, продолжения споров и общения и уверены в многолетней дальнейшей работе по сов местному постижению прошлого, которое никогда не бывает утраченным без остатка.
Введение А.Н. Дмитриев Прошлое нашего прошлого: проблематика исторической культуры в Российской империи
Историческая культура – понятие относительно новое, устойчиво вошедшее в лексикон гуманитариев только в последние десятилетия. Между тем сам феномен сложного и иерархического единства представлений о прошлом, аккумулируемых и транслируемых в коллективном опыте человечества, едва ли не так же древен, как письменные практики первых цивилизаций. 1980–2000-е годы стали временем подлинного бума «исторической памяти» – количество публикаций, связанных с этой темой и сопутствующими категориями прибавляется в каждой стране практически ежемесячно, если не ежедневно. Внимание и интерес к сюжетам прошлого, актуально присутствующим в жизни того или иного современного сообщества, обычно сосредоточены на «горячих» и спорных сегодняшних проблемах (в разных регионах мира связанных более всего с наследием Второй мировой войны или расовой сегрегацией и колониальным прошлым, а кроме того и с памятью о минувшей эпохе «реального социализма»). В отличие от публицистов и журналистов ученые с самого начала вели речь и о более широком хронологическом понимании проблематики исторической памяти – о составе и операциональных блоках, тех или иных когнитивных и идеологических модусах понимания истории уже не только «здесь и сейчас», но и в самых разных обществах и цивилизациях, включая давно исчезнувшие[1]. И понятие «историческая культура», учитывающее немецкий послевоенный опыт «переработки прошлого», как раз и способствовало переосмыслению новейших стереотипов или уже опробованных историографических канонов. Перед историками разных школ и поколений встает задача показать эволюцию «высокой» исторической традиции и академической науки на фоне изменчивого неспециализированного знания о прошлом, осмыслить взаимосвязи многообразных исторически контекстуальных форм и практик присвоения и освоения минувшего[2].
Очень большую роль в обновлении критических представлений о формах и способах присутствия истории в европейском (по преимуществу) культурном и политическом сознании сыграли работы, представленные в известном сборнике под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Ренджера «Изобретение традиций» (1983)[3]. «Удревнению» проблематики памяти и расширению употребления понятия «коммуникации» в сфере исторических исследований способствовал цикл трудов Яна и Аллейды Ассман[4]. Все эти перемены повлияли на представления о характере и структурах исторического сознания. Бывшее ранее (особенно в отечественном обиходе) категорией преимущественно социально-философской, теперь оно стало употребляться в более тесной связи с проблематикой историописания (в том числе взятого и в более обширной перспективе – от локального до национально-государственного и общерегионального, вплоть до глобальных масштабов)[5]. Понятие «историческая культура» в отличие от всеохватного исторического сознания акцентирует как раз институциональный и рефлексивный, сознательно направляемый («культивируемый») аспект представлений о прошлом. Недаром, особенно в современной немецкой традиции, проблематика исторической культуры обсуждается в прямой связи с вопросами не только идеологии, но и культурной политики, политики образования, и даже школьной дидактики[6].
Понятие исторической культуры охватывает многообразные отношения между профессиональной историографией и более обширной сферой общественных представлений об истории (историческим сознанием) в разные эпохи и периоды[7]. Притом характер этих взаимодействий понимается не как однонаправленный процесс продвижения от сознания «вообще» к науке – исключительно в плоскости академизации и критического пересмотра повседневных, массовых или обыденных представлений о прошлом. Пространство исторической культуры начиная с XIX века также непременно включало в себя и сферу обратных связей – область популяризации, распространения и переприсвоения, своеобразного «низового» переписывания истории, транслируемой «сверху» (точнее из политического, идеологического или символического центра, столицы, университета и т. д.). Кроме того, в зазоре между профессиональной историографией и историческим сознанием общества располагается и деятельность многочисленных исторических, археологических, краеведческих и этнографических обществ, а также полулюбительских общественных объединений и организаций, связанных с изучением прошлого. И, разумеется, сама сфера исторического знания в том или ином обществе будет заведомо шире, чем область академической исторической науки в этой же стране или регионе.
В отечественной науке представления об исторической культуре, ее составе и специфике начали складываться также относительно недавно (особенно важную роль тут играют коллективные начинания, связанные с оформлением интеллектуальной истории как особой субдисциплины и деятельность Российского общества интеллектуальной истории во главе с Л.П. Репиной)[8]. Интересно обратить внимание на то, что пока большинство российских работ по проблематике исторической культуры (и круг авторов, эксплицитно это понятие использующих) связаны преимущественно с зарубежной тематикой и прошлым скорее «иных» стран, нежели России[9].
Разумеется, наше исследование, выполненное коллективом авторов в форме очерков, не является первооткрывательским – оно связано с богатым опытом изучения истории исторической науки в нашей стране, где уже давно сложились устойчивые историографические жанры и традиции (особенно отметим такие противоположные по заданию и замыслу капитальные сочинения, как «Главные течения русской исторической мысли» (1897) Павла Милюкова и уже советскую «Русскую историографию» (1941) Николая Рубинштейна[10]). Вместе с тем замысел книги – принципиально иной, чем очередная ревизия или даже расширение привычной историографической работы. Для нас особенно важно представить академическую или университетскую науку о прошлом в контексте различных других форм общественного сознания, связанного с историей (от гимназического образования до живописи или романистики). Кроме того, «отчуждающий», неканонический взгляд на профессиональное изучение прошлого – с точки зрения его организационных условий, техник выработки или форм культурного бытования исторического знания – был значим для нас именно желанием выйти за пределы стандартной внутрицеховой оптики. Ведь в историографических текстах вне зависимости от симпатий или пристрастий их авторов приоритет до сих пор безусловно принадлежит нарративу кумулятивного и внутренне беспроблемного накопления знания. При этом общепризнанный и очевидный факт борьбы и соперничества разных школ и направлений все равно включается в конечном счете в картину пополнения, пересмотра и уточнения общего и устоявшегося корпуса сведений о прошлом[11].
Задача предлагаемого сборника существенно отлична от очередной реализации этого имплицитного императива. Авторы книги стремились проследить разные, порой несхожие пути формирования исторической культуры, а также способы и формы приращения, упорядочения и регламентации исторического знания в императорской России. Акцент сознательно будет сделан на проблематику XIX столетия, когда и научные, и «корпоративные» (дворянские и официально-государственные), а также массовые представления о прошлом достигли уже достаточно зрелого и отрефлексированного состояния и уровня. Однако опирались эти представления на давний фундамент исторических образов и знаний о минувшем в средневековой Руси, весьма существенно ревизованных во времена Петра Первого и в последующие десятилетия[12]. В то же время базовые исторические схемы Московского царства (преемственности династической власти Рюриковичей, трансляции киевского наследия через Владимиро-Суздальские земли) воспроизводились и в исторических сочинениях XVIII века[13], а затем легли в основу научной историографии последовавших столетий, вплоть до общих курсов Ключевского, Покровского и школьных учебников.
Первый раздел нашей книги посвящен проблематике исторического знания в императорской России.
Понимание прошлого в древней и допетровской Руси в последнее время стало предметом пристального внимания историков (В.М. Живова, И.Н. Данилевского, А.Л. Юрганова, К.Ю. Ерусалимского), отмечавших своеобразие и поэтику летописного текста и характер переосмысления восточнославянскими авторами библейского сказания применительно к событиям и обстоятельствам своего прошлого[14]. Восприятие минувшего своей страны и иных государств и народов в XVIII веке развивалось уже на принципиально иных основах. Недавняя полемика вокруг специфики историографического наследия В.Н. Татищева (в связи с книгой А.П. Толочко[15]) подчеркивает сложный характер конструирования истории в российском XVIII веке, часто далекого от современных исследовательских критериев и установок. В очерке А.Б. Каменского о Г.Ф. Миллере детально раскрыта проблематичность утверждения принципов критической историографии в российском академическом сообществе того времени[16]. В статье Л.П. Репиной показано не только становление Т.Н. Грановского в качестве крупнейшей фигуры российской медиевистики и всеобщей истории[17], но и формирование его образа как модели поведения университетского человека и историка per se для более широкой культурной среды и для последующего времени (эта его репутация поддерживалась в историческом и гуманитарном сообществе и после 1917 года).
Развитие профессиональной историографии в России было невозможно без распространения исторических знаний в образованной среде общества – в домашнем воспитании[18] и особенно в учебном деле[19]. Преподавание истории в средней школе и гимназии рассматривается в статье Н.Г. Фёдоровой в важном «остраняющем» повороте – предметом особого внимания автора становится не весь образовательный процесс в целом или только транслируемые в нем ценности и образцы, но именно учебные тексты[20]. Притом учебники по всеобщей истории задавали рамку для интерпретации также и российского прошлого, когда «свое» широко и разнопланово постигалось на фоне «чужого». Позже ведущими текстами по отечественной истории станут книги знаменитого Д.И. Иловайского (1832–1920)[21]. Патриотические и порой верноподданнические установки Иловайского окажутся затем предметом иронического изображения и пародирования в русской литературе (например, у авторов «Сатирикона» уже в начале ХХ века). Во второй половине XIX века тексты исторических пособий все чаще пишут сами профессиональные историки первого ранга – вроде С.М. Соловьёва или С.Ф. Платонова, учебные тексты по всеобщей истории для гимназий и школ создают также П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер и Н.И. Кареев[22].
Середина XIX века становится временем созревания академических стандартов российской исторической науки, но это имело не только сугубо научные, но и социально-идеологические коннотации именно в плане поиска субъекта исторического развития (народа) и адресата исторического письма (общественности) в процессе конструирования прошлого. Важность работы А.П. Толочко в том, что он показывает всю сложность и многосоставность перехода от имперского к национальному историческому дискурсу. Эта общая проблематика рассмотрена на примере полемики об «этнической» принадлежности Киевской Руси между Михаилом Погодиным и Михаилом Максимовичем на страницах славянофильских журналов и научной периодики сразу после смерти Николая I. Уже через несколько десятилетий и особенно интенсивно к концу XIX века многие ранние опыты написания местной истории окажутся переиначены и задним числом «национализированы» пропагандистами украинского национального возрождения[23]. Весьма проблематичным с 1880-х годов становится описание прошлого юго-западных территорий, которое в ряде работ авторитетных историков (особенно у Михаила Грушевского) начинает переосмысляться сквозь призму идеи непрерывности украинской истории, в противовес «привычной схеме» движения русского исторического процесса[24] из Древнего Киева через Владимиро-Суздальскую землю прямо в Московское царство. Ревизия привычной картины отчасти была свойственна и занятиям историей так называемого Западного края (особенно Белоруссии[25]). Точно так же обращение к еврейской историографии[26], к мусульманским памятникам (в Казани, Крыму или на Северном Кавказе)[27] или к прошлому народов Закавказья[28] существенно расширяет к исходу XIX века прежний мейнстрим (от Карамзина к Ключевскому) господствующего историографического канона. Этот имперский контекст[29], разнородность, а порой и несводимость локальных историй разного уровня в одну законченную и согласованную картину общего прошлого разных слоев населения и этнических групп привлекают первостепенное внимание новейшей историографии[30]. Однако в первые десятилетия XIX столетия местные версии исторической памяти были весьма далеки от будущих национальных нарративов (см. также статьи В. Боярченкова и Н. Родигиной во втором разделе монографии).
Особенно активным процесс развития исторической науки «вширь» стал в пореформенные годы – см. републикуемую в книге статью воронежского исследователя В.И. Чеснокова (1939–2000)[31]. Регламентация учебного дела была только одной из частей формировавшегося механизма государственного регулирования исторического знания. Через выработку базовых положений университетского устава, установление численности и соотношения кафедр по факультетам и в академиях государство (а точнее – ведомство народного просвещения) определяло общие параметры, формальный состав исторической науки, характер воспроизводства преподавательского корпуса.
Важными моментами такой трансформации и «созревания» исторической науки стало расширение историографических изысканий, выделение историографии в отдельную отрасль науки (как свидетельство ее растущей автономизации) – особенно в трудах петербургского историка К.Н. Бестужева-Рюмина и его московских коллег[32]. Этой же тенденции к самостоятельности отвечало и сосредоточение работы университетских преподавателей на поиске и освоении нового знания совместно со студентами – в специализированных семинариях (с их формальными и неформальными режимами коммуникации и воспроизводства[33]). Эти механизмы и практики профессионализации стали предметом специального рассмотрения в статье А.В. Антощенко и А.В. Свешникова[34]. Вместе с тем сохранялась и общественная востребованность исторического знания даже в его специализированной форме – когда такие, казалось бы, внутренние перемены в корпорации, как защиты диссертаций или назначения новых профессоров, становились знаковыми событиями в жизни всего местного образованного общества (предмет специального исследования в очерке Т. Сандерса[35]).
Общий ход автономизации и специализации исторического знания затронул также и область вспомогательных исторических дисциплин. Уже с 1770-х годов начинается систематическая деятельность по изданию источников по российской истории (стараниями Н.И. Новикова[36]). Другим важным шагом по пути профессионализации исторической науки станет деятельность Археографической экспедиции (во главе с П.С. Строевым) в 1826–1834 годах, а позднее – и Археографической комиссии, работавшей на постоянной основе при министерстве народного просвещения с 1837 года[37]. Одной из главных площадок поиска историка во второй половине XIX века постепенно становятся ведомственные архивы (в первую очередь, архив коллегии министерства иностранных дел и московский архив министерства юстиции[38]). С 1804 года действует уже упомянутое Общество истории и древностей российских[39] при Московском университете (с 1837 года – Императорское)[40]. Важнейшим центром изучения отечественной истории остаются университеты и Академия наук (а также Российская Академия, вошедшая в ее состав в 1841 году) – помимо собственно российской истории темами занятий академиков и адъюнктов были также всеобщая история, археология, востоковедение, византинистика и исследования античности (в том числе на материалах Северного Причерноморья)[41]. Продолжается и расширяется выпуск специализированных серийных изданий по отечественной истории (включая публикацию источников, в частности «Полного собрания русских летописей», а впоследствии – и книжных серий П.И. Бартенева и А.С. Суворина)[42].
Специальным изводом профессионального знания о прошлом в дореволюционной России оставались две отрасли, важнейшие для государственного и идейного строя Российской империи, – сферы военной и церковной историографии (последней посвящена в нашей монографии статья Н.К. Гаврюшина)[43]. Обе они к тому же были и доменами особой, корпоративной памяти, которая находилась в ведении специальных учреждений (военного министерства, Генерального штаба или Священного синода и сети духовных академий). Однако к концу XIX века общий процесс распространения и демократизации знания о прошлом охватил и эти области, результатом чего стало возникновение Военно-исторического общества, открытие музея Суворова и увековечение важнейших сражений (от битвы на Куликовом поле до памяти о Русско-японской войне)[44], а также развертывание работ по церковной археологии, сохранению и реставрации памятников[45]. Все это касается другой важнейшей темы воссоздания прошлого – проблематики исторического сознания (и второго раздела нашей книги).
Отметим, что развитые представления о прошлом в допетровской Руси оставались достоянием узкого круга образованных людей и не имели еще секулярного характера, связанного с идеями общественного целого (а государственные, территориальные или этноязыковые начала или особенности тогда так или иначе трактовались через конфессиональную исключительность православного вероисповедания).
Необходимо иметь в виду, что в допетровский период какие-либо исторические сведения общенационального характера вообще были достоянием крайне ограниченной группы грамотных людей, но и их знания не отличались сколько-ни будь систематическим характером, поскольку даже русские летописи были им недоступны. Для элитарных слоев Московской Руси история сводилась по большей части к истории рода, имевшей утилитарное значение в плане определения места лица на социальной лестнице. Можно утверждать, что в русском обществе допетровского времени в принципе отсутствовало какое-либо целостное представление об истории собственной страны. Создание общенациональной истории было, таким образом, по существу вообще обретением Истории и воспринималось как часть процесса превращения России в «политичное» государство[46].
Глубина и травматичность произошедших в первой четверти XVIII века перемен и предопределили восприятие в последующем всего прошлого России (как «старой», так и «новой») прежде всего через оценку фигуры и наследия Петра Первого[47]. Характерна в этом смысле популярность полулюбительского многотомного жизнеописания Петра, выполненного выходцем из купеческого сословия И.И. Голиковым (1735–1801), в первые десятилетия XIX столетия. В центре «Записки о древней и новой России» Карамзина, созданной для двора великой княгини Елены Павловны и оставшейся на десятилетия документом непубличным – а ради ее сочинения историк прервал работу над главным своим произведением, – оказывается наследие Петра. Для появления «Истории государства Российского» Карамзина были необходимы десятилетия собирательской и публикаторской деятельности И.Н. Новикова, работа единомышленников А.И. Мусина-Пушкина и позднее Н.П. Румянцева и его кружка[48]. Но для восприятия этого сочинения более широким кругом читателей (предмет исследования в статье В.С. Парсамова) были также необходимы своеобразная историзация сознания образованных слоев и рефлексия по поводу недавнего прошлого, закрепленная в дворянской памяти деятелей «золотого века» о событиях минувшего XVIII столетия – через призму войн с Наполеоном и заката царствования Александра I. В этой связи особенно показателен очерк Т.А. Сабуровой, которая, в частности, рассматривает уроки и модусы восприятия революционных событий во Франции и французских исторических сочинений российской образованной элитой[49]. Перемены в историческом сознании коснулись не только дворянского общества двух столиц, но и публики провинциальной[50]. И именно региональному измерению исторического сознания посвящен помещенный в монографии очерк В.В. Боярченкова.
Созданные в 1820–1830-е годы специальные исторические общества и комиссии связывали деятельность исследователей и ревнителей просвещения в разных частях империи (особенно важными здесь были вначале – в первой половине века – губернские статистические комитеты, а с 1884 года – и губернские археологические комиссии)[51]. В.В. Боярченков (как и Н.Н. Родигина далее) подчеркивает разрозненность, весьма проблематичное единство усилий местных любителей старины и столичных историков, которые брали на себя функции обобщения и определения общей канвы для истолкования локального материала. Вообще регионализация отечественного исторического сознания – тема еще недостаточно изученная не только в связи с «федералистскими» устремлениями ряда историков начала эпохи Великих реформ[52], но и в двойной перспективе неравномерного географического распределения университетского образования в России и будущего роста изучения и постижения местного края уже в первые десятилетия ХХ столетия (предмет исследования М.В. Лоскутовой[53]).
Рассматривая взаимодействие профессиональной науки и общественного сознания 1860-х годов, важно учитывать «левославянофильские» труды историка М.О. Кояловича, связанного с западно-русскими (белорусскими) землями и противостоянием там «польскому элементу»[54]. Коялович одним из первых сознательно и последовательно рассматривал развитие русской исторической науки как составную часть эволюции русского самосознания. Эту же идею, но с обратным идеологическим знаком (в русле либеральной трактовки эволюции «русского общества») проводил в «Главных течениях русской исторической мысли» в конце ХIХ века и Павел Милюков.
Наряду с публикацией обширного источникового материала важнейшую роль в развитии исторического сознания играли «толстые журналы» – литературно-публицистические ежемесячники и историческая периодика (предмет внимания Н.Н. Родигиной, особенно важный в плане отражения и представления региональной проблематики). С 1860-х годов появляется и специализированная историческая пресса (журналы «Русский архив» П. Бартенева и «Русская старина» М. Семевского)[55]. Уже в 1880-е годы круг исторических журналов и изданий пополняется не только за счет специализированной периодики (включая органы различных обществ и вплоть до общеведомственного «Журнала министерства народного просвещения»)[56], но и путем расширения идеологического репертуара журналов, посвященных прошлому, как в правой части политического спектра, так и в особенности – в левой[57].
Самым непосредственным способом государственной «обработки» исторического сознания стала деятельность цензурного ведомства[58], которая распространялась и на публикации по русской истории (наиболее громкими в этом смысле станут скандал с Осипом Бодянским и запрещение издания Флетчера в «Чтениях Общества истории и древностей российских»[59]). Помимо общих регулирующих усилий этого ведомства, очерченных в статье И.М. Чирсковой, контроль распространялся и на академическую деятельность, в частности на специальные изыскания петербургской Археографической комиссии[60]. Запрещая и изымая «нелегитимную» информацию о прошлом, цензура своеобразным путем тоже участвовала в процессе формирования исторических представлений и социальной памяти российского общества.
Даже после революции 1905 года и либерализации законодательства о печати власти пытались регулировать историческую память либо прямым вмешательством и попыткой судебного преследования радикальных критиков (как в случае издания «Русской истории» М.Н. Покровским)[61], либо через формирование благоприятной для правительства идейной среды и деятельность особых информационных служб (во главе одного из таких подразделений стоял историк армии К.А. Военский (1860–1928)[62]).
Развитие и усложнение российского исторического сознания второй половины XIX столетия было невозможно без задействования специализированных структур сохранения и воспроизводства памяти о прошлом – мы имеем в виду архивную отрасль, сферу археологических изысканий и консервации, а также выставочно-музейную деятельность. Эти последние области стали предметом содержательного очерка А.В. Топычканова, который проследил эволюцию разных моделей охраны памятников, указав на возрастание роли и значимости на протяжении XIX века материального «остатка» прошлого, включая его эстетическое содержание. В перспективе истории понятий особенно интересно обратить внимание на непривычно широкое для ХХ века употребление в предыдущем столетии слова «археология». Богатый материал для сопоставительного анализа в плане истории специализированных отраслей исторической науки дают программы Археологического института (открытого в Санкт-Петербурге в 1878 году) и обширные материалы дискуссий на археологических съездах, где немалую роль играли споры об охране памятников в самом широком смысле, включая архивные, а не только материальные данные[63]. Именно на II Археологическом съезде Н.В. Калачов впервые предложил программу централизации архивной отрасли. Плодом его усилий стал не только Археологический институт в Петербурге, но и появление сети специальных губернских архивных комиссий – после 1884 года[64]. А на XI Археологическом съезде в Киеве в 1899 году по докладу Д.Я. Самоквасова развернулась дискуссия, очень важная в плане будущей организации архивного управления и профессиональной консолидации (в первую очередь вокруг Союза архивных деятелей и академика А.С. Лаппо-Данилевского)[65]. Следующая глава этой истории начнется в 1918 году, когда в Петрограде при активном участии и немалой поддержке большинства ученых «старой школы» будет создан Центрархив.
С середины XIX века историки стали заниматься не просто организацией экспедиций, обработкой результатов полевых изысканий, изучением коллекций или общим «попечением» над развитием музейной и особенно архивной областей; они взялись за выработку теоретических основ сбережения, отбора и публичного представления ценных свидетельств прошлого (в первую очередь в рамках общей модели музеефикации «подлинных» памятников). Рост просвещения, в том числе исторического, учреждение (после 1863 года) университетских кафедр по истории искусства, профессионализация церковной археологии, работа археологических институтов в Петербурге и Москве и особенно капитальные труды таких крупных ученых, как Никодим Павлович Кондаков (и его последователей), Николай Петрович Лихачёв, Дмитрий Власьевич Айналов и Егор Кузьмич Редин, – все эти факторы существенно обогатили представления тогдашнего образованного общества о русском художественном наследии и повлияли на общий характер восприятия российского прошлого во второй половине XIX века[66]. Эпоха любителей и энтузиастов, «палеографов» постепенно уходила в прошлое. Однако «академизация» не была и не могла быть окончательной; помимо этой экспертной прослойки в России тогда расширялась и укреплялась за счет формальных институций и неформальных отношений связанная с учеными среда профессионалов, работающих с наследием практически, – реставраторов, живописцев, архитекторов, критиков (особенно стоит отметить тут фигуру И.Э. Грабаря). Многие из них занимались не только прошлым, но даже в большей степени современными художественными практиками и течениями (например, адепты неорусского или византийского стилей, очеркисты и обозреватели, авторы популярных музейных путеводителей, травелогов и т. д.).
Возвращаясь к политической ангажированности занятий минувшим, особенно важно подчеркнуть не только очевидные расхождения и полярность левой и правой историографических традиций дореволюционной России, но и некоторые важные структурные сходства[67]. Представители как правой, так и левой общественности обращались к российской истории как к важному средству легитимации и утверждения своих базовых постулатов (включая юбилеи и различные торжества) – с характерным выбором фигур-протагонистов и антагонистов, Сусанина[68] или Пестеля, Чернышевского[69] или Суворова. Публикуемая в монографии статья В. Каплан особенно интересна тем, что обращается к пока недостаточно изученной – и, как показывает автор, внутренне противоречивой – консервативной пропаганде массового исторического знания[70]. Начало ХХ века оказалось временем роста интереса к «своему» прошлому в левых кругах и в среде широкой «интеллигентской» общественности – от умеренных до радикалов[71]. Тут не только стоит отметить труды профессиональных историков или, напротив, политиков либо публицистов, пишущих на исторические темы (достаточно указать на занятия историей русской общественной мысли Р.В. Иванова-Разумника и Г.В. Плеханова[72]), но и обратить внимание на становление в 1900–1910-е годы специфического слоя неакадемических историков, часть которых в будущем образует костяк советской историографии (от Б. Сыромятникова и В. Пичеты до М. Покровского и В. Волгина)[73]. При этом сознание многомиллионной крестьянской массы менялось довольно медленно и едва ли было в полном смысле слова «исторично» (хотя, на наш взгляд, не стоит представлять его базисную структуру в виде некоего по сути неподвижного инварианта)[74].
Завершающий раздел книги посвящен историческому воображению – теме, для нашей историографии все еще малоизведанной. Открывается раздел обширной статьей Е.А. Вишленковой, посвященной исторической живописи и «наглядным» представлениям о прошлом первой половины XIX века. Эта тема рассматривается в более широком контексте эволюции визуальной культуры Российской империи и канонов представления (изображения) национального начала в искусстве (в соотношении с классическими образцами).
Парадоксально, но такое благодатное поле перспективных исследований, как отражение русской истории в русской литературе в XIX – начале ХХ веков оказывается при ближайшем рассмотрении едва возделанным[75]. Даже классические произведения, от «Марфы Посадницы» Карамзина и «Истории пугачевского бунта» Пушкина[76] до «Войны и мира» и драматической трилогии А.К. Толстого[77], не получили сколь-либо систематического общего освещения в филологической литературе и явно недостаточно изучаются историками. Публикуемая в монографии статья Е.Н. Пенской – одна из немногих попыток такого рода синтеза, который не может не быть выборочным. Стоит указать лишь на некоторые потенциальные сюжеты: важность регионального (и шире – национального) нарратива внутри общего исторического повествования в отечественной литературе (например, произведения Н.И. Костомарова и П.А. Кулиша), нередкое сочетание в авторском мировоззрении и стиле подходов ученого и беллетриста, формирование новых горизонтов исторического письма в рамках культуры Серебряного века, в первую очередь у Мережковского (с его изображением событий начала XIX века, например, спорил Кизеветтер)[78]. Для адекватной реконструкции темы исторического воображения не обойтись без детального и исторически варьирующегося анализа фигуры реципиента, потребителя исторических текстов и формул самого разного жанра[79] – в спектре от «имперского» читателя или слушателя, зрителя до революционно ориентированного «сознательного» рабочего или интеллигента (тут явно прослеживается связь с тематикой статьи В. Парсамова, посвященной первым десятилетиям XIX века)[80].
В то же время на полюсе популярного исторического сознания (начиная, пожалуй, с юбилея тысячелетия России) постепенно кристаллизуются основные структуры и модусы идеологической мобилизации истории (рассмотренные в частности, в статье К.Н. Цимбаева, который на материале XIX века выделяет основные ритуальные и «консолидационные» черты юбилеев, при последовательно проводимой выключенности из торжеств «низших классов» общества). Как продолжение сюжета о юбилейной мобилизации можно читать статью С.А. Еремеевой о монументальных практиках коммеморации[81]. Она особенно подробно останавливается на «квазиобщественной» составляющей монументостроительства, связанной с почитанием в XIX веке – при самом ближайшем участии верховной власти – памяти великих писателей прошлого от Ломоносова до Пушкина[82].
В известном смысле сама художественная пропаганда на материале прошлого, которая вполне сложится уже в ходе Первой мировой войны и будет обращена к максимально широким общественным слоям[83], закладывала основы ранней советской исторической культуры (в которой был так велик художественный, особенно авангардный, элемент). И в области профессиональной исторической науки уже в 1920-е годы стал задействоваться объяснительный потенциал и подходы, накопленные оппозиционной – народнической, эсеровской и социал-демократической – историографией еще до революции[84]. Вместе с историческим сознанием революционного плана (центрированном на «освободительном движении» и классовой борьбе) и леворадикальным историческим воображением[85], такая наука станет одним из оснований советской исторической культуры. Но там будут работать совсем иные модусы профессионализма в соотнесении с массовым историческим просвещением и самосознанием (от книг Покровского и Каутского до «Краткого курса» истории ВКП(б) и сочинений Б.Д. Грекова и М.В. Нечкиной). Это уже будут механизмы выработки совсем другого – хотя также вполне нашего – прошлого, призванные либо вовсе перечеркнуть, либо в корне видоизменить очень схематично рассмотренную нами двухвековую традицию.
Раздел I Историческое знание
А.Б. Каменский У истоков русской исторической науки: Г.Ф. Миллер
Примерно с середины XIX века, когда русскими историками были сделаны первые попытки осмыслить накопленный опыт в изучении отечественной истории, сложилось представление о возникновении исторической науки в России в начале XVIII века, т. е. тогда же, когда в ходе петровских преобразований наука вообще впервые появляется как самостоятельная сфера человеческой деятельности, и с основанием в 1725 году Петербургской академии наук приобретает институциональный характер. За своего рода точку отсчета была взята деятельность В.Н. Татищева, которого принято считать первым русским ученым-историком. Подобные представления об истории русской исторической науки преобладали и в советское время, хотя уже на его излете были сделаны попытки связать ее начало с именами живших во второй половине XVII века Андрея Лызлова, Игнатия Римского-Корсакова и др.[86] В наши дни, однако, многие исследователи, работающие в рамках науковедческих подходов, придерживаются точки зрения, согласно которой «становление истории как полноценной науки» в современном ее понимании не только в России, но и в мире в целом происходит не ранее середины – конца XIX столетия «одновременно с выделением общественных наук как самостоятельного типа знания, дифференцированного от естествознания». В это время утверждаются общественные науки «с собственными предметными областями» (психология, социология, антропология, политология, экономика) и одновременно происходит «возведение истории в ранг науки»[87]. Одним из важнейших признаков появления истории как науки считается учреждение в университетах исторических факультетов и специальных кафедр, осуществляющих профессиональное образование историков. В связи с этим сегодня исследователи осторожно говорят о XVIII веке как о времени перехода «от накопления исторических знаний к научному освоению исторического материала», отличающемуся «от предшествующего более научным подходом к истории»[88].
Вполне очевидно, что за этими разногласиями стоит различное понимание существа науки и ее отличия от иных форм знаний о прошлом. Столь же очевидно и то, что становление исторической науки – это длительный процесс, связанный с формированием научных представлений о прошлом и выработкой научных методов его изучения. Создание исторического факультета университета, несомненно, знаменует собой важнейший этап этого процесса, однако очевидно, что его невозможно открыть, если там некому преподавать, но что еще важнее, к моменту его открытия должно сложиться понимание того, что преподавать, т. е. что такое профессиональное образование историка. Сама идея создания исторического факультета не может возникнуть без представления об истории как самостоятельной науке, о ее объекте и предмете, ее методе, без сложившихся исследовательских практик[89]. Представляется, что окончательное разделение истории и естествознания, а также выделение иных социальных наук можно рассматривать как завершающий этап процесса превращения истории в полноценную науку, истоки которого применительно к России все же вполне оправданно искать в середине XVIII века.
Те исследователи, кто связывал зарождение русской исторической науки с деятельностью Татищева и других его современников, совершенно справедливо отмечали, что именно этим писателям принадлежат первые авторские труды по русской истории, имеющие признаки научной работы, поскольку в отличие от предшествующей летописной традиции эти труды были основаны на изучении и сравнительном критическом анализе различных исторических источников. С этой точки зрения, достаточно очевиден и вклад в начало научного изучения русской истории Герарда Фридриха Миллера (1705–1783). Ему не только принадлежат первые в историографии труды по целому ряду проблем отечественной истории, давшим точку отсчета нескольким важнейшим, продолжающим существовать и поныне научным направлениям. Весьма значительной была его роль и в расширении источниковой базы исторических исследований за счет привлечения делопроизводственных и актовых документов, а также источников иностранного происхождения. Собственно, именно Миллер был первым исследователем, кто, обратившись с научными целями к архивным документам, занялся их систематическим изучением. Само слово «источник» в современном значении было впервые употреблено именно в его трудах[90]. Хорошо известна и роль ученого, ратовавшего за создание исторического департамента Академии наук и первым получившего звание российского историографа, в институциональном становлении исторической науки в России, а также в распространении знаний по русской истории как внутри страны, так и за рубежом[91].
Однако наука не сводится лишь к содержательной части знания и даже к научно обоснованным методам. Наука – это еще и определенные, принятые научным сообществом практики, формы представления и распространения результатов исследования, их апробации и оценки в соответствии с определенными критериями – формальными либо неформальными, но также принятыми коллегами по цеху. Именно с этой точки зрения в данной статье и предлагается взглянуть на деятельность Миллера и его вклад в становление российской исторической науки. Но прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению этой темы, необходимо сделать несколько предварительных замечаний.
Как известно, Миллер – одна из самых спорных фигур отечественной историографии. Оценки его исторических трудов были чрезвычайно полярными не только в советское время, когда он стал одной из жертв борьбы с космополитизмом конца 1940-х годов, но и до революции, когда на эти квалификации еще не влияли идеологические мотивы. Если К.Н. Бестужев-Рюмин называл Миллера «отцом русской истории»[92], то в работах С.М. Соловьёва, П.Н. Милюкова и др. историк предстает своего рода ремесленником, «чернорабочим» от истории (выражение Милюкова), не способным подняться до вершин аналитических обобщений[93]. По-видимому, дело в том, что, будучи единственным историком того времени, кто не только не создал, но даже не пытался создать крупный обобщающий труд по истории России, подобный сочинениям Татищева и Щербатова, и, таким образом, как кажется, не имевший собственной целостной концепции русской истории, Миллер очевидно проигрывает на фоне своих современников. За исключением многотомной «Истории Сибири», он вроде бы не оставил капитальных исследований, а основным видом его научной продукции были тематические статьи, в лучшем случае небольшие монографии, посвященные отдельным историческим сюжетам. Нужно заметить, что отчасти подобное представление связано с тем, что труды Миллера недостаточно хорошо известны. Правда, как автор многочисленных разножанровых сочинений, он оказывается гораздо ближе к современным историкам со свойственной им специализацией, чем те же Татищев или Щербатов. Но если в наше время историки посвящают свои исследования, как правило, какому-то определенному периоду русской истории, а чаще даже конкретной тематике в рамках этих периодов (работая при этом в одном из направлений исторической науки), то специальностью Миллера была все же история России как таковая. Это естественно, поскольку сам объем накопленных исторических знаний был тогда минимален, а проблемное поле русской истории не разработано. К тому же само историческое знание в то время носило целостный характер, и еще не произошло разделения на социальную, политическую, экономическую историю и т. д.
От современников Миллера отличало и еще одно обстоятельство: после смерти в 1738 году Г.З. Байера он был единственным в России XVIII века, для кого занятия историей были не увлечением, а работой, за которую ему платили жалованье. В этом смысле, хотя Миллер не получил, да и не мог получить непосредственно исторического образования, о нем можно говорить, как о первом русском профессиональном историке. При этом изначально историк оказался в уникальной и идеальной для исследователя ситуации: у него не было практически никакого предварительного знания о предмете исследования. Почти не существовало и историографии, которую следовало бы изучить, и на которую можно было бы опереться. Но зато был необъятный массив неизученных источников, и требовалось лишь время для того, чтобы приобрести опыт и выработать приемы работы с ними.
Только с учетом этого можно правильно оценить и наиболее резкие из высказанных в дореволюционное время суждения о Миллере-историке, принадлежащие Н.Н. Оглоблину, который обвинил Миллера в небрежном копировании документов во время путешествия по Сибири и таким образом поставил под сомнение его источниковедческие достижения[94]. Эта критика не учитывала как раз то, что никакого опыта подобного рода работы у Миллера, как, впрочем, и ни у кого другого в России того времени еще не было, как не существовало еще никаких археографических правил и приемов. Их только предстояло выработать в ходе практической деятельности. Миллер к тому же, приступая к этой деятельности, еще не владел русским языком, и документы для него первоначально копировали служащие местных сибирских учреждений. Как справедливо писал о Миллере П.Н. Милюков,
очутившись перед необозримыми грудами сырья, разработка которых требовала больше усидчивости и терпения, чем критического чутья и искусных методических приемов, он не отвернулся от него, сумел оценить огромное значение этого материала для исторической науки и, отложив в сторону ученую брезгливость, усердно принялся за его изучение[95].
По словам С.В. Бахрушина,
в 1733 году из Петербурга выезжал еще новичок, приступавший лишь к работе над историческими источниками. Через десять лет Миллер вернулся уже выдающимся специалистом не только в области истории, но и географии и этнографии… Десять лет Камчатской экспедиции создали Миллера как ученого европейского масштаба[96].
Второе обстоятельство, которое необходимо принять во внимание, рассматривая вклад Миллера в становление русской исторической науки, связано с общими тенденциями развития исторического знания рассматриваемого времени. Начиная с эпохи Возрождения трудами ряда французских, немецких, итальянских и др. авторов была постепенно разрушена целостность образа европейской истории и выражены претензии отдельных европейских народов на первенство, обосновывавшееся их древностью. Тем самым определялось и место этих народов в Истории, сами они признавались историческими, а историческое знание становилось средством легитимации политических претензий, а также формирующейся идеи нации и национальной идентичности[97]. В России начала XVIII века соответствующих текстов еще не существовало, а сама потребность в них возникла и была осознана в ходе петровских реформ, изменивших статус страны и ее место в мире, а главное – сформировавших представление о государстве как самостоятельном субъекте, отделенном от государя и, по словам самого Петра, «врученном» ему для управления. Но одновременно с этим в XVIII веке завершается отделение гражданской истории от церковной, и важнейшей приметой исторического знания в Европе становятся рационализм и стремление к объективности. Появляются сочинения, «свидетельствующие об упрочении аналитического подхода к истории», причем «сама идея просвещения с неизбежностью усиливала прагматический компонент исторического знания»[98].
Возникшая в ходе петровских реформ Российская империя, созданная на основе идеи рационального регулярного устройства, нуждалась, как уже сказано, в легитимации, в том числе средствами истории. Опоры в виде исторических знаний требовал также начавшийся заново, на новой основе, процесс формирования национальной идентичности – но знаний уже иного, чем прежде, секулярного и верифицируемого характера. По мере формирования на протяжении столетия национального самосознания интерес к прошлому все более усиливался, а на смену свойственной соратникам Петра гордости за «Россию молодую» приходила характерная для эпохи Екатерины Великой гордость за многовековую историю страны. Причем это было не просто обретение заново собственной истории, утерянной в ходе радикальной трансформации. Это было содержательно новое знание, в фокусе которого была уже не история отдельных родов, необходимая для местнических счетов, и даже не история только правящей династии, но собственно история страны, хотя и ориентированная преимущественно на историю русской государственности. Наконец, в отличие от летописной традиции предшествующих веков, стимулом к познанию прошлого становилось не стремление зафиксировать события земной жизни для отчета на Божьем суде[99], а сочетание осознания утилитарного значения истории для политических и воспитательных целей с характерной для эпохи Просвещения жаждой знания как такового. Иначе говоря, формирующаяся заново версия прошлого России, так же как в Европе в целом, должна была иметь гражданский, секулярный характер, что полностью соответствовало и духу петровских преобразований.
Миллер вполне разделял характерные для его времени взгляды на значение исторического знания и уже в своем проекте Исторического департамента Академии наук в 1746 году писал:
Каждому человеку… в истории необходимая нужда есть; она обыкновенно называется зерцалом человеческих действий, по которому о всех приключениях нынешних и будущих времен, смотря на прошедшия, разсуждать можно[100].
За годы жизни в России Миллер, несомненно, как свидетельствовал А.Л. Шлёцер[101], стал патриотом своей второй родины, а приобретенный здесь опыт научил его тому, что «историческая правда» может быть политически опасной и потому сообщать публике нужно не все, что знаешь. Однако в том, что касалось научных исторических изысканий, Миллер стоял на очевидно объективистских позициях, утверждая, что историк
должен казаться без отечества, без веры, без государя… все, что историк говорит, должно быть строго истинно, и никогда не должен он давать повод к возбуждению к себе подозрения в лести[102].
Собственно, тут и крылось основное расхождение между Миллером и Ломоносовым. Как верно заметил А.С. Мыльников, в дискуссии Ломоносова с Миллером 1749–1750 годов
столкнулись два методологических подхода – один, представленный Миллером, восходящий к рационалистической критике раннего немецкого Просвещения, и другой, представленный Ломоносовым, сочетавший просветительские представления с элементами поэтики русского барокко, сцементированные идеями национального патриотизма[103].
Настаивавший на различении исторического исследования и «панегирической речи» и считавший, что негативные примеры из прошлого имеют не меньшее воспитательное значение, чем положительные, Миллер, вместе с тем, в отличие от своего оппонента, очевидно не ставил перед собой цель создания национального исторического дискурса, рассматривая свою за дачу не как политическую или патриотическую, но как сугубо научную, исследовательскую, связанную с производством нового знания.
С этой позицией Миллера, думается, связан и его отказ от попыток написать историю России, подобную «Истории» Татищева, и таким образом предложить собственную концепцию русской истории в целом. Знакомый с «Историей Российской» Татищева по рукописям, хранившимся в Академии наук, и позднее осуществивший первое ее издание, Миллер сознавал, что для того, чтобы подняться на новый уровень обобщения и осмысления прошлого, необходимо было прежде определить, чем и как следует заниматься, освоить иные виды источников, разработать методику их поиска, изучения, публикации и интерпретации. Необходимо было определить круг вопросов, поиск ответов на которые следовало вести в первую очередь и без разрешения которых любой сводный труд по русской истории стал бы лишь новой компиляцией уже известных сведений и подражанием Татищеву. Собственно, подобного рода работ, практически ничего не внесших в развитие исторической мысли, в середине – второй половине XVIII века появилось немало. Миллер же еще в 1732 году, имея минимальный опыт занятий историей, писал, что
история Российского государства и принадлежащих к нему стран представляет столько трудностей, что написать о ней систематическое сочинение едва ли можно надеяться в двадцать и даже более лет[104].
Еще одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание, это, конечно же, то, как Миллер был подготовлен к занятиям русской историей. Закончив гимназию в родном Герфорде, будущий историк России поступил в университет Ринтельна, а затем продолжил образование в университете Лейпцига, где в 1725 году получил степень бакалавра. Здесь он учился у Иоганна Бурхарда Менке, который в свою очередь был сыном Отто Менке – основателя и издателя первого германского научного журнала – «Acta eruditorum». После смерти отца Менке-сын продолжил его дело, а с 1715 года он также издавал на немецком языке «Новые ученые ведомости» («Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen»). Менке имел звание саксонского историографа и являлся автором сочинения «Писатели германской истории, особенно саксонской» («Scriptores rerum Germanicarum, praecipue Saxonicarum»), впрочем, вышедшего в свет уже спустя несколько лет после отъезда Миллера в Россию. Помимо этого Менке писал стихи и был основателем местного поэтического общества (Deutschübende poetische Gesellschaft), но более всего он прославился в качестве автора серии лекций «De Charlataneria Eruditorum», явившихся первыми в раннем немецком Просвещении сатирическими сочинениями, направленными на борьбу с лжеучеными[105]. Менке был также обладателем обширной библиотеки, которой Миллер имел возможность пользоваться.
По мнению новейшего биографа Миллера С.С. Илизарова, в студенческие годы на будущего историка России могли оказать влияние еще два человека – Иоганн Кристоф Готтшед и Даниэль Георг Морхоф[106]. Первый из них, впоследствии прославившийся как писатель, критик, теоретик литературы и издатель журналов, появился в Лейпциге в том же, что и Миллер, 1724 году в качестве домашнего учителя детей Менке (и тогда же защитил диссертацию). С Готтшедом Миллер, несомненно, был знаком и позднее состоял в переписке[107]. О влиянии на него Морхофа – немецкого писателя и ученого XVII века, автора сочинения «Полигистор» («Polyhistor, sive de auctorum notitia et rerum commentarii») – своего рода энциклопедии знаний и учености того времени, упоминал сам Миллер[108].
Канадский биограф Миллера Джером Блэк называет еще одно имя – ученика Лейбница Иоганна Якоба Маскофа, автора 10-томного сочинения «Geschichte der Teutschen bis zu Anfang der frankischen Monarchie». Блэк особо подчеркивает, что Маскоф
использовал критические методы для определения достоверности источников, цитировал их в точности, как в оригинале и, хотя относился к ним с уважением, как к реликтам минувших веков, опроверг многие распространенные легенды[109].
Следует заметить, что Лейпцигский университет был одним из лучших и наиболее известных университетов Германии того времени, однако чему именно учился там Миллер и, в частности, чему он учился у Менке, не вполне ясно. Очевидно, что учился он на философском факультете, который, по словам автора статьи «Университет» в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, в то время «давал энциклопедическое образование»[110]. В этой связи вряд ли прав был П.Н. Милюков, указывавший на отсутствие у Миллера «строгой школы и серьезной ученой подготовки» и доверчиво повторявший слова А.Л. Шлёцера о том, что за годы жизни в России Миллер забыл все, что когда-то знал[111]. Состав библиотеки Миллера, хранящейся ныне в Российском государственном архиве древних актов, его обширная переписка и многолетнее сотрудничество с немецкими издателями И.К. Готтшедом и А.Ф. Бюшингом свидетельствуют о том, что он был в курсе всего, что происходило в европейской науке.
Во многих российских биографиях историка упоминается, что Миллер слушал курс Менке по журналистике, но происхождение этих сведений не вполне понятно. Так, сам Миллер не упоминает об этом ни в своей автобиографии[112], ни в также содержащей много автобиографических данных «Истории Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге»[113]. Не упоминается об этом и в наиболее полной дореволюционной биографии ученого, составленной П.П. Пекарским[114]. С.С. Илизаров в своей биографии Миллера, напротив, пишет о лекционном курсе по журналистике, а затем уточняет: «Миллер прослушал первый в Германии курс истории журналистики (курсив мой. – А.К.)», не сообщая, однако, ничего об источнике этих сведений[115].
Не исключено, что подобная версия возникла под влиянием того, что известно о журналистской деятельности Менке, а также самого Миллера, внесшего существенный вклад в развитие русской журналистики. В 1728 году он основал первый русский журнал «Примечания к Ведомостям», а несколько позднее и первый исторический журнал – «Sammlung Russischer Geschichte»[116]. С 1755 по 1764 год под редакцией Миллера выходило одно из лучших русских периодических изданий XVIII века – журнал Академии наук «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие», ставший образцом для ряда новых журналов и явившийся, по сути, первым русским «толстым журналом».
Следует заметить, что основание Миллером первого русского журнала (его полное название было «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях») произошло спустя лишь несколько десятилетий после возникновения научной журналистики в Западной Европе. Между тем, появление первых научных журналов, в свою очередь, породило новый научный жанр – журнальную статью исследовательского характера. Научные жанры, т. е. формы представления результатов научных изысканий, складывались постепенно с эпохи Возрождения, и к XVII веку наиболее распространенными были трактат, диалоги и письмо. Немецкий историк науки Леонард Ольшки в связи с этим отмечал:
Когда в 1665 году появились «Journal des Savants» в Париже и «Philosophical Transactions» в Лондоне и за ними последовали в 1682 году лейпцигские «Acta eruditorum», а в Италии после ряда попыток, начавшихся еще в 1668 году, был основан «Giornale de‘Litterati» (1710), ученым был навсегда обеспечен обмен мнений. Статья, доступная всем заинтересованным лицам, заняла место письма и приняла более объективную, менее личную форму, при сохранении некоторых особенностей, характерных для обеих литературных форм. Письму и статье в научной литературе присущ характер «essay». Всего лучше видно это родство в сборниках писем публицистического характера во всемирной литературе, как например, в «Provinciale» Блеза Паскаля и в персидских письмах Монтескьё. Уже в эпоху Просвещения их место заняла передовая статья, или, со времени «Nouvelles de la Republique des lettres» Бейля (1684), критическая журнальная статья[117].
В наше время научная статья определяется как «сочинение небольшого размера, в котором автор излагает результаты собственного исследования конкретной темы или ее части»[118]. В России первые статьи научного характера на русском языке были опубликованы в «Примечаниях к Ведомостям». В основном это были сочинения профессоров Академии наук по математике, астрономии, химии, естествознанию, истории, палеонтологии и т. д.[119] В целом «Примечания к Ведомостям» были научно-популярным, просветительским журналом. Публикуемые в нем статьи являлись преимущественно комментариями к информации о тех или иных событиях, в основном зарубежных, о которых сообщалось в «Санкт-Петербургских ведомостях». Так, к примеру, если газета извещала о кончине какого-нибудь европейского вельможи или политического деятеля, то в журнале нередко появлялась статья с его жизнеописанием, а иногда и с подробной историей всей его семьи. Помимо этого в «Примечаниях» печатались исторические очерки о крупных европейских городах, переводы из имевших тогда общеевропейскую известность английских журналов, а также естественно-научные и философские трактаты просветительского характера, как, например, «О льде», «О зрительных трубах», «Как во Франции фарфоровая посуда делается», «О сыскании Америки», «О щастии», «О пользе философии в юриспруденции» и т. д. При этом наряду с обширными публикациями по истории английского парламента и оперного искусства попадались и такие, как «О найденной во Франции дикой девице».
Среди появившихся в журнале статей исторического характера – написанное Миллером редакционное предисловие к «Примечаниям» 1729 года, в котором он приводит краткие сведения по истории европейской журналистики. По мнению С.С. Илизарова, это был «первый в своем роде исторический очерк на русском языке», который «был сочинен в 1728 году, то есть на заре формирования русского научного языка»[120]. Однако очевидно, что изначально предисловие было написано Миллером по-немецки, а затем переведено на русский язык, поскольку сам историк им в это время еще не владел. Во-вторых, по жанру это не научная статья, а именно предисловие, да к тому же достаточно краткое, занимающее в современной публикации лишь две страницы, из которых только одна посвящена непосредственно истории журналистики[121]. И самое главное: это сочинение Миллера не носило исследовательского характера.
Другим, уже сугубо научным изданием, были начавшие выходить в том же 1728 году на латинском языке «Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae», где печатались труды петербургских академиков, обозначавшиеся как «диссертации» и «мемуары». Первый том этого издания был сразу же переведен на русский язык и вышел под названием «Краткое описание Комментариев». В него вошли и три сочинения Г.З. Байера по древней истории. С точки зрения формирования русского научного языка это издание имело не меньшее значение, чем «Примечания». Впоследствии, однако, «Commentarii» на русский язык уже не переводились и печатались только на латыни (до 1751 года). При этом по своей сути это был не журнал, а, согласно современной терминологии, скорее продолжающееся издание, ежегодник, являвшийся своего рода отчетом Академии наук о своей работе[122].
Что же касается исторических публикаций в «Примечаниях», то они носили повествовательный характер и больше напоминали рассказ, чем статью в современном понимании этого слова, т. е. находились преимущественно в русле «риторической» традиции[123]. Типично в этом отношении, например, начало сочинения «О самоедах», появившегося на страницах «Примечаний» в апреле 1732 года: «Самоеды есть такой народ, который живет, как известно, по обеим сторонам реки Оби…». Весьма заметные элементы подобной же подачи исторического материала можно обнаружить и у Г.З. Байера. Так, его небольшое сочинение «Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова», переведенное на русский язык И.К. Таубертом и вышедшее отдельным изданием в 1738 году, начиналось следующими словами:
Танаис, или Дон, находился у древних в числе знатнейших рек, отчасти для тогдашняго соседства с скифами, которых храбрость почти выше меры прославлена была, а отчасти от того, что за недовольным исследованием лежащих к северу и к югу земель, оную реку за крайнейшую к северу в знаемой части света почитать надлежало.
Далее автор в хронологической последовательности приводил все обнаруженные им в печатных источниках сведения об Азове и заканчивал тем, что «Азов, по силе вышепомянутаго мирнаго заключения, возвращен был опять туркам». Книга Байера содержала некоторые формальные элементы научного труда, как, например, подстрочные ссылки на используемую литературу, однако автор никак не обозначал, почему он решил написать об истории Азова и какой она имеет научный или познавательный интерес. О его методе работы с историческими источниками свидетельствуют такие строки:
…Вице-адмирал российскаго флота Корнелий Крейц, которой по Дону часто ездил и объявленныя мнения древних писателей довольно рассмотрел, может перед всеми за наивернейшаго свидетеля почтен быть[124].
Как известно, именно Байер посоветовал молодому Миллеру заняться русской историей. Первые строки миллеровской «Истории Сибири» внешне напоминают приведенное выше начало сочинения Байера: «Сибирь стала известна России, не говоря уже о других европейских странах, не более 200 лет назад»[125]. Однако этим словам было предпослано большое авторское предисловие, в котором после довольно подробного обзора источников по истории Сибири Миллер достаточно ясно и однозначно отмежевался от «риторической» традиции «древних историков».
Их сочинение, – писал он, – приятно, потому что они приключения ведут одним порядком, не упоминая о свидетельствах, по которым они сочинение свое составляли. Но мое расположение есть полезнее, потому что я стараюсь предлагаемое мною утверждать везде доводами и рассуждаю об известиях и о сочинителях оных по правилам вероятности и якобы с читателем совокупно, которой здесь также рассуждать может и тому, что я пишу, просто верить не обязан[126].
По существу, это была новая для России (первый том «Истории Сибири» на русском языке появился в 1750 году) форма подачи исторического материала, а также декларация исследовательского метода, основанного на критическом анализе источников и последовательно продемонстрированного Миллером в его обширном труде. Так, к примеру, из 84 параграфов, на которые была разбита первая глава «Истории Сибири», по меньшей мере половина была посвящена не изложению каких-либо исторических фактов (согласно терминологии самого Миллера, «известий»), но разбору разного рода «свидетельств», значительная часть которых была историком отвергнута как недостоверные.
Возвращаясь к вопросу о становлении в России жанра научной статьи, можно утверждать, что своего рода вехой в этом процессе стала статья Миллера «О первом летописателе Российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оныя», опубликованная в первом томе «Ежемесячных сочинений» 1755 года. Стоит при этом отметить, что данная статья – едва ли не единственная из его многочисленных трудов, напечатанных в «Ежемесячных сочинениях», которая до этого не была издана по-немецки в «Sammlung Russischer Geschichte», но появилась сперва на русском языке и лишь позднее была опубликована в журнале И.К. Готтшеда в Лейпциге[127]. Скорее всего, и она первоначально была написана по-немецки, однако ко времени ее выхода в свет Миллер уже в совершенстве владел русским языком и, как свидетельствуют документы, тщательно выверял переводы своих сочинений, нередко дополняя и исправляя их по сравнению с немецким оригиналом.
Статья Миллера о русском летописании невелика по объему и в современном издании занимает лишь десять страниц печатного текста среднего книжного формата[128]. Сразу же обращает на себя внимание то обстоятельство, что эту свою работу сам Миллер определяет как «исследование». Как видно из приведенной выше цитаты Байера, это слово было известно и его переводчику Тауберту, но у Байера под ним подразумевается не научное сочинение, а эмпирическое изучение определенного материального объекта, в данном случае, определенной местности. В «Словаре Академии Российской», который начал выходить в 1789 году, слова «исследование» нет вовсе. Современный «Словарь русского языка XVIII века» приводит лишь два примера его использования в значении «научное сочинение»: в названии книги, переведенной на русский язык А.Д. Кантемиром в начале 1740-х годов, и в публикации в «Санкт-Петербургском журнале» 1798 года[129]. Статья же Миллера, напомню, вышла в 1755 году[130].
Начинается она с небольшого введения, в котором автор определяет значение труда Нестора, отмечает его уникальность, говорит о необходимости издания Начальной русской летописи, а также «Истории» Татищева, после чего формулирует цель собственного «изследования»: «объявить о преподобном Несторе и о тех, кои летопись его продолжали». Сопоставляя далее тексты Киево-Печерского патерика, Четьих миней и самой Начальной летописи, Миллер переходит к доказательству авторства Нестора. Следующий вопрос, которым он задается, – дата рождения летописца. Историк устанавливает ее опять же путем сравнения различных сведений самой Начальной летописи с житиями Феодосия и Антония Печерских. Затем Миллер ставит вопрос, оказавшийся впоследствии одним из ключевых в истории русского летописания, – «сколь долго Нестор жил и как далеко дошел в сочинении своей летописи». В поисках ответа на этот вопрос историк идет тем же путем, что и все последующие исследователи: он анализирует текст самой летописи и вступает в связи с этим в полемику с Татищевым – своим единственным предшественником. Наконец, заключительная часть статьи – это краткий обзор последующей после Нестора истории русского летописания вплоть до XVII века. Завершается она повторением призыва к изданию летописи Нестора, на сей раз уже на иностранных языках, «дабы тем скоряе… другие европейские народы… могли оным пользоваться и сим способом выти из той темноты, в которой они по сие время в разсуждении древней Российской истории находятся». Стоит отметить, что в тексте статьи имеются выделенные цитаты из привлеченных источников, причем некоторые из них вынесены в подстрочные примечания. При этом в самом начале статьи автор обозначает, что пользуется изданием Киево-Печерского патерика 1702 года, хотя лишь один раз называет страницу, на которой находится цитируемый им текст.
Статья Миллера «О первом летописателе Российском преподобном Несторе» была первой специальной работой, посвященной истории русского летописания и таким образом положившей начало одному из важнейших направлений отечественной историографии. Но по существу именно ее можно определить и как первую журнальную статью исследовательского характера по истории России на русском языке. При этом нетрудно заметить, что она содержит фактически все компоненты, ставшие впоследствии обязательными для этого жанра научной работы и, следовательно, можно утверждать, что ею был задан своего рода образец формата исследовательской статьи.
Совершенно очевидно, что обоснование проблемы и ее значимости, определение цели исследования в наше время являются обязательными компонентами не только научной статьи по истории, но и вообще всякого научного исследования. Однако современное историческое исследование, в том виде, как оно сложилось в отечественной традиции, имеет особый компонент, только для него носящий обязательный характер – обзор источников. Первая попытка подобного рода была сделана В.Н. Татищевым в его «Предъизвещении» к «Истории Российской». «Отец русской истории» перечисляет довольно значительное число различных, в основном нарративных источников – летописи, хронографы, Степенную книгу, свадебные разряды, жития святых, а также авторские сочинения А. Палицына, А. Курбского, А. Лызлова, С. Медведева, А.А. Матвеева и др. Упоминает он и «дипломатические» документы, скопированные им в архивах Казани, Астрахани и Сибири. Некоторым из источников Татищев дает краткие характеристики относительно степени их достоверности: «хотя многими баснями наполненная, однако ж много нужднаго», «кем сочинена, неизвестно, но многими баснями, и не весьма пристойными, наполнена». Порядок перечисления Татищевым использованных им источников выглядит следующим образом: 1) Повесть временных лет, 2) Хронограф, 3) «Синопсис» И. Гизеля, 4) летописи, 5) «дипломатические» документы, 6) авторские сочинения, 7) свадебные разряды, 8) агиографическая литература[131]. Этот перечень весьма далек от какой-либо систематизации источников, соотносимой с принятой в современном источниковедении.
Миллер, как уже упоминалось, также посвятил обзору источников несколько страниц своего предисловия к «Истории Сибири». Однако, упомянув в нем несколько раз о найденных в Сибири архивных документах и высоко оценив их значение, главное внимание историк уделил сибирским летописям, довольно подробно остановившись на характеристике различных списков. Спустя несколько лет после завершения работы над «Историей Сибири», в 1761 году Миллер продолжил «Историю Российскую» Татищева своим «Опытом новейшия истории о России». Обзор источников в этом сочинении свидетельствует об определенной эволюции Миллера как ученого.
Основная часть «Опыта» – сочинения, носившего монографический характер, была опубликована по-немецки в четырех выпусках пятого тома «Sammlung Russischer Geschichte», а первая часть – в том же году в трех номерах «Ежемесячных сочинений»[132]. «Опыт» начинается пространным авторским обоснованием избранной темы. Миллер приводит два главных резона. Во-первых, он считал необходимым продолжить «Историю» Татищева «для приведения в некоторое совершенство всея Российской Истории». Во-вторых, это соображения о воспитательном значении истории:
Когда вся история должна из примеров показывать нам правила, по коим учредить и расположить наши поступки, то не токмо похвальныя дела производят сие действие, но и разсказывание о порочных, безрассудных, дерзновенных, изменнических и безчеловечных делах в себе содержат толь много полезнаго, что еще казаться может сомнительным, имеют ли в том преимущество благополучнейшие и достохвальнейшие случаи, что касается до пользы в нравоучении и политике. Человеку сродно взирать на доброе дело… яко на обыкновенное, без великаго возторга. Но злое возбуждает ужас, когда живо изображается. Пускай порок примет вид добродетели, сколь долго может; время делает оной известным и мерским[133].
Покончив с общими рассуждениями, Миллер переходит к обзору источников, оговаривая при этом, что он посвящен только русским источникам, поскольку иностранные авторы,
выключая некоторых, совсем не знали Российскаго языка… слышали много несправедливо, худо разумели и неисправно разсуждали; и потому их известия могут токмо служить изъяснением, поелику оныя не уничтожатся исправнейшими Российскими известиями.
Обзор российских источников Миллер строит в следующей последовательности: 1) летописи, 2) хронографы, 3) Степенная книга, 4) «Летопись о многих мятежах», 5) «Ядро Российской истории» А.И. Манкиева, 6) родословные и разрядные книги, 7) «архивные письма», т. е. делопроизводственные документы. Каждому из этих видов источников историк дает краткую критическую характеристику, включающую его происхождение, сведения о разных списках и отличиях между ними с точки зрения характера и полноты информации. Так, например, характеризуя списки Степенной книги, Миллер отмечает, что большинство известных ему списков насчитывает 17 степеней, некоторые включают и 18-ю, т. е. правление царя Фёдора Иоанновича, а другие содержат и сведения более позднего времени, но «без числа степеней». Поскольку основной объем информации в Степенной книге связан с церковными делами, а «о светских делах иное пропущали», историк делает вывод о составлении книги представителями церкви. Говоря о разрядных книгах, Миллер впервые в историографии определяет их назначение как местнических справочников, а заодно дает характеристику самому местничеству как важнейшему социальному институту и рассказывает о его отмене, сопровождавшейся уничтожением разрядных книг. Что же касается «архивных писем», то автор «Опыта» поясняет, что речь идет о документах, найденных им в местных сибирских архивах и в первую очередь в архиве Чердыни.
Есть ли кому странно покажется, – объясняет Миллер, – что такия письма находились в толь отдаленных местах, то надобно знать, что в оныя времена… все государство в безпрестанном было движении. Царские указы разсылались о всем том, что в Москве произходило, во все городы, и начальники в городах уведомляли один другаго о новополученных известиях.
Далее Миллер выражал надежду на то, что еще более ценные документы будут найдены в московских архивах, и признавался, что именно обнаружение этих документов в архивах Сибири побудило его к написанию «Опыта»[134]. Стоит заметить, что Миллер в это время, по-видимому, еще не знал о московском пожаре 1626 года, уничтожившем значительную часть документов Смутного времени, что впоследствии дало повод известному русскому археографу П.М. Строеву патетически воскликнуть:
Что бы было с временами Лже-Дмитриев и смутного правления бояр в Междоцарствии… если б Миллер, один Миллер, не восстановил их актами, кои он открыл в пыли городовых архивов Сибири[135].
Присмотревшись к обзору источников в «Опыте» Миллера, нетрудно заметить, что по составу и построению он очень близок к принятой в современной науке классификации письменных источников по истории России XVI–XVII веков. Единственная «ошибка», с этой точки зрения, – это помещение Миллером между «Летописью о многих мятежах» и разрядными книгами авторского сочинения Манкиева. Однако и тут прослеживается определенная логика: и «Летопись», и «Ядро Российской истории» историк рассматривает как нарративные источники, по своему авторскому характеру примыкающие к летописям, хронографам и Степенной книге и отличающиеся от вышедших из стен государственных учреждений родословных и разрядных книг, а также делопроизводственных документов.
Статья о летописании и «Опыт» были далеко не единственными работами Миллера, опубликованными в «Ежемесячных сочинениях» в течение десяти лет существования этого периодического издания. Как уже говорилось, журнал сыграл существенную роль в развитии русской журналистики. По словам Евгения Болховитинова, «вся Россия с жадностью и удовольствием читала сей первый русский ежемесячник»[136]. На протяжении второй половины XVIII – начала XIX века журнал дважды переиздавался. Влияние публикаций в этом журнале, а также многочисленных сочинений Миллера, написанных в московский период его жизни (1765–1783), исследователи обнаруживают в творчестве таких деятелей русской культуры, как Я.Б. Княжнин, А.Н. Радищев, Н.И. Новиков и др. Но несомненно, что они оказали влияние и на историков следующего поколения. «Скрытые цитаты» из трудов Миллера можно обнаружить не только у Н.М. Карамзина, но даже у жившего много позже В.О. Ключевского. Гораздо сложнее определить влияние этих трудов на становление научных жанров русской исторической науки, закрепление форм представления и распространения результатов исторических исследований. Однако можно утверждать, что к уже признанным заслугам Миллера перед русской исторической наукой можно добавить и его вклад в профессионализацию в России самого, по выражению М. Блока, «ремесла историка», превращение истории из литературы в науку и формирование научной среды, в которой «известия» о прошлом из познавательного и назидательного рассказа постепенно превращались в предмет научного исследования и обсуждения.
Л.П. Репина Т.Н. Грановский и идея всеобщей истории в России
Нет науки, более враждебной всякому догматизму, чем история…
Т.Н. ГрановскийТолько всеобщая история сообщает нам знание связи событий…
Н.И. КареевТраектория творческой жизни ученого – на разных ее отрезках – возвращает исследователя и вслед за ним читателей к необходимости последовательного сопоставления результатов его деятельности в разных интеллектуальных контекстах, включая предшествующее этой деятельности состояние науки: современность – с позиции героя биографии, актуальность – с точки зрения самого биографа, а также видение им перспектив дальнейшего развития науки. В контексте же изучения интеллектуальных традиций на первый план выходит проблема глубины исторической ретроспективы (как она видится из той точки на темпоральной шкале, которая принимается за настоящее) и определения границ находящегося в процессе становления научного направления/области знаний/дисциплины. Очень существенной здесь оказывается специфика восприятия предшественников или же целенаправленного поиска «отцов-основателей», «благородных предков» (с солидным «символическим капиталом»), который завершается построением желаемой интеллектуальной генеалогии. Изучая какой-либо период в истории науки (как и при осмыслении ее настоящего), важно знать не только ее текущее состояние, но и как в то время оценивалось то, что было сделано предшественниками, как было ими конфигурировано искомое исследовательское пространство и как виделась их персональная иерархия в динамическом плане[137]. Как выразился Рэндалл Коллинз,
интуитивное понимание того, как следует относиться к области интеллектуальных изысканий, является самой важной единицей культурного капитала, который индивиды получают от своих учителей. Это одна из причин, почему выдающиеся интеллектуалы связаны цепочками сквозь поколения (курсив мой. – Л.Р.)[138].
* * *
В России идея всеобщей истории – довольно позднее приобретение. Само ее распространение было напрямую связано с мучительными поисками ответа на вопрос об исторических судьбах человечества как целого и России – как его части.
Понятие всеобщей истории в российской интеллектуальной традиции претерпело значительные трансформации в течение последних двух столетий. С самого введения этого термина он имел различные значения. Главные изменения произошли в их соотношении, и динамика этих изменений совпадает с важнейшими моментами в долгом процессе российской модернизации с ее тремя фазами, хронологически маркированными первой половиной XIX столетия, концом XIX – началом ХХ века, концом 1990-х – началом 2000-х годов. Стоит сразу заметить, что в эти исторические периоды идея всеобщей истории имела особое значение для российских интеллектуалов (как в сфере профессиональной историографии, так и в ходе острых общественных дискуссий о прошлом и будущем России). И здесь необходимо сказать хотя бы несколько слов по поводу контекста и двух противостоящих сторон этой идейной полемики.
Для российской общественно-политической мысли рубежа XVIII–XIX веков было характерно понимание просвещения как могущественной силы социального преобразования, а тесные культурные и интеллектуальные связи между Россией и Западной Европой оценивались весьма высоко. Но модернизация и европеизация российских элит в течение последней четверти XVIII и первой трети XIX столетия породили последующую негативную реакцию – враждебность как к самой модернизации, так и к западной культуре. Эта тенденция воплотилась в официальной идеологии, а затем в славянофильском интеллектуальном движении. В государственной культурной политике центральное место занимала идея национальной самобытности. В середине 1830-х годов была окончательно сформулирована так называемая теория официальной народности. Принципы «православия, самодержавия и народности» широко пропагандировались в учебниках, лекциях, популярных брошюрах. В этой атмосфере философское осмысление исторического пути России (с такими главными темами, как культурные и интеллектуальные связи России и Запада и оценка западноевропейского общественно-политического строя) заняло центральное место не только в трудах и лекциях ведущих общественных и государственных деятелей, ученых и публицистов, но и в жарких дебатах в столичных литературных салонах.
Понятие всеобщей истории было центральным для так называемой западнической идеологии. В 1840-е годы многие российские ученые, студенты университетов и более широкая образованная публика проявляли огромный интерес к истории западноевропейских стран, которые уже испытали процесс модернизации и формирования современных общественных и политических институтов. Большинство западников были сторонниками конституционной монархии. Они связывали социальные реформы с заимствованием западноевропейских достижений. Веря в «уроки истории», они пытались отобрать наиболее ценные явления западного исторического опыта и применить их к российскому настоящему и будущему. Но историософские концепции большинства оригинальных мыслителей этой ориентации не укладывались в прокрустово ложе довольно схематически обозначенных общих черт западнической идеологии. И в первую очередь это относится к Тимофею Николаевичу Грановскому, который был настоящим лидером западнического интеллектуального движения и главным пропагандистом идеи всеобщей истории в 1840-е и до середины 1850-х годов.
* * *
Т.Н. Грановский родился 9 марта 1813 года. В 1832–1835 годах он был студентом юридического факультета Петербургского университета, а с 1836 по 1839-й – учился в университетах Берлина, Праги и Вены и посещал лекции Леопольда фон Ранке, Фридриха фон Савиньи, Карла Вердера, Карла Риттера, Эдуарда Ганса.
Вернувшись в Россию в 1839 году, Грановский начал читать лекции на кафедре всеобщей истории[139], которая была открыта в Московском университете. Очень скоро Грановский занял исключительное место среди преподавателей университета, стал лидером так называемой «молодой профессуры» и московского кружка западников. Социальная активность и острый интерес Грановского к проблемам современности вовсе не противоречили его идеальному образу Истории как науки. Отстаивая научные принципы исторического познания, он был так же твердо убежден в том, что:
история по самому содержанию своему должна более других наук принимать в себя современные идеи. Мы не можем смотреть на прошедшее иначе, как с точки зрения настоящего[140].
Курсы, которые Грановский читал в университете и в форме публичных лекций, были посвящены прежде всего истории западноевропейского Средневековья[141], но также истории Древнего Рима, сравнительной истории Англии и Франции, выдающимся историческим личностям и т. д. Незадолго до своей безвременной кончины 4 октября 1855 года Т.Н. Грановский был избран деканом историко-филологического факультета Московского университета, и ему было поручено министерством просвещения написать учебник по всеобщей истории. Но у него хватило времени только на две первые главы, в которых он дал яркие характеристики народов и эпох всеобщей истории и очертил главное направление исторического развития[142].
Философское понимание всеобщей истории у Грановского отчасти связано с Гегелем, работами которого он всерьез заинтересовался еще в годы учебы, а позднее в течение всей своей жизни критически переосмысливал ключевые идеи гегелевской философии истории с ее видением конечной цели развития в субъективной свободе человека как индивида и как универсального существа[143].
Но понимание Грановским всеобщей истории не совпадало с гегелевским понятием «Всеобщей Истории» (как первым типом «Рефлективной Истории»), которая стремится обозреть всю историю какого-либо народа или даже мира и склонна к абстрактным обобщениям. Идея всеобщей истории Грановского имела более широкую перспективу и очевидные соответствия с гегелевским идеалом «Философской Истории» и «Философского Историка». Перед историком стоит задача постижения поступательного движения в направлении к конечной свободе, он должен достичь истинного понимания Всеобщего, которое может быть осуществлено только через осознание того, что история является рациональным процессом, управляемым универсальными законами. Как утверждал позднее П.Г. Виноградов, Т.Н. Грановский
признал, что существует некоторое общее движение в отличие от всех частных, признал, что показателем этого движения служит прогрессивная выработка идей, признал, что каждый шаг вперед отправляется от предшествовавшего, признал, что в жизни народной это равносильно усвоению чужеземной культуры вступающим на смену народом. Практические приложения к России были очевидны. Необходимо было сделать западную цивилизацию своею, чтоб одолеть ее и пойти дальше[144].
Но это еще не все. Грановский был слишком историком,
чтобы остаться вполне во власти философа, распорядившегося историческим материалом по своему произволению… Главное, и по натуре, и по подготовке Грановский не мог принести жизненность конкретных фактов в жертву отвлеченному философскому плану. Он видел прошедшее слишком ясно, чтобы не заметить, что оно гораздо богаче содержанием, чем допускала диалектическая схема Гегеля[145].
Это богатство содержания минувшего создавало трудности, если не в определении предмета всеобщей истории, то в отборе материала, подлежащего изучению, в том числе данных других наук:
Можно без преувеличения сказать, что нет науки, которая не входила бы своими результатами в состав всеобщей Истории, имеющей передать все видоизменения и влияния, каким подвергалась земная жизнь человечества[146].
Но при этом всеобщая история не превращается в арифметическую сумму частных, локальных и национальных историй. Принцип отбора материала для всеобщей истории должен был, в соответствии с концепцией Грановского, состоять в вычленении «общего, существенного» в процессе развития человечества – развития, общего для всех народов.
Профессиональное понимание всеобщей истории у Грановского восходит к концепции Леопольда фон Ранке, который считал, что
наука всеобщей истории (здесь и далее курсив мой. – Л.Р.) отличается от специального исследования тем, что, изучая особенное, универсальная история никогда не забывает о целом, которым она занимается. Исследование особенного, даже единичного, ценно, если оно хорошо сделано. Будучи обращено к человеку, оно всегда обнаруживает нечто, что стоит знать. Оно поучительно, даже когда касается мелочей, поскольку человеческое всегда достойно познания. Но изучение особенного непременно устанавливает связь с более широким контекстом. Локальная история соотносится с историей страны; биография – с каким-то более масштабным событием в жизни государства и церкви, с какой-либо эпохой национальной или общей истории. Но все эти эпохи сами… являются частью того великого целого, которое мы называем универсальной историей. Чем шире горизонт исследования, тем, соответственно, выше его ценность. Конечной целью, все еще недостигнутой, остается постижение и написание истории человечества[147].
Эта цель – коллективная идентичность высшего порядка, опирающаяся на идею единой судьбы человечества и преемственности всемирно-исторического развития от эпохи к эпохе[148]. В этом, собственно, и состоит классическое понимание сверхзадачи всеобщей истории, разделяемое ведущими представителями новоевропейской историографии.
Т.Н. Грановский заложил в традицию российской профессиональной историографии четко выраженную линию истолкования специфики всемирной истории как всеобъемлющей и взаимосвязанной. Вслед за Ранке с его поиском «общей связи вещей», он определял ее следующим образом:
Всемирная история имеет дело с событиями в их связи между собой (курсив мой. – Л.Р.). Она есть эмпирическая история, занимающаяся всеми народами, населяющими землю…[149]
Т.Н. Грановского часто называют «первым российским медиевистом». Действительно, главным предметом его собственных исследований была история Западной Европы в Средние века. Однако его ученая эрудиция далеко превосходила эти хронологические и географические границы: она охватывала древнюю и новую историю Западной Европы, а также историю России, знание которой предоставляло необходимый ресурс для его сравнительных очерков[150]. Например, будучи убежден в универсальном характере исторического процесса и стремясь противодействовать официальной пропаганде незыблемости крепостнического строя, Грановский подчеркивал его исторический, преходящий характер. В своем лекционном курсе по средневековой истории в 1848/49 году он призывал искать ключ к труднообъяснимым, «загадочным явлениям» российской истории в «великих вопросах» западноевропейской истории:
Более, нежели когда-нибудь, история имеет право на внимание в настоящее время, ввиду великих вопросов, решаемых западными обществами, человеку с мыслящим умом и благородным сердцем нельзя не принимать участия в судьбе человечества, нельзя не оглянуться назад и не поискать ключа к открытию причин тех загадочных явлений, на которые мы смотрели и смотрим с удивлением[151].
Грановский верил в то, что его эпоха открывает новую перспективу для русского народа, прежде отстраненного от общего развития европейских народов. В лекциях 1848/49 года он говорил:
Здесь нам, русским, открывается великое и прекрасное поле: устраненные от движения, которое захватило все народы, бросив их на пути, тогда как конец далеко не виден, устраненные от этого движения, мы стоим на пороге Европы, наблюдателями [движения], и притом не праздными: движения европейской жизни находят отголоски и у нас, мы стараемся понять их и из них извлечь поучительный пример, в чем и состоит собственно русское воззрение на историю (курсив мой. – Л.Р.). Это, впрочем, не значит, чтобы мы смотрели на историю Запада с исключительной мелконациональной точки зрения; нет, мы должны наблюдать. Западный человек брошен в различные партии и потому не может быть наблюдателем той драмы, в которой сам принимает участие; он ищет в прошедшем оправдание своей мысли, и на настоящие моменты ему некогда обратить внимание. Итак, нетрудно понять, до какой степени выгоднее наше положение…[152]
Понимание истории у Грановского было абсолютно лишено националистических и расистских предрассудков. В противовес гегелевскому противопоставлению «исторических» и «неисторических» народов, российский классик всеобщей истории подчеркивал, что история любого народа (включая не-европейские народы) заслуживает изучения. Каждый народ «самобытен и входит в историю как новое творение»[153]. Развивая эту идею, он писал: «Тот не историк, кто неспособен перенести в прошедшее живого чувства любви к ближнему и узнать брата в отдаленном от нас веками иноплеменнике»[154]. Он также утверждал, что в непрерывной преемственности всеобщей истории происходит постоянная смена ее «лидеров», т. е. тех народов, которым их предшествующие достижения дали возможность ввести новый принцип в общую историческую жизнь. Сегодня мы, наверное, могли бы образно сравнить такой процесс с передачей исторической эстафеты. И, вместе с тем, в способности постичь этот новый принцип Т.Н. Грановский видел необходимое условие «удержания» так называемых «старых, стареющих народов» в историческом процессе. Проводя эти идеи в своих лекционных курсах, Грановский в то же время был далек от схематизации, присущей многим другим последователям гегелевской философии истории.
Во вводной лекции по истории историографии в сентябре 1848 года Грановский дал пространное изложение своего понимания различия между частной (локальной или национальной) историей, с одной стороны, и универсальной, или всеобщей историей, с другой. Заметив, что концепция всеобщей истории не могла бы сложиться в отсутствие какого-либо представления о человеческой цивилизации, он обнаружил корни этой концепции в христианстве, но связал ее реализацию с современной ему философией истории. Грановский, в частности, указывал:
Занимаясь историей народов древнего Востока, вы легко поймете, почему на Востоке не могла созреть мысль о всеобщей истории; она могла развиться только при высшем сознании личности всего человечества (в среде, уразумевшей свое прошедшее [выделено мной. – Л.Р.])… Только на рубеже истории Востока является исторический памятник, в исследование которого надобно углубиться, – это св. Библия… Но настоящая классическая почва истории – Европа. История есть растение, растущее не на всякой почве и не при всяких условиях. Даже греческая историография, несмотря на всю ее художественность и изящность в рассказе, не сходит со степени истории национальной… гордое отличие между эллином и варваром мешало развитию идеи всеобщей истории; и мог ли ее понять грек при таком отчуждении своего народа от всего человечества… Только с введением христианства могла возникнуть всеобщая история; первые слова христианства показали новый идеал истории. И. Хр. сказал удивленному древнему миру, что все люди суть сыны божии, что все они братья, что перед богом нет ни эллина, ни варвара! Итак, в христианстве лежит идея о всеобщей истории, тогда только она сделалась возможной; но между возможностью и осуществлением желаемой идеи проходят столетия. В наше время всякому историку понятна цель науки, всякий сознает ее идеал, но нет еще произведения, где бы эта идея осуществилась, и долго еще пройдет, пока цель, высказанная Диодором Сицилийским, – всеобщая история должна быть рассказана как история одного человека (выделено мной. – Л.Р.) – осуществится…[155]
Для Грановского «идея цивилизации вступила в область истории» в XVIII столетии, но «философия XVIII века была материальная, и потому ее влияние на историю имело вредное последствие», а две возникшие формы – история всемирная и Kulturgeschichte «не шли по должному направлению». При этом
всемирную историю не должно смешивать с всеобщей историей. Первая, т. е. всемирная, история требует количества фактов; чем больше фактов, чем больше народов входят в ее состав, тем цель ее лучше достигнута; вторая, т. е. всеобщая, обращает главное внимание на качество фактов, и потому она не без разбора их принимает. Конечно, это воззрение на историю всемирную имело в себе что-то гуманное; оно давало равную цену истории <мелких африканских племен> и истории римлян; но нельзя не видеть в этих понятиях об истории чего-то близорукого, обличающего совершенное непонимание истории! …Направление эмпирическое, выразившееся под формой всемирной истории, ложно в том отношении, что оно совершенно оставляет в стороне человека; оно довольствуется одними фактами и забывает развитие рода человеческого, что должно составлять сущность истории (выделено мной. – Л.Р.)[156].
Всеобщая история, по Грановскому, немыслима вне человека, «в стороне» от него и представляет собой, по сути, биографию человечества.
В своем кратком историографическом очерке Грановский не упомянул двух мыслителей – классиков всеобщей истории начала Нового времени, высказывавших нечуждые ему идеи. Прежде всего, это Жан Боден (1530–1596), который, постулируя необходимость рассмотрения человеческой истории как единого целого, видел предмет всеобщей истории в исследовании исторического движения человеческих сообществ, социальных групп и государств[157]. Если обратиться к классике истории исторической мысли, какой она видится из дня сегодняшнего, то, пожалуй, наше внимание привлечет и сходство идеи всеобщей истории Грановского с воззрениями Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), который настаивал на внутреннем единстве, содержательной целостности и завершенности каждой из исторических эпох и резко противопоставлял свое понимание «всеобщей истории» традиционным «всемирным историям», называя последние «беспорядочной мешаниной» событий и сообщений. Бэкон мыслил всеобщую историю не как механический свод частных историй, а как их синтез на основе того общего, что характеризует движение истории в различных ареалах, того «духа», который составлял специфику определенной эпохи всеобщей истории[158].
Грановский высоко ценил исторические воззрения других классиков – Джамбаттиста Вико (1668–1744) и Иоганна Гердера (1744–1803) – и органическую концепцию общественного развития. Он считал, что сама по себе «глубоко верная и справедливая мысль» о том, что «нужно смотреть на каждое время с его точки зрения, устранив современные взгляды и предубеждения и перенесясь в положение данной эпохи», была неправильно понята и значительно искажена, «особенно, может быть в Германии». В чем же именно, по его мнению, ошибалась «бо́льшая часть историков»? При взгляде на прошедшее как на нечто «отрезанное» от настоящего, а на человека как на всецело определявшегося политическим положением, складом идей и т. д.,
в формах определений заслоняется самая сущность, т. е. сам человек, и, таким образом, выпускаются из виду исторические деятели, люди, которых действия постоянно изменяются вследствие перемены идей… так что весь прогресс истории заключается в том, что человечество становится сознательнее и цель бытия его яснее и определеннее. Только сказав это, можем мы достигнуть до истинного понимания истории… Нет сомнения, что последние 60 лет европейской истории более поясняют древнюю историю, нежели все исследования филологов, устранившихся от влияния современной жизни, и каждый момент современности, понятый человеком с историческим смыслом, имеет влияние на понимание древней жизни человечества, ибо история есть нечто живое, связное, органическое (выделено мной. – Л.Р.)[159].
Грановский весьма критично оценивал концепцию систематической всемирной истории Шлёцера, который считал, что в одинаковых обстоятельствах люди всегда действуют одинаково[160].
Указав на определяющее позитивное влияние Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и немецкой рациональной философии в целом на исторические идеи его времени[161], Грановский, утверждал, что «всеобщая история должна иметь предметом развитие духа (выделено мной. – Л.Р.) рода человеческого». Речь, таким образом, может идти о духовной биографии человечества. При этом нельзя «довольствоваться одним сухим исчислением приобретений духа человеческого, не всегда вполне выражающих степень его развития»[162]. И далее: «…В область истории должны входить факты, имевшие влияние на развитие рода человеческого… В наше время важными для истории фактами называют те, которые служат выражением духовного состояния человека, или его изменения, или развития, или, наконец, его косности»[163]. «Во всеобщую историю можно внести те факты, в которых выразилось сознание, которые характеризуют духовную жизнь, духовное движение народа»[164]. Итак, предмет всеобщей истории должен включать развитие сознания, опыт духовной жизни человечества[165].
Т.Н. Грановский был совершенно убежден в практическом значении истории, которая «помогает угадывать под оболочкой современных событий аналогии с прошедшим и постигать смысл современных явлений»[166]. Эта практическая сторона научного исторического знания была ярко выражена российским классиком всеобщей истории в черновом наброске лекции на животрепещущую тему о переходных эпохах в истории человечества (лето 1849 года). В ней Грановский, намекая на революционные события 1848 года, в частности на июньские дни в Париже, подчеркивал:
Русской науке, свидетельнице страшной для западного общества годины, дана скорбная возможность поверять свои еще не ясные теории мучительными опытами, которые совершают над собой западные л[атино]-герм[анские] народы. Никогда призвание русского историка не было так важно, как в настоящую минуту. Вековые основы западных обществ поколебались; из страны, которая прежде всех других сняла с себя определения феодального государства, поднялся и долетел до нас страшный клич sauve qui peut. Ринутым в отчаянную борьбу страстным умам старой Европы теперь не до науки. Им некогда сверять прошлое с настоящим, они предоставили это дело нам, младшим братьям европейской семьи, не причастным [к] раздору старших. Подвиг трудный, которого результатом должно быть не одно удовлетворение ученого любопытства, а полное, имеющее определить жизнь, уразумение истории и ее законов… (выделено мной. – Л.Р.)[167].
Детали жизненного пути Т.Н. Грановского отражены как в многочисленных записках и воспоминаниях современников, так и в научной и научно-популярной литературе. Педагогическая и общественно-просветительская деятельность Грановского описана практически во всех посвященных его творческой биографии работах[168]. Но созданный самим Грановским в статье «Бартольд Георг Нибур» (1850) яркий образ столь ценимого им великого историка позволяет увидеть позитивный идеал такого рода деятельности глазами самого автора и соотнести его с тем, что нам известно из воспоминаний его учеников и коллег.
При чтении своих лекций, – писал Грановский, – Нибур не довольствовался передачей одних результатов. Он вводил своих слушателей во все подробности трудного, глубокомысленного исследования. Восстановление Римской истории совершалось перед их глазами, можно сказать, при их содействии. Ученая и мыслящая аудитория, в свою очередь, благотворно действовала на преподавателя. Он доверчиво подвергал ее приговору участь своих смелых предположений. Между ним и ею образовалась живая связь обоюдного влияния, постоянный, богатый результатами обмен идей. Каждая лекция входила новым и важным фактом в историю науки[169].
В своем отклике на изданные в 1847–1851 годы лекции Нибура Грановский, конечно, не предвидя почти полного повторения ситуации в судьбе своего собственного творческого наследия, писал, поражая точностью суждений:
Разобрать по частям творение, изданное так долго после смерти великого историка, указывая на ощутительные недосмотры и даже ошибки – дело бесполезное и притом нетрудное. Почти целая четверть века прошла с того времени, когда лекции были записаны слушателями Нибура. С тех пор многое изменилось в науке, по крайней мере относительно частностей; нередко сам преподаватель увлекался своею творческою фантазией, т. е. избытком того качества, без которого невозможен великий историк. Мы не скрывали этих увлечений. Не все приговоры Нибура справедливы, не все мнения его верны. Но можно смело сказать, что ни одна из его несправедливостей или погрешностей не исходит из незнания или недобросовестности. Он владел всем материалом науки и распоряжался им честно. В самых ошибках его есть нечто глубоко поучительное для всякого мыслящего писателя[170].
* * *
Влияние Грановского на все последующее развитие российской историографии всеобщей истории, основы которой он заложил, в XIX – начале ХХ века никогда не оспаривалось. Более того, он был возведен в ранг классика уже в середине XIX века, практически сразу же после ухода из жизни. Несколько позднее, завершая свой биографический очерк, посвященный Грановскому, А.В. Станкевич писал: «Пятнадцать лет занимал Грановский кафедру всеобщей истории в Московском университете. Несколько поколений испытали влияние его учения. Между учениками и слушателями Грановского образовались люди, имена которых приобрели известность на поприще русской науки…»[171]. Это были, в том числе, преемники Грановского по кафедре всеобщей истории П.Н. Кудрявцев (1816–1858) и С.В. Ешевский (1829–1865), а также С.М. Соловьёв (1820–1879), Б.Н. Чичерин (1828–1904) и многие другие. Грановский
своей деятельностью на кафедре положил начало серьезному изучению всеобщей истории в России… В России и до Грановского были ученые и более или менее даровитые преподаватели всеобщей истории, но никто из предшественников Грановского на кафедрах истории в России не обладал таким живым и цельным взглядом на науку, таким органическим пониманием истории (здесь и ниже курсив мой. – Л.Р.), таким талантом разгадывать смысл ее явлений и представлять их в связи, в целом, какими обладал Грановский…[172].
Изучение всеобщей истории в России было достойно продолжено и существенно продвинуто вперед самым выдающимся учеником Грановского Владимиром Ивановичем Герье (1837–1919)[173], а также учениками последнего и крупнейшими учеными русской исторической школы пореформенного периода (Н.И. Кареевым, М.M. Ковалевским, И.В. Лучицким, П.Г. Виноградовым, М.С. Корелиным, С.Ф. Фортунатовым, Р.Ю. Виппером и др.), составившими золотой фонд отечественной историографической классики.
В.И. Герье, как и Т.Н. Грановский, подчеркивал, что всеобщая история имеет для русских особое значение, поскольку представители западных стран не в состоянии отделить универсальную историю от своей национальной, в то время как для русского всеобщая история – это история человеческой цивилизации[174]. Характеризуя научный метод другого своего учителя, С.М. Соловьёва, Герье писал:
Историческое направление выразилось у Соловьёва не в одном органическом понимании Русской истории, не в том только, что жизнь Русского народа представляется им как единый, из себя развивающийся своей внутренней жизненной силой организм; жизнь этого народа тесно связана с жизнью других европейских народов. Судьба русского народа только часть другого великого организма, также единого и живущего общею жизнью своих частей – Европы, цивилизованного человечества. Сознание этой связи никогда не покидало С.М. Соловьёва в его исторических трудах. Чтоб поддерживать его в себе, он посвящал столько дорогого для него времени изучению литературы всеобщей истории; сознание этой связи побуждало его делать свои наблюдения над исторической жизнью народов. Таким способом он развил в себе ту широту и цельность взгляда, которые довершают научный характер его истории России…[175]
Стремясь охватить «всю совокупность истории человечества, ее ход и ее цель»[176], не упуская из вида ее «самое конкретное явление» – отдельного человека[177] (и реализуя это стремление в своих многочисленных лекционных курсах практически по всем периодам всеобщей истории), настойчиво подчеркивая роль в истории субъективного элемента[178], В.И. Герье, пожалуй, еще больше акцентировал нравственные начала и воспитательный потенциал истории, которую он приравнивал к «всенародной школе»[179]. В знании всемирной истории В.И. Герье видел необходимый элемент современной культуры и повторял вслед за Якобом Буркхардтом, которого считал «самым глубоким из историков ныне уже сошедшего со сцены поколения», его «увещание» о том, что «на образованном человеке лежит специальная обязанность воссоздать в себе возможно полную картину непрерывного мирового развития (der Continuität der Weltentwickelung), – в этом будет заключаться его отличие как сознательного существа от бессознательного варвара»[180]. С нескрываемым восхищением он цитировал и «золотые слова, которыми Грановский формулировал свой взгляд на историю и на самого себя как историка и профессора»:
Современный нам историк еще не может отказаться от законной потребности нравственного влияния на своих читателей… Даже в настоящем, далеко не совершенном виде своем, всеобщая история, более чем всякая другая наука, развивает в нас верное чувство действительности и ту благородную терпимость, без которой нет истинной оценки людей[181].
Герье отстаивал приоритет гуманистического начала в творчестве российских «всеобщников» середины XIX столетия. Он писал о Грановском и других «западниках» 1830–1850-х годов:
Это были русские гуманисты. Нет основания приурочивать этот термин исключительно к эпохе ренессанса… Обогащенный, облагороженный новыми идеями XIX века гуманизм – продукт европейской общечеловеческой цивилизации – вот что пытались провести в наше общество русские гуманисты, так называемые западники сороковых годов! Не замену национального западным ставили они себе целью, а воспитание Русского общества на европейской универсальной культуре, чтобы поднять национальное развитие на степень общечеловеческого, дать ему мировое значение… К этому направлению, к западникам, к русским гуманистам, примкнул и Соловьёв. Его привлекал к ним прежде всего его научный интерес, а затем сознание, что научное их направление есть вместе с тем и наиболее национальное… Бессмертная заслуга Соловьёва заключается в том, что он внес это гуманное, культурное начало в Русскую историю и вместе с тем поставил разработку ее на строго научную почву[182].
Несмотря на прошедшие более полутора столетий, многие оригинальные положения концепции всеобщей истории Т.Н. Грановского вызывают отнюдь не антикварный интерес, приобретая в современном интеллектуальном контексте особое звучание. В бурном для истории Европы 1848 году Грановский писал:
Несмотря на блестящие успехи, совершенные в течение нашего столетия историческими науками, никогда, быть может, практическая польза изучения истории не подвергалась таким сомнениям, как в настоящее время… Быстрая смена событий, число явлений, так нежданно и резко изменивших характер европейских обществ, ввели в раздумье много мыслящих и положительных людей. Неразрешимою и грозной задачей стал перед ними вопрос о связи прошедшего с настоящим в эпоху ожесточенных нападок на историческое предание. Исполненные доверия к опытам собственной жизни, они усомнились в возможности извлечь пользу из вековых опытов целого человечества… А между тем весьма немногие события отмечены характером совершенно новых, небывалых явлений; для большей части существуют поучительные исторические аналогии. В способности схватывать эти аналогии, не останавливаясь на одном формальном сходстве, в уменьи узнавать под изменчивою оболочкой текущих происшествий сглаженные черты прошедшего, по нашему мнению, высший признак живого исторического чувства, которое в свою очередь есть высший плод науки[183].
Важно также отметить, что классическое наследие Т.Н. Грановского дважды актуализировалось именно в переломные эпохи жизни общества и в критические периоды развития исторического знания на рубежах XIX–XX и ХХ – XXI столетий.
В последнее время имя Грановского вновь привлекает к себе общее внимание. О нем читают лекции, пишут статьи; выходят даже целые книги, посвященные разбору его характера, деятельности и общественного значения. На днях изданное собрание его писем пришлось как нельзя более кстати этому пробуждению сочувствия, которое составляет отрадное явление на унылом поле русской литературы. Оно свидетельствует о некотором повороте общественной мысли, о стремлении выйти из господствующих в ней односторонних и крайних направлений, из мутного потока реалистической пропаганды, из необоснованных утверждений экономического материализма, а с другой стороны, из пошлого реакционного подобострастия, которое под знаменем патриотизма возводит в идеал древнерусское холопство. Светлый образ Грановского, чуждого всякой односторонности, сумевшего соединять живое сочувствие к Западу и к его жизни с пламенною любовью к России и ясным сознанием ее потребностей, представляет гармоническое сочетание лучших сторон русской мысли и русского характера…[184]
Эта столь актуально звучащая цитата принадлежит любимому ученику Т.Н. Грановского Б.Н. Чичерину и взята из его работы «Несколько слов о философско-исторических воззрениях Грановского», написанной и опубликованной в далеком 1897 году, более века назад и почти через полстолетия после кончины Учителя. Прав оказался П.Н. Кудрявцев, подчеркнув в своем предисловии к изданию сочинений Т.Н. Грановского (1856), что «у Грановского долго не перестанут учиться живому пониманию науки…»[185].
* * *
Со второй половины XIX века интенсивное развитие исследований по истории Западной Европы в Средние века и Новое время происходило в контексте бурных пореформенных споров и активной научной, публицистической и педагогической деятельности учеников Герье – ведущих ученых либеральной политической ориентации. Историки русской исторической школы, чье формирование прошло под влиянием позитивизма, считали Россию неотъемлемой частью европейской цивилизации, а их исторические штудии стимулировались современными общественными дискуссиями вокруг перспектив российской модернизации и попыток найти решение насущных российских проблем через постижение европейского исторического опыта.
Хорошо известно, что в советский период общественно-политические взгляды представителей русской исторической школы нередко получали тенденциозные оценки. Например, не раз говорилось о том, что они мечтали автоматически перенести все явления западного капитализма на российскую почву, не очень заботясь о самобытности своего народа[186]. А между тем это утверждение несправедливо. Классики отечественной историографии всеобщей истории – историки «русской школы», ведшие свое происхождение «от Грановского», – всегда признавали самобытность России и даже подчеркивали ее значение. Разумеется, у них сохранялось позитивистское представление о возможности сознательного и целенаправленного воздействия на общество, опираясь на известные закономерности его развития. Но они также совершенно недвусмысленно выражали свое убеждение в необходимости учитывать национальные традиции и специфику внутреннего развития, культурно-историческое наследие[187] – короче, все те характеристики, которые мы теперь назвали бы цивилизационными основаниями исторического процесса. Будучи профессионалами высочайшего класса с оригинальными философскими и историческими взглядами, российские «всеобщники», сами вскоре ставшие признанными классиками, отчетливо понимали, что простое наличие апробированных моделей перехода от старого режима к современности могло бы лишь облегчить и ускорить этот процесс, но сам механизм этого движения по пути, проложенному другими, может быть запущен только в аналогичной исторической ситуации, созданной социальными, экономическими и политическими условиями самого общества, его действительными потребностями.
Стоит заметить, например, что, признавая возможность заимствовать достижения западной цивилизации, П.Г. Виноградов исходил из обязательного учета особенностей «национального организма» России. К тому же примечательно, что в периоды реакции он выдвигал тезис о необходимости следовать по пути, проложенному западными странами, а в моменты революционных кризисов подчеркивал значение национальной исторической традиции. В своей публичной лекции 1893 года в пользу комитета грамотности, посвященной Учителю всех российских «всеобщников» – «незабвенному Т.Н. Грановскому», П.Г. Виноградов, говоря о влиянии на него Гегеля, отмечал, что Грановский
видел прошедшее слишком ясно, чтобы не заметить, что оно гораздо богаче содержанием, чем допускала диалектическая схема Гегеля… Ему свойственно было – не раздавать народам и поколениям приличные им в общем строе идеи, а прислушиваться к голосу каждого, изучением и сочувствием доходить до исконных стремлений и заветных мыслей. Потребность и надежда объединения истории осталась, но достигнуть его становилось много труднее для историка, внимательного ко всякому праву, чем для деспотического философа… Гуманное чувство Грановского не допускало радикального разделения человечества на привилегированные и низшие расы… Так выяснялась для Грановского руководящая идея его занятий – идея всеобщей истории… Истинная сила Грановского заключалась в историческом синтезе, в способности сводить разрозненные и разнохарактерные факты в одно целое, указывать взаимодействие, зависимость… Грановский был именно создан для всеобщей истории. В его руках эта наука была не трудолюбивою компиляцией чужих мыслей, как у Вебера и Беккера, не беспощадным судоразбирательством, как у Шлоссера, не искусственным выделением международных явлений, как у гениального Ранке, не обширным введением к современности, как она будет у Лависса и Рамбо. Любопытно, что именно русский историк проявил необыкновенное дарование в этой области – любопытно и естественно. Не будет парадоксом сказать, что именно всеобщая история должна быть русскою наукой (выделено мной. – Л.Р.)[188].
При этом главное значение всеобщей истории Виноградов видел в воспитании человека через «продумывание» и «прочувствование» последовательности развития человечества[189]. Н.И. Кареев в своей известной речи на торжественном акте Императорского Санкт-Петербургского университета 8 февраля 1896 года, говоря об историческом миросозерцании Т.Н. Грановского, подчеркнул (и возвращался к этой мысли не раз):
Он был первый на кафедре всеобщей истории, который отрешился от взгляда на этот предмет, как на механическое соединение частных историй отдельных стран и народов, для того, чтобы возвыситься до всемирно-исторической точки зрения, до представления истории человечества, в недрах коего совершается единый по своему существу и по своей цели процесс духовного и общественного развития. Грановский же, наконец, начинает у нас ряд ученых, которые стали самостоятельно заниматься историей европейского Запада, в чем, можно сказать, выразилась впервые зрелость нашей научной мысли и наше право на умственную самостоятельность в сфере всеобщей истории… В историческом миросозерцании Грановского мы имеем… дело с тогдашним русским синтезом разных направлений исторической науки Запада[190].
Грановский видел во всеобщей истории
взаимодействие, сближение отдельных наций, культурное объединение человечества… Разносторонность исторического интереса Грановского, понятная при широте его общего взгляда на жизнь и науку, стояла в полном соответствии с той универсальной точкой зрения, которую он вводил в историю[191].
Широкое понимание исторической науки, которая имеет своим предметом жизнь человечества во всем ее разнообразии и многосторонности, составляло главную силу Грановского как историка-мыслителя[192].
Чтобы до конца представить всю широту понимания предмета исторической науки в традиции всеобщей истории, заложенной Грановским, необходимо не упустить из виду, что комплекс идеалов и ценностей, на базе которого выстраивалась картина всемирно-исторического развития, был насквозь гуманистичен. Российские «всеобщники» настойчиво подчеркивали не только разнообразие и многосторонность жизни человечества, разных поколений, изведавших «и радость жизни, и бремя труда, и муку смерти, и надежду бессмертия»[193], но и роль личности, индивидуального начала в истории; личности как творца и как субъекта исторического познания. Что же мог в этой парадигме взять историк «за центр, около которого должны группироваться все элементы культуры? Это нечто есть человеческая личность, ибо все в истории существует через человека, в ней и для нее»[194].
Весьма репрезентативным в отношении особенностей сложившейся в российской историографии XIX века интеллектуальной традиции представляется развернутое и очень точное рассуждение Н.И. Кареева о задачах, особенностях и вариантах композиции всеобщей истории в его предисловии к первому изданию (1893) «Введения в историю XIX века». Автор подчеркивает, что в данной книге ему хотелось
представить историю Западной Европы в новое время, как нечто единое, цельное и общее, не разделенное на истории отдельных народов и обособленных одна от другой эпох, как то именно общее, что из истории многих народов делает одну историю (выделено мной. – Л.Р.) и связывает частные эпохи в целый большой отдел всемирной истории… История подобна большой картине с множеством фигур в очень сложной комбинации. Об этой картине вы сможете дать понятие, сняв с нее, по возможности, точную, хотя и уменьшенную копию, с теми же красками, как и в оригинале; можете дать понятие также и в гравюре без красок, но с отделкой деталей, и в рисунке с менее тщательной обработкой подробностей, и в беглом эскизе; можете, наконец, дать о картине понятие, рассказав о ее содержании без пояснительного даже чертежа, который воспроизводил бы действительное размещение фигур; настоящая книжка и есть такой рассказ, передающий только общий смысл такой картины, а сама она совсем и не срисовывается. Кто хочет видеть именно ее самое, тот в этом очерке ничего не найдет, но зато, быть может, настоящая книжка окажет помощь желающему ориентироваться в сложной композиции и пестрой в окраске картине, уже ему известной по тем или иным копиям[195].
Не случайно, что одна из лучших практических разработок «русской» идеи всеобщей истории – серия учебников для школ, написанная Н.И. Кареевым по всем частям и периодам мировой истории. Главная черта этих текстов – интегральная презентация исторического процесса.
* * *
В этой связи нельзя не заметить, как удивительно перекликается (а в ряде моментов просто совпадает) аргументация современных пропагандистов глобальной истории с тем, что выдающийся российский ученый Н.И. Кареев (ученик В.И. Герье), констатировавший «постепенное объединение судеб отдельных стран и народов», более века назад описывал как «всемирно-историческую точку зрения»:
Всемирная история не есть только сумма частных историй, т. е. историй отдельных стран и народов. Смотреть на историю человечества таким образом мы имели бы право только в том случае, если бы жизнь каждой страны, каждого народа протекала совершенно обособленно, вне какой бы то ни было связи с историей других стран, других народов. Всякому известно, что в настоящее время нет ни одного почти уголка заселенной земли, который так или иначе, в той или другой мере не испытывал бы на себе влияния со стороны того, что происходит в других местах, и что сближение между наиболее отдаленными одна от другой странами, один от другого народами делается все более и более тесным… С этой точки зрения всемирная история и является перед нами как процесс постепенного установления политических, экономических и культурных взаимоотношений между населениями отдельных стран, т. е. процесс постепенного объединения человечества, расширения и углубления связей, мало-помалу образующихся между разными странами и народами. В этом процессе каждая отдельная часть человечества, им захватываемая, все более и более начинает жить двойною жизнью, т. е. жизнью своею собственною, местною и особою, и жизнью общею, универсальною, состоящею, с одной стороны, в том или ином участии в делах других народов, а с другой – в испытывании разнородных влияний, идущих от этих других народов. То, что касается только самого народа, есть, так сказать, его частное достояние, и всемирная история человечества, конечно, есть прежде всего сумма таких частных историй, но она получает право на наименование всемирной истории лишь постольку, поскольку судьбы отдельных народов переплетаются между собою, один народ оказывает на другой то или иное влияние, между народами устанавливается известная историческая преемственность, и таким образом над суммою частных историй (курсив мой. – Л.Р.) возникает общая, универсальная, всемирная[196].
В этом пассаже, пожалуй, только выделенная курсивом фраза с предлогом «над», отводящая всемирную историю на более высокий «этаж» исторического описания, несколько диссонирует с современным представлением о специфике перспективы мировой истории.
В заключение следует упомянуть также представленный Юргеном Остерхаммелом анализ «космополитической перспективы» сравнительной истории цивилизаций XVIII века, утраченной в западноевропейской профессиональной историографии XIX столетия – века европоцентристских национально-государственных и имперских («колониалистских», или «ориенталистских») историй[197]. Тем более показательно, что в российской историографии именно во второй половине XIX века всеобщая (универсальная) история переживала свой расцвет.
Н.Г. Фёдорова «Воспитание историей» по гимназическим учебникам в первой половине ХIХ века
В методической литературе школьный учебник определяется как «массовая учебная книга, излагающая предметное содержание образования и определяющая виды деятельности, предназначенные для обязательного усвоения учащимися с учетом их возрастных и иных особенностей»[198]; упоминается также, что он выполняет «традиционные» функции: информационную, систематизирующую, обучающую и воспитательную. И в то же время этот род литературы может быть рассмотрен гораздо шире, с учетом временной и культурной динамики. Ведь учебник, с одной стороны, представляет собой своеобразный исторический и историографический источник, отражающий уровень развития науки своего времени и общее направление государственной образовательной политики. Он несет информацию о позициях автора(-ов), об общественных ценностях социума той или иной эпохи и представляет собой важный социокультурный феномен, выступая как «сложносоставное, многослойное культурно-историческое явление»[199]. С другой стороны, учебник сам конструирует историческое сознание школьников – нового поколения граждан страны. С этой точки зрения, на наш взгляд, недостаточно утверждать, что «учебник истории – это функция времени»[200]. Говоря языком школьной математики, он – не просто «функция» (т. е. зависимая, производная, итог), но и «аргумент» (причина, определяющая будущий результат) развития общества.
Учитывая, что в процессе формирования исторического сознания задействована вся система исторического образования, включающая целый комплекс взаимосвязанных компонентов, в складывании исторической памяти именно учебники играют первостепенную роль, выступая как «носители памяти» и «орудия овладения исторической ситуацией», а изложенная в них история составляет «каркас исторической памяти»[201]. Учебник по истории является своеобразным ретранслятором социальной памяти, определяет основу для формирования мировоззренческих позиций учащихся, выработки политических ориентиров нового поколения.
Несмотря на то, что эволюция школьного учебника, посвященного прошлому, составляет традиционную сферу интереса в истории педагогики, а методические воззрения и установки известных ученых и специалистов (особенно конца XIX века) получили в современной отечественной литературе достаточно широкое освещение, в целом история учебника по Средним векам как социокультурного феномена в жизни российского общества, равно как и методика изучения и интерпретации соответствующего обширного исследовательского комплекса, до сих пор остаются вне поля зрения исследователей. Ибо предметные курсы по Средневековью в целом менее подвержены конъюнктурным влияниям, в отличие от пособий по Новому времени или истории Отечества, и – отчасти поэтому – более «чувствительны» к достижениям исторической науки, в процессе развития которой именно Средние века неизменно оказывались «излюбленной лабораторией для выработки и проверки новых методов исследования, главным и привилегированным полем их приложения»[202].
На всем протяжении XIX века учебные книги, которые включались в школьное употребление, должны были проходить государственную проверку. Отметим, справедливости ради, что и в советское время, и в современности этот принцип, в сущности, сохранился. Но стоит также сказать, что контролирующая функция ответственного за постановку образовательного процесса органа – а в дореволюционное время это было министерство народного просвещения (МНП) – сама претерпевала значительные изменения в соответствии с вектором государственной внутренней политики.
В истории образования первая половина XIX века стала эпохой постепенного отхода от изначальных либеральных принципов и начинаний в области просвещения, внедряемых и декларируемых в начале столетия (Устав университетов Российской империи, Устав учебных заведений, подведомственных университетам 1804 года и др.). В сфере образования произошло возрождение идеи сословности (1827), был изменен принцип преемственности учебных заведений (по уставу 1828 года приходские и уездные училища стали школами законченного типа). В 1833 году министром народного просвещения был назначен С.С. Уваров. Декларируя правительственную программу в деле просвещения, он утверждал, что необходимо «…завладеть умами юношества», которому следует прививать «истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего Отечества»[203].
Школы находились под строгим правительственным контролем. П.Ф. Каптерев в начале XX века выделял три периода в истории становления русского педагогического самосознания: педагогии церковной, государственной и общественной. При этом второй этап (XIX век – до правления императора Александра II) охарактеризован им как «пленение школы государством»[204]:
Заботясь об устройстве школы, государство заботилось не столько о просвещении граждан, сколько о лучшей постановке государственной службы, для чего школы были лишь орудием… Школа сделалась местом применения изменчивых политических взглядов и течений[205].
Этому отзыву известного педагога о государственной образовательной политике в Российской империи второй четверти XIX века вторят воспоминания других его современников. Видный методист и организатор образования Д.И. Тихомиров (1844–1915) так описывал состояние в области просвещения: «Воспитание и учение носило формально-дисциплинарный характер в семье и казарменно-полицейский в школе»[206].
Главная цель ведомства просвещения в манифесте о министерствах определялась как «воспитание юношества и распространение наук»[207]. Но уже к середине XIX века МНП в сфере своей деятельности далеко вышло за пределы управления собственно народным образованием. В его ведении оказались главнейшие направления и центры отечественной науки. Как отмечает В.И. Чесноков, «работа по воспитанию юношества переросла в регламентацию практически всей духовной жизни общества, многих участков его культурного развития»[208]. В 1852 году особым циркуляром школьной администрации было предписано обратить самое пристальное внимание на идеологическое направление преподавания, на образ мыслей и поведение учащихся. Современник вспоминает:
В школе дисциплина была прямо жестокая… о естественных потребностях детства, физических и особенно психических, заботились мало. Гуманные взгляды на дисциплину педагогов екатерининского времени – Бецкого, Янковича, Новикова – не привились, суровая ветхозаветная дисциплина продолжала царить[209].
Постановка образования была строго регламентирована государством: «Учителя по обязанности учили, начальство награждало и наказывало учеников, совершались выпуски окончивших школьный курс – вот и все»[210].
В середине XIX века наиболее распространенным приемом обучения на уроках было краткое комментирование учителем текста учебника. Учи теля не уделяли внимания раскрытию внутренней связи между изучаемыми фактами, не привлекали документальный материал. Средства наглядности не использовались, а в учебнике не было иллюстраций[211]. Такой способ обучения получил впоследствии название формального метода. «Обычно учитель описывает ученикам исторические события, излагает необходимые данные и сам же делает все соответственные выводы, разъясняет возможно лучше урок и задает ученикам разъясненное выучить по учебнику»[212], – так Я.С. Кулжинский позднее представлял содержание этого подхода. Другой автор отмечал, что «живое устное изложение, будучи в высшей степени… привлекательным для ребенка, в значительной степени способствует усвоению материала, восприятию его умом и сердцем»[213]. На сердце, на воображение такое преподавание действует сильно, но ум ученика при этом бездействует. В 1863 году М.М. Стасюлевич указывал, что подобное преподавание в самом лучшем случае «дает человеку, быть может, очень здоровое и крепкое туловище, но лишает его ног, на которые пациент мог бы со временем сам встать»[214].
Зарождение первых, нечетких, отрывочных представлений о «хорошем» школьном учебнике истории относится к 1840-м годам. Причем понятие «хороший», «совершенный» имело изначально специфическое значение: новый, нетрадиционный, не узкомонархический.
Исторический учебник должен показать общество как предмет многосторонний, организм многосложный… нравственная сторона должна быть тесно слита с практической, и интересы духовные – с выгодами материальными[215], —
утверждал В.Г. Белинский. Но вместе с тем материал учебника должен быть расположен ясно, просто, точно и сжато, чтобы он был вполне доступен детскому восприятию и пониманию. Подобные взгляды были весьма оригинальны и новы для своего времени, являясь, по сути, первыми попытками серьезного критического анализа существующей учебной литературы.
Практическое воплощение и дальнейшее развитие новые идеи получили только в период либеральных преобразований конца 1850–1860-х годов. Именно это время можно условно обозначить как практический, начальный этап в длительном процессе зарождения и развития представлений о «хорошем» школьном учебнике по всеобщей истории. Тогда же предпринимаются и первые попытки творческого подхода к созданию школьного учебника[216]. Но глубинные концептуальные основы изложения истории еще не затрагиваются. В целом же, к учебникам первой половины XIX века комплексное современное понятие о «хорошем» (качественном, эффективном и т. д.) пособии неприменимо, так как при создании учебных книг в то время учитывался лишь один аспект – содержательный. Представления о методической составляющей школьного учебника тогда еще не сформировались. Важность ее значения только начинала осознаваться отдельными представителями педагогических кругов, поэтому пристальное внимание обращалось изначально лишь на стиль изложения материала (речевые особенности текста). Время развития методических новаций наступит позднее.
При преобладании механического усвоения материала учащимися и господстве вербальных методов преподавания, определяющая роль в обучении отводилась именно учебникам, которые находились под строгим контролем государства. В первой половине XIX века проблема выбора учебника для преподавания истории в школе официально не обозначалась. Учи теля обязаны были пользоваться только рекомендованными учебными руководствами[217]. Характерной чертой этих пособий было стремление авторов привить ученикам моральные и общественные установки, ориентированные на формирование преданности монархии и христианской нравственности[218]. Учебники, использовавшиеся в этот период, носили описательный характер, отличались субъективной эмоциональностью, перенасыщенностью фактическими данными, тенденциозностью. Предметом истории считались «деяния и судьбы людей», а ход событий объяснялся в первую очередь психологическими чертами и склонностями их творцов – выдающихся личностей (полководцев, государей и т. д.). История в целом и школьные учебники в частности были ориентированы на развитие памяти, на запоминание имен и событий – главных и второстепенных. Именно такие учебники рекомендовались к использованию в средней школе.
Далее мы рассмотрим несколько базовых учебных пособий по всеобщей истории, выделяя те характерные особенности и способы подачи и презентации материала, которые отличали их от представлений и требований педагогики рубежа XIX–XX веков. Важной частью такого исследования должно быть и обращение к «рецептивной» стороне учебного процесса, к тому, как воспринимались тогда и позднее эти руководства и учениками, и педагогами.
Анализ одной из главных учебных книг по истории, учебника И.К. Кайданова[219], показывает, насколько полно развитие историко-педагогических идей во второй четверти XIX века предопределило его содержание. Главное внимание в учебном пособии уделено истории образования или расчленения государственных территорий. Учебник переполнен фактическим материалом, это касается в первую очередь имен собственных и дат. Своеобразный «летописный» характер изложения достигается за счет детализированного повествования. Автор учебника стремится точно зафиксировать последовательность всех исторических явлений, порой без учета значения события или личности в историческом процессе. Ярким примером служит описание правителей восточного аравийского халифата, где в небольшом абзаце автор считает нужным упомянуть всех: «…брат и наследник кровожадного Абул-Абасса Аль-Мансор счастливо вел войны с римлянами… Сын его Аль-Моди… принудил римлян платить ему дань. Беспокойно и мятежно было кратковременное царствование сына его Мусаль Тадия, по умерщвлении коего вошел на престол Гарун-Аль-Рашид…»[220]. Каждое новое имя выделяется курсивом, а развернутые эпитеты и описательные обороты осложняют прочтение текста. В тех местах, где речь идет о войнах, страницы учебника пестрят большим количеством имен вождей противоборствующих сторон; многочисленными названиями сражений с указанием места, где они происходили и т. д. В конце автор приводит обширный «Азбучный список упоминаемых в этой книге главнейших происшествий, имен достопамятных людей, названий народов, государств, областей и проч., с указанием страниц, где об этом упоминается»[221].
Такое отношение И.К. Кайданова к фактам было связано с господствующими тогда представлениями о том, что история как рассказ об отдельных событиях и лицах должна быть ориентирована на развитие памяти, на запоминание все новых имен и событий – как необходимых, так и несущественных, главных и второстепенных. Один из современников, вспоминая свои гимназические годы, писал: «По истории требуется большинством учителей строжайшая хронология, и они принимают за личное оскорбление ошибку ученика на 10 лет при определении года рождения Пипина Короткого»[222]. Н.И. Кареев тоже упоминал, что после окончания гимназии знал около двух тысяч исторических дат[223].
Кайданов тенденциозно оценивает деятельность исторических лиц, политических событий. Красной нитью через весь учебник проходит мысль о преимуществах и достоинствах монархического образа правления, которое, по мысли составителя пособия, только и может обеспечить спокойствие и благосостояние народа. Эта идея отражается не только в превращении истории в политическую историю (а фактически в хронологию) последовательно сменявших друг друга правителей, но также и в стилистически подчеркнутом, часто встречающемся в тексте возвеличивании «благотворной сени монархической власти». Последняя всегда способствовала «улучшению и облагораживанию гражданского и умственного быта народов»[224]: «…Одно слово Карла приводило все в порядок и тишину. И тут, как и во всем, очевидны благотворные действия власти единодержавной»[225]. Наследники Карла Великого оцениваются отрицательно, так как «в потомках… не видно было действий монархической власти». «Важнейшим и благотворнейшим следствием крестовых походов, – по оценке И.К. Кайданова – было приращение власти монархической»[226]. В итоге история представлялась как постоянное чередование периодов правления великих государей, при которых устанавливается сильное единодержавие, а, соответственно, порядок в стране и «народная любовь к престолу» возрастают, – и периодов, когда «монархическая власть ослабляется и ограничивается… [и] везде обнаруживаются ужасы безначалия, убийства и грабежи»[227]. Все Средневековье оценивается автором учебника как «юношеский возраст народов», когда
вассалы буйствовали, как необузданные юноши, кипящие страстями. Борение их с монархическою властию было упорно и долговременно. Но все в мире меняется к лучшему, согласно Божьему провидению, страсти улеглись, рассудок взял свою власть, феодализм сокрушился, – и из недр хаоса… возникла для блага народа власть монархическая…[228].
Например, жестокие методы Ивана III оправдываются в учебнике стремлением к счастью России: «…Жестокость была благодеянием для России, потому что после 250-летнего рабства, после 400-летних ужасов безначалия, чем можно было установить в России гражданский порядок, как не строгостью и даже не жестокостью»[229].
Любопытно и знаменательно, что учебник оканчивается отсылкой к Библии (Пророк Исаия IX, 2): «Так солнце веры христианской… озарило отдаленныя части земли, и люди, ходящие во тьме, видеша свет велий»[230], – автор учебника повествует о христианизации новооткрытых стран азиатских и американских.
Для времени своего появления (1820-е годы) учебники И.К. Кайданова были новшеством в сравнении с существовавшими переводными немецкими пособиями по истории, например, Иоганна Матиаса Шрека (1733–1808)[231]. Поэтому сначала они удостоились высоких оценок – об этом свидетельствовали и мемуаристы. Такому позитивному восприятию вышедших учебников способствовал, по-видимому, и низкий уровень научной подготовки преподавателей истории в школе, ибо
как только в преобразованных по уставу 1828 года гимназиях вместо воспитанников духовных семинарий повсеместно стали занимать учительские должности студенты главного педагогического института и университетов, немедленно послышались громкие жалобы на несостоятельность руководства Кайданова[232].
В 1860-е годы критики, признавая некоторые достоинства учебника, а именно «стройную систему и прагматичное изложение», указывали на многочисленные серьезные недостатки («риторическая напыщенность», неясность «фактического содержания учебника» из-за «отвлеченных философских взглядов» автора), главный из которых состоял в труднодоступности руководства для понимания учащихся («…его плохо понимали не только учащиеся, но и большинство учащих», которые «…стали требовать от учеников простого зазубривания истории по Кайдановке [так в тексте! – Н.Ф.]»[233]).
Несмотря на явную тенденциозность учебника И.К. Кайданова, некоторые содержательные приемы этого пособия имеют эвристическое значение. Речь идет прежде всего о попытках автора синхронизировать курсы всеобщей и русской истории в рамках одного учебного руководства. В рассматриваемом пособии история Средних веков не ограничивается историей западноевропейского Средневековья. Эти страны характеризуются, конечно, первыми, но есть и разделы по истории славянских народов, государств Северной Европы, а также Восточной Римской империи и Венгрии, Аравийского халифата. Эти главы и разделы, несомненно, носят очень обзорный характер (и занимают, как правило, не больше двух-трех страниц); потому в них указываются лишь самые основные факты и события. Например, в главе I «Переселение народов и происхождение государств на развалинах Римской империи» наряду с франками, вандалами, саксами и лангобардами автором дается описание и славян[234]. Отдельная глава (глава IV «Преобразования политического света, проведенные в Азии, в Африке и, частию, в Европе, Аравитянами»[235]) посвящена арабам, их истории, особенностям «религии Магомеданской» и т. д.
Такой вариант обзорного «включенного напоминания» сведений из неевропейской истории предоставляет учащимся возможность самостоятельного сравнения и отчасти компенсирует отрывочность повествования. Вместе с тем подобный прием не перегружает учебник. Стоит, однако, учитывать, что «синхронизирующие» главы в учебнике И.К. Кайданова несут весьма специфическую смысловую нагрузку. Их цель – подчеркнуть исключительность России на фоне западноевропейских и восточных стран. Например, при характеристике славян главным для автора становится факт заселения ими неудобных географических пространств, в связи с чем «славянские народы долго отставали в образованности своей от народов германских»[236]. При описании событий второго периода средневековой истории (768–1096) И.К. Кайданов доказывает, что
самой феодальной системы в России никогда не бывало… не было ни вассаллов, ни поместьев аллодиальных, феодальных и бенефициальных, ни отношений, бывших в Западной Европе между монархами и вассалами их. Следовательно, в самые древние времена правление в России было чисто монархическое[237].
Аналогичные особенности отличают и учебник С.Н. Смарагдова[238], учителя истории и географии при Сиротском институте Императорского Гатчинского воспитательного дома. В начале 1840-х годов С.Н. Смарагдов напечатал свое «Руководство к древней, средней и новой истории». Одобренное МНП, оно вскоре вытеснило из всех гимназий учебник И.К. Кайданова[239].
Привычное нам деление европейской истории в пособии представлено совсем иным образом. Автор учебного пособия считает Средневековье частью Нового времени:
Времена, следующие за падением Западной Римской Империи, составляют предмет Новой истории, которую разделяют еще на Историю Средних веков и Историю трех последних столетий[240].
В истории Средних веков Смарагдов выделил четыре периода: 476–800 (от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим), 800–1096 (от Карла Великого до начала Крестовых походов), 1096–1291 (от начала Крестовых походов до их окончания), 1291–1492 (от окончания Крестовых походов до открытия Америки). Каждому разделу предшествует небольшой абзац, излагающий его краткое содержание. Первый период характеризуется как время варварства,
потому что в Европе Германцы, а в Азии Аравитяне истребили почти все древнее образование: как в общественной, так и в частной жизни обнаруживается только невежество и дикость[241].
Сущность второго этапа составляет «борьба императорской… власти с папскою… и феодализмом»[242]. А третий период «Средней истории» «есть время господства римского первосвященника над западною Европою. Это господство он приобрел… употреблением… религиозного фанатизма, который преимущественно обнаружился в Крестовых походах»[243]. Четвертый этап ознаменован «возвышением городских общин и монархии», он рассматривается как время «открытий и изобретений или постепенного перехода от Средних веков к Новым»[244].
За основу периодизации в учебнике, следовательно, взят религиозно-политический принцип. Этапы правления просвещенных и сильных властителей чередуются с периодами упадка монархической власти, когда «…следствием унижения королевской власти были беспрерывные войны, разбой и грабежи между вассалами… земледелие и всякая промышленность упали… наступило грубое невежество»[245]. Учебники Кайданова и Смарагдова сближает не только схожая идейно-содержательная направленность, в них фактически повторяются отдельные аргументы и характерные риторические обороты.
Любое историческое событие в учебном пособии Смарагдова рассматривается через призму монархической идеи, т. е. достаточно тенденциозно и односторонне. Показателен пример описания автором Великой хартии вольностей (1215), которая характеризуется не как один из важнейших моментов зарождения и становления сословно-представительной монархии в Англии (освещение этого важного, длительного и сложного процесса средневековой политической истории совершенно отсутствует в учебнике), но лишь как проявление безвластия «ничтожного» Иоанна Безземельного. Даже непосредственно синтаксическая конструкция предложения ориентирована на то, чтобы убедить читателя в том, что Великая хартия вольностей есть высшее проявление политической анархии:
Еще ничтожнее был… Иоанн Безземельный (1199–1216), у которого Филипп-Август отнял все его французские владения… который униженно признал себя вассалом папы Иннокентия III… и который, наконец, принужден был собственными подданными подписать так называемую Великую хартию…[246].
Анализ хронологической таблицы[247] показывает, что наибольшее внимание в учебнике уделено характеристике исторических личностей. Описание четкой последовательности правлений многочисленных династий, вступления на престол, низложения или гибели отдельных монархов становится самым важным для автора как при составлении итоговой таблицы, так и при изложении событий непосредственно в тексте учебного пособия.
Включенные в текст учебника многочисленные поучительные и эмоциональные «сцены-прощания» и «сцены-раскаяния» ярко воплощают «биографическую историю». Это и трогательное расставание Оттона I с матерью, ее наказ заботиться о монастыре в Нордгаузене[248]. Это и авантюрный сюжет об отцовском проклятии нормандского герцога Роберта II Дьявола, завершающийся строгим материнским наставлением о необходимости возвратиться в лоно «Святой церкви»[249]. Это и трагическая история гибели последнего Гогенштауфена – Конрадина (1268), сына Конрада IV, не внявшего предостережениям своей матери и отправившегося отвоевывать итальянские земли у Карла Анжуйского[250]. Такие небольшие образные рассказы несут двойную смысловую нагрузку. С одной стороны, они «оживляют» историческую личность, приближая ее к читателю, подчеркивая значение государственного деятеля в историческом развитии страны. С другой стороны, повторяющийся мотив сыновнего покаяния в понимании автора учебника имеет важное нравственно-поучительное значение. Образ мудрой матери, заботящейся прежде всего о развитии высоких душевных качеств в своих детях, стремящейся возвратить их к почитанию не только религиозных заповедей, но и к уважению церковного устройства в целом, очень искусно обрисован С. Смарагдовым. Характерная черта исследуемого учебника – стремление автора дать ученикам готовые моральные и общественные установки. На отдельных исторических примерах строятся целые нравоучения, своего рода трактаты на этические темы. Интересны в этом плане также «Прибавления» к основному тексту[251], посвященные вопросам средневековой культуры и быта. Три последние главы носят ярко выраженный воспитательно-нравоучительный характер. Читатель, вслед за автором, наблюдает, как средневековая «дикость» и пороки исчезают, и через приобщение к библейским основам облагораживаются ум и чувства людей.
«Прибавления» в учебнике Смарагдова состоят из трех разделов: 1) Изобретения и открытия в конце Средних веков; 2) Общественная жизнь в Средние века; 3) Возрождение наук[252]. В них автор не просто дает характеристику культурных достижений средневековой Европы, но создает увлекательный, многосторонний, яркий образ жизни и быта, характеризует мировоззрение средневековых людей. Автор приводит подробное описание одежды как богатых жителей, так и бедного населения, мужчин и женщин, необычных блюд средневековой кухни, нравов, праздников и т. д. Однако и эти характеристики обладают ярко выраженной воспитательно-нравоучительной оценочностью: «…Вскоре города заразились чужими пороками и ознакомились с роскошью, вредною для чистоты нравов»[253], «грубость, отличавшая эту эпоху, обнаруживалась особенно в ларитвари и шаритвари… страсть к пьянству, неприличным удовольствиям и увеселениям была общим пороком Средних веков»[254]. В то же время автор повествует и о некоторых положительных изменениях в средневековых нравах: люди тогда «с каждым веком более и более стали чувствовать необходимость в удовольствиях более благородных», «занятия стихотворством (содержанием таким стихотворениям служили библейские сказания)… отвлекало молодых горожан от праздности и облагораживало их ум и чувства»[255].
Таким образом, хотя содержание конкретных глав и параграфов учебника Смарагдова оставалось тенденциозным и ориентированным на воспитание прежде всего лояльных подданных, – сама идея включения в школьный учебник истории очерков быта, отдельных характеристик мировоззрения людей соответствующей эпохи, была весьма перспективной: именно она и способствовала созданию «ощущения времени». В учебнике Смарагдова относительно удачной и новой для своей эпохи была попытка охарактеризовать особенности мировосприятия средневековых европейцев.
Особого внимания заслуживает изящный и живописный язык, благодаря которому С.Н. Смарагдов стремился образно и колоритно передать панораму исторической эпохи. Вообще всякого рода изложения легенд или преданий, в основном из жизни крупных исторических личностей, очень типичны для данной книги. За эти положительные моменты, а также за обстоятельность анализа, поиск взаимосвязи между явлениями прошлого, занимательность сюжета, учебник был удостоен Демидовской премии и заслужил положительные оценки современников. Так, В.Г. Белинский восторженно отзывался об учебнике Смарагдова:
Ясность, простота изложения… искусная группировка и расположение событий, умение всему дать свое место, указать на существенное, остановиться на важнейшем и вскользь заметить о менее важном; современный взгляд на историю; дух жизни, которым оживляется сжатый рассказ, – вот достоинства истории г. Смарагдова… Нельзя удовлетворительнее и яснее расчистить дикую чащу средней истории… Одно из главнейших достоинств учебника – краткость при полноте[256].
В 1860-е годы другой рецензент подчеркнул желание автора сделать учебник, соответствующим достижениям научно-исторической мысли:
У г. Смарагдова весьма уже заметно стремление идти по следам исторической школы, лучшими сочинениями которой он действительно и пользовался в обработке некоторых статей… Поэтому ясно, что г. Смарагдов, в правильном понимании истории и исторических событий, сделал значительный шаг вперед[257].
Учебник С.Н. Смарагдова в этом смысле был скорее исключением, поскольку отзывы даже либерально настроенных рецензентов второй четверти XIX века о доступных тогда учебных пособиях были весьма критичны – в отличие от «официальных» рецензий, представленных в «Журнале министерства народного просвещения» (ЖМНП). В одной из них, посвященной анализу «Руководства к всеобщей истории» Ф. Лоренца[258], к достоинствам книги были отнесены «современность взгляда на события, богатство фактов, обилие источников, наконец, опрятность и дешевизна»; было отмечено также, что все указанные качества «ставят это сочинение наряду с лучшими учебниками новейших западных ученых»[259]. Причем «современный взгляд на Историю, как Науку Философов и Историков», который «усвоил себе» Лоренц, по мнению рецензента, имеет отношение сразу к нескольким характерным чертам изложения. Во-первых, исторические народности делятся на «исторические» и «неисторические»; и вторые (китайцы, монголы и др.) исключены «из области истории», как «жившие только для самих себя, нисколько не способствовавшие дальнейшему развитию человечества»[260]. Во-вторых, Лоренц, по мнению рецензента ЖМНП, в своем учебнике выбрал правильную, с научной точки зрения, периодизацию истории – разделение «по времени на две огромные половины, на рубеже между которыми стоит Рождество Христово», и по «методу» изложения событий в каждом из периодов – хронологическую для древней истории и синхронистическую для новой. («История Древняя представляет собою ряд отдельных государств, приходящих между собою только во враждебные отношения и по какому-то национальному эгоизму стремящихся все покорить себе», и эта «исключительность народов древнего мира делает необходимою хронологическую методу изложения ее [Древней истории]», а «Новая История имеет во главе своей Божественного учителя, проповедывавшего любовь… Народы нового мира… приходят между собою в сношения дружеские: дух общежития, дух единения составляет отличительную черту Новой Истории. Государства существуют синхронистически»[261].) По мысли рецензента, Лоренц также правильно уловил и передал на страницах учебника не только сущность истории («Христианство и Германцы составляют содержание Новой истории, в противоположность с древними народами и язычеством»), но и дал «исторически верные» оценки важнейшим событиям прошлого, например крестовым походам, «священной борьбе между обоими мирами», являвшейся «средством к просвещению», т. е. «средством, которое избрало Провидение для управления судьбами рода человеческого»[262]. Такие «выдержанные» оценки в «официальных» рецензиях демонстрировали, помимо прочего, и министерские требования к содержанию школьных учебников. Напротив, в обзорах 1860-х годов указаны уже многочисленные недочеты и недостатки «Руководства к всеобщей истории» Ф. Лоренца, как то: «запутанность системы расположения исторического материала», «отрывочность и бессвязность изложения», а сам текст охарактеризован как «сухой, безжизненный скелет общих, отвлеченных выводов»[263].
В условиях, когда отсутствовала возможность реального выбора между несколькими пособиями, а следовательно – и сравнительного анализа, любые оценки, данные учебникам, все же являлись достаточно субъективными[264]. Поэтому для более полной реконструкции восприятия учебников первой половины и середины XIX века необходимо принять во внимание ретроспективные отзывы и бывших учеников – тех, кто когда-то по ним осваивал самые общие правила постижения прошлого. Богатый материал для восполнения возникшего пробела представляет мемуарная литература рубежа XIX–XX столетий.
Мемуарные сведения, посвященные непосредственно историческим учебникам, во-первых, предоставляют нынешнему исследователю фактографический материал о том, какие исторические учебники употреблялись в школе 1850-х годов, как и в какой последовательности одни авторы пособий сменялись другими, а во-вторых, демонстрируют, как авторы мемуарных текстов в последней четверти XIX – начале XX века воспринимали значение и роль учебной литературы в процессе школьного обучения истории. Однако следует учитывать, что многие воспоминания авторов, изданные на рубеже XIX–XX веков, писались уже под воздействием устоявшихся к тому времени стереотипов, включая и неприязненно-поверхностное отношение к «старым», наивно-монархическим и компилятивным учебникам Кайданова, Устрялова, Смарагдова. Это общественное мнение, сложившееся, по-видимому, в либеральные 1860-е годы, выкристаллизовалось после периода «толстовско-деляновского классицизма» – по именам министров просвещения 1870–1890-х годов. (Учебные руководства по истории, использовавшиеся в пореформенное время, кстати, также наделяются схожими эпитетами.) Эти однозначно критические оценки, как правило, высказывались уже в тот период, когда и педагогическая, и историческая науки стояли на качественной иной, более высокой ступени развития. При этом мемуаристами, оценивавшими прошлое с точки зрения современности, не учитывалось, что несмотря на все содержательные недостатки «пресловутых» руководств в сравнении с более поздними учебниками, для своего времени они были если не достижениями, то явлениями вполне закономерными. К тому же речь шла о первых в России непереводных учебниках по истории. И этот факт, на который обычно не обращали внимания, тоже должен быть принят к сведению при анализе механизмов формирования исторического сознания в первой половине XIX века.
Однако только учебное пособие не определяло весь процесс преподавания истории. Именно учитель отбирал материал для изложения на уроке и руководил процессом обучения (один из мемуаристов сетует на своего педагога: «Историей никто с охотой не занимался, и это единственно по вине учителя»[265]). Роль учебника истории в процессе обучения несколько увеличивалась в условиях, когда в середине XIX века или в начале периода Великих реформ «новые» учителя зачастую объясняли трудно или непонятно, а знания «старых» педагогов уже были дискредитированы и не соответствовали выросшим требованиям и духовным запросам учащихся. И сами учебники, разумеется, составляли лишь часть общего репертуара чтения школьников – на фоне другой литературы и информации, также нередко связанной с формированием представлений о прошлом. Нужно помнить, что руководство средних учебных заведений пыталось контролировать чтение учащимися дополнительной литературы и «посторонних» публикаций, поощряя чтение лишь «политически благонадежных» книг[266]. Ограниченным для учеников оставался доступ в библиотеки[267], которые к тому же не пополнялись новыми научными изданиями и периодикой и отличались крайней бедностью. Приведем одно из мемуарных свидетельств о провинциальной Вологде:
Было две библиотеки, одна пансионская, всего с десяток книг. «Робинзон Крузе», «Путешествие Дюмон-Дюрвиля», «Часы благоговения» и еще что-то в этом роде. В гимназической библиотеке был запечатанный шкап, в котором красовались «Отечественные записки» за время Белинского. Новых книг в библиотеке было очень мало; чтение не поощрялось, и получение книг из гимназической библиотеки (и то с 4 класса) было нелегко[268].
Этому вторит автор других воспоминаний:
Дома я привык читать; в гимназии это было почти немыслимо. Иметь свои книги не разрешалось, а из казенной библиотеки давали нечто совсем несообразное – вроде, например, допотопного путешествия Дюмон-Дюрвиля, да и то очень неохотно[269].
Но в этом смысле гимназистам «везло» больше, чем учащимся семинарий, которым порой вообще запрещалось «бесконтрольное пользование библиотекой»[270]. Интерес вызывает случай, описанный одним из мемуаристов, когда трое гимназистов старших классов «решили для общей пользы и для удовольствия Сончакова [учителя истории] (хотя он и называл наше предприятие глупостью) составить свой учебник по всем лучшим пособиям. Учебник… не составили… Но каждый из нас прочитал с конспектом по полудюжине хороших книг и исписал по дюжине тетрадей»[271]. В конечном итоге систематические исторические знания в 1840–1850-е годы учащиеся получали почти исключительно из учебников всеобщей истории непосредственно под руководством учителя. И лишь отдельные школьники обращались к педагогам за дополнительной научной литературой, рас ширяя свои знания.
Влияние мировоззренческих позиций авторов учебных руководств и нравственных ценностей общества на содержание школьного учебника по истории (включая историю всеобщую) проследить с полуторавековой дистанции весьма непросто, но, вместе с тем, изучение этих процессов представляется чрезвычайно интересным и перспективным направлением исследований. Для первой половины XIX века характерна определенная дистанция между академической и университетской наукой и гимназическим преподаванием истории, этот разрыв будет уменьшаться во второй половине столетия. Школьный курс истории в целом не был в дореформенной России «предуготовлением» или популярным изложением университетского, но именно на уровне среднего образования закладывались основы интереса к прошлому, правила его познания и «воссоздания» для большинства будущих профессиональных историков или пишущих на исторические темы авторов. Соотношение «академической» и «общественно-воспитательной» (гражданской, а для первой половины XIX века – монархической) функций учебника оставалось непростым во все времена и эпохи. И все же при заметном преобладании для рассматриваемого периода идеологического «воспитания историей» научная сторона учебного текста (равно как и цельность, логика и последовательность рассказа) никогда не была компонентой элиминируемой или сугубо побочной. Особая значимость гимназических курсов по всеобщей истории состояла – при сколь угодно высоком градусе патриотизма – в необходимой увязке событий российского прошлого с общемировыми, в привитии элементарных навыков сравнительного подхода, сопоставления и систематизации материала. Средневековые сюжеты школьного курса оказывались не столько полигоном выработки новаторских методов (как в университете), сколько важной общей рамкой представлений о «чужом» и «своем» прошлом.
Учебник истории как основное средство обучения во многом формировал – хотя порой и с обратным знаком, от противного – определенные идейные позиции учащихся, включая и обретение ими мировоззренческих ориентиров. Выявление характерных черт и особенностей процесса создания и функционирования пособий по средневековой истории в пространстве дискурсивных практик научной и общественно-политической составляющих духовной жизни российского общества второй четверти XIX – начала XX века позволяет обратить особое внимание на «коммеморативные механизмы» общества в целом, действующие в более узком дидактическом пространстве школьного исторического обучения.
А.П. Толочко Спор о наследии Киевской Руси в середине XIX века: Максимович vs Погодин
[272]
Спор между М.П. Погодиным и М.А. Максимовичем о судьбе средневекового Приднепровья[273] случился так давно – в середине позапрошлого уже столетия, – что сегодня мало кто знает о действительных его причинах; еще меньше обращаются ныне к первоначальной аргументации ученых[274], помня лишь общее впечатление, внушенное позднейшими комментаторами. При этом в «историографической памяти» Украины эта полемика и поныне числится среди важнейших вех, отмечающих становление самостоятельной исторической мысли, а Максимович представляется былинным витязем, который в одиночку отстоял право украинцев[275] считать Киевскую Русь частью собственной истории. Как и любое событие, которое по тем или иным причинам становится весьма важным для потомков, полемика Погодина и Максимовича уже почти целиком превратилась в миф, вовсе утратив свои реальные очертания. Трансформации этого научно-публицистического спора в героический эпизод, память о котором следует всемерно почитать, немало способствовал и его внешний формат. Ибо взору потомков он стал представляться открытым поединком, из которого, по мнению сторонников Максимовича, украинский ученый вышел безусловным победителем. И тут перед нами разворачивается своего рода историографическая битва Давида с Голиафом. Ведь параллели, и в самом деле, напрашиваются сами собой: если Максимович – частное лицо, уединившийся на своем хуторе знаток прошлого, то Погодин – знаменитость, профессор Московского университета и академик; украинец против россиянина; неофициальная украинская культура vs официозная имперская история. Эти оппозиции прочитываются даже слишком легко.
В российской историографии эта полемика, судя по всему, не оставила сколь-нибудь серьезного следа[276]. Совсем по-другому дело обстоит в украинском лагере[277]. Обмен посланиями между старыми приятелями превратился на страницах учебников в первое публичное столкновение двух соперничающих версий украинской истории, и исходная битва оказалась выиграна украинцами на чужом – историческом – поле боя. Сегодня помнят: если великоросс Погодин отрицал какую бы то ни было языковую или этническую связь современных ему украинцев с Киевской Русью, то украинец Максимович энергично отстаивал понимание ее как составной части украинской истории. Исходя из этого, в позиции Погодина склонны усматривать элементарный рецидив великодержавности, а в аргументах Максимовича – украинский патриотизм. Поскольку вполне очерченные и знакомые идеологические позиции распознать гораздо легче, чем вдаваться в действительную суть спора, то принято считать, что Максимович отстаивал понимание украинской истории как независимой, близкое к тому, которое легло в основу позднейшей схемы М.С. Грушевского (о начале по сути непрерывной истории Украины прямо с докиевских времен, от антов[278]). Однако, как мы постараемся показать, такое расхожее представление не просто далеко от истины, а прямо противоположно тому, что, собственно, имело место в действительности.
Из-за того, что переписка (и сопутствующие полемические тексты) оказались прочитаны неверно[279], стоит обратиться к ним заново. Для нас это давнее столкновение важно и показательно тем, что наглядно демонстрирует, насколько проблематичной представлялась «Киевская Русь» еще в середине XIX века, каким серьезным вызовом она была для только рождающихся тогда национальных историографий и, наконец, сколь неожиданными оказались российские и украинские ответы на этот вызов.
В 1856 году Погодин опубликовал написанную в виде послания И.И. Срез невскому статью[280]. В ней ученый предлагал, как ему казалось, удовлетворительную разгадку того исторического парадокса, который в середине XIX века – после «открытия Украины[281]»! – уже нельзя было не принимать во внимание. Парадокс этот, коротко говоря, состоял в том, что древнейшие события российской истории разворачивались главным образом на юге Руси (близ Киева, Чернигова, Переяславля) – там, где историки поколения Погодина уже определенно помещали украинцев. При этом малороссы по всем признакам представляли для них отдельный народ, который свои традиции – историческую, фольклорную, языковую – никак не связывал с Киевской Русью. И это не казалось заблуждением: видные филологи того времени, в частности Срезневский (как признанный знаток русского и украинского наследия), также утверждали, что в текстах древнерусских памятников признаков современного украинского языка не обнаруживается. Собственные наблюдения Погодина убедили его в том, что древнерусская княжеская традиция малороссийской истории не принадлежит, что украинский фольклор не сохранил, например, былин, где главными персонажами были бы деятели домонгольского киевского периода, напротив – украинские думы повествуют прежде всего о недавней истории казачества.
Как быть с этим очевидным противоречием? Что же на самом деле случилось? Ведь что-то должно было произойти, чтобы Киевская Русь изменилась столь неузнаваемо и превратилась в Украину. Так называемая «погодинская теория», которая стала результатом вышеозначенных раздумий над историческими судьбами народов Восточной Европы, оспаривалась впоследствии каждым новым поколением украинских историков. В конечном счете в ней стали видеть лишь наивную в научном плане, но идеологически опасную диверсию против украинской истории. Попробуем, однако, разобраться в логике рассуждений российского исследователя.
История, как уже мыслил ее Погодин (поскольку его взгляды формировались под влиянием немецкой философии, особенно Шеллинга и отчасти Гегеля), в значительной мере является творением «народного духа», ее облик определяет народ. Истории тем и различаются, что принадлежат разным народам. И если историк видит перед собой две разных истории, значит, и создали их два различных народа. Поэтому последовательный ученый должен додумать эту идею до конца и обнаружить в прошлом такие перемены этнического состава, которые и привели к наблюдаемому ныне положению дел.
Способ разрешения проблемы, предлагаемый Погодиным, состоял в допущении, что в древние времена территория Южной Руси была заселена великороссами. Именно они заложили на этих землях начало истории, которая позднее найдет свое продолжение в истории владимиро-суздальской, а еще позднее – московской. Великороссы же и создали (еще оставаясь на юге) ту культуру и литературу, непосредственной наследницей которой станет затем северная Русь, и в конечном итоге, Великороссия. Этим «южным» по происхождению великороссам принадлежит и тот тип государственной традиции (княжеской), из которой вырастет Московское великое княжество, а впоследствии и царство Московское.
Такое «перемещение» истории и всевозможных феноменов прошлого можно объяснить только миграцией – массовой, почти поголовной – той народности, которая, покидая края своего первоначального проживания, унесла с собой все, что ей принадлежало: язык, письменность и литературу, фольклор, политические традиции и институты. Лишь один период восточноевропейской истории мог стать эпохой подобного библейского исхода – монгольское завоевание середины XIII столетия. Монголо-татары, устроив на юге Руси разгром чрезвычайных масштабов, спалив дотла и разрушив ее главные города, уничтожив физически или забрав в плен значительную часть населения и установив суровый карательный режим, принудили уцелевших жителей юга массово переселяться в более безопасные районы северной Руси. Ведь там все-таки сохранилась власть князей, в лесах при случае можно было переждать очередные набеги, на севере оказались восстановлены (или не в такой степени понесли урон) города. Известия о «Руськой земле» (т. е. Киеве, Чернигове, Переяславле) надолго исчезают со страниц русских летописей начиная с середины XIII века, и такое отсутствие информации должно было свидетельствовать о прекращении исторического процесса на этой территории.
Опустевшие в послемонгольские времена земли, по мысли Погодина, были заселены новым народом – выходцами из менее пострадавших от татаро-монголов западных земель («с Карпат»). Этот новый этнос, заняв бывшую территорию великороссов, стал творцом иной истории, украинской, которая, следовательно, не имеет непосредственной преемственной связи с событиями периода Киевской Руси. По мнению Погодина, малороссияне, живущие теперь в стороне Днепровской и вокруг, пришли сюда после татар от Карпатских гор, где они жили, как в своей колыбели, и заняли опустошенные татарами места киевских великороссиян, которые отодвинулись на север. Малороссиянами могли быть заселены искони: Галиция, Подолия, Волынь; из Волыни малороссияне, может быть, перешли к торкам, берендеям, остаткам печенегов, черным клобукам и составили там новое племя казацкое[282].
Следовательно, возникновение новой народности – казацкой – Погодин объяснял приблизительно так же, как двумя поколениями позднее станет описывать происхождение великороссов Михаил Грушевский, а именно смешением (метисацией). Погодин набрасывал свою теорию широкими мазками, не вдаваясь в детали и допуская оговорки, однако главные ее положения сам считал «достоверными»:
Конечно, здесь есть много еще темного, сомнительного, неопределенного; предоставим объяснение времени; а теперь удовольствуемся положениями, для меня достоверными: 1. Великороссияне – древнейшие поселенцы, по крайней мере в Киеве и окрестностях; 2. Малороссияне пришли в эту сторону после татар; 3. Великороссийское наречие есть или само церковное наречие, или ближайшее к нему, то есть родное, органическое чадо[283].
Статья Погодина была задумана еще в 1851 году, за пять лет до ее публикации[284]. Именно обстоятельства периода, когда зарождались идеи Погодина, обусловливали и общую реакцию на выступление историка, в частности отзыв Максимовича. Отклик этот был принципиально отличным от той интерпретации «долгой» украинской истории, которую впоследствии полемически обнародует Грушевский и которая потом задним числом закрепится за Максимовичем[285]. Именно появившийся почти полвека спустя обзор Грушевского, для которого любая «укороченная» история Украины была «ненаучной», обозначил положительных и отрицательных персонажей дискуссии и превратил Погодина в антиукраинца, а Максимовича в защитника украинского дела. Грушевский писал в эпоху национализма и едва ли правильно понимал (даже если и пытался) мотивы и аргументацию как Погодина, так и Максимовича. Для Грушевского оказалось достаточно внешних обстоятельств: в то время как Погодин отрицал киеворусское прошлое украинцев, Максимович на нем настаивал. Что именно перечеркивал московский профессор и что защищал его малороссийский оппонент, Грушевского не интересовало.
Между тем роли спорщиков стоило бы поменять на противоположные. Именно позиция Погодина была, как выясняется, проукраинской, тогда как его оппонент Максимович защищал право малороссов на наследие Киевской Руси, принципиально не выделяя украинскую историю как самостоятельную. Погодин писал свою статью после российского «открытия Украины». Великорусские путешественники уже не раз посещали Малороссию и опубликовали целый ряд соответствующих путевых заметок. К тому времени был описан общий характер малороссов, изданы сборники народных песен и дум, с энтузиазмом прочитаны малороссийские повести Гоголя. Уже оставила свой след в российской мысли ходившая в списках анонимная «История русов», и в 1846 году, за пять лет до написания статьи Погодина, ее наконец опубликовали в Москве. Словом, великорусская публика уже была вполне осведомлена, что малороссы представляют собой отдельный и вполне любезный, покладистый народ.
Конец 1840-х – начало 1850-х годов приходится, как известно, на эпоху Николая I и воспринимается как время реакции во всех без исключения сферах культурной и общественной жизни. Эта эпоха была, однако, гораздо более сложной; и по отношению к украинцам государство порой демонстрировало весьма значительную толерантность. Члены Кирилло-Мефодиевского общества, сурово наказанные властями, воспринимались как потенциально опасные вовсе не из-за украинофильских мотивов своих трудов, а из-за славянофильской идеи будущей конфедерации народов, которая подрывала и внешнеполитический статус-кво, и легитимность европейских монархий[286]. С 1833 года, правда, существовала официальная формула «православие, самодержавие, народность», но даже она оставляла для «народности» еще довольно широкие границы толкования, при условии безусловного соблюдения первых двух принципов. Следует оговорить, что обычное понимание «народности» в этой формуле как национального (русского) характера государства, еще усугубляющееся в англоязычных работах переводом понятия как Nationality, скорее всего неверно. «Народность» в формуле Уварова выражала почти мистическую идею особой природы самодержавной власти в России, осуществляемой в единении с народом и с народного согласия. Именно в таком смысле было интерпретировано начальное событие российской государственности – призвание варягов, означающее, что в самом своем истоке самодержавие стало добровольным выбором народа. Несколько позднее интересующего нас времени подобная идеология была положена в основание празднования 1000-летия России (1862). Иногда с Уваровым ошибочно связывают рождение официального российского национализма, который будто бы отрицал право других славянских народов империи претендовать на свою отдельную культуру и историю. В действительности такие попытки «национализации» империи станут характерными скорее для эпохи Александра III.
(Укажем в скобках, что языковой вопрос в то время еще не связывался с имперской лояльностью. Сам С.С. Уваров, творец формулы «официальной народности», например, по отзыву И.М. Снегирёва, «по-немецки говорил хорошо, а в русском затруднялся»[287] (1832); другой знаменитый патриот того времени, фактически организовавший и финансировавший все изучение российских древностей – граф Н.П. Румянцев, как позднее вспоминал Елпидифор Барсов, был человеком «французского воспитания, не вполне владел русским языком и даже писал с ошибками»[288].)
Империя, которой управлял Николай I, оставалась в большой мере династическим государством, где связь между разными ее частями обусловливалась не единством нации, а лояльностью подданных и исторической последовательностью присоединения провинций. Соответственно, в 1830–1840-е годы еще не сложилось представления о единой имперской истории, которая не допускала бы локальных исторических нарративов или исключала бы их появление. Напротив, создание таких историй считалось делом вполне верноподданническим и патриотическим. Никакой угрозы в них еще не видят: первое издание «Истории Малой Руси» Дмитрия Бантыш-Каменского читают великие княжны, а новое издание книги (1830) автору было позволено посвятить самому императору.
Польское восстание 1830 года лишь способствовало благосклонному отношению властей к каким-либо историческим сочинениям, которые «отвоевывали» бы территорию Юго-Западной Руси, освобождая ее из-под власти польской истории в минувшем и от польского влияния в настоящем. Украинцев в этом деле рассматривают как очевидных союзников, и правительство финансирует целый ряд научных, просветительских, общественных и издательских институций, в том числе таких, которые призваны содействовать поискам местных древностей, изучению истории края и в целом должны выявлять русский облик края и исторические права на него русской истории.
Итак, Погодин пишет свою статью в 1851 году, а публикует в 1856-м уже при новом императоре, начало царствования которого ознаменовалось существенной либерализацией. Но, вместе с тем, пишет он и до Валуевского циркуляра 1863 года, и до Эмского указа 1876 года, жестко ограничивших и права украинского языка, и деятельность местных патриотов. Но пока Малороссия легитимно признана как нечто своеобразное и должна иметь свою историю (в рамках империи), подобно тому, как свою историю имеют Польша и Финляндия. В этом смысле очень характерно звучит высказывание члена Главного управления по делам печати цензора Муханова, который в 1861 году специально отмечал по поводу малороссийской истории:
Цензура вообще не может и не должна препятствовать обнародованию специальных сочинений, касающихся истории разных областей империи, бывших некогда отдельными и ныне составляющих с ней одно целое, если только сочинения эти написаны с чисто ученою целью, без всякой мысли о возможности самостоятельного существования тех областей и без всяких сепаратических учений и настроений[289].
Погодин – славянофил. Для него отрицать существование малороссов и их истории невозможно; наоборот, он считает, что малороссийский народ «носит все признаки самобытного племени». Такое убеждение было присуще и прочим славянофилам во времена создания погодинской статьи. Так, например, Юрий Самарин написал в 1850 году в Киеве в своем дневнике:
Пусть же народ украинский сохраняет свой язык, свои обычаи, свои песни, свои предания; пусть в братском общении и рука об руку с великорусским племенем развивает он на поприще науки и искусства, для которых так щедро наделила его природа, свою духовную самобытность во всей природной оригинальности ее стремлений; пусть учреждения, для него созданные, приспособляются более и более к местным его потребностям. Но в то же время пусть он помнит, что историческая роль его – в пределах России, а не вне ее, в общем составе государства Московского[290].
История и политика в это время еще не воспринимаются как нечто единое. Можно последовательно утверждать отдельность своей или чужой истории и не делать из этого никаких политических выводов на будущее. В 1845 году Погодин утверждал, что между великороссами и украинцами существует значительная разница с этнической точки зрения:
Великороссияне живут рядом с малороссиянами, исповедуют одну веру, имеют одну судьбу, долго одну историю. Но сколько есть различия между великороссиянами и малороссиянами! Нет ли у нас большего сходства в некоторых качествах даже с французами, чем с ними? В чем же состоит сходство? Этот вопрос гораздо затруднительнее[291].
Следовательно, он был готов идти достаточно далеко, возможно, даже дальше самих украинцев, в признании малороссов народом, отдельным от россиян. Но если они существуют, то должны обладать и своей историей. Проблемой для Погодина остаются ее истоки. Когда начинается малороссийская история, если она отлична от великорусской? Ведь ясно, что не в Киевской Руси, поскольку место тут уже занято. Значит, начинается она тогда, когда малороссы появляются как заметная этническая или историческая группа. К чему бы ни обращался российский историк, везде он мог найти лишь единственную версию ответа – во времена после татаро-монгольского нашествия.
При том же Погодин был в праве рассчитывать и, вероятно, действительно рассчитывал на сочувственный прием среди малороссов. Это ведь они не связывали свой фольклор, язык, а также свою историческую память с эпохой Киевской Руси. Это ведь они с начала XVIII века создавали все новые и новые исторические произведения, где история Украины была отождествлена с историей «казацкого народа», а этническое происхождение этого последнего выводилось из степных хазар. Практически все опубликованные к тому времени истории Малороссии строились вокруг «казацкого мифа», а принадлежность к «рыцарскому сословию» казаков еще в 1810–1820-х годах была для малороссийской шляхты главным аргументом в обосновании своего особого положения среди российского дворянства[292].
Погодин немного опоздал. Его взгляды 1830–1840-х годов могли бы полностью разделить украинские историки предыдущего поколения, для которых прошлое Малороссии существовало только как прошлое казацкое. Он не заметил, а может, и не знал, что в самой Малороссии постепенно начинают присваивать древнее прошлое этого края (и времена Киевской Руси особенно) как часть исторического опыта украинцев. В этом заключался один из парадоксальных уроков официального поощрения занятий местной историей, древностями и фольклором после подавления польского восстания. К концу 1850 – началу 1860-х годов образованные люди с украинским самосознанием начали ощущать себя хозяевами уже не только своей территории, но и всей той истории, которая разворачивалась на ней на протяжении минувших веков.
Как ответил Максимович на «теорию» Погодина? В поисках доказательств своей гипотезы московский историк имел неосторожность ступить на поле филологии, где Максимович – даром, что по образованию он был ботаником, – считал себя специалистом. Погодин допускал, что церковнославянский язык, на котором были написаны все памятники Киевской Руси, был языком не только книг, но и живой речи, на которой говорили на Руси в древности. Эту речь он считал наиболее близкой к русскому языку, который решительно отделял от языка украинского. В результате у московского историка выходило, что киевские памятники, написанные церковнославянским языком, принадлежали великороссам.
Именно эти положения стали предметом критического разбора в «Филологических письмах» Максимовича Погодину, опубликованных в славянофильском журнале «Русская беседа» в 1856 году. Максимович довольно спокойно разъяснял Погодину, что церковнославянский язык, по мнению Йозефа Добровского, Ернея Копитара и Осипа Бодянского (общего их хорошего знакомого по Московскому университету), принадлежал к группе южнославянских языков, и если когда-либо был языком живой речи, то только у славян на Балканах. Однако утверждение существенной разницы между великорусским и малорусским языками вызвало у Максимовича весьма эмоциональную реакцию:
Ты разрываешь ближайшее родство русских наречий, по которому малороссийское и великороссийское наречия, или, говоря полнее и точнее, южно-русский и северо-русский языки – родные братья, сыновья одной русской речи[293].
Правда, сам Срезневский, как стало известно Максимовичу из статьи Погодина, склонялся к мысли, что до монголо-татарского нашествия на всей Руси существовал один общий язык, а южнорусские особенности возникли позже. Это, по мнению Максимовича, также было неверно, но все же лучше полного разделения русского и украинского языков:
Если бы пришлось мне из двух зол выбирать легчайшее, то я лучше согласен признать безразличие (т. е. отсутствие различий. – А.Т.) всей Северной и Южной Руси в древнее дотатарское время, чем разрознять их и разрывать ближайшее их родство до такой степени, как это сделано в твоей нынешней системе[294].
Очевидно, что Максимович был готов идти на уступки, но лишь в одном направлении – сближения двух народов. В последующих письмах Максимович стремился продемонстрировать Погодину, что украинский фольклор все-таки сохранил память о временах Владимира Святославича, а летописи содержат спорадические вкрапления «южнорусской» живой речи, и, наконец, сам этот «южнорусский» (малороссийский) язык уже существовал в Киевской Руси. Все это для Максимовича должно было означать не раздельность историй двух народов, чьи языки сформировались так рано, а напротив – неразрывное единство их общей истории. То, что малороссы уже существовали до монголо-татарского нашествия, означало для Максимовича лишнее доказательство принципиальной невозможности разделения истории, которая сплела судьбы двух народов с самых давних времен.
Погодин, разумеется, отвечал на это письмами, которые публиковал на страницах той же «Русской беседы», и дважды ему возражал в своих посланиях Максимович. Наконец, вероятно, утомившись от спора и стремясь положить ему конец («пора нам прекратить наш спор в “Русской беседе” хоть перемирием»), Максимович в 1857 году опубликовал последнее письмо Погодину, которое назвал «О мнимом запустении Украины в нашествие Батыево и населении ее новопришлым народом». В нем Максимович стремился подвергнуть тщательному пересмотру «историческую» часть доводов Погодина о запустении Приднепровья и предполагаемом переселении оттуда народа на север. Одновременно, по мысли Максимовича, ему удалось доказать, что никакого упадка земель и переселения не было. Аргументы Погодина были не слишком убедительными, так что с первой частью своей задачи Максимович справился весьма удовлетворительно. Неоспоримых данных о массовой миграции жителей юга Руси в письменных источниках и в самом деле не сохранилось, а те немногие, что можно обнаружить, допускают и иные трактовки. Труднее было со второй частью, ибо никаких следов процветания южнорусских земель уже после нашествия в сохранившихся памятниках тоже нет. Вместо доказательств Максимович впадал в патетику:
Города и села были разоряемы татарами и вновь строились; люди разбегались и вновь сходились в свои города и села: такая тревожная жизнь была долей многострадальной Украины на несколько веков и после того, как с отвоеванием киевской земли Гедимином у татар (1320) минулась их воля; но их набеги продолжались из века в век, казалось, нескончаемо. Народ украинский, так же как и волынский и галицкий, убывал сотнями и тысячами от схваток с татарами, от хищного полонения ими; однако народонаселение Украины, так же как и Волыни и Галича, все продолжалось по-прежнему, как продолжается доныне в стародавних городах и селах, приумножавшихся новонаселенными[295].
Вообще же форма, в которой протекала полемика – переписка – была выбрана очень удачно, однако уровень дискуссии с современной точки зрения представляется весьма дилетантским, и это касается как общих идей, так и конкретных доказательств, которые были призваны эти идеи подкрепить[296]. Ученые, например, всерьез обсуждали, можно ли установить, к чьей именно истории отсылают те или иные летописные свидетельства, основываясь на своем понимании «национального характера» россиян и малороссов (так, Погодин был убежден в этом и относил древнерусских князей к чистейшему типу «великорусского характера»; Максимович же здесь сомневался, но только потому, что «это знание еще такое неопределенное»).
Впрочем, для нашей цели в общем неважно, кто из спорящих был прав больше, или же оба в равной степени ошибались. Нас интересует в первую очередь логика самой аргументации. С каких позиций и почему каждый из них упорно защищал свою точку зрения, так и не признав, хотя бы частично, правоту оппонента?
Аргументы Погодина могли быть наивными или недостаточно доказательными. Но все же общая логика была на его стороне – монголо-татары действительно разрушили и Киев, и Чернигов, и Переяславль. В середине XIII века произошла катастрофа чрезвычайных масштабов, навсегда изменившая ход восточноевропейской истории. То, что когда-то представляло собой центр жизни, где сходились все интересы Руси, самые ее развитые земли, надолго исчезает со страниц летописей, а по сути, так никогда и не возрождается в своих прежних демографических, экономических и политических показателях. Доказывать противоположное – что ничего подобного не было, набеги случались и до и после середины XIII века, а поляне с северянами как обитали по своим селам, так и дожили до XIX столетия – так же невозможно, как и засвидетельствовать факты всеобщей и быстрой миграции населения на север. В чем же тогда суть полемики двух историков? И действительно ли вся эта дискуссия была посвящена лишь середине XIII века? Едва ли столько эмоций вкладывалось бы в академический спор о событиях шестивековой давности. В центре рассматриваемого столкновения была современность. Какой будет украинская история? Что такое украинская история? Когда она начинается? Может ли она существовать как история самостоятельная?
На последний вопрос Погодин отвечал утвердительно, Максимович же давал отрицательный ответ – и не только споря с Погодиным. Невозможность самостоятельной, отдельной украинской истории была его давним убеждением. Он целиком разделял господствующую схему исторического развития Руси – России – Российской империи. Еще в 1837 году он говорил:
Среди множества городов обширной Русской империи Киев, Москва и Петербург возвышаются как три великие памятника трех великих периодов русской жизни. Это три средоточия, из которых русская жизнь, в свое древнее, среднее и новое время, развивалась особенно, но всегда с одинаковой, могучей и широкой силой; три исполинские ступени, по коим Россия, с помощью Божьей, взошла на настоящую высоту своего величия[297].
Следовательно, Максимович был глубоко и искренне убежден в верности парадигмы «общерусского единства», и любые попытки это единство разорвать, пусть даже и в далеком прошлом, не на шутку задевали его. Позиция Погодина в противовес этому выглядит «более украинской». Для Погодина представлялось очевидным, что малороссы обладают как своим собственным этническим обликом в настоящем, так и своей историей, отдельной от российской – еще в недавнем прошлом. Это была «казацкая» история (степная, ориентальная), и ее связь с византийским наследием и образами Киевской Руси выглядела для него достаточно сомнительной. Вместе с тем эта нетождественная российской история разворачивалась именно на тех землях, где обретало свои истоки российское прошлое. Проблема для Погодина состояла в том, чтобы понять, как эта перемена произошла, и зафиксировать тот хронологический промежуток, когда она случилась. Но вообще говоря, он стремился указать на самостоятельные «начала» украинской истории.
Разумеется, не стоит предаваться иллюзиям: Погодин вовсе не ставил перед собой каких-либо украинских патриотических целей, и даже история собственно украинская интересовала его во вторую очередь. Его главная задача состояла в разъединении двух историй, которые он считал отдельными, хотя они к тому времени усилиями многих авторов были уже так тесно переплетены между собой, что это сбивало с толку. Теория Погодина была своеобразной реакцией на парадигму «общерусского единства», которая именно в этот период возникает и утверждается в исторической мысли империи.
Погодин, как не без сарказма напоминал ему Максимович, вынужден был ради новой теории отказаться от своих прежних взглядов. Ведь еще в первой половине 1840-х годов Погодин утверждал, что уже в домонгольский период живые говоры Руси разделялись так же, как и ныне: на (велико) – русский, белорусский и малорусский языки. Но под влиянием лингвистов, а также, возможно, домысливая свою «систему» до конца, он отказался от этих идей, поскольку они непременно разбили бы единое наследие Киевской Руси на три отдельных национальных истории.
Тут важным (и, возможно, ключевым) становится «открытие народа», произошедшее буквально на глазах у поколения Погодина. «Народ» стали считать своего рода натуральным базисом любой истории. Не существует истории без соответствующего ей своего «народа», и потому – всякая история «народна», национальна. Тогда уже в значительной мере состоялось российское «открытие Малороссии», и Погодин вовсе не походя пользуется такими клише, как народный характер малороссов или их наибольшая певучесть среди всех прочих славян. Открытие Малороссии поместило на одной территории и «казацкий народ», и древние руины Киевской Руси, на которых он складывал уже свои новые песни о запорожцах.
Ход мысли Погодина, таким образом, заключался в следующем: российская история – история великорусского народа. Если эта история начинается далеко на юге, а потом оттуда перемещается на север, это должно означать, что когда-то на юге жил носитель и творец, обладатель этой истории – народ великорусский. Если же со времени «ухода» российской истории с юга там начинает твориться какая-то иная история (малороссийская, украинская, казацкая), значит, на место прежнего пришел другой народ, ответственный за эту новую историю.
Эти выводы (и неважно, верны они или нет) были вполне последовательными. Интересно другое: почему, делая Киев и Переяславль частью великорусской национальной истории, Погодин так легко оставляет этническим украинцам «Карпаты»? Ведь на этих землях также складывалась древнерусская история. Там тоже правили князья (все без исключения «русские по характеру», по мнению Погодина), велось летописание (и все «великорусским» языком), также строили церкви в византийском стиле и, быть может, даже сказывали былины про Владимира Красное Солнышко. А меж тем ни малейшей привязанности к этим территориям московский историк не выказывает, называя их довольно мифично – «Карпаты», объединяя под этим словом и Галицию, и Волынь, и Подолье и именуя тамошних жителей «карпатцами». Явным образом для Погодина (все-таки человека поколения 1830–1840-х годов) Правобережная Украина не совсем сочетается с идеей русской истории. Не потому ли, что на его «философской карте» (проекцией которой для древних времен оказалось разделение Руси на два этнических массива) эти территории, лишь поколением ранее отобранные от Речи Посполитой, все еще «числятся за поляками»? «Русский характер» Юго-Западного края все еще не целиком вырисовался и не совсем утвердился в представлениях российской тогдашней публики. Власти империи в 1840-х годах предпринимают лишь первые шаги в этом направлении[298]. Территории Правобережья – погодинские «Карпаты» – еще не полностью «свои», эмоциональной связи с ними великороссы еще не успели выработать и ощутить.
Похоже, и Максимович до известной степени разделяет это противопоставление Левобережья Правобережью, когда отдельно упоминает «народ украинский» и «народ волынский и галицкий», хоть для него они скорее являются региональными разновидностями одной общности. В другом же месте он различает разговорные языки Малороссии и «Червоной Руси», которые, по его мнению, не ближе друг к другу в лингвистическом плане, чем «наречия» великорусское и белорусское. Тем не менее, он эмоционально откликается на саму гипотезу о переселении «карпатцев» на Левобережье. Стоит отметить, что сам Максимович – левобережный малороссийский помещик. Не совсем понятна нервная реакция Грушевского (через два поколения после Максимовича) на идеи Погодина и их «новое издание» А.И. Соболевским. Грушевский не только связан с Правобережной Украиной жизнью и карьерой: свой резко отрицательный обзор старой и новой полемики по этому вопросу он пишет в галицком Львове (где стал профессором после окончания Киевского университета). Для собственной схемы Грушевского такое переселение не должно было играть никакой роли, поскольку он считал украинскими и Галицию, и Волынь. Более того, по его мысли, центр («нерв») украинской истории переместился из Приднепровья именно в Галицко-Волынское княжество как раз к тому времени, когда Погодин станет переселять оттуда «новый» народ на прежние киевские земли. Так что для Грушевского это должно бы было стать своего рода «внутриукраинской» миграцией. Такие миграции – как и запустение Надднепрянщины – он спокойно допускал в более позднее время, но для середины XIII века делал малообъяснимое исключение.
Как считает Алексей Миллер, переписка между Погодиным и Максимовичем была едва ли не «первым разделом Руси»:
Фактически мы имеем здесь дело с весьма типичным для романтического этапа развития националистического конфликта спором о дележе истории, с поиском исторических аргументов для обоснования прав на ту или иную территорию и для установления того или иного варианта этнической иерархии. …Происходила постепенная «национализация патриотизма», хотя модерная националистическая идеология оставалась чужда обоим участникам полемики до конца их жизни[299].
Это верно, но лишь отчасти. В рассматриваемой нами полемике удивляет обратимость ролей участников спора. Как правило, зачинателем и активным агентом подобного рода «переделов истории» выступает, так сказать, «слабая» сторона, и обычный сценарий заключается в заявлении претензий на тот или иной сегмент чужого исторического нарратива, который можно или целесообразно отделить и «национализировать» в свою пользу. Сверхзадачей такой реконкисты, отвоевания «отнятого» некогда минувшего, является создание своей версии истории, независимой от господствующего нарратива. Именно «слабая» сторона воспринимает идеи общего прошлого как угрозу своей идентичности, тогда как имперские нарративы, в целом, стремятся к инклюзивному варианту представлений о минувшем. Соответственно, и желание отделиться обычно проявляют сообщества, находящиеся под угрозой, а доминирующие группы по большей части рассматривают свою позицию как объект нападения, скорее отвечая на уже брошенный вызов, чем начиная дискуссию по своему почину.
Судя же по распределению ролей в нашей полемике, где и инициатива, и энергия были явно на стороне Погодина, именно за ним следует закрепить роль «национализатора» истории. Его идеи отражают первые шаги к превращению истории государства Российского в национальную историю (велико)русского народа. Позднейшим интерпретаторам казалось, что Погодин нападал на украинскую историю. На самом же деле его явно заботило иное: он сам стремился освободиться от традиционного имперского понимания истории. Немного ранее похожую попытку обозначить границы «национальной» истории россиян предпринял Николай Полевой, с близким Погодину ходом мыслей и схожим результатом. Этого, вероятно, не понял Максимович, приняв все за чистую монету и начав выписывать в ответах Погодину цитаты из летописей, отыскивать редкие примеры словоупотреблений и так далее – как будто бы речь шла просто о полемике двух любителей древностей между собой. По общему мнению, исторические представления Максимовича так и остались домодерными. Этничность, язык, история все еще существуют для него отдельно, в разных ящиках письменного стола, вовсе не обязательно складываясь в то неразрывное единство, которое придадут этим «трем китам» нации позднейшие идеологи национализма. После «национализации» истории такую форму исторического сознания, которая бы одновременно утверждала древность своего народа и при этом не признавала возможности его отдельной истории, сейчас довольно трудно себе представить. Уже Погодин начинал догадываться, что всякая история «народна». А Максимович так никогда об этом и не узнал.
До украинской «национализации» древнерусской истории осталось еще несколько десятилетий. Путь к ней не был ни прямым, ни самоочевидным. В начале 1860-х годов в статьях, опубликованных в петербургском журнале «Основа», Николай Костомаров формулировал идею «двух русских народностей» и соответствующий принцип «федеративного устройства» Руси. Статьи Костомарова, написанные в форме исторических исследований преимущественно о временах Киевской Руси, критиковали и хвалили тогда за иное – за скрытые политические подтексты, которые в 1860-е годы представлялись достаточно радикальными[300]. Но в плане постижения прошлого высказанные в них мысли и идеи были попыткой одновременно и мыслить украинскую историю как самостоятельную, и не порывать окончательно с тезисом о единстве двух народов.
Когда в 1882 году видный филолог (и человек весьма правых взглядов, в будущем – член Союза русского народа) Алексей Иванович Соболевский прочитал на заседании Исторического общества Нестора-летописца реферат «Как говорили в Киеве в XIV–XV веках», где попытался пересмотреть часть исторических представлений Погодина, ситуация была уже совершенно иной. Ни власти, ни сами украинцы уже не рассматривали занятия историей как невинное любительство, вроде собирания древностей, или проявление благонамеренного местного патриотизма. Актуальные подтексты и импликации при обращении даже к далекому прошлому теперь специально акцентировались и весьма ясно прочитывались – и не только в ученых собраниях. (Примечательно, что двадцатью годами ранее, при обсуждении известного Валуевского циркуляра о запрещении письменного употребления украинского языка, министр народного просвещения А.В. Головнин проводил – в прежнем духе – параллель между Малороссией и Финляндией, но в 1863 году для министра внутренних дел П.А. Валуева это было уже свидетельством против малороссов)[301]. Киевское академическое сообщество восприняло выступление Соболевского как выпад и угрозу для новообретенной исторической идентичности. Десятилетия, прошедшие со времени спора Погодина с Максимовичем, создали новую атмосферу, в которой сам факт громкого публичного обращения к данному вопросу звучал даже бестактно. Профессор Киевского университета историк Владимир Антонович и его единомышленники полагали, что, не предъявляя прямо украинских претензий на наследие Киевской Руси и публикуя исследования по «областной» истории и разработке тем местного прошлого, они де-факто присваивают домонгольскую историю и создают впечатление ее непрерывного продолжения от древнейших времен до сегодняшнего дня. Ход времени и целый ряд «малых» дел должны были содействовать публичному признанию идеи, что вся история юга империи так или иначе является историей Украины (эластичность терминологии, по которой «южнорусское» могло быть и нейтрально-географическим, и национально-украинским определением, этому только способствовала). Но ставить вопрос прямо означало давать на него недвусмысленный ответ – а именно этого, похоже, местные патриоты и пытались избежать. Киевские «украинцы» чувствовали политическую небезопасность и недостаточную академичность своего ответа. Киевские «россияне», похоже, не спешили ставить коллег в неудобное положение. В этой ситуации выступление Соболевского было чем-то неприличным, нарушением негласной договоренности. В том же стиле решили и противостоять этому посягательству[302]. Реферат Соболевского, а также полемику с ним опубликовали, судя по всему, без большой охоты (в сокращенных версиях в «Чтениях в Историческом обществе Нестора-летописца»[303]), а главной отповедью фактически стала статья Антоновича «Киев, его судьба и значение с XIV по XVI столетие»»[304], помещенная чуть раньше в первом выпуске новооснованного журнала «Киевская старина».
Автор этой работы не спорил открыто с теми, кто придерживался мнения, что наследие Киевской Руси считается частью «великорусской истории», а малороссийская история может претендовать исключительно на казацкое прошлое. Антонович вообще не ставил в статье каких-либо «теоретических» вопросов о длительности истории Украины по сравнению с историей ее соседей. Он просто и «наивно» описывал в хронологическом порядке все события, произошедшие в городе и с городом от княжеских времен до периода Речи Посполитой. И все же само течение рассказа оставляло впечатление непрерывности, а тот факт, что Антонович довел свое изложение лишь до второй половины XVI века, позволило предположить и дальнейшее направление истории Киева – через разные периоды существования Великого княжества Литовского до времен казацких.
Антонович, несомненно, мыслил уже в национальных категориях. И позиция Максимовича в старом споре казалась ему более близкой. Возможно, он не понимал мотивов Максимовича или не слишком над ними задумывался. Но общее умонастроение к тому времени уже побуждало исследователей конструировать «долгую» историю украинцев. Чтобы быть конкурентоспособной, эта «долгая» история должна быть по крайней мере сопоставимой по протяженности с историей российской. Стратегии тут были разными и довольно изощренными. Так, Антонович давал своим ученикам темы исследований по древнерусской истории, но неизменно в «региональном» формате, о прошлом какой-нибудь из южнорусских земель[305]. И в своей совокупности они рано или поздно должны были произвести впечатление о существовании какой-то отдельной «южнорусской» истории, вначале как самостоятельной области исследования, а потом – и как отдельного прошлого. Кроме того, все эти работы, за очень малым исключением, по своим хронологическим рамкам выходили за роковой рубеж середины XIII века (которым традиционно заканчивалось изучение Киевской Руси) и включали в себя события XIV столетия[306].
Михаил Грушевский уже не чувствовал ограничений, стеснявших мировоззрение его учителя. У него украинская история, которой уже всецело принадлежало Киевское государство, не только была сопоставима с историей великорусской, но даже значительно превышала ее по протяженности. Великороссы, по мнению Грушевского, появились в результате славянской колонизации Волжско-Окского междуречья путем смешения с тамошними финно-угорскими обитателями (что было далеким эхом польских идей начала XIX века, например Франциска Духиньского, о неславянском происхождении великороссов). Произошло это в течение нескольких десятилетий на рубеже веков – с конца XI до начала XII столетий; следовательно, раньше этого времени говорить о национальной истории великороссов бессмысленно. И тут стоит напомнить про идею, которую отстаивал – как раз по отношению к украинцам – Погодин: смешение рас как фактор рождения новой народности. Схема Грушевского, таким образом, была схемой Погодина «навыворот».
В свое время Жюль Мишле считал, что из европейских стран лишь Франция имеет «полную» историю, поскольку располагает необходимой глубиной, начинаясь непосредственно от римских времен. Истории Италии как целостному процессу, по мнению Мишле, недостает нескольких последних столетий, а истории Англии – начала. Следовательно, в XIX веке «полнота» в смысле длительности представлялась необходимым условием написания национальной истории. «Короткая» история проигрывала соревнование еще до его начала. Свой «Рим» украинская история могла получить, лишь предъявив права на Киевскую Русь. Любопытный парадокс состоит в том, что украинские историки сделали это с помощью идей Максимовича, впервые высказанных ради опровержения тезиса о существовании отдельной национальной истории украинцев.
Перевод с украинского А.Н. Дмитриева и О.В. Карповой
В.И. Чесноков Пути формирования и характерные черты системы университетского исторического образования в дореволюционной России
[307]
Истоки университетского образования в России уходят в XVIII век и генетически связаны с деятельностью Московского университета. Однако как система оно заявило о себе лишь в начале XIX столетия, с принятием в 1804 году первого общего устава российских университетов и учреждением на его основе в 1805 году, в дополнение к Московскому и Дерптскому, университетов в Казани и Харькове. С этого времени, по удачному наблюдению П.Н. Милюкова, начинается «связная история» российских университетов[308]. Как система, университетское образование предполагало прежде всего наличие сети университетов, в функционировании которых нормы и принципы организации учебной и научной работы имеют общее применение. После 1805 года сфера действия этой системы распространялась «вширь» в связи с открытием новых университетов: Петербургского (1819), св. Владимира в Киеве (1834), Новороссийского в Одессе (1865), Варшавского (1869), Томского (1888) и Саратовского (1907).
Законченный вид российская университетская система приобрела в 1890-е годы. До 1893 года в нее не укладывался Дерптский университет: до переименования в Юрьевский и проведения некоторых реформ он считался «особенным» – российским, но не русским, поскольку опирался на собственные уставы[309] и в структуре и организации учебного процесса, жизни и быте его профессоров и студентов было немало германских заимствований. Некоторые изъятия из общего университетского законодательства имел Варшавский университет, однако они касались главным образом управления этим учебным заведением и определения в него преподавателей; по своему назначению он именовался русским в нерусском «Привислинском крае».
Главнейшими факторами, определявшими жизнь и деятельность университетов в XIX – начале XX века, были общие университетские уставы. После 1804 года они вводились в 1835, 1863 и 1884 годах[310]; подготовка очередного устава, начавшаяся в 1902 году, не была завершена[311]. Кроме них министерством просвещения принимались постановления по частным вопросам университетской деятельности. В то же время эта деятельность развивалась под воздействием «университетского начала», т. е. усилиями университетской профессуры. Правительственное и университетское начала в поисках лучших форм и методов подготовки специалистов взаимодействовали, хотя иногда и конфликтовали между собой («дело» Петербургского университета 1820 года, «набег» попечителя Магницкого на Казанский университет в 1820-е годы, разлад между министерством просвещения и ректорами университетов в процессе подготовки устава 1884 года). Развитие университетского образования предполагало совместную работу правительственных сфер и университетской профессуры над решением вопросов жизни и функционирования университетов. К таким вопросам относились: совершенствование внутренней структуры этих учебных заведений и их факультетов, определение круга наук, формирующих специалиста того или иного профиля, развитие обучающего процесса, приобщение студентов к занятиям наукой, воспроизводство преподавательского корпуса. Историографическая традиция советского времени необоснованно и без тщательного изучения университетской сферы сводила ее историю к непрекращающейся, за исключением первых лет университетской реформы 1863 года, конфронтации университетов и царского правительства, рисуя образ последнего как врага университетского прогресса[312].
Поиски в кругу этих проблем предусматривали изучение не только собственного опыта, но и традиций университетов и университетской политики в странах Западной Европы. В преподавательских кругах ознакомление с зарубежной университетской жизнью шло естественным путем благодаря поездкам «в чужие края» «на вакационное время» и командировкам «с ученой целью». Со стороны же правительства кроме поощрения (за исключением времени 1848–1856 годов) этих поездок имели место и случаи прямой организации изучения западноевропейского опыта. Так было, в частности, при подготовке устава 1863 года, когда в длительную командировку с заданием ознакомиться с устройством университетов Германии, Франции и Швейцарии и дать материалы для нового российского университетского законодательства был направлен К.Д. Кавелин[313]. В 1860-е годы по указанию министерства просвещения профессорским стипендиатам, командируемым за границу, предписывалось изучать не только состояние науки в западно европейских странах, но и организацию и уровень преподавания ее в университетах. Однако было бы неверным рассматривать российскую университетскую систему как результат сплошного заимствования, в различных переплетениях и сочетаниях, германского и французского образцов[314]. Заимствуя приемлемые элементы из опыта Германии, Франции и частично Англии, университетская система России вырабатывала самобытное выражение. Последнее преломилось в факультетской структуре университетов (в России они не имели, кроме Дерптского, богословского факультета), организационном оформлении историко-филологического и специально-исторического образования, номенклатуре ученых степеней и более сложной, нежели в Западной Европе, процедуре определения в университеты преподавателей. Вопрос о соотношении национально-самобытного и иноземного в управлении и устройстве дореволюционных российских университетов, организации их учебного процесса существует и требует специального исследования.
Подготовка историков в университетах России XIX – начала XX века – формально это лишь часть университетской образовательной системы. По сути же дела она представляет важнейшую отрасль университетского образования ввиду особой роли, которая отводилась правительством истории как науке в деле «защиты устоев» и идейного воспитания общества. К 1917 году система университетского исторического образования России сложилась как классическая уже в том смысле, что ее базисные принципы оказались устойчивыми и долговременными. Пережив в 1920 – начале 1930-х годов своеобразный зигзаг, ее главные черты и элементы возродились и частью в первозданном, частью в развитом виде лежат в основе современного высшего исторического образования страны. Однако до сих пор опыт подготовки историков в «старых» университетах не стал предметом беспристрастной исследовательской разработки. Вопреки традициям дореволюционной «университетской историографии» советские историки все дальше уходили от изучения внутренней, академической жизни университетов, сосредоточивая внимание на их участии в общественном и революционном движении[315]; в силу этого университетский мир в публикациях представлен очень скудно.
Первое направление формирования системы исторического образования проявилось в тенденции придать ему более четкий статус в учебно-научной структуре университетов. По уставам 1804 и 1835 года, в полном соответствии с традициями германских и английских университетов и средневековыми представлениями о всеобъемлющем свойстве философии как науки, исторические знания вкупе с филологическими преподавались в словесном (первом) отделении философского факультета; вторым его отделением было физико-математическое. В связи с постепенным обособлением истории в кругу гуманитарных наук и самовыражением ее предмета неизбежно вставал вопрос о специализации исторического образования. Формально этот процесс начался с уточнения факультетской структуры университетов. Толчком для него послужило крайне негативное отношение к философской науке, распространившееся в конце 1840-х годов; шло оно от неприязни к философии как «рассаднику вольномыслия» самого Николая I. В 1849 году правительственным постановлением, санкционированным царем, была разрушена университетская кафедра философии[316], а в январе 1850 года в университетах упразднили философский факультет, преобразовав два его отделения в самостоятельные факультеты; словесное превратилось в историко-филологический[317]. Некоторые исследователи были склонны трактовать этот последний акт лишь в плане проявления реакционной политики «изоляции России от Западной Европы»[318]. На наш взгляд, ликвидация философского факультета, несмотря на ее связь с общей кампанией «потеснения» университетов, была совершенно необходима и совпала с процессом дифференциации университетских наук и образования. К тому же термин «философский» в названии факультета в середине XIX века выглядел анахронизмом, наименование это не соответствовало ни задачам факультета, вовсе не готовившего философов, ни кругу преподаваемых в нем предметов. Для российской университетской системы возведение словесного отделения в ранг историко-филологического факультета имело глубоко прогрессивное значение, поскольку оно позволяло придать подготовке историков и филологов большую профессиональную направленность и создавало условия для развития внутрифакультетской специализации. С 1850 года наличие в университетах России историко-филологического факультета, а он был создан и в «особенном» Дерптском университете[319], определяло их национальное своеобразие: в Германии и некоторых других странах Западной Европы универсальные философские факультеты существуют поныне. В 1855 году в Петербургском университете, на базе востоковедных кафедр Казанского, был открыт факультет восточных языков с кафедрой истории Востока; этот уникальный факультет наделил университетскую систему России еще одной отличительной чертой.
В 1856 году начались совместные поиски и эксперименты министерства просвещения и университетов в направлении специализации подготовки студентов уже в пределах историко-филологического факультета: проблема на целые два десятилетия была обозначена как «разделение факультета». Инициаторами ее постановки явились университеты св. Владимира и Харьковский[320], исходным соображением послужила перегрузка студентов обязательными для изучения общефакультетскими предметами и связанная с этим «поверхностность их познаний»[321]. Министерство просвещения разрешило университету св. Владимира начиная с 1857/58 учебного года ввести, «в виде опыта», уже на первом курсе деление факультета на два разряда – исторический и филологический, а факультетских предметов – на главные и второстепенные. Срок эксперимента был определен в четыре года, после чего его результаты должны были поступить на обсуждение других университетов относительно «их пользы или неудобства»[322].
К концу 1870-х годов после интенсивного обсуждения университетских проектов в большинстве русских университетов внедрилась система «разделения историко-филологического факультета» начиная с третьего курса на три отделения (разряда): классической филологии, славяно-русской филологии и истории. Схема обучающего процесса на факультете выглядела следующим образом: два года общефакультетских курсов, столько же – преимущественно специализирующих дисциплин. Московский университет несколько отступал от этой схемы: специализация на его историко-филологическом факультете начиналась на четвертом курсе и продолжалась всего один год; однако в декабре 1881 года новые, утвержденные министром просвещения «Правила разделения историко-филологического факультета Московского университета» устранили это отклонение от общей нормы[323]. Согласно Правилам, предметы исторической специализации предусматривались в следующей номенклатуре: специальные курсы по всеобщей и русской истории, история восточной и западной церкви, история всеобщей литературы, греческие и римские древности, политическая экономия[324]. Петербургский университет, в отличие от других, на историко-филологическом факультете имел пять специализирующих отделений: классической филологии, славяно-русской филологии, германо-романской филологии, философских наук и исторических наук[325]. При всех незначительных разночтениях в специализирующей факультетской системе основой ее были три звена и два года специализации. Исторические отделения к середине 1880-х годов имелись во всех университетах России, за исключением Дерптского: его историко-филологический факультет подразделялся на историко-филологическое и камеральное отделения[326].
В первые годы управления министерством просвещения И.Д. Делянова в политике этого правительственного органа возобладала идея «классикализации» историко-филологического образования. Вышедший в 1885 году из недр этого ведомства учебный план историко-филологических факультетов, со ссылкой на необходимость привести их учебный процесс в соответствие с «действительными потребностями государства»[327], возвел древние языки и классическую филологию в ранг стержня историко-филологической подготовки в университетах. Специализация по истории, как и по славянорусской филологии, упразднялась, да и сам блок исторических дисциплин был отнесен к дополнительной «группе Б»[328]. Однако реальные потери от этой реформы, главной из которых было резкое падение престижа историко-филологического образования в стране, а также возмущение профессоров и общественности, вынудили правительство уже в 1889 году вернуться к прежней системе построения учебного процесса; деление факультета на специализирующие отделения было восстановлено.
В том виде, как она сложилась к 1884 году, историческая специализация в университетах просуществовала вплоть до их преобразования, начавшегося в 1918 году. Показательно, что на крайнюю меру, предлагавшуюся некоторыми участниками обсуждения вопроса о «разделении историко-филологического факультета», – превратить его в два самостоятельных – правительство ни в 1860–1870-е годы, ни позже не пошло; абсолютная масса профессуры тоже стояла на позиции неотделимости исторического образования от филологического. В университетской практике не прижился и киевский вариант – начинать специализацию студентов уже на первом курсе.
Университетская историко-образовательная система развивалась и в области определения круга наук, которые формируют специалиста-историка. Российская университетская мысль на протяжении всего XIX века покоилась на признании единства и обоюдной пользы исторических и филологических знаний. Среди профессоров-гуманитариев было немало и воинствующих поборников этого единства, таких как О.М. Бодянский в Московском университете, М.С. Куторга в Петербургском[329]. Университетские уставы XIX века тоже следовали этому критерию. В учебном процессе студент, избравший специализацию исторического профиля, до ее начала обязан был с одинаковой прилежностью прослушать весь курс факультетских наук и экзаменовался в них. Круг предметов историко-филологи ческой подготовки в устойчивом виде сформировал устав 1863 года: богословие как общеуниверситетская дисциплина, факультетские – философия с историей философии, логика, психология, греческий язык и греческая словесность, латинский язык и римская словесность, русский язык и русская словесность, славянские языки и литература славянских наречий, история всеобщей литературы, сравнительная грамматика индоевропейских языков и санскрит, всеобщая история, русская история, история церкви, теория и история искусств[330]. За пределами этого перечня факультетам предоставлялось право вводить, в соответствии с потребностями и «местными условиями», и другие учебные предметы. Уже в первой половине XIX века на таком положении среди дисциплин философского факультета находились греческие, римские и славянские древности и политическая экономия. В 1860-х годах в некоторых университетах студентам читалась история Древнего Востока. Устав 1884 года мало коснулся цикла дисциплин историко-филологической подготовки: в качестве обязательного предмета была введена география, продержавшаяся на факультете недолго. Подтвердив прежнее разрешение факультетам – дополнять обязательную номенклатуру предметов другими по их усмотрению, последнее уставное законодательство открыло в университетах дорогу чтению лекций по истории славянских народов[331], византиноведению, педагогике и т. п.
С внедрением разделения факультета на специализирующие отделения в университетском лексиконе появились новые понятия: предметы факультетские и специальные, основные и вспомогательные. Применительно к исторической специализации смысл такой классификации сводился к практике постановки большинства общефакультетских предметов, в том числе русской истории, на младших «общеобразовательных» курсах, там же читалась древняя всеобщая история. Некоторая часть общих предметов переносилась на старшие курсы, но специализирующий этап был заполнен главным образом науками исторического профиля. Развивающаяся специализация открыла широкую дорогу на факультете специальным курсам, на историческом отделении они читались как по отдельным периодам русской и всеобщей истории, так и в проблемном аспекте. Расширению спектра специализирующих курсов способствовал институт приват-доцентов, введенный уставом 1884 года взамен доцентуры. Именно в качестве специальных курсов, как об этом свидетельствуют «Обозрения преподавания» в университетах, в учебном процессе историко-филологических факультетов обозначились такие дисциплины, как источниковедение, историческая география и историография. Историческое отделение было своего рода «факультетом в факультете», со своей логикой учебного процесса; в известной степени оно явилось зародышем исторического факультета, появившегося в отечественном университете как его структурное подразделение в 1930-х годах.
Параллельно с предметной системой правительство и профессура занимались отработкой структуры историко-филологического образования по линии кафедр – опорных пунктов в преподавании наук. Понятие «кафедра» в дореволюционных университетах, широко бытуя в университетском и министерском лексиконе, фактически отождествлялось с ординарной профессурой по тому или иному фундаментальному предмету факультетской подготовки. На историко-филологическом факультете, где по уставу 1863 года полагалось 12 профессоров при 11 фундаментальных областях науки[332], второй профессор на кафедре мог появиться только в качестве экстраординарного, т. е. сверхштатного; количества доцентов – семи – не хватало почти для половины профессоров, в помощь которым, если кафедра занималась обширным предметом или даже несколькими областями знаний, они предназначались. Устав 1884 г. кое-что прибавил к штатному расписанию историко-филологического факультета, определив 20 ординарных профессоров[333]. При отсутствии на кафедре ординарного профессора она считалась вакантной; в соответствии с уставами 1863 и 1884 года никто не мог стать профессором, не имея ученой степени доктора соответствующей науки[334].
Как и количество профессоров на факультете, число его кафедр жестко регламентировалось университетскими уставами. Проект устава, составленный в 1902 году, предусматривал значительное увеличение числа преподавателей высшей квалификации на основных кафедрах истории историко-филологических факультетов: по всеобщей истории – три профессора с делением предмета на три части – древнюю, среднюю и новую; по русской истории – два при разбивке предмета на древнюю и новую историю[335]. Но этим предложениям не суждено было осуществиться.
Хотя университетам по уставу 1863 года и разрешалось «объединять и разъединять» кафедры[336], это право практически не находило применения, а при попытках воспользоваться им, как правило, не получалось положительных результатов; университет не мог учредить кафедру за пределами уставного перечня. Сколько-нибудь эффективно университетская профессура могла участвовать в «кафедральном строительстве» лишь на стадии подготовки уставов.
В своем развитии система кафедр историко-филологического факультета отвечала как стремлению университетов, стоявших перед фактом дифференциации наук и специализации преподавания, учреждать новые кафедры, так и правительственной политике, исходившей в этом вопросе из финансовых, а порой и идеологических соображений. Эволюция структуры факультетских кафедр исторического профиля в XIX – начале XX века прослеживается в трех направлениях. Первое предполагало отмежевание отечественной истории от всеобщей. В 1835 году кафедра универсальной (всемирной) истории философского факультета университетов, вследствие возросшего внимания к национальному прошлому, была разделена на две: всеобщей истории и истории русской[337]; водораздел между ними четко проводили и последующие университетские уставы. Второе направление, обозначившееся в том же году, шло по пути «разгрузки» сложно-предметных кафедр, освобождения их от предметных привесков. Таким образом из состава кафедры исторических наук, политической экономии и статистики на раннем этапе существования университетов были выведены два примыкающих к истории предмета и на их основе учреждена самостоятельная кафедра политической экономии. Точно так же освобождались от привеска «древности» филологические кафедры – греческой, римской и славянской филологии, накапливая материал для особой кафедры археолого-искусствоведческого профиля. Третье направление развития прослеживается в создании новых кафедр, организационно и содержательно совершенствующих историческую подготовку студентов. Устав 1863 года к прежде существовавшим кафедрам русской и всеобщей истории добавил две новые: истории церкви и теории и истории искусств. Законодательство 1884 года подтвердило этот четырехчленный состав кафедр исторического профиля, он оказался чрезвычайно устойчивым и продержался в университетской системе до 1917 года.
Консерватизм этого состава в основном удовлетворял и правительство, и профессуру до начала нового этапа в истории университетов, падающего на конец XIX века. Но попытки учредить новые кафедры предпринимались и ранее, как правило, они исходили из неуниверситетских научных кругов. Еще на стадии обсуждения проекта устава 1863 года раздавались голоса о пополнении предметного состава историко-филологического факультета археологией[338], при этом ссылались на Московский университет, имевший до 1835 года кафедру археологии и изящных искусств. В 1869 году в пользу открытия в университетах кафедры, специализирующейся в области русской археологии, высказался I Археологический съезд[339], проект был предметом обсуждения на III (1874) и XI (1899) Археологических съездах[340]. Однако вопрос об археологической кафедре вошел в противоречие с утвердившимся в университетской практике критерием: кафедра должна иметь четко определенный и фундаментальный предмет науки. Предмет же археологии, как показали суждения о нем на съездах археологов, определялся в научных кругах, в том числе и университетских, слишком противоречиво[341]. К тому же не был найден водораздел между русской и классической археологией, а объединение в пределах одной кафедры этих предметов породило бы ее синтетичность, что в университетской практике не приветствовалось.
Очевидно, по причине синтетичного свойства предмета не ставился серьезно и вопрос об учреждении в университетах кафедры истории славянских народов. Как учебный предмет в составе кафедры славянской филологии история славян читалась уже в 1860-е годы, устав 1884 года придал этой дисциплине обязательный характер[342]; наука России к концу XIX века располагала крупными славистическими силами. При всем этом открытию особой кафедры препятствовала, на наш взгляд, страноведческая структура ее предмета, к тому же предвиделись трудности ее замещения, с которыми университеты уже встретились на примере кафедры истории славянских законодательств: невозможно было бы найти профессора с универсальным знанием прошлого всего зарубежного славянства.
Проблема расширения состава университетских кафедр стала предметом серьезного внимания в начале XX века. В мае 1902 года приступила к работе Высочайше учрежденная комиссия по преобразованию высших учебных заведений. В ее задачи по отношению к университетам входило и приведение в соответствие кафедрального состава историко-филологических факультетов с реально преподающимися там науками. В историко-филологическом подотделе университетской подкомиссии были рассмотрены и обобщены ответы профессоров на «вопросы, касающиеся устройства университетов», и сформирована расширенная структура исторических кафедр. Из состава кафедры теории и истории искусств был выведен предмет теории как не преподающийся в университетах. Историко-филологическим факультетам «в силу потребностей и местных условий» разрешалось открывать новые кафедры: этнографии и исторической географии, археологии и истории первобытной культуры, истории Востока. В Новороссийском университете предполагалась кафедра византиноведения[343].
Работа по уточнению состава кафедр историко-филологического факультета продолжалась на этапе подготовки нового университетского устава, начавшемся при министре просвещения И.И. Толстом. Проект документа, выработанный в январе 1906 года совещанием профессоров под председательством министра, прибавил к номенклатуре кафедр для всех университетов кафедры истории религии, истории славян, византиноведения, археологии, исторической географии и этнографии; кроме того, в Петербургском и Казанском университетах предполагалась кафедра истории и филологии Древнего Востока, а в Варшавском – истории Польши[344]. В 1909 году такой же перечень кафедр исторического профиля был обозначен в проекте устава, составленном бывшим министром просвещения П.М. Кауфманом[345]. После И.И. Толстого каждый министр просвещения – А.Н. Шварц, Л.А. Кассо, П.М. Кауфман – вносили в Государственную думу проекты университетского устава, последним из них был проект, подготовленный при П.Н. Игнатьеве в 1915 году[346]. Однако последний дореволюционный устав университетов, над которым велась хотя и затянувшаяся, но интенсивная работа, так и не был принят. Номенклатура исторических кафедр историко-филологического факультета осталась на уровне 1863 года, выйти за ее пределы не удалось ни одному университету.
В университетской практике XIX века сложились и основные формы учебной работы со студентами, в том числе по истории. Уже в первой половине этого столетия ведущей формой обучающего процесса была признана профессорская лекция. Это ее признание утверждалось в последующие десятилетия. Качеством читаемых лекций определялись преподавательские способности профессоров, и на лекционном поприще в первую очередь выросла академическая и общественная известность таких историков, как С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский. Авторитет лекции подкреплялся тем обстоятельством, что университеты до конца XIX века не знали вузовских учебников как по русской, так и по всеобщей истории. Только в самом конце столетия в печати стали появляться расширенные тексты лекционных курсов[347]. Их назначение далеко выходило за рамки учебных пособий, сами авторы относились к ним прежде всего как к обобщающим исследовательским трудам. В текущей же практике получило распространение литографирование студентами записанных лекций того или иного профессора.
Отсутствие учебников в XIX веке предопределило то обстоятельство, что в русских университетах читались полные лекционные курсы как по русской, так и по всеобщей истории; предмет последней делился на три части: древняя, средняя и новая. В германских университетах, где не было недостатка в учебной литературе, курс всеобщей истории, в частности, читался фрагментами, с вычленением наиболее ярких периодов. Сравнивая положение с общими курсами в университетах, Н.И. Пирогов сетовал на то, что в России привыкли «к растянутым на два года или нескончаемым систематическим курсам, исполненным всех возможных взглядов, созерцаний и т. п.»[348]. Правительство стояло на точке зрения необходимости полного систематического преподавания учебных предметов гуманитарного цикла. «Для всех факультетов, – конфиденциально писал попечитель Казанского учебного округа П.Д. Шестаков министру просвещения Д.А. Толстому 26 января 1872 года, – совершенно необходимо постановить законом, чтобы непременно читался общий курс каждой науки»[349]. Помноженная на стремление к тому же профессуры, эта политика учебного ведомства превратила чтение полных курсов русской, всеобщей и церковной истории в устойчивую традицию и особенность университетского преподавания в России. При этом лучшая часть профессуры стояла на позиции сочетания в лекции научной основательности и мастерства изложения материала, что делало ее событием в жизни слушателей. Мастера лекционного преподавания в российских университетах не принимали академическую засушенность и «гелертерское направление», отличавшие лекции профессоров-гуманитариев в германских университетах. «Я убежден, – свидетельствовал русский античник В.И. Модестов в 1863 году, – что если б я сказал свою лекцию так, как читает Ричль, Отто Ян или Гаупт, то на вторую не имел бы ни одного слушателя»[350].
Лекции по русской истории с самого начала читались в университетах России по собственным исследовательским наработкам профессоров. Концепции же курсов нередко заимствовались у крупнейших представителей этой науки: в частности, профессура провинциальных университетов во второй половине XIX века прибегала к обоснованной С.М. Соловьёвым теории борьбы в отечественной истории государственного и родового начал. Лекции по всеобщей истории в первой половине XIX века, как правило, представляли собой интерпретацию трудов западноевропейских авторов, причем об этом доводилось до сведения студентов. Чтение лекций «по собственным запискам» началось у всеобщих историков с Т.Н. Грановского в Московском университете. Общие лекционные курсы исторического содержания по преимуществу были достоянием профессоров. «Младшее» преподавательское звено – адъюнкты, доценты и приват-доценты по традиции, утвердившейся еще до 1863 года и зафиксированной в уставах, читали «отделы науки», т. е. частные курсы по хронологическому или проблемному принципу.
История университетов XIX века знает попытки покушения на лекционную форму преподавания[351]. Однако развитие учебного процесса шло по пути повышения качества лекции и дополнения ее другими формами работы со студентами. Эти формы вырабатывались в процессе приобщения последних к активному усвоению наук. Заботясь о «чистой» науке в университетах, обеспокоенное втягиванием молодежи в политику правительство начиная с 1860-х годов систематически напоминало профессорам о необходимости обращать внимание на организацию самостоятельной работы студентов по предметам университетских курсов[352]. Профессора же историко-филологических факультетов шли к этой проблеме и академическим путем, позаимствовав у германских университетов опыт постановки в учебном процессе практических занятий (упражнений) по предметам исторического и филологического циклов; в университетском лексиконе они именовались, как и в Германии, семинариями.
Право первопроходца в этой форме занятий принадлежит профессору Л. Ранке: он ввел ее в Берлинском университете в 1830-х годах[353]. В 1860-е годы исторические семинарии существовали во всех университетах Германии, в крупнейших из них – Берлинском, Бреславльском, Гейдельбергском, Тюбингенском, Боннском – они имели свои особые уставы[354].
Семинарии на историко-филологических факультетах русских университетов вначале были введены по предмету всеобщей истории; полагают, что родоначальником этого новшества явился профессор Московского университета В.И. Герье (1867), а первыми продолжателями – В.В. Бауэр (Петербургский университет) и М.Н. Петров (Харьковский университет)[355]. Но первым пропагандистом зарубежного опыта организации самостоятельных занятий студентов по всеобщей истории выступил университет св. Владимира. В 1861 году в киевских «Университетских известиях» был напечатан проект постановки практических занятий, составленный исполняющим должность экстраординарного профессора магистром В.Я. Шульгиным по образцам исторического семинария Л. Ранке (Берлин), его ученика Г. Зибеля (Мюнхен) и Высшей нормальной школы (Франция). Принципиальная структура такого занятия представлялась автору как синтетическая: в первой части профессор сам излагает методы того или иного «отдела всемирной истории» и его историографию, вторая часть предусматривает подготовку студентами докладов по тематике изучаемого периода и их обсуждение[356]. Впоследствии семинарии стали внедряться и по курсу русской истории.
Министерство народного просвещения, видя в практических занятиях верный способ первоначального приобщения студентов к науке, определило их как обязательное условие подготовки специалистов-гуманитариев и прибегало к организации изучения опыта зарубежных университетов с последующим обсуждением его в российских университетских кругах. В 1870-е годы раздел «Практические упражнения» надолго был введен в схему ежегодных отчетов университетов. В 1869 году в «Журнале министерства народного просвещения» появилась написанная по заказу Д.А. Толстого статья профессора Берлинского университета И.Г. Дройзена «О научно-практических занятиях студентов в германских университетах, преимущественно по предмету истории» и помещенная с примечанием: мысли автора, «не новые для наших университетских профессоров»[357]. Публикация германского историка длительное время была в поле зрения русской гуманитарной профессуры[358]. Летом 1870 года в командировку по университетам Германии для изучения вопроса об исторических семинариях был направлен профессор русской истории А.Г. Брикнер, в том же году он опубликовал материалы своих наблюдений, отметив особый интерес немецких историков к средневековой истории Германии[359]. В 1871 году со своим опытом проведения практических занятий по всеобщей истории выступил профессор Казанского университета Н.А. Осокин, популяризировавший диспуты студентов по заданным преподавателем темам[360].
В 1899 году в связи с усилившимися «студенческими беспорядками» министерство просвещения обратило особое внимание на проблему практических занятий. Совещание попечителей учебных округов и ректоров университетов и других высших учебных заведений отметило недостаточную развитость этой формы работы со студентами, в особенности на историко-филологических факультетах, что дает молодым людям массу свободного времени, употребляемого не по назначению. Поскольку сил профессоров для нужной организации практических занятий недоставало, было решено привлекать к этой работе приват-доцентов и «профессорских стипендиатов». 6 марта 1901 года Государственный совет «мнением положил» отпускать «на устройство практических занятий» историко-филологических и юридических факультетов 32 400 рублей в год[361].
Таким образом, при всех различиях во взгляде министерства просвещения и преподавательского корпуса на назначение практических занятий они были возведены в норму учебного процесса и его неотъемлемую часть.
Третий вид учебных занятий на историко-филологических факультетах получил развитие в связи со становлением внутрифакультетской специализации и изменениями в структуре преподавательских должностей. Устав 1863 года ввел в нее понятие штатного и нештатного преподавателя. К первой категории принадлежали ординарные и экстраординарные профессора, доценты (до 1863 года адъюнкты) и лекторы, преимущественно преподававшие новые иностранные языки; ко второй – приват-доценты, определявшиеся к преподаванию на каждый учебный год с разрешения попечителей учебных округов и получавшие содержание из специальных средств университетов. Несмотря на то что правительство в 1860–1870-х годах прилагало немало усилий к развитию института приват-доцентов[362], он не получил тогда широкого распространения. Законодательство 1884 года упростило номенклатуру преподавательских должностей: доцентура была упразднена, оба профессорских разряда сохранялись и число профессоров в университетах было увеличено, но главный упор был сделан на приват-доцентов: количество их на факультетах не ограничивалось и мерилом его мог быть кроме реальных потребностей только размер фонда специальных средств учебного заведения. Поскольку преподаватель, даже с докторской ученой степенью, мог начать работу в университете не иначе как в качестве приват-доцента, число последних быстро росло. По подсчетам Н.И. Кареева, в 1881–1884 годах количество их в Петербургском университете увеличилось с 14 до 82, в Московском – с 11 до 120, в Харьковском – с 5 до 50[363]. В 1892 году на исторических кафедрах Московского университета приват-доцентами работали магистранты С.Ф. Фортунатов, П.В. Безобразов, М.С. Корелин, В. Михайловский, Р.Ю. Виппер (всеобщая история), магистры В.Е. Якушкин и И.А. Линниченко, магистрант П.Н. Милюков (русская история), магистранты Аппельрот и Миронов (теория и история искусств)[364]. В Петербургском университете по данным на 1 января 1892 года из 63 приват-доцентов 21 преподавал на историко-филологическом факультете[365], среди них были историки А.С. Лаппо-Данилевский, С.Ф. Платонов, Г.В. Форстен.
Рост корпуса приват-доцентов, сопряженный с объективными потребностями развивающейся специализации студентов, способствовал постановке в учебном процессе все большего числа специальных курсов. Сама категория «приват-доцент», заимствованная из германского лексикона и обихода, была связана с занятиями «приватного порядка», т. е. по каким-либо разделам общего лекционного курса. Поскольку в университетах России чтение общих курсов, как правило, являлось достоянием профессоров, перед приват-доцентами открывался простор в постановке специальных курсов; тематика их по уставу 1884 года утверждалась на уровне университета. Прибегали к специальным курсам и профессора. Часть этих дисциплин включалась в разряд обязательных для студентов, другие, и их было большинство, объявлялись «для желающих».
Самая общая классификация специальных курсов по всеобщей истории, читавшихся студентам исторических отделений, позволяет выделить два их типа: проблемный и регионально-страноведческий. Так, в Московском университете в 1898–1900 годах по первому принципу ставились лекции И.И. Иванова «Культурная жизнь Франции в XIX веке», Р.Ю. Виппера «Общественные учения и исторические теории XVIII–XIX веков на Западе», В.А. Шеффера «Римские древности» и И.И. Семёнова «Греческие бытовые древности»; второй тип был представлен курсами М.С. Корелина «История Востока», Р.Ю. Виппера «История Западной Европы в XIV–XV веках» и «История Римской империи», С.Ф. Фортунатова «История Соединенных Штатов». В тематике специальных курсов по русской истории преобладал проблемный подход: «Экономический быт Древней Руси в X–XII столетиях» и «Общество и управление в Великом Новгороде XII–XV веков» (Н.А. Рожков), «История русского дворянства в XVIII и XIX веках» и «Реформы Петра Великого в русской историографии» (М.М. Богословский), «Обзор внутреннего состояния России в первой половине XIX века» (А.А. Кизеветтер), «Царствование императора Александра I» (М.В. Довнар-Запольский), «История Литовско-русского государства до Люблинской унии» (М.К. Любавский), «История малорусского казачества» (Д.И. Эварницкий), «Рационалистические и мистические секты в России» (А.П. Доброклонский)[366]. В Петербургском университете в 1900–1901 годах для студентов исторического отделения были прочитаны курсы: «История крестовых походов» (В.Э. Регель), «История Абиссинии» и «Египтология» (Б.А. Тураев), «Феодальная Европа» и «История Англии в Средние века» (В.В. Новодворский), «История иконоборства» (Б.М. Мелиоранский)[367].
«Обозрения преподавания» в университетах свидетельствуют о том, что общие курсы истории славян на историко-филологических факультетах уже в конце XIX века стали сопровождаться специальными (по славянской проблематике). В 1900–1901 годах в Петербургском университете читалась «История Польши в Средние века» (В.В. Новодворский) и «История Македонии» (А.А. Придик)[368]. В Московском университете известен курс по истории западных славян М.К. Любавского, в университете св. Владимира в 1898–1900 годах студентам предлагались лекции по истории славянского Возрождения (А.И. Степович), истории польского народа и курс «Введение в славяноведение» (Т.Д. Флоринский). Тогда же И.И. Смирнов читал курс истории южных славян в Казанском университете, в Варшавском университете студенты слушали лекции К.Я. Грота о древностях южных славян[369].
В конце XIX – начале XX века в тематике специальных курсов нечеткого содержания находят отражение некоторые новые явления отечественной исторической науки, в том числе интерес к теоретическим проблемам – историографии и методологии. Специальные курсы формируют общую и «прикладную» историографию, первую – как предмет, вторую – как обязательную принадлежность университетского исторического преподавания. В конце XIX века В.О. Ключевский читал в Московском университете «Обзор русской историографии», сопровождая его семинарием, Д.И. Багалей в Харьковском – курс «Русская историография», В.С. Иконников в университете св. Владимира – «Очерк обработки русской истории в XVIII–XIX столетиях», Н.Н. Фирсов в Казанском – «Русскую историографию от Татищева до новейшего времени», Д.В. Цветаев в Варшавском – «Курс русской историографии и методологии». А.С. Лаппо-Данилевский в Петербургском университете начал преподавание методологических проблем истории и источниковедения[370]. В Юрьевском университете О.Л. Вальтц курсом «Об историках нового времени» ушел в область историографии всеобщей истории; западноевропейской историографии были посвящены и лекции В.К. Пискорского в университете св. Владимира[371].
Как специальные курсы рождались в университетах и другие новые предметы преподавания: источниковедение (В.О. Ключевский в Московском университете, В.Б. Антонович и В.С. Иконников в университете св. Владимира, А.Н. Ясинский в Юрьевском), историческая география (М.К. Любавский в Москве, Е.Е. Замысловский и С.М. Середонин в Петербурге), византиноведение, история Востока.
Вопрос о системе специальных курсов, особенностях их тематики в каждом отдельном университете требует самостоятельного исследования. Однако уже поверхностное наблюдение за практикой их постановки позволяет сделать вывод, что они лишь в редких случаях имели жесткую связь с темами магистерских и докторских диссертаций преподавателей, но столь же редко выходили за пределы отрасли науки, в которой специализировался сам лектор.
Часть специальных курсов на исторических отделениях углубляла преподавание общих. Другая их часть особенностью тематики обусловила появление в учебном процессе совершенно новых предметов. Позже, на этапе полного отделения исторического образования от филологического, эти предметы приобрели статусы общих специальных и вспомогательных дисциплин фундаментальной исторической подготовки.
Развитие российских университетов в XIX веке было сопряжено и с поисками теоретических и организационных основ подготовки преподавателей для собственных учебных нужд. Практика приглашения их из-за рубежа уже в первой половине столетия изжила себя как не соответствующая национальным интересам страны. Устав 1804 года провозгласил одной из привилегий университетов право присвоения ими ученых степеней. На этой основе уже в первой половине XIX века началась работа университетов и правительства по определению стабильной системы ученых степеней и порядка их присуждения.
Итогом этой деятельности было конституирование для большинства университетских наук трех ученых степеней: кандидата, магистра и доктора; из этой «лестницы» выпадали лишь медицинские науки, где отсутствовала ступень магистра. Первая, кандидатская степень была в то же время и выпускной по университету для наиболее способных и стремящихся к «ученому поприщу» студентов, в этом плане она указывала на преемственность между университетской и послеуниверситетской научной подготовкой молодых людей[372]. Применительно к исторической науке трехчленная система ученых степеней получила привязку к основным отраслям этой науки во время университетской реформы 1860-х годов: кандидат истории, магистр русской истории, всеобщей истории или теории и истории искусств; для факультета восточных языков – магистр истории Востока. Докторская степень присуждалась по тем же специализациям[373].
В отличие от западноевропейской в российской системе было на одну ученую степень больше[374]. В процессе обсуждения вопроса о градации русских ученых степеней нередко сама профессура заявляла об их излишней громоздкости, аргументируя свои позиции тем, что трехчленная «лестница» слишком усложняет и затягивает производство докторов наук[375]. Реформа 1884 года, введя государственную аттестацию выпускников экзаменационными комиссиями, упразднила деление первых на кандидатов и действительных студентов. На все оставшееся дореволюционное время были учреждены две новые квалификационные аттестации: дипломы первой и второй степени; при этом путь к ученой степени магистра открывал лишь диплом первой степени. Университетам оставили право выдавать окончившим курс лишь выпускные свидетельства. В конечном выражении «Таблица ученых степеней» для наук исторических, филологических, юридических, естественных и точных стала двучленной: магистр и доктор наук. При обсуждении проектов нового университетского устава в начале XX века высказывались мнения и в пользу восстановления кандидатской ученой степени, и в пользу упразднения магистерской[376], но незавершенность работы оставила систему ученых степеней в прежнем виде.
Другим направлением работы по линии воспроизводства преподавательских кадров стало определение общих правил присвоения ученых степеней. До 1819 года таких правил не существовало, и каждый университет возводил в ученые степени на основе своих внутренних установлений. В 1816 году, в связи с возникшим в Дерптском университете «делом» о неправильном производстве нескольких лиц в степень доктора права, Александр I распорядился «определить точнейшим образом правила производства в ученые степени и приостановить само возведение в них до издания особенного по этому предмету «Положения»[377]. В 1819 году этот документ был принят по проекту комиссии, возглавлявшейся попечителем Петербургского учебного округа С.С. Уваровым[378]. Основным в Положении было разделение наук, по кругу которых разрешалось приобретать ученые степени, на «роды» по числу факультетов в университетах: философские, юридические и медицинские. Исторические науки были отнесены к составу философских. Тогда же был установлен и сам порядок приобретения ученых степеней: обязательное представление диссертаций и испытания, устные и письменные, для ищущих ученую степень магистра и доктора, причем соискатели экзаменовались по всем предметам словесного отделения философского факультета[379].
Новое Положение, составленное при министре С.С. Уварове, было утверждено 28 апреля 1837 года «в виде опыта на три года». Оно предусматривало деление единых магистерской и докторской степеней по философским наукам на пять разрядов, в том числе был введен разряд исторических наук. Другим нововведением стала специализация магистерского и докторского экзаменов, с подразделением предметов на главные и второстепенные. Для экзаменующихся на магистра истории к первым отнесли всеобщую и российскую историю, ко вторым – политическую экономию и статистику[380]. Положение 1837 года отличалось от прежнего и тем, что значительно возросла строгость экзаменов, особенно на степень магистра. Наряду с устными испытаниями соискатель этой степени письменно отвечал на два вопроса, ищущий степень доктора – на три.
В 1840 году по ходатайству С.С. Уварова действие временного «Положения» было продлено, а в 1844 году оно было заменено постоянным, выработанным комитетом из академиков и профессоров под руководством товарища министра просвещения П.А. Ширинского-Шихматова. Составители проекта исходили из того, что прежние правила слишком затрудняли приобретение ученых степеней: за десять лет, с 1832 по 1842 год, в шести университетах России степени доктора было удостоено, не считая медицинские факультеты, только 28 человек, магистра – 55; для заполнения же профессорских и адъюнктских вакансий требовалось не менее 12 докторов и магистров в год. «Положение» 1844 года пошло по пути дальнейшего облегчения процедуры приобретения ученых степеней магистра и доктора. Число разрядов магистров по словесному отделению наук было увеличено с пяти до девяти, единый разряд истории делился на два самостоятельных: всеобщей истории и русской истории; докторская степень сохранялась как универсальная – исторических наук, политической экономии и статистики. Количество письменных экзаменов для соискателей той и другой степени было сокращено до одного[381].
В 1852 году началась долговременная работа по дальнейшему упрощению процедуры приобретения ученых степеней. Главным объектом наступления стали испытания на степень доктора наук. Обсуждалась и возможность дальнейшего увеличения количества разрядов магистра для исторических наук: в проектах Ученого комитета министерства просвещения и Петербургского университета, в частности, значился дополнительный разряд магистра археологии[382]. Вслед за новым университетским уставом в апреле 1864 года министерство просвещения утвердило усовершенствованное Положение об испытаниях на звание действительного студента и на ученые степени. Количество магистерских разрядов по истории было доведено до четырех, к прежним – всеобщей истории, русской истории и истории Востока – прибавился разряд теории и истории искусств, приспособленный к новой университетской кафедре. Такую же градацию получил и прежде универсальный докторский разряд, попутно освобожденный от привесков политической экономии и статистики. Положение 1864 года отменило экзамены для соискателей докторской степени. Испытания на степень магистра были установлены только в устной форме с традиционным делением предметов на главные и «вторые». Количество их было сведено до рационального минимума. До 1864 года магистерский экзамен для историка состоял порой из 6–8 этапов. Так, магистрант всеобщей истории А.Г. Брикнер в 1862 году экзаменовался устно в Петербургском университете по семи позициям: всеобщей истории (три вопроса), русской истории (три), статистике (два), политической экономии (два), международному праву (четыре), древней географии (один) и новой географии (два); кроме того, он письменно отвечал на вопрос о роли Кромвеля в английской революции[383]. Положение 1864 года ввело новую «Таблицу испытаний на степень магистра», которая определила круг предметов для магистерских экзаменов по историческим наукам в более разумном для специальной подготовки выражении: на степень магистра всеобщей истории главный предмет – всеобщая история, вторые предметы – русская история и политическая экономия; на степень магистра русской истории – русская история (главный), всеобщая история и политическая экономия (вторые); на степень магистра теории и истории искусств главные предметы – теория искусств, история греческого и римского искусства, второй – греческие и римские древности. По разряду истории Востока на факультете восточных языков основными предметами экзамена устанавливались история семитических народов, история Северо-Восточной Азии, история арийских народов; к вспомогательным отнесли всеобщую историю[384].
Предметные блоки магистерских экзаменов исторической специализации по Положению 1864 года имели недостатки. Политическая экономия, признанная важной для историка, уставом 1863 года как кафедра была отнесена к юридическому факультету и как предмет не была обязательной для историка; не случайно в 1880-е годы начинается кампания за возвращение этого предмета на историко-филологический факультет. Ищущие степень магистра теории и истории искусств получили возможность не экзаменоваться даже по античной истории, не говоря уже о всеобщей, а в блоке экзаменов на степень магистра истории Востока по столь же непонятным причинам место русской истории заняла всеобщая. При всем этом ученые разряды исторического профиля с определенным в 1864 году набором магистерских экзаменов прочно закрепились в университетском обиходе, хотя уже в 1870-е годы пришлось решать вопрос о конституировании еще одного магистерского разряда – церковной истории.
Во второй половине XIX века российские университеты и министерство просвещения, опираясь на «лестницу» ученых степеней и правила их приобретения, выработали уникальную, не встречающуюся ни в одной другой университетской стране систему воспроизводства профессорских кадров. Истоки ее уходят в деятельность Профессорского института при Дерптском университете (1827–1838) и зарождавшуюся при Александре I традицию заграничных научных командировок молодых ученых. Оформление системы началось при министре просвещения А.В. Головнине в связи с необходимостью экстренно решать проблему замещения кафедр: по данным, собранным министерством, в апреле 1863 года в университетах насчитывалось 22 кафедры без преподавателей, а 10 – были условно замещены адъюнктами и преподавателями без ученой степени магистра[385]. В официальном лексиконе того времени эта система получила наименование института оставляемых при университетах «для приготовления к профессорскому званию», в разговорном варианте – институт «профессорских стипендиатов». Появление в 1890-х годах большого отряда приват-доцентов привело к быстрому росту контингента оставленных при университетах: на эту должность определялись лица, по крайней мере выдержавшие магистерский экзамен. По отношению к подготовке профессоров истории уже в 1860-е годы фигурируют две категории стипендиатов: оставленных для подготовки в русской истории с последующим – при необходимости – командированием за границу и избравших всеобщую историю – с обязательной заграничной командировкой на срок от одного до двух лет. В целом «ученые поездки» за границу к началу XX века стали нормой подготовки историков с учеными степенями. Что касается института оставленных для подготовки к профессорскому званию, то через него прошла вся историческая профессура, работавшая в университетах в конце XIX – начале XX века[386].
Дореволюционные российские университеты, основываясь на собственных традициях и используя полезное из западноевропейской высшей школы, к началу XX века создали довольно стройную и в целом соответствующую потребностям высшего и среднего образования страны систему подготовки специалистов-историков, как, впрочем, и представителей родственной им филологической науки. Компоненты этой системы – от приема студентов на первый курс до обеспечения учебного процесса преподавательскими кадрами – формировались и развивались, порой при инициативном участии правительства, под воздействием как потребностей государства в образованных деятелях, так и внутренних законов и преемственности университетской жизни и функциональной деятельности университетов.
А.В. Антощенко, А.В. Свешников Исторический семинарий как место знания
Историческое сознание в России второй половины XIX – начала ХХ века изменялось под влиянием двух взаимосвязанных процессов – институционализации и профессионализации истории. Выражением первого стали формирование разветвленной системы исторических учреждений (начиная с научных и образовательных и заканчивая просветительскими); возникновение специализированных исторических журналов, превращение исторических обществ из собраний любителей в сообщества профессионалов и их многократное увеличение и распространение по территории всей империи, создание многочисленных исторических музеев, экспозиции которых представляли уже не просто собрание древностей, а упорядоченные презентации определенного восприятия прошлого. А с конца XIX века эти процессы приобрели лавинообразный характер, что во многом определялось складыванием профессии «историк». Последнее явление стало результатом изменений в системе высшего исторического образования, немаловажную роль в трансформации которого сыграло введение семинарской формы обучения студентов. Именно этот процесс рассматривается в данной статье, основанной на изучении как официальных документов, так и материалов личного происхождения, в которых зафиксировалось восприятие семинаров их непосредственными участниками. Основное внимание здесь было уделено внедрению новой формы занятий и последствиям этого нововведения в Петербургском, Московском и Казанском университетах.
* * *
Первые упоминания о семинарских занятиях по истории относятся к концу 1850-х годов и связаны с именем профессора Петербургского университета Михаила Семёновича Куторги, проводившего домашние занятия со студентами «на манер немецких семинаров»[387]. Однако в исследовательской литературе прочно утвердилось мнение, что пионером распространения новшества в российских университетах был Владимир Иванович Герье, начавший проводить семинарские занятия со студентами-историками в Московском университете после возвращения из-за границы в 1865 году[388]. Как бы то ни было, оба мнения указывают на немецкий исток явления, что требует рассмотрения условий, обеспечивших его восприятие и развитие в России. Главным среди них являлось принятие Устава 1863 года, который если не своей буквой, то своим духом открывал возможности для широкого применения новой формы занятий.
Публичное обсуждение проблем университетского образования в прессе в конце 1850-х годов[389] способствовало утверждению представления, что его целью должна была стать подготовка выпускников университетов к самостоятельной научной и педагогической деятельности. Причем именно научная деятельность сначала выдвигалась на первый план, что закреплялось в виде официального мнения, высказанного министром народного просвещения во всеподданнейшем докладе в 1865 году[390]. И хотя впоследствии задача подготовки к педагогической деятельности в средней школе (прежде всего в гимназиях) вновь стала подчеркиваться (особенно в связи с усилением влияния «классицизма», под знаком возрождения которого прошло принятие Устава 1884 года), проблема самопополнения профессорской корпорации за счет выпускников университетов оставалась весьма существенной. Ее значение определялось главной тенденцией к онаучиванию истории – специализацией, в соответствии с которой по Уставу 1863 года значительно возросло число кафедр, многие из которых (в том числе и на историко-филологических факультетах) долгое время оставались вакантными[391]. Подготовка кандидатов для их замещения становилась одной из важных задач российских университетов, в которых утверждалась «гумбольдтовская модель» образования, предполагавшая сочетание исследовательской и педагогической деятельности преподавателей.
В ходе дискуссий конца 1850-х – начала 1860-х годов проявилось недовольство сложившейся системой обучения в университетах. Лекционная форма с пассивным усвоением знаний студентами рассматривалась многими профессорами как неудовлетворительная именно с точки зрения потребностей научной подготовки. Специализация, связанная с усложнением системы наук и появлением новых предметов научного познания, предполагала не столько классификацию уже накопленных сведений («энциклопедизм»), сколько выработку нового знания. Это выдвигало на первый план вопросы методов и методик исследовательской работы, которой, по мнению наиболее прогрессивно мыслящих профессоров[392], и следовало учить в университете. Показательно, что даже те, кто выступал с консервативных позиций превращения университетов в привилегированные аристократические заведения для подготовки чиновничества (наподобие английских университетов – Оксфорда и Кембриджа прежде всего), все же нередко понимали важность организации самостоятельной учебной работы студентов с элементами исследования[393].
Наконец, немаловажным условием внедрения исторических семинариев в российских университетах была ориентация на европейский опыт организации высшего образования, для которой стало характерным возрождение заграничных стажировок молодых российских преподавателей (с начала 1860-х годов). Их массовый выезд за рубеж и знакомство с практикой обучения в европейских университетах (особенно в немецких) способствовали восприятию новых форм учебного процесса и семинариев среди них[394]. Совокупность названных условий определила тот факт, что после не имевших долгосрочных последствий попыток его предшественников усилия В.И. Герье по введению семинарских занятий по истории увенчались успехом. Обычно в литературе о В.И. Герье отмечают, основываясь на его воспоминаниях, что определяющим для организации занятий был опыт его участия в семинарии Рудольфа Кёпке[395]. Однако из отчета видно, что он знал и о принципах организации самостоятельной работы студентов именитым Леопольдом фон Ранке.
Ранке на своем публичном курсе (1 час в неделю) заставляет студентов читать и объяснять при этом Адама Бременского, немецкого летописца XI века. Слушатели обязаны так же представить в течение полугодия по одному сочинению (обыкновенно критическая разработка какой-нибудь летописи), которое разбирается публично. Постоянных слушателей на упражнениях Ранке – 6[396].
Аналогичным образом стал проводиться семинарий В.И. Герье в Московском университете. Причем вначале ему пришлось столкнуться с необходимостью именно заставлять студентов работать самостоятельно, о чем сохранились свидетельства в его мемуарах. Когда в ответ на просьбу перевести и дать толкование отрывку студент Лебедев заявил: «А я не желаю», опешивший на мгновение молодой профессор нашелся и настоял на своем: «А вы пожелайте»[397]. Учитывая опыт немецких коллег, В.И. Герье в конце 1860-х годов опубликовал сборник документов «Leges barbаrorum»[398], ставший первым учебным пособием для проведения семинариев.
Расширению практики семинарских занятий способствовало рекомендованное в 1872 году министерством народного просвещения всем университетам (по примеру Московского) разделение историко-филологических факультетов на три отделения: классическое, славяно-русское и историческое. Утверждение министерством разделения четвертого курса на специальные отделения позволило в Московском университете увеличить число исторического и русского семинариев[399]. Удачнее новая форма занятий реализовывалась теми, кто занимался исследовательской деятельностью или прошел стажировку за границей. Практические занятия с источниками известного своей титанической деятельностью по созданию «Истории России» Сергея Михайловича Соловьёва, судя по описанию их организации, были направлены на формирование у студентов навыков исследовательской работы. У него, как и у его коллеги и родственника Нила Александровича Попова, развитию этой формы обучения в направлении научной подготовки способствовало то, что темы семинариев были сопряжены с их исследовательскими интересами. Семинарии были нацелены на подготовку конкурсных и кандидатских сочинений и посещались «добровольными участниками»[400]. Так же начинал ученик С.М. Соловьёва Василий Осипович Ключевский. Первоначально он использовал семинарии для углубленного изучения предмета по источникам («Русской правде», «Псковской судной грамоте», «Судебнику 1550 года» и др.)[401]. Вместе с учеником В.И. Герье Павлом Гавриловичем Виноградовым, также с начала 1880-х годов разрабатывавшим собственную методику проведения семинариев, они организовали параллельное изучение студентами «Русской правды» и «Lex Salica»[402]. Впоследствии, правда, В.О. Ключевский пошел по пути формирования системы семинариев, которые дополняли в виде спецкурсов его основной курс «Русской истории»: по источниковедению, историографии, методологии русской истории[403]. П.Г. Виноградов, напротив, вводил в программы семинаров наряду с устоявшейся учебной проблематикой новейшие источники (например, изучение вновь найденной «Политии» Аристотеля)[404].
Такое различие в подходе к семинариям двух лидеров исторической школы Московского университета в конце XIX – начале XX века[405] в немалой степени объяснялось, как представляется, их личным опытом. В.О. Ключевский учился у С.М. Соловьёва, когда еще не было семинарских занятий, а потом не имел возможности побывать в научной командировке за границей. П.Г. Виноградов прошел школу семинариев у В.И. Герье, а затем обогатил свой опыт в Германии (прежде всего он отмечал значение для себя семинариев Теодора Моммзена)[406]. Он не только практически участвовал в них, но и обобщил свой опыт теоретически, выделив возможные способы проведения семинариев и определив принципы их организации. Это позволило ему не только развить систему семинариев на историко-филологическом факультете Московского университета, но и предложить ее внедрение в Оксфорде[407]. Система семинариев, считал он, может быть организована по-разному в зависимости от существа предмета и индивидуальных особенностей учащихся и преподавателей. Руководство семинарием могло быть приспособлено к потребностям как очень развитых студентов, так и начинающих, а выполнение работ охватывать широкий круг задач: от формирования навыков критического разбора источников при общем их прочтении до самостоятельного и законченного исторического исследования какой-либо оригинальной проблемы. П.Г. Виноградов отчетливо понимал необходимость реализации первой стадии для достижения второй, ибо
просить начинающего студента прочесть «Capitularies» Каролингов, не показав ему, что он может извлечь из них и каким способом, было бы тем же самым, что дать ему китайскую книгу без грамматики и словаря, чтобы помочь ему[408].
Предлагая широкое внедрение в английских университетах семинарской системы по различным гуманитарным предметам, а не только истории, П.Г. Виноградов, исходя из своего московского опыта, заключал, что она позволит подтянуть основную массу студентов к наиболее даровитым, приблизить элементарную академическую подготовку к более высокому уровню, даст возможность профессору реально узнать способности своих студентов и сделает руководство ими более эффективным, обеспечит их содержательную подготовку к экзаменам, побуждая к самостоятельной работе, будет способствовать формированию исследовательских школ. Он не считал, что семинарская система должна заменить лекции и экзамены. Но семинары должны были сблизить обучение с действительными потребностями жизни и повысить уровень подготовки выпускников университетов.
Аналогичным образом вводились семинарии в Петербургском университете. Первопроходцами в деле постановки семинарской системы занятий и «введения» их в официальное расписание здесь стали историк Василий Григорьевич Васильевский и филолог Игнатий Викентьевич Ягич. Рассматривая семинарии как форму подготовки студентов к исследовательской работе, В.Г. Васильевский, регулярно проводивший семинарские занятия с начала 1880-х годов, использовал «комбинированную» форму семинария, сочетая «чтение и интерпретацию какого-нибудь памятника по византийской и западной истории» с обсуждением студенческих рефератов[409]. Следом за ними такую форму занятий стали применять и другие преподаватели[410]. Тематика семинаров варьировалась в зависимости от читаемых преподавателем курсов и его научных интересов. Так, «классик» Ф.Ф. Соколов на протяжении многих лет вел «на дому» семинарий по греческой эпиграфике[411], а А.С. Лаппо-Данилевский сосредоточил усилия своих студентов на разработке дипломатики, что рассматривалось ими как посвящение в тайны специальных источниковедческих исследований, доступных узкому кругу избранных[412]. Иначе шел процесс в Казанском университете, хотя и здесь в конечном итоге подтверждалась прежде всего исследовательская направленность семинариев. Учитывая «провинциальную» специфику университета, Николай Алексеевич Фирсов и Николай Алексеевич Осокин ввели и долгие годы руководили «учительскими семинариями» по русской и всеобщей истории и географии. На них проводился разбор научной и педагогической литературы и учебников, «чтение студентами пробных уроков по предметам будущих их профессий» для подготовки выпускников к преподаванию в гимназиях, что освобождало лучших из них от «особого испытания на звание учителя»[413]. Подобные «научные семинарии» в Казани первым начал проводить Дмитрий Александрович Корсаков, сочетая их со специальными курсами, читаемыми по важнейшим проблемам российской истории XVI–XVIII веков (возвышение Москвы и собирание ею русских земель до Ивана III, правление Ивана IV, Смутное время, петровские преобразования, законодательство Екатерины II, «главнейшие события» правления Александра I) и по русской историографии[414]. Уже вслед за ним «научные» семинарские занятия стали практиковать с конца 1880-х – начала 1890-х годов Н.А. Осокин и Н.А. Фирсов, эстафету от последнего подхватил его сын – Николай Николаевич Фирсов[415].
Формально семинарии как вид учебной деятельности были закреплены университетским Уставом 1884 года[416]. При этом следует особо отметить, что в соответствии с Уставом определялось общее количество зачетов по семинариям, которые должен был набрать студент, но за ним оставлялось право выбора конкретного семинария в зависимости от интересов и специализации. В расписаниях занятий на историко-филологических факультетах «столичных» университетов это отражалось в разделении их на «обязательные» и «по желанию», а в Казанском университете дополнительные («не для всех и каждого») семинарии с углубленным изучением специальных вопросов вообще не включались в расписание.
Тенденция к дифференциации уровня подготовки в ходе семинарских занятий, их вариативности и закрепления права студента самостоятельно определять свою учебную программу усилилась при переходе к предметной системе обучения в российских университетах начиная с 1906 года. Согласно существовавшим нормативным документам, регулировавшим учебный процесс, «практические занятия на факультетах сосредотачиваются главным образом в просеминариях и семинариях»[417].
Формальный статус двух видов практических занятий был различен.
Просеминарии имеют целью ввести студента в научное изучение какого-либо предмета, ознакомить его с материалом по первоисточникам и с методами его разработки.
Участие в них определяется следующими правилами:
а) Прием в просеминарий не обусловлен какими-либо требованиями <…>
б) В течении каждого года студент не может принимать участие более чем в двух просеминариях.
в) К занятиям в каждом из просеминариев допускается не более 30 студентов.
г) Для приобретения зачета просеминария студент обязан принимать участие в нем в течении двух полугодий при двух часах в неделю, или в течении одного полугодия при 4 часах.
д) Во время пребывания на факультете студент для получения высшего свидетельства обязан получить зачет определенного количества просеминариев, а именно <…> на историческом отделении – четырех[418].
В отличие от просеминария,
семинарии имеют целью ввести студента в самостоятельную научную работу.
При этом:
а) условия допущения к участию в семинарских занятиях, а также максимальное количество участников определяется руководителем семинария;
б) занятия в семинариях не обязательны, к зачету не принимаются и никаких прав и преимуществ участвующим в них не дают[419].
Исторические семинарии включались в уже существующую систему научной подготовки выпускников, каждый элемент которой имел свое предназначение. Такими элементами являлись лекции, конкурсные, курсовые и итоговые сочинения и экзамены. Характеристика особенностей каждого из них позволит лучше понять значение семинарских занятий и их роль в целостной системе обучения. Лекции были призваны знакомить студентов с современным состоянием научного знания по тому или иному предмету. Они должны были вводить в изучение проблем, стоящих перед исторической наукой, давая вместе с тем образец их постановки и аргументированного и фактически обоснованного разрешения, доказательного формулирования обобщающих положений и выводов. Именно так представлены характерные черты лекторского мастерства, которое могло быть украшено личностными особенностями таланта того или иного профессора, практически во всех воспоминаниях, дающих положительные оценки услышанному в университетских аудиториях[420]. Таким образом читаемые лекции пробуждали исследовательский интерес в неофитах науки. И даже в тех случаях, когда сохранившиеся отзывы о лекциях носят резко отрицательный характер, за ними стоит образ идеального лектора, который должен своими знаниями соответствовать современному уровню науки и порождать заинтересованность в ее развитии[421].
За свойственной для лекции монологовой формой скрывался авторитаризм преподавания. Он отчетливо проявлялся на экзамене, который представлял собой уже монолог студента, призванного показать, насколько он усвоил знания, а в лучшем случае – еще и умение излагать их аргументировано и доказательно, хотя последнее не требовалось программами государственных экзаменов, активно вводимыми министерством после принятия Устава 1884 года. К тому же профессора, отстаивая принцип свободы преподавания, нередко предлагали учащимся готовиться к экзаменам не по программам, а по их лекциям[422], с чем с готовностью соглашались студенты, хорошо усвоившие технологию подготовки литографированных изданий лекций. Профессор в данном случае выступал как представитель авторитетного мнения, которое не может быть подвергнуто сомнению. Авторитарность построенного так обучения очень ярко продемонстрировал, не желая этого, Александр Александрович Кизеветтер, напомнивший читателям своих воспоминаний анекдот о безвыходном положении студентов:
За столом сидят три экзаменатора: протоиерей Сергиевский, философ Троицкий и Герье. Сергиевский говорит студентам: «верь, не то будет единица», Троицкий говорит – «не верь, не то будет единица», а Герье говорит: «Верь – не верь, а единица все равно будет»[423].
Причем авторитарность (неразрывно связанная с субъективностью оценки) на экзамене могла проявляться не только в готовности ставить всем поголовно единицы[424], но и в пренебрежительно-снисходительном или добродушном одаривании всех пятерками[425].
Первым шагом в направлении к диалогичности и утверждению самостоятельности в постановке и решении образовательных и исследовательских задач являлись письменные работы, и особенно – конкурсные (так называемые «медальные») сочинения. Успешное выполнение последних формально открывало путь в науку, поскольку получившее золотую медаль конкурсное сочинение засчитывалось как кандидатское, что при высоких экзаменационных отметках в условиях действия Устава 1863 года приносило звание кандидата, а позже (с введением Устава 1884 года) – диплом I степени, которые позволяли продолжить академическую карьеру. Не случайно большинство известных историков начали свой путь в науке с «золотой медали» за конкурсное сочинение. Публикация условий конкурса давала образец постановки проблемы и определения круга задач, которые решались студентом самостоятельно при консультативной помощи со стороны руководителя. Рецензия, на основании которой принималось решение о присуждении медали (как правило, публикуемая в ежегодных университетских «Отчетах»), позволяла уяснить сильные стороны проделанной работы и ее недостатки. Публикация же доработанных текстов сочинений, получивших золотую медаль, представляла собой признание результатов исследования научным сообществом[426].
Введение семинариев окончательно утвердило диалоговый характер образовательного процесса на историко-филологических факультетах, соединило его основные элементы в целостную систему и создало условия для интенсификации исследовательских коммуникаций между преподавателем и студентом. Если конкурсные сочинения давали возможность лишь весьма незначительному числу студентов проявить свои исследовательские способности, то параллельное внедрению семинарских занятий введение обсуждаемых на семинариях годовых и полугодовых письменных работ делали этот процесс массовым, систематическим и интенсивным. Каждый студент мог и должен был выполнить несколько работ за годы учебы. Многие выполняли по нескольку работ в течение семестра. Для некоторых выбор темы семинарского «реферата» определял направление дальнейшей исследовательской деятельности по окончании университета.
Исторический семинарий представлял собой своеобразную модель, воспроизводящую в сжатом виде процесс исследовательских коммуникаций, содержание которых сводилось не только к самой «выработке» научного знания, но и к утверждению его значимости. Этот «сжатый» процесс включал определение проблематики исследования, его проведение и защиту полученных результатов, т. е. является, по сути, процессом превращения личного знания в общепризнанное. Прообразом семинара можно считать процедуру подготовки и защиты диссертаций, в результате чего признавалась определенная квалификация в виде присуждения ученой степени. Эта модель служила образовательным целям: выработке не только знаний, но и умений и навыков их производства и обоснования. Главное преимущество семинара как модели заключалось в систематизации и максимальной интенсификации научных коммуникаций, в ходе которых происходило овладение умениями и навыками (устранение ошибок и закрепление «правильных» навыков в результате многократного повторения исследовательских процедур) создания научного знания.
Будучи видом учебных занятий, семинарий объединял формально организованную группу, в которой устанавливались вертикальные (учитель – ученик) и горизонтальные (между учащимися) связи. Наряду с формальными в группе складывались и неформальные отношения. Специфика деятельности – обучение – предполагала неравенство как между руководителем семинария и студентами, так и (в силу различного уровня подготовленности и личных способностей) между учащимися, т. е. иерархию, выражающую власть. Но это была символическая власть науки (научного авторитета). Формальный характер коммуникаций был направлен на укрепление авторитета и иерархии, неформальный – на устранение, т. е. на превращение их в сотрудничество между коллегами. Наиболее отчетливо это проявлялось в «одомашнивании» занятий, когда консультации и даже сами занятия проводились на дому у профессора. Включение в число участвующих в домашних семинариях являлось своеобразной символической инициацией, признанием младшего коллеги без формального подтверждения этого квалификационным испытанием.
Но даже в рамках формальных коммуникаций в семинаре иерархия хотя и поддерживалась, но приобретала иную конфигурацию в процессе обучения. Причем здесь ведущую роль играла оценка. По сравнению с экзаменами ее содержание и характер менялись. Она отражала не просто знания, а новые знания и также умения и навыки их добывать[427]. Оценка становилась не итоговым приговором, а моментом обучения. Сам процесс оценки, как бы он ни был организован – в виде разбора сочинения руководителем или его обсуждения с участием студентов, приобретал образовательный характер. Оценка, будь то поощрение или осуждение, формировала у учащихся понимание дозволенного/недозволенного, принятого/непринятого в научной деятельности, т. е. долженствования следовать определенным нормам. Норма задавалась учителем, но затем воспринималась и воспроизводилась в коммуникативной деятельности учеников, готовых и способных уже вне семинарской аудитории обсуждать проблему[428]. Здесь важной становилась такая особенность научного знания, как объективность, которая в рамках сциентистского восприятия истории была неразрывно связана с беспристрастностью. Авторитарность преподавания в ходе семинарских занятий преодолевалась именно тем, что критерием оценки результатов работы студента становилась «научность», т. е. на семинариях утверждалось не личное мнение профессора как эксперта, а объективность научной истины. Ее критерий полностью лишался какой бы то ни было субъектной окрашенности, так как речь шла об умениях и о навыках научного познания, а не об авторитете знания или его носителя. Однако добровольность принятия на себя обязательства соответствовать этому критерию не снижала его принудительности, о чем свидетельствует, например, случай с будущим известным политиком А.И. Гучковым. Убедившись в несоответствии своего реферата ожидаемым требованиям и поняв, что не успевает его переделать к определенному сроку, он сжег его и «поехал к П[авлу] Г[авриловичу Виноградову] объясняться», а затем объявил своим товарищам об отмене занятия[429].
Конечно, не все студенты были столь принципиальны и могли успешно «двигаться к вершинам» знания, что определяло оценку ими руководителя семинара. Так, например, в глазах Сергея Петровича Мельгунова, ставшего известным историком в эмиграции, но в общем-то студента-«разгильдяя» по университетским меркам, П.Г. Виноградов представал «олимпийским богом», свысока разговаривавшим со студентами и так же державшим себя на семинариях[430]. Напротив, возвышенный оценкой П.Г. Виноградова Михаил Михайлович Богословский считал высокомерие учителя наносным[431], с чем соглашались и те из его учеников, которые успешно прошли через «горнило» виноградовских семинариев и с удовольствием отмечали собственное развитие[432].
Понятно, что характер семинарских занятий во многом зависел от личных психологических черт руководителя, которыми в какой-то мере определялись и его научные установки. В отличие от «йоркширского баронета», как за глаза называли П.Г. Виноградова некоторые студенты, Иван Михайлович Гревс[433], ученик и приемник В.Г. Васильевского по кафедре всеобщей истории в Петербургском университете, строил свои семинары, принципиально делая акцент на «неформальной» стороне взаимоотношений с учениками (и получил от них неформальный титул «падре»). Этот подход в значительной степени определялся как личными качествами профессора, так и его либерально-народническими взглядами[434]. Подобный стиль научного руководства был в полной мере отрефлексирован самим профессором[435]. И.М. Гревс, по его собственному выражению, стремился быть для своих студентов не «учителем науки», а «учителем жизни». Другими словами, выбранный им коммуникативный режим предполагал передачу студентам в ходе семинарских занятий не только (и даже не столько) сугубо профессиональных знаний, сколько определенных «мировоззренческих» ценностей. В связи с этим, во-первых, соответствующим образом выбирался материал для анализа в ходе семинарских занятий. Сознательно варьируя темы своих семинариев, И.М. Гревс отдавал предпочтение таким сюжетам, которые, на его взгляд, имели определенную мировоззренческую актуальность. К примеру, на протяжении ряда лет он проводил семинарии, посвященные анализу текстов таких «великих учителей жизни», как Данте и Августин. Во-вторых, сами семинарские занятия, по мнению И.М. Гревса, должны были строиться как определенные «коллективные медитации» над текстом источника. Совершенно очевидно, что помимо неоромантического стремления «погрузиться в текст» и «почувствовать дух времени», эти семинарские занятия формировали определенную профессиональную и групповую идентичность участников. Семинар давал жизненный опыт неформального ученичества. Таким образом, профессор выступал в качестве персонифицированного носителя «научности» (от прикладных «технических» навыков профессиональной деятельности до ее «мировоззренческих» основ) и генератора дискурса, позволяющего конструировать семинар как коммуникативное событие, а сами семинары, помимо прочего, задавали последующую траекторию научной карьеры для тех студентов, которые решались связать свою жизнь с академической деятельностью. И в этом плане функционально семинары оказывались одной из форм конструирования научных школ в профессиональной исторической науке, школообразующей практикой[436]. Принадлежность к школе, формировавшаяся посредством семинаров, являлась столбовой дорогой на пути к статусу профессионала.
В связи с этим можно отметить еще одну тенденцию, явно укрепляющуюся по мере открытия новых университетов. Переезжавшие на вакантные кафедры в провинцию выпускники столичных университетов[437] использовали «привезенные с собой» навыки и традиции семинарских занятий, через которые сами прошли в период обучения. Они опирались на «образ профессии», вынесенный ими из семинаров своих учителей, и активно его воспроизводили в новых условиях. Таким образом, происходила определенная «экспансия» столичных научных школ «на периферию». Так, например, в Казанском университете в самом конце XIX – начале ХХ века важную роль в укреплении семинариев по всеобщей истории сыграли: Эрвин Давидович Гримм – ученик Василия Григорьевича Васильевского и Николая Ивановича Кареева в Петербургском университете, Михаил Михайлович Хвостов – ученик Павла Гавриловича Виноградова в Московском университете, Владимир Константинович Пискорский – ученик Ивана Васильевича Лучицкого в Киевском университете[438]. В Новороссийском (Одесском) университете при организации семинарских занятий ученик Георгия Васильевича Форстена и Ивана Михайловича Гревса Владимир Эдуардович Крусман явно ориентировался на методические принципы своих учителей[439]. Павел Николаевич Ардашев воспроизводил сначала в Новороссийском, а затем в Киевском университетах основные правила организации семинариев, усвоенные им на занятиях своего учителя Владимира Ивановича Герье[440]. В открытом уже в годы Первой мировой войны Пермском университете традиции «петербургской школы» активно утверждала целая группа молодых преподавателей[441]. «Школьная принадлежность» была для молодых ученых неким стартовым символическом капиталом, на который они могли опереться на новом месте, а для университетов – маркером приобщения к традициям «большой науки».
При очевидной зависимости тематики и методики проведения семинарских занятий от концептуальных и, порой, идеологических установок профессора-руководителя, а так же его психологических особенностей, все-таки можно условно выделить несколько «чистых» типов семинарских занятий. Во-первых, существовали семинарии, которые предполагали углубленный разбор в течение двух полугодий текста первоисточника – одного ключевого (например, «Русской Правды» или «Германии» Тацита) или нескольких, связанных хронологически или проблемно. Во-вторых, практиковались семинарии, основанные на тщательном изучении в ходе занятий современной научной литературы либо какого-то новейшего исследования, значимого, по мнению профессора. В связи с этим работа студентов строилась на семинарах либо как комментирование и интерпретация разделов анализируемого текста, либо как чтение и обсуждение подготовленных ими рефератов, темы которых выбирались из списка, предложенного профессором. На практике профессора достаточно часто применяли «комбинированный» тип обучения, сочетающий элементы различных «чистых» типов.
В этом плане очень любопытны размышления, которыми делится с И.М. Гревсом его ученик П.Б. Шаскольский в письме из Германии: «Лекции – их послушал немного, а на занятия думал ходить, они, кстати, необходимы для моих теоретических занятий: Fabricius начал разбирать источники истории Гракхов, Below разбирал историю немецких городов (в частности, думал сосредоточиться, совсем как Вы в нынешнем году, <на> истории Страсбурга, хотя как раз опровергнуть Hotrechtliche Theorie. Наконец, Meineke начал заниматься моим любимым Великим Курфюрстом. Интересно мне было то, что у них разные системы: у М[ейнеке] чисто реферативная (даже вовсе не читают памятников), у Ф[абрициуса] чтение и комментирование источников (он начал с Аппиана) и наряду с этим чтение рефератов вообще по аграрным вопросам и другим проблемам древней истории; наконец, у Б. исключительно комментирование текстов, но с помощью всеми обязательно прочитываемой по данному вопросу литературы. Сколько успел за короткое время приглядеться, во всех этих способах ведения занятий есть крупные недостатки, хотя они и велись, оговариваюсь, очень интересно. Думаю все-таки, что самая лучшая из виденных мною систем – приблизительно та, которая у Вас удавалась в последние 2 года – с Л[екс] Сал[ика] и францисканством, т. е. в центральном месте чтение текста, с комментированием посредством литературы и попутно (не обязательно каждый раз) с рефератами по вопросам из той же темы. Но если говорить не о системе, а о самих занятиях, то надо сказать, что немецкая […?] сразу видна, и это несомненный плюс в сравнении с петербургскими занятиями. В общем я за короткое время участия в занятиях вынес впечатление, что наши профессора (и Вы, между прочим) безусловно слишком церемонятся со студентами. Конечно, немного смешным кажется, когда профессор во Фрайбурге задает… к следующему разу такую-то страницу текста и прочесть такую-то журнальную статью и главу из книги, и потом в следующий раз вызывает сам по списку участников занятий […] и заставляет прокомментировать несколько строчек. Но что же делать? Этим достигается зато то, что все сидят всю неделю в библиотеке семинария и читают эту журнальную статью или главу, и во всяком случае вечер занятий ни для кого даром не пропадет, п[отому] ч[то] все могут следить за ходом занятий»[442].
Однако одновременно с развитием творческого потенциала семинариев наметилась другая тенденция, которую можно определить как их рутинизацию, т. е. низведение этой формы занятий до уровня каждодневной педагогической рутины и превращение их в средство контроля текущей успеваемости студентов. В общем-то, этот процесс шел параллельно с «вписыванием» семинариев в систему научной подготовки выпускников и определялся, с одной стороны, утверждением их обязательного характера, а с другой – увеличением численности студентов историко-филологических факультетов.
Показателен в этом отношении пример Московского университета. Уже в 1870/71 академическом году здесь «в дополнение» к принятым мерам совершенствования учебной деятельности студентов были «усилены занятия переводами с русского языка на латинский и греческий на двух высших курсах». От студентов, специализировавшихся в славяно-русской филологии, было «постановлено требовать обязательного (курсив наш. – А.А., А.С.) сочинения»[443]. В 1874/75 году историко-филологический факультет сделал следующий шаг в этом же направлении:
…Имея в виду установить более действенный надзор за практическими занятиями студентов, исходатайствовано разрешение внести в правила условие об обязательности для студентов и сторонних слушателей, не участвовавших в установленных по известному предмету практических занятиях, подвергаться сверх установленных испытаний по этому предмету особым испытаниям письменным[444].
Тем самым студенты принуждались к посещению семинариев, если они не хотели иметь, по сути, дополнительных письменных экзаменов.
Одновременно с этим происходило увеличение численности студентов историко-филологических факультетов. В Московском университете за последнюю треть XIX века она возросла в 5–6 раз, с примерно 50 учащихся на всех курсах до 250–300 студентов, и продолжала расти, хотя и не такими быстрыми темпами, в начале ХХ века[445]. В Казанском университете в конце XIX века численность учащихся на историко-филологическом факультете была незначительной и колебалась в пределах от 20 до 60 студентов (причем встречались годы, когда было лишь 1–2 выпускника), зато в начале ХХ века произошел резкий скачок – до 126 студентов в 1910 году[446]. Понятно, что большинство из них не помышляло о научной карьере, что лишний раз подчеркивало принудительность для этой части студенчества семинарских занятий. Профессора же volens nolens вынуждены были приспосабливаться к снижающемуся среднему уровню знаний и устремлений студентов, ограничиваясь формированием у них базовых навыков работы с источниками и научной литературой. Думается, что приводимые в «Обозрениях преподавания в историко-филологическом факультете» и «Отчетах» повторяющиеся из года в год темы семинариев и названия пособий для подготовки к ним убедительно свидетельствуют, что рутинизация была результатом перехода к более-менее массовой подготовке выпускников, сопровождавшейся ее стандартизацией. Знаковым событием в этом отношении стало появление в 1913 году русского перевода «Lex Salica», сделанного молодыми казанскими историками в учебных целях[447]. Тем самым самостоятельный перевод и толкование оригинала заменялись изучением чужого перевода-интерпретации. Оборотной стороной данного процесса стала имитация исследовательской деятельности определенной частью студентов. Вполне логичным итогом этого оказалось введение обязательных просеминариев и добровольных семинариев при переходе на предметную систему.
Понятно, что некоторые профессора стремились противостоять процессу рутинизации. В этом отношении особенно показательны усилия пионера семинариев В.И. Герье, стремившегося создать систему из нескольких отделений семинариев, нацеленную на формирование преемства исследовательской работы студентов от курса к курсу[448]. В конечном итоге семинарий, на котором решались преимущественно исследовательские задачи, был вытеснен из университета и стал «домашним» подобием немецкого privatissima, но без оплаты. По этому же пути вслед за учителем пошел П.Г. Виноградов. Не случайно именно их «домашние» семинарии стали основой для формирования научного исторического общества при Московском университете[449], правда, отмеченного скандалом, учиненным П.Н. Милюковым и поддержавшими его «павликианами». В Петербурге образование вокруг ведущих преподавателей устойчивых студенческих кружков привело к аналогичному конфликту при выборе председателя «Бесед по проблемам факультетского преподавания». Как пишет в своем дневнике жена С.Ф. Платонова Н.Н. Платонова:
Студенты (все это происходило у Форстена), после горячих пререканий (кажется, состоявших в том, что большинство резко восстало против предложенного кем-то в председатели Кареева) выбрали председателем Лаппо-Данилевского. […] Интересно, что Кареев, узнав о выборе Л[аппо]-Д[анилевского] в председатели, перестал с ним разговаривать[450].
Таким образом, с организационной точки зрения семинарии (особенно «домашние») оказывались подходящим средством для складывания неформальных коммуникаций, которые сплачивали студенческие кружки, но препятствовали бесконфликтному переходу к более широким и формальным объединениям, какими являлись научные общества.
Попытки противостоять рутинизации и превращению семинариев в инструмент контроля за учебой студентов не могли остановить процесс не только в силу объективных причин (роста числа студентов[451]), но и субъективных – позиции министерства народного просвещения. Начавшееся с середины 1870-х годов наступление на автономию университетов завершилось, как известно, принятием Устава 1884 года, урезавшего их и без того незначительную самостоятельность[452]. Вместе с тем провозглашалось усиление внимания к семинариям[453]. Правильно понять такое заявление можно лишь с учетом изменения экзаменационной системы в университетах. Отмена курсовых экзаменов поставила проблему контроля текущей учебной деятельности студентов, который позволяли осуществлять семинарские занятия. Правда, как ни парадоксально, но семинарии по всеобщей истории на историко-филологических факультетах были заменены в конце 1880-х годов «практическими упражнениями по древним языкам, которые велись во всем согласно указаниям министерства»[454]. Это было следствием упований на классицизм как воспитательное средство, способное предотвратить проникновение пагубных влияний в молодежную среду[455].
Восстановление исторических семинариев в полном объеме произошло в 1890 году. Во всеподданнейших отчетах министра народного просвещения новое отношение к семинариям отчетливо проявилось в изменении формулы об их целевом назначении и в том, какие из семинариев характеризовались в первую очередь. В формуле постепенно первое место заняло указание на контроль, что сразу же отразилось и на формулировках университетских «Отчетов». Указание на значение семинариев для выработки навыков самостоятельной исследовательской работы было отодвинуто на самый дальний план. Так, в отчете 1901 года отмечалось:
Помимо чтения лекций значительная доля времени уделяется преподавателями <…> на практические занятия или упражнения, почти всегда неизбежные для прочного усвоения проходимого курса. В одних случаях они по существу своему до такой степени переплетаются с лекционными часами, что одно без другого является немыслимым. В других случаях для практических занятий назначаются особые часы, обязательные и необязательные, смотря по тем общим или специальным курсам, с которыми они находятся в неразрывной связи. Наконец, сюда же следует причислить и такие занятия, которые носят характер научных исследований под руководством профессоров и преподавателей[456].
В первую очередь в министерских отчетах, когда речь шла об историко-филологических факультетах, подробно освещался опыт прежде всего семинариев по античной филологии и философии, в то время как семинарии по истории упоминались скороговоркой, причем это стало характерным уже с конца 1870-х годов. В общем, такой подход свидетельствует о позиции министерства, которое считало, что семинарий должен выполнять еще и воспитательную функцию, содействуя формированию «гражданских добродетелей», т. е. лояльного отношения к власти. Неудивительно поэтому, что в 1899 году, когда начались студенческие выступления сначала в Петербурге, а затем в Москве и других университетских городах, министерство в июльском циркуляре призывало профессоров установить «желательное общение» между ними, студентами и учебным начальством. Первым пунктом, определявшим способы установления таких отношений, называлось расширение практических занятий[457]. Показательно, что на эти цели министерство готово было выделять деньги, разрешая использовать дополнительные средства для «усиления практических занятий» в виде прибавки к жалованию, правда, как правило, из дополнительных поступлений, получаемых университетами в качестве платы за слушание лекций, печатание дипломов, от благотворителей и т. п.
Таким образом, на протяжении второй половины XIX – начала ХХ века произошло становление и закрепление в российских университетах исторических семинариев в качестве стержневого элемента подготовки историков-профессионалов. Семинарские занятия, представляя собой образовательную модель исследовательских коммуникаций, содержанием которой являлось создание и утверждение в качестве общепризнанных научных знаний о прошлом, интегрировали и интенсифицировали процесс складывания идентичности профессионально подготовленного историка. Они выступали средством выработки способа поведения, которое требовалось сообществом специалистов (от студентов до профессоров), чьим призванием была историческая наука. «Рутинизация» семинарских занятий, произошедшая вследствие опережающих потребности в научных кадрах темпов роста числа студентов историко-филологических факультетов и попыток министерства народного просвещения использовать отношения, складывающиеся между преподавателями и учащимися, в целях воспитания «благонамеренности» последних, не могла изменить сути этого процесса. Даже примеры «отклоняющегося» научного поведения – например, попытки имитации академической идентичности, так же как и честное признание несоответствия значительной части учащихся требованиям профессионализации исторического цеха, – все это в конечном счете лишь укрепляло эту идентичность и способствовало росту авторитета историков в обществе.
Томас Сандерс Третий оппонент: защиты диссертаций и общественный профиль академической истории в Российской империи
Ученые диссертации, имеющие двух оппонентов и ни одного читателя…
В.О. Ключевский[458]
В конце октября 1917 года Георгий Вернадский[459] приехал из Перми, где он стал преподавателем месяцем ранее, в Петроград для защиты своей диссертации о масонстве в России XVIII века[460]. Петроград показался ему «мрачным» городом, живущим «в предчувствии надвигающейся катастрофы». Несмотря на данные обстоятельства, больше всего его беспокоило то, что он был отвлечен от подготовки к диспуту безрезультатными поисками подходящего костюма: его сюртук не соответствовал традиции облачаться во фрак для церемонии защиты. Вернадский был приятно удивлен, увидев, что на его защиту собралась довольно многочисленная публика, несмотря на то, что дни в северной столице становились все короче, «очень рано темнело, и выходить на улицу было рискованно»[461]. Кроме официальных участников, некий Н.П. Киселёв высказал «несколько интересных соображений» относительно масонского мистицизма, небольшие замечания также сделали еще два или три человека из числа публики. После того как исторический факультет единогласно проголосовал за присуждение Вернадскому степени, официальная группа отправилась на квартиру родителей Вернадского отмечать это событие[462]. Ситуация со снабжением в городе была такой, что любая еда «быстро исчезала» с прилавков. Тем не менее, его матери удалось достать все необходимое – «чай, бутерброды, сладости, вино. Было даже шампанское». Вместе с Александром Евгеньевичем Пресняковым и почти всеми участниками бывшего «кружка молодых историков» Вернадский и его семья наслаждались «дружественной и теплой» атмосферой, царившей на празднике по случаю успешной защиты диссертации.
С одной стороны, защита диссертации Вернадского представляется обыденным, хотя и очень человечным эпизодом, разыгранным на фоне надвигающейся национальной трагедии. С другой стороны, она кажется событием удивительным, замечательным примером упорства, с которым избранная часть образованного общества продолжала соблюдать все культурные привычки своей корпорации. Страна все быстрее катилась к «пропасти» хаоса и Гражданской войны, а семья Вернадских беспокоилась о фраках и птифурах, о том, как проголосуют на защите, и о масонском движении эпохи Просвещения. Каким же образом академический ритуал «защиты» диссертации стал настолько устойчивым элементом культурной жизни образованной элиты, что его продолжали исполнять, даже находясь на грани физического уничтожения?
В данном очерке рассматриваются истоки, эволюция и социальная функция защиты диссертации как культурного института. Несмотря на стереотипный образ сухого академического дела, понятного лишь посвященным, история защиты диссертаций может открыть для современного исследователя неожиданные перспективы. Прежде всего, рассматривая опыт историков сквозь призму процедуры защиты, мы можем отчетливо воссоздать пути формирования института исторической профессуры и черты поведения самих агентов – как представителей этой дисциплины и как членов особой субкультуры в рамках становившегося все более сложным и политизированным общества царской России. В своих истоках защита диссертации как публичное мероприятие представляет собой частный пример имплицитного «контракта» между царским правительством и образованной частью дворянского общества. Однако, возможно, даже большее значение имеет тот факт, что защита является примером и того способа, каким подобные разрешенные «сверху» практики могли быть преобразованы возникающей общественной группой в соответствии со своими собственными изменяющимися стандартами. В итоге такие процедуры оказывались взятыми на вооружение новыми социальными слоями в качестве средства саморепрезентации и утверждения своего статуса – что совершенно противоречило исходным целям правительства. Более того, различные этапы эволюции процедуры защиты отражают процесс формирования высокообразованной культурной элиты в рамках российской социальной системы; это позволяет на конкретном материале изучить феномен, описанный Эбботом Глисоном как переход от общества к общественности[463].
Может показаться несколько странным, что в столь авторитарной и закрытой системе, какой была Россия XVIII века, публичный интеллектуальный дискурс был воспринят с такой готовностью. Тем не менее, диспуты, лекции, а также споры о диспутах и лекциях были частью академической культуры в России со времени основания первого университета в 1755 году[464]. Заданный петровскими реформами импульс привел к исчезновению полуграмотного дворянства как доминирующей социальной прослойки. В высших слоях российского общества в XVIII веке сложилась привычка к чтению, которая вместе с развитием издательской инфраструктуры привела к трансформации интеллектуальной культуры России начиная с 1840-х годов[465]. В условиях, когда российская литературная культура все еще находилась в зачаточном состоянии, а условия существования писателей и журналистов в эпоху Екатерины II чувствительно ограничивали тогдашнюю духовную жизнь, публичные выступления и диспуты представляли собой важное дополнение к индивидуальному чтению[466]. Они были важным аспектом привычной интеллектуальной коммуникации, и «публичные лекции и диспуты при университете питали и поддерживали беспрерывно внимание московской публики всех сословий»[467]. «Бросается в глаза, – писал Кизеветтер, – одна черта в жизни Московского университета уже в этот начальный период. Это – связь университета с обществом»[468]. Университет «радушно» призвал в свои стены общество, которое «охотно откликнулось», «наполнив университетские залы в дни публичных собраний, актов, диспутов»[469].
Шевырёв в своей истории, посвященной столетнему развитию Московского университета, передает читателю ощущение весомой значимости этих публичных мероприятий. «Акты в университете, – пишет он, – совершались с привычной торжественностью, которая была в духе и нравах времени». Наиболее важными датами были 25 апреля и 5 сентября, день коронации и день тезоименитства императрицы Елизаветы соответственно, и 26 апреля, поскольку открытие Московского университета было приурочено ко дню коронации Елизаветы. Кроме того, окончание экзаменов в июле и декабре «сопровождалось также актами и публичными диспутами студентов, речами учеников гимназии на древних и новых языках»[470]. Все это проводилось с помпезностью и соответствующими церемониями. На актах при производстве в студенты «торжественно вручались шпаги тем, кто еще не имел права носить их». Золотые и серебряные медали раздавались «в большом количестве», в числе наград были и книги. Расклеивались специальные большие афиши, написанные витиеватым стилем на русском и на латинском языках – они извещали о подобных мероприятиях и приглашали на них «всех любителей науки»[471]. Эти мероприятия были важными общественными событиями. «Высшее духовенство, знатные особы Москвы, иностранцы и все образованное общество принимали постоянное участие в этих торжествах»[472].
Образцом подобной интеллектуальной жизни XVIII века может служить деятельность одного из ведущих ученых Московского университета второй половины века Антона Алексеевича Барсова. В XIX веке специальность Барсова назвали бы словесностью, но в то время он был профессором красноречия. Это точно соответствовало действительности; у Кизеветтера он фигурирует как «первый вития на университетских торжествах»[473]. Речи составляли «существеннейшую часть литературной деятельности Барсова» и высоко ценились в его дни как «превосходный» пример жанра. В 1819 году сборник его речей был опубликован Обществом любителей российской словесности в качестве образца ораторского искусства[474]. Устаревшее на сегодняшний день слово «акты», которое ранее использовалось для обозначения речей и дней, посвященных ораторским дискуссиям, замечательно передает ощущение публичной демонстрации и зрелищности, присущих этим событиям. Русское выражение «актовый зал» сохраняет то же семантическое значение: причиной, собиравшей слушателей, было или публичное выступление, или публичный диспут.
Как и на Западе, программы, привлекавшие «любителей науки», бросали вызов защитникам религиозной догмы. Шевырёв пишет о том, что высшее духовенство принимало участие в этих публичных мероприятиях и даже одобряло их, но оно не было в восхищении от всех аспектов нового способа распространения знаний. Первые разногласия по поводу публичного обсуждения светской науки были связаны с защитой диссертации Дмитрия Аничкова на тему «О начале и происшествии натурального богопочитания»[475]. Архиепископ Амвросий Московский подал донесение в Священный синод о диспуте в Московском университете в августе 1769 года; «соблазнительная и вредная» речь об этом «атеистическом рассуждении» содержала-де «предрассудки», что вызвало возражения даже со стороны других преподавателей[476]. Аничков внес предложенные изменения, и работа была перепечатана. Аничков заплатил за свое неблагоразумие тем, что присуждение степени затянулось до 1771 года, но попытка Синода получить право на цензуру всех публикаций, связанных с религией, так и не увенчалась успехом[477]. Государство отказывалось накладывать ограничения на защиты диссертаций, по крайней мере до тех пор, пока не чувствовало угрозы своим интересам.
Можно предположить, что легкость, с которой правительство и общество приняли практику публичного интеллектуального дискурса, проистекала из их общего представления о том, что знание имеет значение как социальный факт, но не как нечто добываемое индивидуумом и им же изменяемое[478]. Иными словами, можно сказать, что для государственного руководства и для членов общества знание имело инструментальную ценность. Следует также отметить, что в общественной культуре Москвы XVIII века присутствовал элемент поверхностности, указывавший на отсутствие истинной интеллектуальной серьезности. Кизеветтер отмечает, что первое время профессора справедливо осознавали, что «их основной задачей было развитие общего интереса к науке и объяснение ее значимости»[479]. Тем не менее, независимо от того, какой была общественная мотивация или уровень вовлеченности, практика публичных выступлений и обсуждений серьезных интеллектуальных вопросов постепенно укоренилась. Ко второй половине XIX века, когда в среде значительной части элиты развилась сложная, существующая независимо от государства культура, традиция публичной презентации знания и идей посредством лекций и диспутов была уже окончательно сформирована.
Однако, прежде чем общественность и профессора смогли совместно создать институт защиты диссертации, университетская культура должна была завоевать признание в дворянской среде и утвердиться на более широком, прочном и зрелом фундаменте. Взаимодействие между университетской и дворянской культурой, рассмотренное выше, основывалось на дилетантском вкусе дворян, образование которым давали частные учителя или особые благородные учебные заведения. Участие дворянства в университетской культуре было пассивным участием наблюдателей, оставалось исключительно московским феноменом и не предполагало получение дворянами университетского образования. Даже если бы дворянство стало стремиться к обучению в университете, сама университетская система не смогла бы их принять. Историография последних лет показывает, что первые десятилетия, последовавшие за созданием новой университетской системы в 1804 году, были тяжелым временем[480]. Непродуманные административные решения оказались крайне обременительными для университетских преподавателей, у которых и без этого было достаточно сложностей с обучением студентов, особенно учитывая тот факт, что многие профессора не могли читать курсы на русском языке[481]. Кроме того, вторжение Наполеона, склонность Александра I к мистицизму, недостаток профессоров с соответствующим уровнем образования, низкий статус университетов и атмосфера того времени препятствовали развитию новой структуры высшего образования. Кажется почти невероятным, что к середине 1830-х годов, пережив то, что Джеймс Т. Флинн назвал «десятилетием Библейского общества»[482], университетская система смогла справиться с этими проблемами и вошла в краткий период относительного спокойствия – который потом сменился суровой атмосферой последних лет царствования Николая I.
К середине 1840-х годов институт диспута уже не был изолированной академической процедурой и воздействовал также на более широкие общественные круги, однако ограничения и репрессии поздней николаевской эпохи подавили эту тенденцию. В результате контакты между профессурой и общественностью восстановились только в пореформенное время, начав развиваться с 1855 года. До этого диспут оставался в большей степени внутриуниверситетским мероприятием[483]. Впрочем, это не означает, что общественное участие отсутствовало совсем или что диспут потерял всякое значение. Напротив, благодаря относительной изоляции университетов и ограниченному характеру общественного участия в диспутах в первой половине XIX века именно в эти годы защита диссертации оказалась наиболее полно интегрирована в интеллектуальную жизнь университета.
Историк Михаил Погодин был общепризнанным поборником диспутов, которые в то время были «учреждением, занимавшим важное место во всей университетской жизни»[484]. Самым значительным различием между защитами первой половины века и теми, которые проходили в середине 1850-х годов, являлось то, что раньше студенты занимали в них гораздо более важное место. Студенты, как он пишет,
играли здесь главную роль. Они начинали диспут, они иногда и оканчивали его. Это была арена, для них, собственно, открытая, где они могли показывать себя и обращать на себя внимание профессоров. На экзаменах они обязаны давать отчет в том, что слышали <…> а на диспутах они предъявляли собственные приобретения, обнаруживали деятельность своего ума[485].
Погодин считал их отличным педагогическим средством, подчеркивая как независимость интеллектуальной деятельности, ее мотивационную силу, так и количество времени, потраченного на подготовку к ним. Студенты ожидали подобные диспуты как «торжества», они становились темой их разговоров задолго до самого события и продолжали обсуждаться в аудиториях и общежитиях в течение некоторого времени после защиты[486]. Погодин был в таком восторге от этого старого стиля защиты диссертаций, что он рекомендовал планировать диспуты таким образом, чтобы у студентов была возможность задать все вопросы и обсудить все волновавшие их проблемы. Он даже призывал к строительству специального зала для проведения диспутов, подобного тому, что он видел в Лейденском университете, который позволял бы всем присутствующим видеть диспутантов[487].
В ту эпоху, когда предмет диссертации еще не был узкоспециальным и, следовательно, в большей степени оказывался доступным среднему студенту (по крайней мере, это касается истории и филологии), защита была, очевидно, более существенным компонентом учебной программы и педагогической жизни университета. Фёдор Буслаев описывает в своих воспоминаниях эпизод, когда один из его профессоров, Иван Иванович Давыдов, раздал своим студентам несколько копий диссертации Александра Васильевича Никитенко[488]. Дав студентам время ознакомиться с диссертацией, Давыдов устроил тренировочный (Буслаев называет его «примерным») диспут. Пока Давыдов стойко защищал диссертацию, «мы врассыпную громили крепость со всех сторон и разнесли ее в пух и прах»[489]. Даже сам порядок проведения диспутов показывает, что они были скорее ориентированными на студентов учебными мероприятиями, чем тщательно спланированными и интеллектуально насыщенными столкновениями академических титанов. Студенты начинали задавать вопросы на защите, после них включались в обсуждение кандидаты и магистры («которые обыкновенно на диспутах давали о себе знать факультетам»). После этого слово предоставлялось публике, и только в самом конце в диспут вступали профессора, «которым доставалось обыкновенно сказать только несколько слов, произнести решительный приговор»[490]. Даже в это время на диспуте присутствовал особый участник, защитник, чья задача заключалась в том, чтобы следить за ходом дискуссии и не позволять задавать неподобающие вопросы[491]. Вероятно, участие защитника было необходимым из-за относительно хаотичного и демократичного характера процедуры защиты диссертации в первой половине XIX века. Когда эта процедура стала более структурированной и роль профессоров в ней возросла, было решено (справедливо или ошибочно), что защитник больше не нужен.
Со временем проведение таких неформальных защит стало невозможным. К середине века российский университет стал «настоящим научным центром европейского типа»[492]. Сложилась российская университетская культура[493]. И хотя ее формирование происходило постепенно, самым важным периодом были, безусловно, 1830-е годы. Одной из причин этого стал важный шаг вперед, сделанный с принятием университетского устава 1835 года, который освободил университеты от ответственности за учебные учреждения более низких ступеней и одновременно с этим улучшил уровень подготовки и социально-экономическое положение профессоров[494]. Новый устав требовал, чтобы профессора имели докторскую степень. Часть преподавателей, включая Шевырёва, смогли дописать и защитить диссертацию за предоставленный год, другие же просто потеряли свои должности[495]. Благодаря этим реформам, либо же благодаря настойчивости, с которой Николай I требовал, чтобы служилые дворяне имели университетское образование, и его политике кнута и пряника, использовавшейся для выполнения этого требования, университеты избавились от стигмы, наложенной на них в первые десятилетия существования, и вступили в новую эпоху.
Без сомнения, наиболее важным фактором, поднявшим уровень науки, образованности и усовершенствовавшим университетскую культуру, было значительное повышение уровня профессорско-преподавательского состава. Этому во многом способствовал удивительно успешный эксперимент по созданию так называемого Профессорского института при Дерптском университете[496]. Все писавшие о нем единодушны в том, что он оказался чрезвычайно важным источником новых, более подготовленных и энергичных профессоров. Буслаев вспоминает, что новые профессора, вернувшиеся и начавшие преподавать в 1835 году, дали «первый решительный толчок к более точному определению ученой специальности каждой кафедры»[497]. Синтия Уиттакер называет открытие Профессорского института «наиболее значимой мерой, предпринятой для подготовки возрождения университетов в России»[498]. Григорьев отмечает, что период до 1831 года «далеко не был блистательным», но с возвращением этих молодых ученых, а также благодаря постоянному притоку профессоров, получивших подготовку во время командировок, «настал для нашего, как и для других русских университетов, период иной, лучшей жизни»[499]. Корнилов оценивает результаты программы подготовки молодых ученых за границей как «блестящие». В 1840-х годах
явилась целая плеяда молодых русских ученых, которая дала очень много для следующего поколения русской интеллигенции: достаточно вспомнить имена Грановского, Редкина, Крюкова, Буслаева (в Москве), Меера (в Казани), Неволина, Куторгу (в Петербурге)[500].
Процесс, в результате которого российская профессура достигла европейских стандартов научной подготовки, образованности и интеллектуального блеска, – тот путь, который до самого конца империи будет способствовать появлению все более опытных профессоров, – начался в 1830-е годы. Это было условие sine qua non новой университетской культуры.
Этот переход к новому типу профессора создал качественное различие, так как новые профессора возвращались из своих научных командировок не только с новой методологией: они также перенимали западное светское научное мировоззрение. Слова Кизеветтера по этому поводу стоит процитировать. 1830-е годы стали «началом новой эпохи в развитии Московского университета», – пишет он, – потому что
…появившаяся в Москве в 30 и 40-х годах плеяда молодых профессоров была за отдельными исключениями проникнута высокими представлениями о назначении профессора. В этом представлении служение науке неразрывно связывалось с проведением в сознание общества идеалов гуманитарного прогресса.
Молодые профессора 1830-х годов – по словам Герцена – «привезли с собой горячую веру в науку и людей; они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были налоями, с которых они были призваны благовестить истину; они являлись в аудитории не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии»[501].
С этой точки зрения, защита диссертации была своего рода церемонией посвящения в сан.
Безусловно, университеты существовали не в вакууме. Они развивались в культурной среде правящего класса, которая характеризовалась хорошим образованием, космополитическим мировоззрением, на фоне все большего многообразия как собственно общества в целом, так и студенческой среды[502]. Именно в 1830-е годы возникли такие группы, как кружок Станкевича, сформировавшийся «под сенью Московского университета»[503]. В конце 1830-х и в 1840-е годы «социальный состав и интересы образованной публики, еще оставаясь ограниченными, все же расширились настолько, чтобы поддерживать все увеличивавшееся число разных инициатив – ученых обществ, театров, публичных лекций, издательских домов и школ всех уровней»[504]. Зарождение нового типа образованной публики на российской сцене наглядно продемонстрировала невероятная популярность лекций Грановского, о чем так блестяще писала Присцилла Рузвельт (см. сноску 49) {в электронной версии книги – сноска 507. – Прим. верстальщика.}. Анненков вспоминает, что, приехав в Москву осенью 1843 года, он «застал ученое, так сказать, межсословное торжество <…> по случаю первых публичных лекций Грановского, собравшего около себя не только людей науки, все литературные партии и обычных восторженных своих слушателей – молодежь университета, но также и весь образованный класс города»[505]. Это было беспрецедентное событие, немыслимое и невозможное до тех пор, пока не появились для массовой публики «предметы уважения, кроме тех, которые издавна указаны ей общим голосом или официально»[506], – те объекты поклонения, которые были выкованы в огне новой университетской культуры.
Царское правительство еще не примирилось с появлением открыто оппозиционной интеллектуальной культуры, и вскоре последовал период реакции. В результате к 1848 году было сокращено число студентов, запрещены командировки за границу, была даже прекращена практика литографирования лекционных курсов, доступных в Публичной библиотеке. После скандала, произведенного защитой магистерской диссертации Грановского в 1845 году, были введены новые правила, ограничивавшие доступ на публичные защиты и устанавливающие новую систему пригласительных билетов[507]. В соответствии с новой системой, созданной для предотвращения беспорядков во время публичных защит диссертаций, пригласительные билеты для дальнейшего распространения раздавались преподавателям в соответствии с их рангом, лишь ректор мог пригласить любое количество гостей. Кроме этого, попечитель учебного округа мог выдать дополнительные билеты, чтобы сделать научные диспуты доступными для ревнителей образования, но делалось это под жестким контролем[508]. И уже в следующем месяце (словно прежних мер оказалось недостаточно) специальным циркуляром были введены ограничения, посредством которых контролировались уже не только диссертации, но и тезисы, формулируемые на их основе для диспутов, для того, чтобы нельзя было «понимать разным образом одно и то же предложение». Задачей попечителей было также следить, чтобы на защитах не «допускать в смысле одобрительном обсуждения начал, противных нашему государственному устройству»[509]. Именно в такой атмосфере могла возникнуть ситуация, когда на защите диссертации по эмбриологии кандидата обвиняли в нелояльности по отношению к России потому, что он использовал латинскую, немецкую и французскую научную терминологию. Защита стала напоминать «вместо ученого диспута» «полицейский донос»[510]. Только после ослабления этого тиранического режима, последовавшего после поражения в Крымской войне и смерти «Имперникеля» (Николая I, как его насмешливо назвал Герцен), образованная публика вместе с академическим сообществом – оба этих института все это время продолжали разрастаться и развиваться – смогли превратить защиту диссертации в средство публичной коммуникации и социальной легитимизации.
Как показывает краткое описание защиты Вернадского в 1917 году, со временем сложилось сочетание формальной процедуры и детально разработанного ритуала. На практике, в течение всего периода существования в университете формальной системы присуждения степеней, с 1804 по 1917 год, путь вверх по этой лестнице осуществлялся примерно следующим образом[511]. Студент, успешно завершивший курс обучения в университете, получал диплом[512]. Если он учился достаточно хорошо и произвел впечатление на преподавателей, получив золотую или серебряную медаль в конкурсе сочинений, его «оставляли при кафедре» для «подготовки к профессорскому званию»[513]. После дальнейшей учебы студент сдавал письменные и устные экзамены по различным предметам. Для кандидата по истории России программа включала, в самом ее простом варианте, историю России, всемирную историю и политическую экономию. На устных экзаменах присутствовали все члены факультета, могли также присутствовать и другие лица, имеющие степень или признанную научную репутацию. Успешная сдача этих экзаменов (что не было самим собой разумеющимся[514]) давала студенту право приступить к научной работе и написанию диссертации. Для того чтобы содержать себя во время академических занятий и подготовки диссертации, многие преподавали или в гимназии, или на Высших женских курсах, или в качестве приват-доцентов в университете, или в каких-нибудь других институтах. Некоторые уезжали за границу на два года либо на большее время, хотя и не все научные командировки предполагали поездки за границу.
Когда кандидат дописывал диссертацию, он передавал ее на рассмотрение факультета. Факультетское собрание назначало одного или нескольких преподавателей для написания отзыва на работу, хотя теоретически ознакомиться с ней должны были все преподаватели. На основании этого отзыва факультет принимал решение о допуске к защите. Если решение было отрицательным, могли быть даны рекомендации по внесению каких-либо изменений, либо же диссертация отклонялась полностью. В этом случае кандидат мог попытаться получить положительный отзыв на свою диссертацию в другом университете и там же ее защитить. В случае положительного отзыва задачей кандидата было опубликовать свою диссертацию[515]. В некоторых случаях диссертация печаталась частями в толстых журналах, таких как «Русская мысль» или «Журнал министерства народного просвещения», в дополнение к отдельному книжному изданию. Часто рецензии на работу появлялись еще до ее защиты. Одной из целей этой процедуры было стремление создать больше возможностей для ознакомления с работой до самого диспута. Кроме того, объявление о защите должно было трижды публиковаться в местной прессе. Эти меры обеспечивали определенную степень информированности заинтересованной общественности. Некоторые защиты собирали полные аудитории, но даже авторы самых скучных и малопонятных диссертаций могли рассчитывать на присутствие своих друзей, родных и студентов. К тому же заинтересованность образованной части населения в серьезных исторических исследованиях была в XIX веке достаточно высока, о чем свидетельствует тот факт, что центральные газеты регулярно печатали информацию о новых исторических публикациях и отчеты о защитах диссертаций. Так как многие из кандидатов были активными исследователями и преподавателями на протяжении ряда лет, у них сложилась определенная репутация среди заинтересованной публики, и большинство защит собирало вполне представительную аудиторию[516]. Помимо достоинств самого кандидата и его диссертации, публику привлекало также участие в диспутах светил академического мира.
Кто бы ни руководил диспутом, начинал он его с зачитывания подробной академической биографии кандидата, после чего слово предоставлялось самому соискателю[517]. В некоторых случаях, например, во время защиты диссертации Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского в 1890 году или Александра Евгеньевича Преснякова в 1918 году, эта часть диспута – точно названная речь перед защитой – превращалась в теоретически насыщенную, нередко весьма элегантную речь[518]. Благодарная публика обычно приветствовала окончание этой речи «громогласными» аплодисментами, после чего официальные оппоненты высказывали свои замечания[519]. Как правило, они сначала отмечали положительные моменты работы и лишь потом переходили к критике. После выступления всех оппонентов кандидату давали возможность ответить, после чего председатель обращался к публике и спрашивал, есть ли еще у кого-либо замечания («Не угодно ли еще кому-нибудь возразить?»)[520]. Очевидно, «неофициальным оппонентам» давалось право вступать с кандидатом в пространные дебаты, если их считали в том или ином смысле достойными собеседниками. В результате диспут мог продолжаться довольно долго. В конце концов, когда вопросы иссякали, комиссия голосовала за утверждение диссертации. Эта процедура была простой формальностью. Если кандидата допускали к публичной защите, решение о присуждении ему степени (которое должно было получить подтверждение министерства) было заранее принято. Как правило, комиссия не покидала зал для голосования, а часто председатель даже не проводил формальных консультаций с присутствовавшими преподавателями, прежде чем объявить об одобрении диссертации («полностью достоин искомой степени»). В этот момент нового обладателя научной степени приветствовали восторженными аплодисментами, члены комиссии обнимали его и обменивались с ним поцелуями. В один из последующих дней защитившийся кандидат устраивал праздничный обед для своих близких и для официальных участников защиты[521].
Г.Г. Кричевский в своей статье приводит интересные статистические данные относительно результатов этого сложного процесса. За исключением степеней в медицинских науках, c 1805 по 1863 год было присуждено в общей сложности 625 степеней, из них 160 докторских. Почти половина была получена в Москве (153) и в Санкт-Петербурге (152), несмотря на то, что Санкт-Петербургский университет был открыт в 1819 году и первая защита там прошла в 1830-х годах. Из общего числа защит на долю преподавателей историко-филологических факультетов приходилось 30 %[522]. После 1863 года число присужденных степеней более чем утроилось, но общий принцип не изменился. На долю Санкт-Петербурга (760) и Москвы (538) приходилось чуть более половины из всех 2266 степеней (включая 880 докторских). Процент степеней, присужденных историко-филологическими факультетами, остался неизменным, но Санкт-Петербургский университет вышел из тени Московского и теперь стремился превзойти его и занять ведущие позиции[523]. Безусловно, не все из тех, кто получил степень магистра, стремились к докторской степени. Для тех же, кто приступал к написанию докторской диссертации, время между получением этих двух степеней составляло в среднем пять с половиной лет. В большинстве случаев научные степени действительно оказывались «заработанными»[524].
Пять десятилетий с момента вступления Александра II на престол в 1855 году и до начала революции 1905 года можно рассматривать как золотой век защиты диссертаций. Именно в этот период (особенно во второй его половине) ученые, следовавшие строжайшим мировым стандартам в своей области, обсуждали с восприимчивой и компетентной публикой вопросы, затрагиваемые в их диссертациях. Как мы видели, защиты проходили до самого конца существования империи и даже позже. Тем не менее бесспорно, что в некоторые периоды процедура защиты играла более важную роль, чем в прочие, более «нейтральные» времена. Так, публичные собрания приобрели большее значение во время реакции 1880-х годов, последовавшей за убийством Александра II[525]. Создание национального представительного органа и сферы публичной политики после 1905 года способствовало постепенному устранению наиболее явных политических аспектов из большинства диспутов. К 1906 году «многие профессора в силу своей веры в стабильность новой конституционной структуры надеялись, что университетский вопрос просто сойдет на нет. Дума придет на смену университетским аудиториям в качестве общенационального политического форума»[526]. Пичета, прокомментировавший это явление в более непосредственной форме, чем кто-либо другой, считал, что после революции 1905 года на защиты приходили лишь отдельные сторонние слушатели, оставляя это мероприятие всецело вниманию профессоров, студентов и знакомых кандидата[527]. Тем не менее, диспут сохранил свое социальное, интеллектуальное и политическое значение, необходимое для существования системы.
То, что превратило этот пятидесятилетний период в золотой век диспута при процедуре академической защиты, можно несколько двусмысленно назвать культурной политикой. Диспут стал ареной, на которой оппозиционные политические идеи, характерные для светского, прогрессивного, либерального Weltanschauung [мировоззрения] многих профессоров, могли обсуждаться с большей или меньшей степенью безопасности и получать общественную поддержку. «Безусловно», диспуты являлись событием «общественного характера, крайне важным в эпоху той реакции, в которую погрузилась дворянская Россия в конце XIX и начале XX века»[528]. Кроме того, и профессора, и публика использовали диспут как средство социального взаимодействия, установления контактов, поддержки; здесь они искали «живого слова, живой мысли, ибо где-нибудь в другом месте их нельзя было высказать»[529]. Отчасти это взаимодействие позволяло противостоять чувству изоляции, вины и неуверенности в себе, которые охватывали их как членов крайне ограниченной элиты, зажатой между правительством, исповедовавшим прямо противоположные взгляды, и основной массой населения, которая была индифферентной или враждебной[530]. Для образованной элиты наука была главным основанием их веры в прогресс и их самолегитимации. Наконец, в ряде случаев защита диссертаций становилась полем битвы, на котором более консервативные, шовинистически настроенные или попросту заурядные профессора давали бой всему тому, что угрожало их ортодоксальным взглядам.
Многие защиты оказывались не столько диспутами, сколько «торжеством науки». На защите докторской диссертации Павла Гавриловича Виноградова в 1887 году, например, дискуссия велась «в очень дружелюбных тонах». В частности, замечания Максима Максимовича Ковалевского были высказаны «в тоне особенной дружеской близости», и в своей дискуссии с Виноградовым он опустил несколько незначительных замечаний, сказав: «Ну об этом мы с вами будем иметь случай поговорить в наших частных беседах»[531]. На защите магистерской диссертации Александра Александровича Кизеветтера Ключевский «вел диспут таким тоном, который ясно давал понять всем присутствующим, что он признает в своем ученике собрата по науке»[532]. На магистерской защите Михаила Михайловича Богословского оппонентами были Кизеветтер и Любавский, которые вели диспут «в самом джентльменском тоне товарищей по науке»[533]. На защите докторской диссертации по философии князя Сергея Николаевича Трубецкого актовый зал «был наполнен представителями московского дворянства» и преобладающим языком был французский[534]. Еще на одной защите царила атмосфера «уюта, ласки и доброжелательства»[535].
Образцом подобного типа защиты была защита В.О. Ключевского. Ключевский к тому времени уже три года читал лекции – которые можно назвать публичными выступлениями – по русской истории в переполненных аудиториях Московского университета, еще больше времени преподавал в других московских учебных заведениях и был хорошо известен в образованных кругах города (а также за его пределами). Его «давно ожидаемый докторский диспут»[536] по диссертации «Боярская дума Древней Руси» стал «истинным “событием дня” нынешней недели»[537], произошедшим «в необычайно торжественной и праздничной обстановке» в сентябре 1882 года. Согласно отчету, опубликованному в «Русских ведомостях», для этого события была подготовлена большая аудитория с длинными рядами стульев. Для «членов университетской корпорации и почетных посетителей» огородили балюстраду. Эта подготовка была необходимой, поскольку уже за час до защиты в аудиторию набилось столько народа, что, «как говорится, яблоку негде было упасть»[538]. «Давно уже, а может быть никогда, древние стены здешней alma mater не были свидетелями такого шумного и единодушного восторга», с которым было встречено появление в аудитории Ключевского[539]. В атмосфере «благоговейной тишины» «талантливый труженик» защищал свое «микроскопическое исследование» в речи, которая произвела огромное впечатление как «глубиной содержания, так и изяществом формы»[540]. Защита продолжалась четыре часа, и в конце публика выразила свое восхищение криками «Браво!», десятиминутной овацией и рукоплесканиями, которыми сопровождали Ключевского «до самого университетского двора»[541]. Ученый с эрудицией и репутацией Ключевского мог в буквальном смысле собрать на свою защиту «всю Москву».
Другие защиты оказывались привлекательными из-за атмосферы скандала, поскольку «официальные оппоненты не всегда только любезничали и говорили диспутанту разные комплименты»[542]. Благодаря предварительным публикациям и рецензиям на подобные работы, а также циркуляции слухов среди элиты о защитах подобных «спорных» диссертаций было известно заранее, и это привлекало публику. Даже оставаясь в «джентльменских» рамках, оппоненты могли оказаться весьма недоброжелательными. Ключевский устроил «порядочную головомойку» Николаю Александровичу Рожкову, «беспощадно по косточкам разобра[в] методологические несовершенства [его] работы»[543]. Историк Вячеслав Евгеньевич Якушкин был настолько потрясен жесткой критикой на своей магистерской защите, что оставил преподавательскую деятельность[544].
Драматическим примером подобных споров была защита магистерской диссертации Алексея Никитича Гилярова «О софистах». Гиляров был чрезвычайно возбужден перед своей защитой, потому что, как он сообщил одному из своих учеников-гимназистов, «говорят, историк [П.Г. Виноградов, второй официальный оппонент] будет меня грызть»[545]. Из-за «нелестных» и «сенсационных» слухов, ходивших перед защитой, зал, в котором она проходила, был полон[546]. Первый оппонент, славист Николай Яковлевич Грот, также высказал очень серьезные замечания, и диспут «превратился скоро в горячую, язвительную и неприятную перепалку. У обоих сказалось личное раздражение. Грот казался пристрастным; Гиляров, в свою очередь, был резок и груб. Атмосфера накаливалась, публика нервничала и своими аплодисментами подливала масла в огонь»[547].
В этой переменчивой ситуации Гиляров нанес опережающий удар, внезапно достав из кармана письмо и громко спросив: «А кто мне писал, что это – блестящая диссертация?»[548] До того, как Грот узнал о резко негативном отзыве Виноградова, он написал кандидату обнадеживающие слова, обнародование которых произвело «эффект скандала»[549]. Сторонники Гилярова в аудитории встретили этот неожиданный ход «неистовыми» аплодисментами, и это настолько оглушило Грота, что он мог лишь слабым голосом воскликнуть: «К каким, однако, приемам вы прибегаете»[550]. Много лет спустя мемуарист В. Маклаков с негодованием подытожил, что «диспут шел не в академической серьезной обстановке, а как будто на митинге»[551].
Нетрудно разглядеть политическую подоплеку многих из самых известных защит. В случае с магистерской защитой Тимофея Грановского в 1845 году политической темой стал сам Грановский, что было результатом грандиозной, почти скандальной славы его публичных лекций. Это объясняет, почему на его диспуте примерно семьсот студентов, набившихся на галерку и даже взобравшихся на учебные скамьи и столы, нарушали привычный регламент взрывами аплодисментов, неодобрительными возгласами и свистом и в конце превратили уход самого героя в торжественную процессию. Несмотря на публичные возражения одного из оппонентов Грановского («Это не театр!»), зрителям была представлена масштабная политическая мелодрама[552].
Некоторые диссертации вызывали политическую озабоченность разного рода, что могло порой стоить их авторам карьеры. Николай Кареев изучал французское крестьянство последней четверти XVIII века с левых позиций[553]. Ключевский интересовался, не боится ли Кареев, что его заклеймят как социалиста; Пётр Лавров тогда убедил диссертанта смягчить позицию, убрав из названия слово «революция»[554]. На самой защите Герье был крайне раздражен, и его раздражение только усиливалось постоянными аплодисментами публики, сначала в адрес самого Кареева, затем в адрес Максима Ковалевского, который «точно в пику Герье стал неумеренно расхваливать диссертацию»[555]. Расплачиваться за это пришлось Карееву. Ему не дали постоянной должности в Московском университете. Более того, ни в одном из российских университетов он не получил должности, соответствующей его научному уровню. Вместо этого он был отправлен в своего рода интеллектуальную ссылку в Варшавский университет. Процесс утверждения его докторской степени оказался чрезвычайно затянутым, что также стало последствием того спора. В государственной системе образования было слишком рискованно плыть против течения[556].
Как и в случае с Кареевым, защита магистерской диссертации Василия Ивановича Семевского в феврале 1882 года оказалась связанной и с политической скандальностью, и с публичным интересом к ее научному содержанию. Семевский столкнулся с серьезными препятствиями в Санкт-Петербургском университете, когда Константин Николаевич Бестужев-Рюмин, шокированный политическим подтекстом предмета исследования, позицией самого автора, а также его «опасными мыслями», категорически отказался принять диссертацию[557]. Будучи вынужденным перенести защиту в другой университет, Семевский получил право представить ее в Московском университете, несмотря на «прохладную» (со стороны В.О. Ключевского) и «враждебную» (со стороны Н.А. Попова) реакцию[558]. «Предшествующая судьба книги и странность представления петербургской диссертации в Москве», а также актуальность предмета исследования вызвали в обществе «живой интерес»[559]. По этим причинам диспут имел необычное значение и привлек массу публики, наполнившую большую актовую залу, в последнее время очень редко отводимую для диспутов. Всем хотелось ближе познакомиться с содержанием книги и проверить по собственным показаниям автора справедливость вздорных слухов, усердно пущенных в оборот[560].
Семевский вернулся в Санкт-Петербургский университет на преподавательскую должность приват-доцента, несмотря на ультиматум Бестужева-Рюмина «либо он, либо я», однако через четыре года был уволен вследствие интриг со стороны Бестужева[561]. У публики было отличное чутье на запах любого скандала[562].
Все это показывает, что публика не была всего лишь пассивным фоном для академической процедуры защиты. Как мы могли видеть, во время спорных защит публика прибывала на место событий уже вооруженная собственными представлениями о том, какая из сторон права, и потом начинала вмешиваться в диспут аплодисментами, оказывая моральную и устную поддержку именно «своим». Более того, публика не собиралась на первую попавшуюся защиту или публичную лекцию; как показано в нашем исследовании, образованные горожане тщательно выбирали, какой диспут посетить[563]. Существовали четко определенные «потребительские» вкусы как относительно предмета исследования, так и людей, участвовавших в защите. Наконец, многолетний союз профессуры и публики привел не только к неявной ориентации на запросы последней, но и к складыванию своеобразного этикета поведения, проработанного до мельчайших деталей.
Принцип работы этого специфического кода можно проследить в формировании системы «звезд». По всем оценкам, самым популярным публичным лектором был Ключевский. Этот «бог» московских историков (по выражению В. Пичеты) не мог читать лекции «играючи», поскольку он всегда слишком тщательно готовился к ним. Однако бывали случаи, когда он стоял перед аудиторией без текста лекции, «и тогда его диалектический талант проявлялся во всем своем блеске. Это были ученые диспуты»[564].
Согласно позднейшей самооценке Кизеветтера, у него сложилась определенная репутация среди публики, и тема его диссертационного исследования вызвала у нее определенный интерес, что отчасти объясняло большое количество слушателей, собравшихся на его защиту. Однако «главной приманкой было то, что официальным оппонентом должен был выступить Ключевский, а ведь слушать, как диспутирует Ключевский, было величайшим наслаждением для тонких ценителей научных споров»[565]. В подобных случаях он совмещал «игру кошки с мышкой <…> с легким экзаменом диспутанту»[566], проявляя истинно «диалектическое искусство и манеру»[567]. Ключевский был настолько популярен, что люди приходили просто для того, чтобы послушать его. На защите М.К. Любавского часть публики покинула аудиторию после возражений Ключевского, проявив полное безразличие к тому, что думал о диссертации Митрофан Викторович Довнар-Запольский, следующий официальный оппонент. Сам Любавский, «раболепно» отвечавший на замечания Ключевского, без каких-либо оснований заговорил «настойчивым и грубовато-резким», «грубовато-насмешливым тоном», отвечая Довнар-Запольскому[568]. Эти разные, но равно «неакадемические» реакции демонстрируют принципы работы системы звезд, а также показывают, что публика и профессура разделяли общий набор ценностей и правил в отношении того, что считалось приемлемым и ожидаемым во время диспутов.
Другим титаном публичных лекционных залов был Максим Ковалевский. На защите докторской диссертации Павла Виноградова он был вторым оппонентом и выступал после «пространной, изрядно-таки утомившей публику речи» В.И. Герье, сумев приковать «к себе общее внимание» и заставить «чутко насторожиться весь огромный зал». Все были под впечатлением от его «колоссальной научной эрудиции». Некий молоденький помощник присяжного поверенного, переполненный восторгом, после защиты «долго не мог успокоиться и все восклицал: “Ну, и память же у этого Максима Ковалевского! Какова силища! Ах, черт его возьми! Это не человек, а какой-то сверхъестественный феномен!”»[569]. Выступление Ковалевского на защите диссертации Александра Сергеевича Алексеева о политической мысли Жан-Жака Руссо показывает другую грань диалога, разворачивавшегося на защите. Подробное описание защиты раскрывает уже знакомую сцену:
Вся обстановка диспута носила чрезвычайно торжественный характер. Актовый зал университета был переполнен публикой. В первом ряду сидело несколько «звездоносцев» и среди них старичок Константин Иванович Садоков, тогдашний помощник попечителя московского учебного округа. Кажется, он присутствовал здесь лишь с декоративной целью, потому что все время сладко дремал в своем кресле, только изредка просыпаясь и пожевывая губами. Но и он, помнится, слегка оживился, когда после вступительной речи Алексеева вдруг заговорил Ковалевский[570].
Почему Садоков очнулся от своей приятной дремы? За каким зрелищем пришла публика? Они были здесь, чтобы услышать «поток красноречивых, сверкающих остроумием фраз». Аудитория должна была оценить блеск «убийственных сарказмов», которые «непрерывно слетали у него с языка», осыпая «бедного диспутанта, как шрапнелью». Публика была вознаграждена за свое присутствие самим зрелищем Ковалевского в таком «особенном ударе»[571].
Это не было пресыщенным любованием римской публики зрелищем того, как львы русского научного мира разрывают кандидатов, словно мучеников-христиан. Публика хотела блеска и огня, остроумия и культуры. Вот почему она наслаждалась Ключевским, игравшим с кандидатом, как кот с мышью. Точно так же ей понравилось «живое и остроумное» выступление Владимира Ивановича Ламанского на докторской защите Николая Дмитриевича Чечулина, в которое он сумел включить аллюзии на «Анну Каренину» Толстого, «Недоросля» Фонвизина, романтические исторические романы Марлинского, а также на Добчинского и Бобчинского из гоголевского «Ревизора». Его речь «состояла из ряда остроумных и метких замечаний, вызвавших в публике веселое настроение»[572]. На защите докторской диссертации Кизеветтера он и его оппоненты Любавский и Богословский «спорили очень оживленно, не без шуточной язвительности с обеих сторон, и публика несколько раз весело аплодировала» каждому из них[573]. Вплоть до крушения старого порядка публика продолжала наслаждаться эрудицией и остроумием академической элиты – по ходу работы того социального механизма, который сами ученые помогли сформировать и совершенствовать.
Этот очерк начался с описания обстоятельств, которые сопутствовали защите диссертации Георгия Вернадского. Несмотря на радость по поводу успешного результата защиты и «дружеские и теплые» чувства, царившие на устроенном по этому поводу торжестве, собравшиеся осознавали, что российская история стоит на пороге событий чрезвычайной важности. Они не могли избавиться от неотступного ощущения, что они «и вся Россия [находятся] на самом краю бездны». Георгий Вернадский уехал из Петрограда 25 октября. Позже он узнал, что красногвардейский отряд «реквизировал» машину его родителей, когда те возвращались домой с вокзала. Ему самому пришлось ехать в Пермь на верхней полке вагона, битком набитого дезертировавшими солдатами. Приехав, он узнал от своей жены, что в городе, который он только что покинул, произошла революция. Они стали свидетелями конца эпохи. И хотя сам Вернадский говорил, что уже «тогда было такое время, что о традициях стали забывать», и он, и его социальное окружение упрямо цеплялись за свои привычки посреди хаоса, воцарявшегося в России. Им было бы грустно узнать, что защита диссертаций в том виде, в каком они ее восприняли, не переживет срок жизни, отпущенный их собственному сословию. Но утешением для них была мысль о том, что они до самого конца оставались верны ими же заложенным традициям[574].
* * *
Публичная защита диссертации, или диспут, возникла в XVIII веке как часть элитарной культуры. После того как правительство решило сформировать новую образованную прослойку, чтобы набирать из нее чиновников, оно было вынуждено значительно расширить границы университетского мира. Чтобы преподавательские должности в университетах были заняты авторитетными русскими профессорами, правительство установило весьма высокие требования к соискателям ученых степеней, отбирая перспективных кандидатов и закрепляя их в университетской среде посредством магистерских испытаний. В конечном итоге созданная таким образом профессура обретала относительно устойчивый социальный статус, ограниченную автономию и чувство профессиональной самоидентификации. Университеты и профессура укреплялись в тандеме с образованной частью общества. Многие из представителей этого широкого социального слоя сформировали общественную среду, которая поддерживала профессуру морально и материально. Профессура и публика вместе создали социальный механизм со своими ритуалами, практиками и аудиторией. Многие участники и наблюдатели вспоминают в деталях и с теплыми чувствами о том, что публикация и защита диссертации были испытанием «огнем и водой»[575]. Таким образом, когда правительство сделало институт защиты диссертаций публичным – что соответствовало социальным практикам элиты того времени, – причем выстроило его для своих собственных целей, то оно тем самым дало рождение и новой социальной группе, и новому средству социальной коммуникации. Этот общественный форум взял на себя важную функцию, позволяя профессуре демонстрировать свои умения, знания и эрудицию, а также получать поддержку от собиравшейся публики и разделять с ней общую увлеченность от знакомства с самыми новыми достижениями культуры и науки. Он стал ярким примером формирования автономной области социального поведения, находящейся вне пределов правительственного контроля.
Мы уже видели, что публичные защиты стали частью ученой культуры начиная с самого рождения университетской жизни в России. Это полностью соответствовало дидактическим планам правительства, которое, собственно, и финансировало все учреждения высшего образования. Разумеется, правительство было в первую очередь заинтересовано в подготовке высококвалифицированных служащих, на которых оно могло бы поло житься. Однако правительство (персонифицированное не только в императорах и императрицах, но и таких деятелях, как Сперанский, Уваров, Милютин и др.) также пыталось привить высшим слоям общества культурные привычки, которые бы соответствовали образу России как ведущей европейской державы и заставили бы элиту следовать образовательным требованиям правительства. Таким образом, публичная презентация знания на диспутах (что распостранялось и на всю систему образования в целом) была с точки зрения царского правительства не самоцелью, а инструментом.
Это объясняет, почему правительство терпимо относилось к публичным диспутам и пошло на вмешательство в эту практику только в самые черные дни николаевской реакции. Это также позволяет понять, почему лекции Грановского и его защита были мероприятиями столь противоречивыми: эти мероприятия происходили не в нейтральной обстановке, напротив, они по сути представляли собой первое вторжение интеллектуалов, подвергшихся влиянию западных традиций, в ту область, которую правительство зарезервировало для своих собственных целей. Более того, публичные выступления Грановского стали первым сигналом того, что образование как инструмент влияния начало выходить из-под контроля правительства, подобно тому, как раньше культура стала использоваться для своих целей Новиковым, Радищевым и др. Для образованной элиты, воплотившейся в профессуре, оказалось совершенно естественным освоить сферу публичных лекций или защит. В конце концов, это было именно их ремесло. Более того, публичная природа данных событий наделяла их важной и позитивной общественной функцией. Подобно салонам XVIII века и кружкам первой половины XIX века, защиты диссертаций маркировали участников и слушателей как членов определенной группы, усиливали их ощущение социальной идентичности и укрепляли негласную веру в общие ценности. У образованного общества была такая же потребность в данных социальных механизмах, как и у простого населения – в артелях и землячествах.
Тот способ, посредством которого российское научное сообщество при активном участии образованной публики смогло адаптировать институт публичных защит, изначально внедренный правительством «сверху», и преобразовать его в легитимный социальный ритуал, является впечатляющим примером независимой активности в социальной сфере. Глубокое исследование разнородных компонентов российского дореволюционного общества и подробное описание различных его аспектов выводит нас на весьма плодотворные общеметодологические вопросы, ответ на которые позволит лучше понять Россию позднеимперского периода. Изучение отдельных микросообществ или субкультур будет содействовать процессу совершенствования концептуальной базы, предоставляя эмпирическое основание для продуктивных теоретических моделей, вроде упомянутой в начале статьи идеи Э. Глисона о переходе от общества к общественности. Альфред Дж. Рибер советует студентам, специализирующимся по социальной истории России, быть
достаточно смелыми, чтобы пересекать границы институциональной и юридической истории… [и] смело двигаться в противоположном направлении – к культуре, определяемой в самом широком антропологическом смысле, чтобы включить в круг своих изысканий институциональные нормы и материальные артефакты, а также ценности, системы убеждений и мировосприятия[576].
В данном исследовании была предпринята попытка обобщить некоторые выводы, следующие из анализа диспутов, но гораздо больше работы еще предстоит сделать в области шире определяемой и глубже понимаемой социальной истории императорской России.
Перевод с англ. А.В. Антощенко
Н.К. Гаврюшин Черты исторической школы в духовных академиях
Как ни резко и парадоксально это звучит, но история Русской церкви в духовных академиях XVIII – начала XIX века почти полностью отсутствовала. Ее просто не значилось в учебной программе. Да и как воспринимался бы этот предмет, если бы лекции читались (по тогдашнему обыкновению) на латинском языке?
В самом деле, ориентация на программы западных богословских школ никак не могла способствовать тому, чтобы сделать предметом изучения историю Русской церкви. К тому же трагические события, связанные с расколом XVII века и упразднением патриаршества, изъяснять и изучать было не особенно удобно по политическим мотивам. Поэтому история Русской церкви в конце XVIII – начале XIX века затрагивалась только отчасти в курсе общей церковной истории, а также в связи с русской гражданской историей. И лишь в 1851 году эта область знаний была введена в число самостоятельных дисциплин академического курса[577]. Таким образом, историческая школа в духовных академиях Российской империи до середины XIX века не имела возможности складываться вокруг самостоятельных кафедр. В течение полутора столетий ее созидают труды отдельных энтузиастов.
* * *
Один из первых преподавателей Александро-Невской семинарии Адам Селлий (1696–1746, по другим данным 1695–1745), принявший при пострижении в монашество имя Никодим, глубоко интересовался русской церковной историей и, можно сказать, положил начало систематической работе по целому ряду направлений. Во-первых, он составил сочинение по истории российской иерархии («De rossorum hierarhia libri quinque»), которое не было напечатано, но в дальнейшем его материалами широко пользовались другие исследователи, в частности, как отмечает И.А. Чистович[578], прибегал к нему В. Рубан в своем издании «Любопытного месяцеслова» на 1776 год, рассказывая о митрополитах киевских, а позднее Амвросий Орнатский в своей «Истории российской иерархии»[579]. Другое сочинение Адама Селлия, «Schediasma litterarium…»[580] представляет некий прообраз знаменитого труда митрополита Евгения Болховитинова «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина»[581]. Митрополит Евгений, как мы увидим, во многих отношениях явился продолжателем дела Адама Селлия, и в 1815 году опубликовал очерк своего предшественника в русском переводе[582], столкнувшись при этом с возражениями цензуры.
Предвестием рождения русской школы церковно-исторических исследований явилось появление в 1805 году «Краткой Церковной Российской истории» московского митрополита Платона (Левшина) (1737–1812). Один из авторитетнейших богословов и специалистов по истории церкви Николай Никанорович Глубоковский (1863–1937) в своем итоговом очерке 1920-х годов (на него мы в дальнейшем будем во многом опираться в нашем изложении) называет митрополита Платона «счастливым предтечей научно-исторического мессианства», который хотя придерживается летописного порядка изложения, но «группирует свой материал более систематично и, главное, везде рисуется “любезным и привлекательным истории свойством – истины и беспристрастия”, почему старательно применяет трезвый критицизм в обсуждении литературных сведений и жизненных явлений»[583].
В самом деле, пользовавшийся благоволением трех российских самодержцев, Платон мог высказать самостоятельный взгляд на ряд ключевых эпизодов русской церковной истории. Так он и поступил в оценке церковного раскола XVII века: править церковные книги было необходимо, но «надлежало было, объяснив все причины исправления книг, и представив пред очи видимые ошибки, также оговорив, что и в старых книгах ничего церкви противного не заключается <…> надлежало было оставить на волю: по старым ли служить книгам или по новым». Решение этого вопроса путем принудительным, «вооруженною рукою», не только не погашало раскол, «но еще более его возжигало»[584].
Также самостоятелен был Платон и в оценке патриарха Никона. Отдав должное его заслугам, он в то же время замечает, что святитель был «нравен и горяч, даже до излишества; неуступчив, даже до упрямства, пышен по внешности, даже до возбуждения зависти других»[585]. Лишь в отношении отмены патриаршества при Петре I митрополит ограничился скупыми словами: «Какие были причины упразднения патриаршества, оные объяснены в Духовном Регламенте, в испытание коих входити не должно»[586]. По наблюдению А.В. Карташёва[587], Платон проявляет «заметную критичность в отношении к содержанию и качеству своих источников»: это относится к сказанию о проповеди апостола Андрея на Руси, частично к повести о крещении князя Владимира, к достоверности сведений Степенной книги и т. д.
Однако такая степень дерзновения в церковно-исторических суждениях для своей эпохи казалась не только исключительной, но и чрезмерной. Как отметил Н.Н. Глубоковский,
культурная попечительница духовной школы – «Комиссия духовных училищ» (1808–1839) рекомендовала академическим преподавателям не допускать в церковно-историческом изложении: «а) усиленного критицизма, который оружием односторонней логики покушается разрушить исторические памятники, б) произвольного систематизма, который воображает народ и его историю невольным развитием какой-нибудь роковой для него идеи, и в) неосмотрительного политического направления», а «обращать особое внимание в истории на черты нравственные, на следы Провидения Божия в происшествиях общественных и приключениях частных, на связь и последовательность в судьбах народов нравственного улучшения и благоденствия или, напротив, нравственного повреждения и упадка благосостояния».
В духе рекомендаций Комиссии духовных училищ судил о церковно-исторических штудиях ее влиятельный член митрополит Московский Филарет (Дроздов), неоднозначная роль которого в судьбе академической науки еще ожидает объективного изучения. А соответствовало этим рекомендациям только принадлежавшее перу Иннокентия (Смирнова) (1784–1819) «Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII в.» (1817), которое «вышло прекрасным образцом того, как не следует писать историю»[588].
Таким образом, научный историзм в духовно-академической среде первой половины XIX века мог проявляться прежде всего в тех областях, которые далеки были от истории Русской церкви и церковно-общественной жизни в целом. Созидательных импульсов приходилось ожидать прежде всего от светской учености.
Вот характерный пример. Первый подробный «Словарь исторический о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых» (1836) был составлен светскими энтузиастами, князем Д.А. Эристовым и лицейским товарищем А.С. Пушкина М.Л. Яковлевым. В небольшой рецензии на этот труд А.С. Пушкин отметил «отчетливость в предварительных изысканиях», наличие полного указателя источников, составляющего «целый печатный лист», простоту и краткость слога, свободного от риторических фигур, которые в словаре «во всяком случае нестерпимы»[589]. Он сопоставил «Словарь» Эристова и Яковлева с «Опытом исторического словаря…» Н.И. Новикова (1784), отметив преимущества нового издания в плане подробности сведений и научного аппарата.
Как видим, церковная агиография получила известное подспорье и ориентир со стороны светских ревнителей русской церковной истории. И в дальнейшем духовно-академической школе, находившейся в стадии становления, не раз приходилось находить поддержку в светской науке. Надо по достоинству оценить то обстоятельство, что профессора духовных академий приветствовали и поддерживали получивший развитие в университетах середины XIX века исторический критицизм. По наблюдению Ф.К. Андреева, «горячо защищал перед Погодиным новую, скептическую школу русской истории» профессор Московской духовной академии Пётр Симонович Казанский (1819–1878): «Мне кажется, – пишет он университетскому историку Погодину, – напрасно вы так горячо нападаете на так называемую вами новую школу Истории Русской. Если и есть тут односторонность, зато сколько новых, свежих мыслей брошено в сокровищницу сведений о нашей Древней Руси. Хотя бы и все эти мысли были несправедливы, но не они ли заставляют нас, ветеранов науки, вновь переисследовать многие стороны жизни русской <…> Скептицизм заставляет нас глубоко входить в предмет, обращать внимание на те стороны, которые ускользали от нас»[590]. Это было сказано в 1849 году… Тогда же, впрочем, П.С. Казанский писал М.П. Погодину и о «гибельной цензуре духовной»[591]. Не приходится сомневаться, что профессор и ректор Московской духовной академии А.В. Горский (о нем речь пойдет далее), с которым и Погодин, и сам Казанский близко сотрудничали, очень хорошо понимал своего коллегу, но обстоятельства порой принуждали его действовать в противоположном направлении…
* * *
Становлению духовно-академической школы исторических исследований своими многочисленными трудами и педагогической деятельностью способствовал митрополит Евгений Болховитинов (1767–1737). Выпускник Воронежской духовной семинарии и Славяно-греко-латинской академии, он начал свою литературную деятельность в кружке Н.И. Новикова. Здесь он приобрел не только широкие познания, но и вкус к серьезной археографической работе, первым свидетельством чему – его «Историческое, географическое и економическое описание Воронежской губернии» (Воронеж, 1800). Там же, в Воронеже, он начал публикацию и своих церковно-исторических опытов. Так, в 1794 году он напечатал «Краткий летописец преосвященных воронежских от основания епископского престола в Воронеже до нынешнего времени»[592]. В дальнейшем, меняя места служения и расширяя свои церковно-исторические интересы, митрополит Евгений опубликовал списки епархиальных и викарных архиереев Новгорода Великого (1805), Пскова (1821), митрополитов киевских (1825)[593]. Будучи епископом Старорусским, викарием Новгородской епархии, Евгений общался с постриженным там в монашество Амвросием (Орнатским), будущим автором «Истории российской иерархии» (1807–1815). По мнению исследователя конца XIX века Н. Полетаева, митрополиту Евгению на самом деле принадлежит половина этого труда «и даже более, если не забывать цену инициативы и общей редакции»[594]. В Воронежской семинарии под руководством Е. Болховитинова было выполнено несколько студенческих работ по отдельным вопросам истории Русской церкви, прочитанных в публичных заседаниях и затем напечатанных. Это, в частности, «Историческое рассуждение вообще о древнем христианском богослужебном пении, и особенно о пении российския церкви» Ивана Аполлосова (1797) и «Краткое рассуждение о том, что алтарныя украшения нашей церкви сходны с древними» Ивана Зацепина (1797)[595].
Став в 1800 году в сане архимандрита преподавателем философии и высшего красноречия Александро-Невской духовной академии в Санкт-Петербурге, Евгений Болховитинов сплотил вокруг себя студентов, интересовавшихся историей Русской церкви. Под его руководством были, в частности, написаны такие кандидатские сочинения, как «Историческое рассуждение о соборах российской Церкви» М. Суханова, «О начале, важности и знаменовании церковных облачений» К. Китовича, «О соборном деянии, бывшем в Киеве 1157 г. на еретика Мартина» И. Лаврова, «О книге, именуемой Православное исповедание веры восточной Церкви» А. Болховского, успешно защищенные в 1803 году[596]. Собственные труды митрополита Евгения составили целую эпоху в русской церковно-исторической книжности. На них, как уже говорилось, видна неизгладимая печать деятельности Н.И. Новикова и его кружка. Хорошо известно, что именно Н.И. Новиков был издателем творений святителя Тихона Задонского, частично уничтоженных при Екатерине II. Митрополит Евгений Болховитинов стал первым жизнеописателем Тихона Задонского. В 1796 году им, тогда префектом Воронежской семинарии, было издано «Полное описание жизни преосвященного Тихона, бывшего прежде епископа Кексгольмского и Ладожского… собранное из устных преданий и записок очевидных свидетелей». Ему же принадлежит и краткая редакция биографии св. Тихона, которая получила широкое распространение[597].
Как автор знаменитого «Словаря исторического о бывших в России писателях духовного чина» (1818) он продолжает дело, начатое Н.И. Новиковым в его «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772), и в целом о нем можно сказать, что он первым из российских ученых-иерархов систематически реализует ту программу, которая была выработана «ревнителем российского просвещения». Несомненно важным было для митрополита Евгения общение с членами кружка графа Н.П. Румянцева – А.Х. Востоковым, П.М. Строевым, К.Ф. Калайдовичем и др. Но на пути издания своих сочинений митрополит Евгений нередко встречал различные препоны. Так, например, он пытался пробудить внимание и интерес к наследию Нила Сорского. Это оказалось далеко не просто. «Устав» началоположника нестяжательства большинство друзей митрополита называли «темным, непонятным и даже мечтательным», а цензоры нашли «недостопримечательным для публики»[598]. С трудом продвигалось издание его «Исследования о славянском переводе Священного Писания Ветхого и Нового Завета» (1812), материалы которого использовал позднее О.М. Новицкий в своей книге «О первоначальном переводе Священного Писания на славянский язык» (1837).
Считая, что труды митрополита Евгения «достойны великой исторической признательности», Н.Н. Глубоковский в то же время отмечает, что он «не был идейным систематиком», и примыкает к суждению М.П. Погодина, назвавшего Болховитинова «каким-то статистиком истории». «Он, кажется, – писал Погодин, – даже не жалел, если где чего ему не доставало в истории; для него это как будто все равно. Что есть – хорошо, а чего нет – нечего о том и думать. Никаких заключений, рассуждений…»[599]. Даже если с этой оценкой согласиться безоговорочно, все равно нельзя не признать, что в пору деятельности митрополита Евгения фактов и текстов по истории Русской церкви было еще крайне недостаточно, что политическая атмосфера не благоприятствовала свободным рассуждениям, и что он в этих условиях все-таки заложил важные основы для развития исторической школы в духовных академиях.
* * *
Стремлением к систематическому изложению исторических событий отличалась деятельность Филарета (Гумилевского; 1805–1866). Он родом из тамбовских краев, его отец был сельским священником в Щацком уезде. Филарет окончил Тамбовскую духовную семинарию и Московскую духовную академию, в которой затем стал ректором (1835–1841). В дальнейшем он был правящим архиереем в Риге, Харькове и Чернигове. Протоиерей Георгий Флоровский, автор известного труда «История русского богословия», не столь уж щедрый на похвалы, считал Филарета человеком «исключительных дарований, с беспокойной мыслью и тревожным сердцем». «История Русской церкви» Филарета, вышедшая в 1847–1848 годах[600], охватывает период с 988 по 1826 год. Принятая здесь периодизация (по пяти главным этапам развития Русской Церкви[601]), по свидетельству Н.Н. Глубоковского, удерживалась в основных своих чертах и в первой четверти XX века. А.В. Карташёв считал, что именно с этого труда началась настоящая научная история Русской церкви.
Филарет соединял в себе стремление к целостному и структурному видению предмета с собиранием новых фактов, критическим изучением источников. В то же время, как подметил Н.Н. Глубоковский, для него характерен определенный схематизм: структура не вырастает из материала, напротив – материал порой помещается в нее как в прокрустово ложе, «частные схемы» Филарета «однообразны», они «почти совсем не варьируются при смене эпох», отчего «картина получается несколько безжизненная». Тем не менее, у Филарета Глубоковский находит «трезвую критику источников со всякими сведениями и редкую смелость суждений по всем пунктам»[602]. Для 1840-х годов это, можно сказать, явление чрезвычайное. Филарету пришлось столкнуться и со столичной цензурой. По поводу V тома своей «Истории Русской Церкви» он в частном письме жаловался архиепископу Иннокентию (Борисову), занимавшему тогда Харьковскую кафедру, на цензора Иоанна Соколова (1818–1864), будущего ректора Казанской, а затем Санкт-Петербургской духовной академии: «Заносчивый юноша изволил дать так много предписаний, что нелегко и смиряющемуся самолюбию покориться им. Видно, что высшее начальство сочло нужным поучить меня смирению, что прислало мне приказы к исполнению, писанные малограмотною молодостью»[603]. О том же он писал и А.В. Горскому. Филарет был не только историком Русской церкви, но также патрологом и догматистом. И в этих областях церковно-научного знания он последовательно стоял на позициях критического историзма. Именно Филарета (Гумилевского) и А.В. Горского считают инициаторами развертывания преподавания истории в духовных школах.
* * *
Развитию церковно-исторической науки в Московской духовной академии много способствовал уже ранее упомянутый Александр Васильевич Горский (1814–1875)[604], в 1862 году ставший ее ректором. Костромич, сын соборного протоиерея, он поступил в академию шестнадцатилетним юношей. Отец лично попросил позаботиться о его духовном воспитании своего земляка, знаменитого профессора-протоиерея Фёдора Александровича Голубинского (1797–1854), который преподавал там философию и богословие. Много дало Горскому и общение с молодым преподавателем Филаретом (Гумилевским); он сразу потянулся к истории, почувствовав поддержку читавшего этот предмет Ф.А. Терновского-Платонова. С осени 1832 года он сам уже становится профессором церковной и гражданской истории в Московской духовной семинарии, а год спустя, благодаря хлопотам Ф.А. Голубинского, переходит на академическую кафедру, освободившуюся со смертью Терновского. Для специалистов в области древнеславянской книжности имя А.В. Горского связано в первую очередь с многотомным «Описанием славянских рукописей московской Синодальной библиотеки» (1855–1869), предпринятым им совместно с К.И. Невоструевым. Оно стало настольной книгой, своего рода энциклопедическим трудом, к которому на протяжении полутора столетий неизменно обращаются ученые различных специальностей. В нем проявилось подлинное дарование Горского как беспристрастного аналитика с широчайшей эрудицией, вооруженного палеографическими, кодикологическими и филологическими методами.
А.В. Горским также опубликованы жизнеописания киевских митрополитов Кирилла II (1843), Петра (1844) и Фотия (1852), московских митрополитов Алексия (1848), Киприана (1848), Феодосия и Филиппа (1857), статьи о Максиме Греке (1859) и Паисии Лигариде (1861), о походе руссов на Сурож (1855), осуществлены научные издания ряда памятников древней письменности, не говоря уже о работах по библеистике, литургике, патрологии и истории Восточной церкви[605].
Нельзя сказать, что Горский, подобно Е. Болховитинову, был мало заинтересован в построении широкой исторической панорамы. Напротив, его прекрасное знакомство с трудами известного немецкого историка Церкви Августа Неандера (1789–1850)[606], которые он использовал в своих лекциях, попытки метафизических обобщений в духе Иоахима Флорского свидетельствуют именно о том, что он стремился к видению истории как целого. Но от обобщающих суждений и построений А.В. Горский в основном воздерживался, ясно отдавая себе отчет в том, что они могут вызвать неудовольствие со стороны влиятельнейшего московского митрополита Филарета. «…Положение дел наших церковных и мое личное положение, – писал он М.П. Погодину, – не позволяет говорить печатно, что по совести ученый может и должен сказать в своем кабинете»[607].
Цензура Филарета вызывала горячее возмущение у М.П. Погодина, он обвинял А.В. Горского в том, что тот потворствует церковному деспотизму и призывал его приняться «за полную, подробную русскую церковную историю»[608]. Выполнить это пожелание в те годы было совершенно невозможно. Вот, например, как обстояло дело с принадлежавшим перу А.В. Горского «Историческим описанием Свято-Троицкой-Сергиевой Лавры» (1842). В частном письме архимандрит Феодор (Бухарев) напоминает своему корреспонденту, что Филарет сделал с этим сочинением: «Оставил один остов, а прочее вычеркнул. Он разумеет человека святого так, что живого человека уже не замечает. У него вообще есть крайность идеализма»[609]. С.И. Смирнов писал, что «лучшие сочинения представлялись тогда митрополиту Филарету в виде исправленном, а нередко заново переписанном профессором»[610].
Тем не менее, А.В. Горскому удалось многое сделать для воспитания нового поколения русских церковных ученых, привить им вкус к критическим методам работы и укрепить в намерениях решать самые сложные вопросы. Именно Горский, как отмечает А. Мельков, «навел Е.Е. Голубинского на мысль исходить в реконструкции устройства и быта древней русской церкви из византийского материала», он же способствовал работе Н.Ф. Каптерева над монографией о патриархе Никоне[611]. В Казанской духовной академии критические методы в исторических исследованиях прививал студентам другой ученик А.В. Горского – Г.З. Елисеев (1821–1891). Но главный плод научно-педагогической деятельности А.В. Горского – это, конечно, появление в рядах тружеников церковно-исторической науки академика Е.Е. Голубинского.
* * *
Евгений Евсигнееевич Голубинский (1834–1912) родился на костромской земле, в семье священника Е.Ф. Пескова, который дал ему фамилию в память о земляке протоиерее Ф.А. Голубинском. Знаменитого философа будущий историк застал в Московской духовной академии, которую окончил после Костромской духовной семинарии в 1858 году. Сначала он назначен был в Вифанскую семинарию на класс риторики, с 1861 по 1895 год преподавал историю Русской церкви в Московской духовной академии. В 1872–1874 годах Голубинский находился в научной командировке на Ближнем Востоке, Балканах, а также в Италии и Австро-Венгрии, позволившей ему собрать большой материал для сравнительно-исторических исследований. Существенно важным было для него, как несколько позднее и для А.П. Лебедева[612], общение с А.В. Горским, хотя оно оставило двойственное впечатление. От А.В. Горского он получил тему своего курсового сочинения, за которое был удостоен степени магистра: «Образ действования императоров греко-римских против еретиков и раскольников в IV в.». «Какими побуждениями руководствовался он, давая мне эту тему, – вспоминал Голубинский, – ничего сказать не могу. Тема мне не совсем нравилась, но отказаться от нее я, конечно, не мог…». Приняв, с согласия А.В. Горского, исторический порядок изложения, он закончил работу и дал на просмотр руководителю. Недели через полторы Горский, возможно, предвидя замечания Филарета, предложил ему следовать принципу систематическому. «Эта переработка, – вспоминает Голубинский, – была для меня истинно каторжной работой: я дописался до того, что почти утратил способность выражаться толково. Между тем, если бы я сначала повел изложение систематически, работа моя была бы необычайно легка, потому что на немецком языке была книжка как раз на эту тему (кажется, Риффеля[613]) с систематическим обзором мер, предпринимавшихся императорами»[614].
Опора на немецкие источники была в XIX веке своего рода традицией для духовных академий. Это касалось абсолютного большинства дисциплин. Но вот насколько творчески они перерабатывались, сказать однозначно нельзя. Известно, что митрополит Антоний (Храповицкий) открыто обвинял профессоров в «плагиатировании». Достаточно щепетильный Голубинский по такому пути пойти не мог, но все же позднейшая обрисовка им своего подхода к теме достаточно показательна. Окончательный вариант этого сочинения А.В. Горский отредактировал, применяясь ко вкусам митрополита Филарета. В своих «Воспоминаниях» Голубинский прямо пишет о том, что «везде, где встречается полицейское красноречие о благодетельности мер против еретиков и раскольников, оно принадлежит Горскому». Обидно, верно, было будущему академику, но у его наставника не было иных средств оградить своего подопечного от непредсказуемых решений архипастыря.
В 1868 году Голубинский подготовил большой труд «Константин и Мефодий, апостолы славян», который был удостоен Уваровской премии Императорской академии наук, но в свет так и не вышел. Причина этого понятна: Голубинский здесь на основании скрупулезного источниковедческого анализа поставил под сомнение историческую ценность паннонских и проложных житий Кирилла и Мефодия, отрицал прямое участие солунских братьев в христианизации болгар и т. д. В официозной синодальной среде эта позиция не могла рассчитывать на благосклонное отношение. Голубинский вспоминал, что «если бы дело было при митрополите Филарете, то нельзя было бы помимо его подавать сочинение на премию», а если бы он подал без ведома Филарета, то его постиг бы «тягчайший гнев».
Здесь надо заметить, что в «Воспоминаниях» Е.Е. Голубинского отношение митрополита Филарета к истории охарактеризовано особенно подробно и откровенно.
К памятникам истории митрополит Филарет относился варварски, оправдываясь в их истреблении тем, что они могли бы приносить вред. В библиотеке Вифанской семинарии есть раскольничья рукопись, представленная митрополиту Платону. На переднем белом листе митрополит Платон сделал замечание о том, что православному богослову трудно бороться с раскольничьими учителями, так как они смотрят на предмет с разных точек зрения. Филарет уничтожил этот лист, причем заметка Платона сохранилась на отдельном листке, который записал по памяти И.А. Вениаминов. Напечатана она еще у Снегирёва в «Жизни митрополита Платона».
Есть в Вифанской библиотеке другая рукопись, содержащая переписку митрополита Платона с Мефодием, епископом Тверским. В этой рукописи, отданной в Вифанскую библиотеку Петербургским митрополитом Никанором, Филарет повырезывал места из писем митрополита Платона, казавшиеся ему вольными. Наконец, он предлагал Синоду исправить «Историю русской Церкви» митрополита Платона, выпустив из нее фрагменты, казавшиеся ему неудобными[615].
Филарет прямо высказывался против того, чтобы допускать к церковным собраниям древних рукописей ученых из светской среды, под предлогом того, что «неосмотрительное употребление» старых книг «может произвести соблазн и дать пищу лжеучениям»[616].
Истоки подобного «партийного подхода» коренятся в духе петровских реформ. И становление подлинно научной истории Русской церкви требовало преодоления столь прагматического отношения к прошлому. Об этом уже говорили не только славянофилы. Голубинский ясно сознавал, что с кончиной Филарета (1867) забрезжил час освобождения церковно-исторической мысли из египетского пленения клерикально-монархической бюрократии. Но ему еще предстояло с ней столкнуться…
Один известный философ как-то заметил, что истины, которые долго замалчивают, становятся ядовитыми. Поражение в Крымской войне и смерть Николая I дали импульс критической волне в публицистике, которая тогда же и получила название «нигилистической»[617]. Отголоски таких настроений не могли не достигать семинарских ушей, отчасти санкционируя прежде немыслимые по жесткости суждения. И Голубинский не остался чужд подобным настроениям.
В его деятельности исторический критицизм достиг подлинного апогея. Молот его аргументов крушил самые распространенные исторические мифы и выбивал опоры из-под казавшихся доселе несомненными фактов. Голубинский был нравственный максималист, по духу своему напоминающий чем-то А.М. Бухарева[618]. Он не признавал никаких сделок с совестью, даже ради благой цели. При этом его идеал исторического метода конкретно персоналистичен. Историк становится и психологом, он воссоздает мотивацию действий исторической личности на основании строго выверенных фактических данных.
Согласно собственным словам Голубинского,
идеал истории требует, чтобы люди, составляющие преемства лиц иерархических, и вообще все исторические деятели изображаемы были как живые люди с индивидуальной личной физиономией и с индивидуальным нравственным характером каждого, поелику в истории, подобно действительной жизни, которую она воспроизводит, всякий человек имеет значение только как живая нравственная личность и поелику наше нравственное чувство ищет находиться в живом общении с историческими людьми и хочет знать, должны ли мы воздавать им почести или произносить над ними строгий, так называемый исторический суд[619].
Монументальный труд «Истории Русской Церкви» (Т. 1–2, 1880–1911), из которого Голубинский при жизни успел выпустить первый том в двух огромных книгах и первую половину следующего (вторая начала выходить под редакцией С.А. Белокурова), охватывает события до середины XVI века. За это сочинение автор получил степень доктора.
Как отметил Н.Н. Глубоковский,
систематический критицизм был основным научно-историческим постулатом Е.Е. Голубинского, conditio sine qua non самой правдоспособности всякого добросовестного исторического труда. Это было главнейшим стимулом всего ученого подвига и составляло эссенциальное качество всех его результатов. Можно смело сказать, что научная история у Е.Е. Голубинского есть сплошная и всецелая критика, которая захватывает собой решительно все, не исключая последних мелочей вроде начертания имени «Владимiр», которое он, по специальным разысканиям, предлагал писать «Владимир»[620].
В этой детали – весь Голубинский. В самом деле, «и десятеричное» изначально было лишь техническим приемом писца в конце строки, позднее обрело новые права под влиянием юго-славянской книжности. Но если из этих соображений указывать его подлинное место в XIX веке, надо и «юс большой» восстанавливать… А Голубинскому нет дела до «юса»: уже не столько как ученый, сколько как идеолог он желает укорить всю современность. Как писал тот же Глубоковский,
к ужасу большинства верующих и к недоумению многих ученых Голубинский <…> бестрепетно и категорически отверг летописную повесть о крещении св. Владимира и прямо объявил ее позднейшей легендой, как бы подрезывая корни и поражая в голову историческое начало христианства в России….
То есть речь шла не просто об исторической истине, а именно о провокативной форме ее выражения. При этом Н.Н. Глубоковский отдает дань «полной самостоятельности» и «всецелой оригинальности» Голубинского, все мнения и утверждения которого всегда формулировались и выражались лишь «по собственным искренним убеждениям»[621].
«В памяти всех своих слушателей, – писал Н.Н. Глубоковский, сам бывший студент Московской духовной академии, – этот профессор, ничуть не заботившийся о лекторских успехах, сохранился с благоговейной славой, что Е.Е. Голубинский – это сама историческая правда, неспособная прибавить хотя бы слабого звука сверх того, на что уполномочивают бесспорные фактические свидетельства. И такова вся его “История” в каждой строке, насколько подобная документальность была посильна для ученого человеческого самоотвержения»[622].
Недостаточность отечественных источников по истории Русской церкви Голубинский, как известно, восполнял византийскими, руководствуясь мыслью, что суждения по аналогии здесь вполне уместны и оправданны. Но Русь, несомненно, это не просто «копия» Византии, и такие далеко не второстепенные литургические события ее церковной жизни, как праздник Покрова, в Константинополе едва заметный, или перенесения мощей св. Николая в Бар-Град, вообще не имеющий прецедента в Византии, свидетельствуют об этом со всей очевидностью. Н.Н. Глубоковский писал, что
почтенный историк исходил из слишком крайнего недоверия ко всяким историческим источникам и, впадая иногда в мелочную придирчивость, пропускал без необходимой оценки весьма крупное, когда, например, характеризовал церковно-богослужебные и канонические порядки Киевского периода по так называемому Уставу митрополита Георгия, а проф. А.С. Павлов потом с несомненностью обнаружил, что это – документ неподлинный[623].
Некоторые работы Голубинского при жизни не были опубликованы по цензурным соображениям. Поэтому особенно важной была для него поддержка такого ученого-архипастыря, как митрополит Макарий (Булгаков). У Голубинского не было средств для того, чтобы начать публикацию своего фундаментального труда по истории Русской церкви. И он обратился к Макарию, который в ту пору, в 1880 году, был московским митрополитом. Мало кто из близких Голубинскому верил в успех дела. Макарий же, хотя и отчетливо понимал, что труд Голубинского разрушает основы его собственных построений, отнесся к ситуации в высшей степени великодушно и философски. Голубинский так позднее вспоминал о своей встрече с ним:
Выходит Преосвященный Макарий, принимает меня необыкновенно любезно и с величайшей готовностью изъявляет согласие удовлетворить моей просьбе, причем, поручая мне написать формальную бумагу на его имя, предоставляет мне назначить условия займа, какие я сам найду для себя удобными, и говорит, что он положит резолюцию на бумаге, не читав ее. Я вышел, или лучше сказать, выскочил от Владыки и летел к Преосвященному Алексию на Саввинское подворье, не помня себя. Когда на вопрос Преосвященного: «Ну, что?» я рассказал ему, как принял меня Владыка и как отнесся к моей просьбе, он, можно сказать, весь превратился в удивление и изумление…[624]
При другом архиерее судьба Голубинского наверняка сложилась бы иначе…
* * *
Митрополит Макарий (Булгаков) – одна из центральных фигур церковной науки в России середины XIX века. В области догматического богословия он выступил как своего рода кодификатор, к трудам которого обращались в течение полутора столетий; в сфере исторической он занимает место между Н.М. Карамзиным и С.М. Соловьёвым. Митрополит Макарий (1816–1882) происходил из семьи бедного священника Курской епархии, окончил Курскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию (1841). С 1842 года начал преподавать в Санкт-Петербургской духовной академии. Своим приглашением в столицу Макарий был обязан преосвященному Афанасию (Дроздову) (1794–1876), одному из ученейших иерархов, в ту пору занимавшему должность ректора. Спустя восемь лет бремя управления академией легло на плечи самого Макария.
В 1854 году он был избран академиком Императорской академии наук. В дальнейшем ему приходилось нести архиерейское служение в Тамбове, Харькове, Вильно. Последние три года жизни он был митрополитом Московским и Коломенским. Именно митрополиту Макарию духовные академии Русской церкви в значительной степени были обязаны своим Уставом 1869 года, который в профессорско-преподавательской среде именовали не иначе как «благодетельным».
Список его научных публикаций открывает «История Киевской духовной академии» (1843), написанная еще на студенческой скамье в качестве курсового сочинения[625]. Не будет слишком смелым предположить, что эта книжка дала толчок другим работам в этом направлении, в частности монографии И.А. Чистовича по истории Санкт-Петербургской духовной академии (1857)[626], готовившейся и вышедшей в свет в пору ректорства Макария. Как церковный историк митрополит Макарий в значительной мере фактографичен и по обилию приведенного у него материала намного превосходит всех предшествующих авторов. Н.Н. Глубоковский отмечает, что свою деятельность он начал раньше Филарета (Гумилевского), выпустив еще в 1846 году «Историю христианства в России до равноапостольного князя Владимира, как введение в историю Русской Церкви». Сама эта многотомная история начала выходить только с 1857 года, а ее последний, XII том появился в свет уже после кончины автора, в 1883 году. Но по своему объему один лишь этот том почти равняется всему сочинению Филарета, хотя оно «обнимает время меньше на полтораста лет и не затрагивает многих крупнейших событий позднейшей эпохи».
Стремление к фактической полноте Н.Н. Глубоковский считает одной из характерных сторон деятельности Макария как историка Русской церкви. Пафос его труда – это свидетельство об истории с помощью документов, которые мыслятся самодостаточными. Считая «Историю» Макария колоссальным творением, «достойно конкурирующим с “Историей России” проф. С.М. Соловьёва», Н.Н. Глубоковский замечает, что ее автор «был счастлив ценными открытиями и обогатил науку множеством всяких сокровищ несомненного и высокого значения»; его труд «остается великим научным памятником, хотя часто носит отпечаток документального копирования внесением добытых им материалов in extenso – иногда почти в сыром виде». Вторую существенную черту «Истории» Макария Глубоковский усматривает в «художественно-повествовательном ее характере на всем протяжении целой серии», отказывая ему в то же время в концептуальной созидательности. «С течением времени, – пишет он, – критический элемент выступает у него энергичнее и шире, хотя остается чисто фактическим». В результате третьей особенностью историографии митрополита Макария оказывается «относительность исторической критики, принципиально удовлетворявшейся фактической вероятностью по прямой ассоциации событий»[627].
Трудившийся под началом Макария в Санкт-Петербургской академии и выступавший по ряду дисциплин в роли его ассистента архиепископ Никанор (Бровкович) (1826–1890) характеризует его такими словами:
Вообще надо иметь в виду, что ум преосвященного Макария был необыкновенно работящий, легко схватывающий, ясный и точный, но совсем же поверхностный, крайне неглубокий и в довершение всего надменный, от легкости и необъятности достигнутых не столько успехов, сколько похвал. Ведь его усердные чтители в светской печати провозглашали гением, не менее, – тогда как наши духовные, особенно же киевские академики, зло, хотя и тайно, порицали[628].
Критика в адрес Макария со стороны киевских ученых относилась отчасти к его во многом эклектическому труду по догматическому богословию. Что же касается исторических сочинений, то в Малороссии тогда мало кто мог судить о них с достаточной компетентностью, разве что Филарет (Гумилевский). Он, в самом деле, ощущая известную конкуренцию со стороны Макария, давал порой весьма суровую оценку его трудам, называл Макария «скорым в делах, но мало основательным», статьи его считал содержащими «пустые догадки и бестолковое многословие»[629].
Макарий тоже критически относился к Филарету, хотя и высказывался куда более дипломатично. В 1847 году в частном письме преосвященному Иннокентию Херсонскому он замечает, что ознакомившись с качествами «Истории» Филарета «не устыдился начать… печатание своих кратких и бедных записок по русской церковной истории»[630]. Здесь надо заметить, что на ранних этапах становления русской церковно-исторической школы ее немногочисленные представители, по большей части, правда, неявно, проявляли по отношению друг к другу настроения неприязненной соревновательности. Еще митрополит Евгений в очень резких словах характеризовал «Историю» митрополита Платона: «Это отнюдь не история, а летопись, в коей на лыко летоисчисления без порядка бытия нанизаны как будто вместе и калачи, и сайки, и бублики»[631]. Самому митрополиту Евгению тоже «достанется» от Филарета Гумилевского: «…В митр. Евгении, – пишет он, – сколько изумляет обширность сведений его, столько же поражает бездействие размышляющей силы, часто и резко высказывающееся»[632].
И вот именно Макарий дает какой-то новый поворот отношениям внутри церковно-исторического цеха. Его роль в поддержке научного сообщества, его помощь даже тем церковным ученым, с которыми у него были серьезные расхождения, поистине удивительна. Архиепископу Никанору, оставившему о своем наставнике критические воспоминания, он помог в 1871 году личным письмом сдвинуть с мертвой точки дело о присуждении докторской степени, которому тогда не давал ходу казанский архиепископ Антоний (Амфитеатров) (1815–1879)[633]. Спустя четыре года Макарий заступился за П.В. Знаменского, который Советом Казанской духовной академии за труд «Приходское духовенство со времен реформы Петра I» был удостоен степени доктора церковной истории, но утверждение этого решения застряло в Синоде по причине вмешательства все того же Антония (Амфитеатрова). Казанский архиепископ выступил с «особым мнением», в котором высказывался в том смысле, что труд Знаменского не является богословским ни по своему содержанию, ни по формальным признакам, а главное – слишком много уделяет внимания отрицательным сторонам жизни приходского духовенства и высших иерархов. Митрополит Макарий и здесь своим личным авторитетом сумел нейтрализовать отрицательный отзыв Антония и тем самым открыл перед П.В. Знаменским широкие перспективы научно-академической деятельности.
* * *
Пётр Васильевич Знаменский (1836–1917) – сын нижегородского диакона, окончил Нижегородскую духовную семинарию (1856) и Казанскую духовную академию (1860) со степенью магистра богословия за труд «Обозрение постановлений по церковным делам в России в начале ХVII столетия». С 1862 года он стал преподавать в ней историю Русской церкви, а с 1865 года параллельно читал эту дисциплину и на историко-филологическом факультете Казанского университета. В 1892 году избран членом-корреспондентом Императорской академии наук по Отделению русского языка и словесности. В студенческие годы в Академии П.В. Знаменский испытал мощное влияние нравственно-религиозного максимализма А.М. Бухарева, обаяние критицизма известного историка М.Я. Морошкина[634], а также Г.З. Елисеева – ученика А.В. Горского, ставшего позднее известным публицистом. Чрезвычайно важным было для него и общение с радикально настроенным казанским историком А.П. Щаповым. П.В. Знаменский стал его преемником по хранению и научному описанию Библиотеки Соловецкого монастыря, переданной в Казанскую академию в 1855 году, а с 1875 года возглавлял научную Комиссию по описанию Соловецкого собрания рукописей, ныне хранящегося в Российской национальной библиотеке (Публичной) в Санкт-Петербурге.
Как известно, Соловецкий монастырь в XVII веке был одним из важнейших идейных центров сопротивления церковным реформам патриарха Никона. К принятию «греческого благочестия» его принудили силой после восьмилетней осады. Поэтому повышенный интерес историков к религиозно-общественным взглядам соловецких старцев вполне понятен. А.П. Щапову живое общение с рукописным собранием обители давало к тому же дополнительные эмоциональные импульсы. Этот яркий преподаватель, с его критическим настроем к византизму, бюрократии приказного люда и боярщине, стеснявшим свободное развитие русского народа, с его отношением к расколу старообрядчества, с его идеалами гражданского общества, оставил яркий след в памяти П.В. Знаменского.
По мнению Н.Н. Глубоковского, А.П. Щапов был «пламенным воплощением» нарождающегося платонически-сентиментального «народничества», идеализировавшего с фанатизмом и восторженностью все «народное», включая раскол как «народную веру», подвергаемую официальному опорочению. Щапов, резюмирует Глубоковский,
еще в 1857 году в своей магистерской диссертации решительно поддерживал и аргументировал тот тезис, [что] якобы раскол есть собственно широкий народный протест против современного ему состояния и Церкви, и государства, и общества. Если тут он все-таки осуждался за церковную отсталость и косное невежество, то после А.П. Щапов рассеял и эту тень, провозгласив, что раскол представляет «общинную оппозицию податного земства всему государственному строю – церковному и гражданскому, отрицание народной массой греко-восточной, Никонианской церкви и государства, или империи всероссийской, с ее иноземными немецкими чинами и установлениями»[635].
Эта «пламенная тенденциозность» А.П. Щапова с точки зрения интересов объективной исторической науки имела то неоспоримое значение, что уравновешивала официозно-негативную трактовку старообрядчества и пробуждала критическую мысль, идеалам которой всегда оставался верен П.В. Знаменский. «Кратковременное служение А.П. Щапова на кафедре русской истории, несмотря на все недостатки его безалаберного преподавания, – пишет П.В. Знаменский, – имело в истории этой кафедры большое значение. Кафедра эта поднялась тогда до небывалой высоты. Русская история сделалась любимым предметом студенческих занятий»[636].
Следуя идейному направлению А.М. Бухарева, судьбе и наследию которого он посвятил немало трудов, П.В. Знаменский высказывался за тесную связь церковной и светской науки, отстаивал права самостоятельной мысли, выступал против схоластики[637]. Еще одним образцом стал для него архимандрит Хрисанф (Ретивцев). Он преподавал историю философии и историю религий, но его наглядно демонстрируемый метод обладал притягательностью и для будущего историка Церкви. Хрисанф, как писал П.В. Знаменский, стремился понять каждое явление изнутри,
схватить главный жизненный нерв системы, ее основное начало и, выяснив его тоже главным образом при свете истории, освещал им уже всю систему, показывая весь ее внутренний механизм, определяя связь и взаимную зависимость между ее частями и выясняя значение каждой части. Все это делалось им с увлекательным мастерством, которое обнаруживало в нем редкое в одном лице соединение богословско-философской эрудиции с историческою, абстрактного мышления с истинно-художественным талантом, сильного синтеза и дедукции с уменьем изучать и разбирать самые конкретные факты и с чутким психологическим и художественным анализом[638].
Одним из важнейших трудов П.В. Знаменского является «История Казанской духовной академии» (Вып. 1–3, 1891–1892). Здесь рассмотрены административная и хозяйственная деятельность Академии, быт студентов и преподавателей, учебный процесс, даны характеристики всем мало-мальски значительным лицам, порой удивительно подробные и психологически исчерпывающие, без какой-либо оглядки на «око государево». По своему значению труд этот далеко выходит за рамки обозначенной в заглавии темы и остается по сей день одним из важнейших источников по истории духовного образования в России в середине XIX века.
С этими установками П.В. Знаменский взялся и за написание учебника по истории Русской церкви, в котором в простом и ясном изложении были обобщены важнейшие достижения науки[639]. Этот труд П.В. Знаменского выдержал много изданий, причем уже за первое из них (1870) он был удостоен премии имени митрополита Макария. А.В. Карташёв отмечал:
«Руководство» проф. П.В. Знаменского, без сомнения, должно занять место в ряду самостоятельных церковно-исторических систем и по своему плану, и по подбору фактов, и по искусству построения. Правда, автор излагает здесь историю догматически: без цитат и ученой критики, предлагает читателю уже свою беловую работу, не показывая черновой, но во всем его изложении обнаруживается солидное знание первоисточников, из которых им самостоятельно извлечено множество ценных фактов, обставленных многозначительными замечаниями и меткими характеристиками, проливающими свет на характер целых эпох[640].
После пятого издания книга Знаменского стала собственностью Учебного комитета при Св. синоде. С этого момента автор сделал в ней значительные изменения, диктовавшиеся синодальной учебной программой. Ему пришлось, в частности, принять периодизацию российской церковной истории в соответствии с курсом Филарета (Гумилевского). Синод не позволил Знаменскому отойти от официальной точки зрения по целому ряду вопросов; были оставлены без внимания некоторые новейшие достижения церковно-исторической науки, в частности исследования Е.Е. Голубинского. Знаменскому пришлось воздержаться от характеристики общего духа петровских церковных преобразований и т. д.
* * *
Петр Васильевич Знаменский был еще студентом, когда вышла в свет «История Санкт-Петербургской Духовной Академии» (1857) Илариона Алексеевича Чистовича (1828–1893). Сын диакона Калужской епархии, Чистович окончил Санкт-Петебургскую духовную академию (1851), читал в ней отечественную, церковную и гражданскую историю, а позднее психологию и историю философии. В этой сфере у него были свои достаточно широкие интересы: его докторская диссертация носила название «Древнегреческий мир и христианство в отношении к вопросу о бессмертии и будущей жизни человека» (1871). Ему принадлежит также «Курс опытной психологии» (1868). Из систематических трудов по истории Русской церкви, помимо упомянутой «Истории» Петербургской академии и вышедшего позднее дополнения к ней («Санкт-Петербургская Духовная Академия за последние 30 лет, 1858–1888 годы», 1889), И.А. Чистовичу принадлежит чрезвычайно важный труд «Руководящие деятели духовного просвещения в России в первой половине текущего столетия», увидевший свет уже после его кончины (1894)[641]. В нем, можно сказать, осуществился идеал исследования, который вдохновлял тогда многих авторов (но нечасто действительно воплощался в ученых трудах) – история важных церковных событий показана «изнутри», через рельефные идейно-психологические портреты наиболее влиятельных лиц и скрупулезный анализ мотивации их решений. Кроме того, работа Чистовича основана на многих архивных документах, детально представлявших внешний ход событий.
Названные книги составляют важный цикл; в целом они проливают свет не только на историю духовного образования в России, но и на общий ход церковной истории. К этому циклу по сути дела примыкает и такое фундаментальное исследование, как «История перевода Библии на русский язык» (1899)[642]. Надо сказать, что интересы Чистовича как историка Русской церкви были весьма широки и основывались на тщательном изучении первоисточников. Он оставил ряд ценных исследований об иерархах XVIII столетия – Феофане Прокоповиче, Стефане Яворском, Арсении Мациевиче, Амвросии Подобедове, новгородском митрополите Иове. Чистович был также автором обширного «Очерка истории Западно-Русской церкви» (1882–1884), работ по истории старообрядчества и др.
* * *
Последний дореволюционный курс истории Русской церкви принадлежит А.П. Доброклонскому (1856–1937), выпускнику Московской духовной академии (1880), в стенах которой он слушал лекции Е.Е. Голубинского, В.О. Ключевского и А.П. Лебедева. Его труд «Руководство по истории русской Церкви» (Вып. I–IV, 1884–1893) не попал в поле зрения Н.Н. Глубоковского, зато А.В. Карташёв назвал автора «выдающимся историком» московской академической школы. Ранний период Доброклонский представляет, в основном следуя периодизации Е.Е. Голубинского, но отнюдь не в его стиле. Для Доброклонского скорее характерна «утрированная объективность, сухое воздержание от идейного освещения и принципиальных оценок излагаемых фактов»[643]. Можно ли его назвать еще одним «статистиком истории» в духе Е. Болховитинова? Читатель его труда может заметить, что при приближении к современности суждения Доброклонского становятся самостоятельнее, а последний том, посвященный Синодальному периоду, особенно выделяется полнотой и разнообразием исторических сведений.
Н.Н. Афанасьев позднее писал о том, что на исследования А.П. Доброклонского
можно полагаться с полной уверенностью: в них не будет сознательно допущено ни одной ошибки и материал будет использован с полным беспристрастием. В своих исследованиях он всецело определялся материалом и боялся выйти за его пределы. В этой скрупулезности, необычайно ценной для научного работника, лежал и основной его недостаток – отсутствие смелости и творческого вдохновения. Боязнь погрешить против исторической истины отвращала его от всяких смелых гипотез. Его горизонт был невольно сужен: широкие перспективы ускользали от его ученого взгляда. Отсюда его осторожность ко всему новому. Он был консерватором и в жизни, и в науке, но консерватором, на котором лежала особая чарующая прелесть[644].
Конечно, это менее всего было похоже на «философию истории Русской Церкви», появления которой ожидал А.В. Карташёв, но в качестве общего вывода можно резюмировать вышеизложенное именно в том смысле, что историческая школа в духовных академиях России к концу XIX века все-таки сложилась.
Раздел II Историческое сознание
В.С. Парсамов Карамзин и формирование исторической культуры в России: к проблеме «историк и аудитория»
Исследование исторической культуры, в отличие от традиционного историографического описания, не выходящего, как правило, за пределы эволюции исторических идей, предполагает в первую очередь актуализацию прагматического аспекта, иными словами, изучение среды реального функционирования исторических знаний. При этом важен не только историк, исследующий документы, и не только создаваемые им работы, но и аудитория, получающая исторические сведения. Таким образом, речь должна идти о цепочке: историк – исторический нарратив (текст) – аудитория. Воздействие исторического нарратива на читателя вполне может быть сопоставлено с воздействием на него художественного произведения. Сама эта параллель, видимо, имеет глубокие культурные корни и восходит к древнейшей метафоре «мир как книга». «Текст истории, – пишет Б.А. Успенский, – творится историком, подобно тому, как литературное произведение создается писателем»[645]. Как и писатель, историк творит действительность, которой нет, сама история в таком случае предстает как некий мираж, всплывающий сначала в сознании ее творца, а потом его читателей[646]. Однако из этого вовсе не следует, что критерии исторической достоверности не существуют. Они есть, но они сами являются частью исторического процесса и уже в силу этого подвержены изменениям. Эти критерии формируются историками в процессе научной рефлексии и закладываются ими в сознание их аудитории.
Еще в начале XIX века Огюстен Тьерри, говоря о необходимости смены историографической парадигмы, размышлял о том, как это скажется на читающей публике. «Я не сомневаюсь, – писал он, – что большинство людей так и не почувствует порочности метода, читая наших современных историков, которые воображают, что вся история уже известна, и, довольствуясь, по существу, тем, что уже сказали их непосредственные предшественники, стремятся превзойти их лишь в блеске писательского мастерства и чистоте стиля. Я верю, что первый, кто осмелится сменить путь и обратится к самим источникам, для того чтобы стать историком, найдет публику, расположенную его одобрить и за ним последовать»[647].
Историческая аудитория может изучаться двояким образом. Можно рассматривать реального читателя исторических трудов в социологическом, психологическом, гендерном, национальном и прочих планах. Анализируя таким образом аудиторию историка, исследователь рассматривает в первую очередь спрос на историческую продукцию в то или иное время. Но спрос этот во многом формируется историками, и происходит это, в том числе, путем имплицирования стратегий рецепции (и фигуры потенциального читателя) в самом тексте исторического повествования, т. е. исторический нарратив, как и любой нарратив, предполагает вольное или невольное конструирование адресата[648].
Апелляция к такому адресату в тексте достигается не только явными приемами (например, прямое обращение к читателю в предисловии, преследующее цель заранее отобрать себе аудиторию), но и пропусками в самом нарративе. Историческому нарративу свойственен дискретный характер, обусловленный как прерывистой структурой самого языка, так и пропусками того, что принято считать общеизвестным. Чем более дискретна конструкция, выстраиваемая историком, тем у́же аудитория, на которую он рассчитывает. Понятие «узкая» или «широкая» аудитория в данном случае не имеет отношения не только к научной или культурной значимости исторического сочинения, но и к реальной аудитории вообще. Речь идет лишь о той идеальной аудитории, которую конструирует сам автор, а не о той, которую реально составляют читатели его сочинений.
Историк, уверенный в том, что имеет дело с единственно возможным сценарием, развертывающимся в прошлом, и видящий свою задачу в его правдивом описании, рассчитывает в идеале на такого читателя, который хочет знать правду, но который не знает ничего. Источник в таком случае интересует автора в меру его достоверности. «Верность сказания, – писал В. Татищев, – за главное почесться может»[649]. Таким образом, к источнику и к историческому нарративу предъявляются одни и те же критерии, и сам нарратив в этом смысле представляет собой некий гипертекст, созданный из совокупности «достоверных» документов. В сознании такого историка отсутствует представление о прошлом как о чем-то завершенном, самодостаточном, и выступающем по отношению к настоящему как «чужое». А следовательно, исторический нарратив в данном случае лишен той диалогической напряженности, которая неизбежно возникает в нем при сопряжении различных времен. Идеальная аудитория такого нарратива может разрастаться до максимальных пределов, или, наоборот, сужаться до единственного читателя, тождественного самому автору.
В этих представлениях историк как самопознающий субъект оказывается человеком, наделенным абсолютным знанием, не только относящимся к прошлому, но и распространяющимся на будущее. Так, по мнению Татищева, от историка требуется, чтобы он «о прошедшем обстоятельно знал и о будущем из примеров мудро рассуждал»[650]. Характерно, что российский автор именно так представлял себе задачи исторической науки, да и науки вообще: «Наука главная есть, чтобы человек мог себя познать»[651]. Такая позиция автоматизирует отношение «историк – аудитория» и, по сути дела, снимает проблему исторического нарратива. Задача ученого в этом случае заключается лишь в том, чтобы «знать» и «судить». «Знать» подразумевает умение отличить достоверные источники от недостоверных, а «судить» означает руководствоваться примерами из прошлого в настоящем и будущем. Так, скажем, Г.Ф. Миллер, утверждая, что «каждому человеку, какого бы кто звания ни был, в истории необходимая нужда есть», мотивировал это тем, что «о всех приключениях нынешних и будущих времен, смотря на прошедшее рассуждать можно»[652].
И у Татищева, и у Миллера еще отсутствует фундаментальное для будущей исторической культуры противопоставление историка и аудитории, т. е. того, кто пишет историю, и того, для кого пишется история. Как бы само собой разумеется, что историк и его аудитория заинтересованы в одном и том же. Аудитория выступает в данном случае скорее в роли заказчика, чьи потребности обслуживает автор, чем в роли коллективного собеседника, при этом в роли заказчика исторического труда оказывается либо монарх, либо другое влиятельное лицо[653]. Более того, в условиях «неразвитости» исторической культуры историк не только получает заказ, но и сам старается его сформулировать. Так, например, Миллер, объясняя Елизавете Петровне, что «все европейские государи старались, чтоб история их государств обстоятельно была описана», весьма недвусмысленно продолжал: «и при том не жалели никаких иждивений к получению желанного намерения»[654]. И речь шла не о том, чтобы угодить государыне в плане конструирования прошлого. Вряд ли у самой Елизаветы Петровны на этот счет были какие-то идеи. Миллер искренне полагал, что монарх заинтересован в правдивом историческом описании. При этом, как будет воспринят его труд читательской публикой, Миллера мало волновало, хотя бы уже в силу отсутствия в России такой аудитории в середине XVIII века.
Иначе смотрел на эту проблему его главный оппонент М.В. Ломоносов. Он так же, как и Миллер, видел в своих занятиях по отечественной истории выполнение государственного заказа, а на Миллера смотрел в этом плане как на конкурента. При этом от немецкого историка, состоявшего на русской службе, Ломоносов отличался не только научным энциклопедизмом, с неизбежным в таких случаях налетом дилетантства, но и тем, что был профессиональным писателем и на историю смотрел не как на сугубо научное занятие, а как на нечто среднее между наукой и литературой. Поэтому проблема читательской аудитории для Ломоносова как автора была немаловажной. Он не только отделяет историка от аудитории, но пытается каким-то образом классифицировать последнюю.
Во вступлении к своей «Древней Российской истории» он писал, что история «дает государям примеры правления, подданным – повиновения, воинам – мужества, судиям – правосудия, младым – старых разум, престарелым сугубую твердость в советах». Как видно, Ломоносов дифференцирует свою аудиторию по социальному статусу (правитель – подданные), по профессиональным занятиям (воины – судьи) и по возрастным группам (старые – молодые). Каждый из них находит в историческом произведении что-то полезное для себя, а все они вместе – «незлобливое увеселение, с несказанною пользою соединенное». Последнее обстоятельство роднит историю с художественным произведением и одновременно противопоставляет их. Для нормативно мыслящего Ломоносова текст, основанный на правде, по аксиологической культурной шкале располагается выше текста, основанного на вымысле: «Когда вымышленное повествование производит движение в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы, особливо ж та, которая изображает дела праотцев наших?»[655] Более высокий статус текста, с одной стороны, предполагает бо́льшую ответственность автора, а с другой – большую взыскательность аудитории. Повествование, основанное на правде, в отличие от художественного нарратива, допускает возможность обмана, и соответственно дает право читателю предъявлять автору претензии. Поэтому Ломоносов призывает историка избегать «похлебства», т. е. угождения или поблажки, и «наблюдать праведную (т. е. правдивую. – В.П.) славу целого отечества: дабы пропущением надлежащия похвалы – негодования, приписанием ложные – презрения не произвести в благорассудном и справедливом читателе»[656].
Проблема аудитории неизбежно включает в себя и вопрос о языке исторического сочинения. Одним из пунктов нападок Ломоносова на диссертацию Миллера «Происхождение имени и народа российского» было требование не только «важности и великолепия», что было обусловлено ее подношением Елизавете Петровне, но и «живости, ясности и подлинности, старательно изысканной». Поскольку именно этими качествами, по мнению Ломоносова, диссертация Миллера не обладает, то она «российским слушателям и смешна, и досадительна»[657]. Характерно, что апелляция ко мнению читателей (слушателей) постоянно присутствует на страницах ломоносовской критики. Так, например, одним из аргументов против варяжского происхождения русского государства, выдвигается то, что «слушателям будет крайне тягостно слушать о том, как племя, носившее одинаковое с ними имя, подверглось со стороны скандинавов убийствам и грабежам, как страна опустошалась огнем и мечом и была благополучно побеждаема победоносным оружием». Характерен и ответ Миллера на это замечание: «невежество некоторых слушателей никоем образом не может быть поставлено в упрек мне. Более разумные, читая это, сразу поймут, что речь идет не о нынешних русских, но об обитателях России, которые населяли эту землю до прихода русских и были покорены русскими или варягами»[658].
Если Ломоносов, как уже отмечалось, дает развернутую классификацию читателей исторических трудов, при этом не ставя под сомнение компетентность ни одной из групп, то Миллер делит своих читателей на «разумных» и «невежественных». При этом ориентируется он исключительно на первых, а не на вторых, т. е. вопросы широкого распространения исторических знаний его мало интересуют. При наличии заказчика проблема аудитории, по сути дела, не ставится. Историк работает для конкретного лица и ждет от него не только одобрения, но и вполне реального вознаграждения. Характерно, что Миллера интересуют в первую очередь не его читатели, а условия работы: состояние государственных архивов, приказных дел, монастырских рукописей и т. д.
Нет необходимости рассматривать по существу полемику Ломоносова и Миллера по норманскому вопросу. Она многократно описана в литературе и хорошо известна. Исследователи неоднократно отмечали ее политический характер[659]. Но, вместе с тем, этот спор имеет и общекультурный смысл, связанный с формированием исторической культуры в России. Дело не в том, кто прав из спорящих сторон. Как верно заметил А.Б. Каменский, «окончательная точка в нем (споре. – В.П.) еще не поставлена»[660], а ввиду отсутствия прямых источников вряд ли вообще будет когда-нибудь поставлена.
Миллер исходит из представления о единстве научной истины и о возможности ее постижения путем беспристрастного изучения источников. Ломоносов руководствуется тем, что историк, прежде всего, писатель, вынужденный так или иначе соотносить то, о чем он пишет, с читательской средой. Из этого вовсе не следует, что он может искажать истину в угоду своим читателям, но это значит, что между ним и его аудиторией должна существовать некая конвенция о том, что такое истина. Сам конвенциональный характер исторической истины дает историку, с одной стороны, бо́льшую свободу в интерпретации исторических документов, чем признание ее абсолютного и неизменного характера, а с другой стороны, теснее связывает его с читательской аудиторией. Последнее обстоятельство не только повышает спрос на произведения историка, но способствует формированию массовой исторической культуры.
Разумеется, доказывать широкое распространение исторических знаний в XVIII веке невозможно, как и то, что произведения историков того периода имели большой спрос. Массового читателя в то время в России еще не было. Писатель и читатель еще нередко сосуществовали в одном лице. Но даже в рамках этой практически замкнутой литературной системы уже можно говорить о тенденции к расширению исторической аудитории. Если магистральная линия исторического знания в России XVIII века, проходящая от сочинений Татищева к трудам М.М. Щербатова, определяет уровень научных знаний того времени, то на периферии исторической науки возникают любопытные нарративы, пытающиеся представить историю как увлекательное повествование.
Иван Перфильевич Елагин (1725–1794) не был профессиональным историком и писать свой «Опыт повествования о России» начал уже в преклонных летах, когда перестал заниматься государственными делами. «Времени избыток суть виною сего сочинения», – так определил он причину своих занятий. Елагин не ученый-историк, а читатель исторической литературы. Именно как читателя он позиционирует себя в предисловии к своему труду: «Чтение сие, спокойство духа моего питая, умерщвляет мало-помалу сердечные и честолюбивые тревоги и мирских суетностей вожделение»[661]. Предваряет труд Елагина краткий обзор читаемой им исторической литературы, включающей весьма разнородный материал, что позволяет в какой-то степени судить об уровне исторической культуры в России в конце XVIII века; Елагин не только не разделяет источники и исследования, что вообще было характерно для XVIII века, но он не делает разницы и между художественной и научной литературой. Так, например, исторические труды Татищева, Миллера, Ломоносова у него соседствуют с историческими поэмами Хераскова. В одном ряду с произведениями о России у него идут сочинения античных авторов (Плутарха, Тита Ливия, Тацита, Саллюстия и др.). Такое смешение неслучайно. Елагин делит исторические сочинения не по содержанию, а по стилю изложения. Так, например, у Нестора он «темен по древности языка и неисправен по небрежению переписчиков. Красоты витийства и учености повествования в нем не видно»[662]. Сочинение Авраамия Палицына «пристрастно, плодовито, витиевато, и кажется, что писано тогдашнего Двора по повелению, дабы омерзить память Царя Бориса Фёдоровича Годунова»[663]. Татищев, при всех его несомненных в глазах Елагина достоинствах историка, «держался как порядка, так и слога тех древних, с которых списывал»[664]. Далее коротко и одобрительно отозвавшись о Миллере как о «трудолюбце», Елагин дает восторженную характеристику Ломоносова, обладавшего «всеми способностьми прямого Повествователя»[665].
Вместе с тем Елагин признает, что историческое повествование не должно быть простым пересказом документа.
Такое нерастворенное убедительными деяний причинами, любомудрыми и политическими рассуждениями, законов и нравов естественных и гражданских приводами, и не утвержданное притом неоспоримыми умозаключениями, и солью приятного красноречия не уваженное повествование есть скука читателю и самому Повествователю посрамление[666].
Современный историк, в представлении Елагина,
не берет ничего из древних летописей, как токмо летоисчисления, деяния и состояния государства в том времени, о котором он предлагает, и из сего выбирает тогдашние законы, нравы и характеры действующих лиц и достойные к предложению приключения. Все сие вносит он в свое соображение, разбирает, весит и оправдывает или, обвинив доказательств приводами, потомству предлагает[667].
Кроме «сладкогласия», которое «никакое училище преподать не может», Елагин, вслед за Мабли, считает необходимым для историка знание философии, логики и политики. Он противопоставляет сочинения Лейбница, Гроция, Пуффендорфа произведениям французских просветителей – Вольтера, Руссо и Даламбера. Первые, хоть «не столь блестящи», но зато превосходят их «в знании прав и законов государственных». Вторые «дерзки, безбожны, своевольны»[668].
Ориентируясь на новых авторов, Елагин вместе с тем сохраняет свойственную классицизму нормативность, проявляющуюся в следовании древ ним образцам. По его мнению, все необходимые для историка качества уже были у античных историков, «коих новые в образец себе принимать долженствуют»[669]. Ломоносов, в представлении Елагина, потому и велик, что в нем «находилась обширного Тита Ливия соображения природа, великого тонкого Тацита политики проницание, и краткого Салюстиева красноречия острота»[670].
Сам же Елагин в своем «Опыте» декларирует готовность следовать за Тацитом. Нормативность исторического мышления Елагина базировалась не только на идее близкого ему классицизма, но и на просветительском убеждении в том, что «сердце человеческое всегда одинако, и то же ныне, каково было от самого веков начала»:
Я ведаю, что те ж добродетели и те ж пороки и страсти присущны и ныне в Петербурге и в Москве, какие в Афинах и Риме существовали. Не изменение сердец, но больше и меньше просвещения и невежества творят нравов разновидность, а Природа та ж всегда пребывает. Иоанн в Москве таков же тиран, каков и Нерон был в Риме. Каков тамо возмутитель Катилина и мятежны Трибуны; таков и у нас Хованский и головы Стрелецкие. Как безрассудна и буйственна необузданна чернь в ветхой Италии, так равно и в Руси возмущенный народ слеп и кровожаждущ. Каковы чувствования властолюбия находим в Англии в Герцоге Глочестерском или Ричарде III, лицемерно от престола отрицавшемся; такия точно видим в притворном Бориса Фёдоровича Годунова сердце; и сколько там при Генрихе VII обретаем бесстыдных самозванцев: гораздо еще более таковых исчислим при Василии Иоанновиче Шуйском. Сего естественного в человеке сходства познание много, кажется, может вспомоществовать к справедливым умозаключениям и в самых запутанных между человеки делах. При том истину любящему, с примечанием в общежитии долго обращавшемуся, в обхождении разного состояния людей многолетно бывшему, прилежным чтением Законодавцев, Политиков, любомудрцев и разнородных нравов описателей запасшемуся, конечно, удобь возможно проникать и в саму глубину сердечных сгибов лиц действующих. Естества позорище то ж, и те ж добродетели и пороки на нем представляются; следовательно разность токмо в премене одежде и явлений, кои иногда смех, иногда слезы в зрителях производят[671].
В этом отрывке выражен ряд идей, которые в дальнейшем так или иначе будут обсуждаться русскими историками и публицистами, размышляющими на исторические темы. Представление о том, что история человека едина, и Россия лишь повторяет путь, пройденный Западной Европой, имея своих Неронов, Генрихов, Катилин и т. д., уже в ближайшие десятилетия обернется спором о возможности создать единую формулу, описывающую европейский и русский пути исторического развития. Немаловажно и то, что для Елагина уже очевидно, что чтения источников и исторических трудов недостаточно для понимания истории. Необходимы теоретические знания, позволяющие осмыслить факты и дать им убедительное объяснение.
Елагин убежден и в том, что именно человек является главным объектом описания как историка, так и писателя. Историк, по его мнению, и должен быть в первую очередь писателем и опираться не только на знание исторической, философской и др. литературы, но и на собственный жизненный опыт, позволяющий ему лучше понять человеческую природу. Его «Опыт» не является историческим исследованием даже по меркам XVIII века. Это не столько опыт истории, сколько опыт самостоятельного прочтения исторических текстов и включения их в круг собственных размышлений на отвлеченные темы. В этом смысле он скорее представитель исторической аудитории, чем исторической науки.
Елагин начал писать свой «Опыт», когда его младший современник Карамзин отправился в заграничное путешествие. Пушкин далеко не случайно сравнил Карамзина с Колумбом: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Коломбом»[672]. С карамзинской «Истории» в России, собственно, и начинается историческая культура. Ее первым признаком является ориентация историка на конкретную аудиторию, что ставит перед историческим автором особые задачи. Прошлое ему необходимо увязать с настоящим не как причину и следствие, а как «чужое» и «свое».
Для того чтобы пробудить в своих читателях интерес к истории и одновременно примирить их с тем, что история может быть не только занимательна, но и скучна, а изучение ее – занятие хоть и не только приятное, но всегда полезное, Карамзин уподобил изучение истории путешествию:
Знаю, что битвы нашего Удельного междоусобия, гремящие без умолку в пространстве пяти веков, мало важны для разума; что сей предмет не богат ни мыслями для прагматика, ни красотами для живописца: но История не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир. Видим на земле величественные горы и водопады. Цветущие луга и долины; но сколько песков бесплодных и степей унылых! Однако ж путешествие вообще любезно человеку чувством и воображением; в самых пустынях встречаются виды прелестные[673].
Передавая идею времени через пространственные метафоры, следуя при этом за самим языком[674], Карамзин формирует в своем читателе представление о прошлом как об ином мире. Вместе с тем бесхитростная на первый взгляд метафора путешествия во времени у Карамзина приобретает специфический смысл. Русский читатель, несомненно, представлял себе старый образ Карамзина-путешественника, открывшего перед ним за два десятилетия до появления из печати первых томов «Истории» мир современной ему западноевропейской цивилизации[675]. Этот мир был пропущен через автобиографическую и фикциональную одновременно фигуру молодого путешественника, который испытывал чувство новизны и удивления перед достижениями европейской культуры. Теперь между читателем истории и самим Карамзиным опять вставала фигура повествователя. Ю.М. Лотман писал о том, что «Карамзин берет в качестве нормы <…> наивный взгляд летописца давно прошедших времен»[676]. Наивный взгляд летописца – это отнюдь не взгляд самого Карамзина, прекрасно осведомленного о современных ему историософских концепциях. Но именно такой взгляд он стремится выработать у своего читателя, почти не знакомого с историей своего отечества. Вместе с тем подобному подходу присущи «твердая разграниченность положительных и отрицательных оценок, вера в незыблемость и добра, и зла»[677]. Таким образом, читатель карамзинской истории оказывался не перед объективно бесстрастным описанием фактов и не перед субъективными суждениями о прошлом у человека конца XVIII – начала XIX века. Его вниманию представал увлекательный рассказчик событий, подвергнутых нравственно-психологической интерпретации. Мир, о котором шла речь, был далеким и «остраненным», а рассказ о нем – живым и понятным.
Немаловажным фактором в формировании исторического читателя стал слог Карамзина. Историческая культура в России складывалась параллельно с созданием литературного языка. Поэтому написание истории для Карамзина, помимо всего прочего, представляло собой решение лингвистической проблемы. Карамзин оказался между двумя языковыми стихиями: стихией летописного повествования, далекой от современного ему читателя, и стихией формирующегося русского литературного языка, к которой еще только предстояло читателю привыкнуть. Первая безнадежно устарела, вторая казалась слишком новаторской. Необходимо было путем адекватного перевода понятий с языка летописей на язык современной прозы создать слог исторического повествования. Не только сторонники Н.М. Карамзина, вроде П.А. Вяземского[678] или А.А. Бестужева[679] отмечали легкий и в то же время подлинно русский стиль его «Истории», но и представитель противоположного литературного лагеря П.А. Катенин писал, что «собственный же слог Карамзина-путешественника <…> исчез, над ним смеются, сам Карамзин его переменил; не другие к нему приноровились, а, напротив, он сообразился с общим вкусом»[680]. Под «общим вкусом» Катенин в данном случае понимает собственные лингвистические пристрастия, ориентированные на язык летописей и народные говоры.
Карамзин же решал эту проблему иначе. Он отнюдь не считал, что историк должен стилизовать свой язык под старину и уж тем более писать так, как писали древние летописцы. В своей «Истории» он не воспроизводит, а моделирует язык летописей. В этом смысле его работа аналогична работе переводчика, стремящегося стиль оригинала передать средствами другого языка. Карамзин практически осознал, что историк имеет дело не с со бытийно-фактическим рядом как таковым, а с текстами, отражающими в себе этот ряд, и видел свою задачу в интерпретации этих текстов, во включении их в круг современного ему культурного сознания. Как интерпретатор он стремится сблизить сознание древнего летописца с психологическими открытиями романтизма.
Современники отмечали значительность научного аппарата, сопровождавшего основной текст «Истории». «Ноты «Русской истории», – писал Пушкин, – свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению»[681]. Между тем примечания свидетельствуют не только об обширной учености Карамзина. В структуре его «Истории» они представляют собой тот изначальный текст, с которого осуществляется «перевод» на язык современных понятий. Читателю как бы дается возможность сравнивать оригинал с переводом подобно тому, как это делается в изданиях с параллельными текстами. Таким образом построенный текст делит читающую аудиторию на две части: на тех, кто читает текст Карамзина вместе с примечаниями, составляющими примерно треть объема всего произведения, и тех, кто читает только авторский рассказ о событиях[682]. Голоса летописей звучат рядом с голосом самого Карамзина, и если примечания подтверждают достоверность рассказа, то рассказ, в свою очередь, помогает читателю понять летописи. Иными словами, Карамзин, не монополизируя право на знание истории, предлагает читателю сравнить его рассказ о далеких событиях с рассказом о них же их современников. При этом читатель должен был заметить не только совпадения, что как бы само собой подразумевалось, но и различия. Прошлое только тогда превращается в историю, когда оно, с одной стороны, отделено от актуального опыта временной завесой, а с другой, – присутствует в нем как некое воспроизведение.
«История государства Российского», породив массового читателя («3000 экземпляров разошлись в один месяц»[683]) и одновременно стимулировав развитие научно-исторической мысли, довольно скоро вызвала ситуацию кризиса, который был обусловлен не застоем исторической мысли, а, напротив, быстрой историзацией сознания и верой в то, что история – наука, которая может давать ответы на все вопросы. От истории стали ожидать гораздо большего, чем находили у Карамзина, и на него посыпались упреки либо в отсутствии исторической концепции, либо в ее политическом вреде. В наиболее резкой форме это было высказано в одной из эпиграмм, вышедших из круга декабриста Н.И. Тургенева:
Решившись хамом стать пред самовластья урной Он нам старался доказать, Что можно думать очень дурно И очень хорошо писать (курсив мой. – В.П.)[684].Таким образом, сами достоинства Карамзина обернулись в глазах его младших современников недостатками: «Нынче говорят, что нам до слога? пиши как хочешь, только пиши дело», – утверждал П.Я. Чаадаев. При этом сам Чаадаев прекрасно ощущал зависимость русской истории от пера писателя: «Мысль разрушила бы нашу историю, кистью одною можно ее создать»[685]. В другом месте Чаадаев высказался на эту же тему более определенно: «История нашей страны, например, рассказана недостаточно; из этого, однако, не следует, что ее нельзя разгадать. Мысль более сильная, более проникновенная, чем мысль Карамзина, когда-нибудь это сделает»[686].
Итак, дилемма заключалась в том, надо ли историю писать или разгадывать, является ли она миром, возникающим в воображении историка, или есть некий внеположный его разуму ребус, требующий разгадывания. Если в первом случае историк нуждается в аудитории, для которой ведется рассказ, то во втором случае он остается наедине с историей и занимается не собиранием фактов, а их осмыслением: «Самые факты, сколько бы их ни собирать, еще никогда не создадут достоверности, которую нам может дать лишь способ их понимания»[687].
Нападки на Карамзина лишь усилились после знакомства русских авторов с современной им французской историографией, бурное развитие которой пришлось на 1820-е годы. Само это развитие во многом было обусловлено интеллектуальным кризисом, сопровождавшим переход от Империи к Реставрации. Манифестом новой школы историков стали, как известно, «Письма об истории Франции» О. Тьерри, публиковавшиеся в 1820 году на страницах «Courier français» и после неоднократно переиздававшиеся. «Я глубоко убежден, – писал Тьерри, – что мы не имеем еще подлинной истории Франции <…> Истинно национальная история, история, которая заслуживает стать народной, еще погребена в пыли современных ей хроник, откуда никто не думает ее извлекать. До сих пор все еще переиздают неточные компиляции, ложные и бесцветные, которые за неимением лучшего мы украшаем названием История Франции». И далее Тьерри формулирует основные постулаты новейшей историографии:
Наши провинции, города, все то, с чем каждый из нас связывает понятие родины, должно быть представлено на протяжении всех веков, а вместо этого мы встречаем только домашние хроники правящей династии, рождения, свадьбы, похороны, дворцовые интриги, вечно плохо описанные войны, которые все похожи друг на друга, лишены движения и живописности[688].
За этими письмами последовало множество фундаментальных работ, посвященных истории французской и, шире, европейской цивилизации, созданных рядом французских историков. Достаточно назвать такие труды, как «История французов» Сисмонди, «История цивилизации в Европе» и «История цивилизации во Франции» Гизо, «История Французской революции» Минье и многие другие, чтобы понять, как быстро и радикально изменился характер европейской исторической науки. Появление этих трудов лишь усиливало у русских современников ощущение кризиса отечественной историографии и порождало соблазн механического перенесения теорий французских историков на почву русской истории.
В наиболее прямолинейной форме это попытался сделать Н.И. Полевой в «Истории русского народа». Подобно тому, как Тьерри в своих «Письмах» критиковал историков XVIII века за их устаревшие представления об истории, Полевой в качестве основной мишени избрал Карамзина: «Он был <…> историк прошедшего века, прежнего, не нашего поколения»[689].
Труд Полевого только начал публиковаться, как сразу же вызвал основательную и резкую критику Пушкина, заявившего о неправомерности экстраполяции исторических схем французских историков на русскую историю: «Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; <…> история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада»[690]. И хотя Пушкин берет Карамзина под защиту от «мелочных придирок» Полевого, он, тем не менее, близок к Полевому в том, что национальная история может быть выражена некой единой формулой.
Если оставить в стороне различия в масштабах дарования Карамзина и Полевого, то суть их расхождений может быть сведена к следующему: Карамзин стоит на позициях релятивизма и считает, что единственной реальностью, на которую может опереться историк, являются тексты (в его случае это тексты летописей). Задача историка, интерпретируя эти тексты, донести их содержание до понимания современной историку аудитории. Эта задача может быть выполнена путем создания адекватного нарратива. Полевой же, с его стремлением «показать нам прошедшее так, как оно было»[691], считает, что историк имеет дело с лежащими вне его сознания фактами, которые должны быть пропущены через современную ему историософскую схему.
Согласно идее стадиального развития исторических взглядов концепция Полевого считается новым этапом по сравнению с концепцией Карамзина. Однако с этим можно не согласиться. И дело не только в том, что Полевому в конечном счете так и не удалось преодолеть инерцию, заданную «Историей» Карамзина[692]. Наивно было бы утверждать, что требование философского осмысления исторического прошлого не было знакомо Карамзину и что он не в состоянии был взглянуть на исторический процесс сквозь призму современной ему философии. Но именно это, по его мнению, внесло бы субъективизм в исторический нарратив. Как указывал Ю.М. Лотман:
И просветители XVIII века, и романтики начала XIX века искали в истории «аллюзий» и «отношений», не мыслили ее вне связи с современностью. Первые вливали в исторический текст свои политические концепции, наделяли деятелей далекого прошлого философским мышлением XVIII века, вторые стремились найти в их душах выражение собственных эмоций. Подход Карамзина был иным – в летописном тексте он не искал своих мыслей и чувств. Наоборот, он усугублял в исторических источниках то, что, по его мнению, составляло их специфику, искал в них то, чего не мог найти в себе самом[693].
Карамзин решал две важнейшие задачи: показать прошлое таким, каким оно виделось людям тех далеких времен, и сделать это так, чтобы заинтересовать своих современников. В решении первой задачи Карамзин в чем-то предвосхитил современный семиотический подход к истории, который
предполагает апелляцию к внутренней точке зрения самих участников исторического процесса: значимым признается то, что является значимым с их точки зрения. Речь идет, таким образом, о реконструкции тех субъективных мотивов, которые оказываются непосредственным импульсом для тех или иных действий (так или иначе определяющих ход событий)[694].
Путь, намеченный Карамзиным, казался его младшим современникам и потомкам слишком художественным, далеким от подлинно научной истории, в которой все больше и больше начинали видеть проекцию неких глобальных философских схем, в связи с чем процесс познания истории приравнивался к поиску исторических закономерностей. Исторический нарратив все больше дистанцировался от личности историка и становился все более монологичным. Однако «История» Карамзина не потеряла своего читателя. С появлением «научной» истории она вошла в разряд детского чтения[695]. Можно было бы привести множество мемуарных свидетельств о том, как знакомство с Карамзиным пробуждало в детях первый интерес к истории. «История» Карамзина составила фундамент той исторической культуры, которая была ею же создана.
Историк вообще ставит перед собой задачу ввести своего читателя в некий чужой для них обоих мир[696]. Из этого, конечно, не следует, что до Карамзина в России не было историков, а в русском обществе не было интереса к истории. Но Карамзин – первый историк, у которого появилась массовая аудитория. Он первый, кто осознал не только проблему конструирования исторического нарратива, но и поставил вопрос о востребованности исторических знаний. О пользе истории до Карамзина рассуждали многие, но лишь Карамзин практически сумел превратить историю в неотъемлемую часть культурного опыта своих соотечественников.
Т.А. Сабурова «Места памяти» русского образованного общества первой половины XIX века
Образы XVIII века, созданные русскими интеллектуалами в первой половине последующего столетия, сыграли важную роль в становлении исторического сознания и формировании новой культурной идентичности русского просвещенного общества (важнейшим фактором тут была и связь с государственной идеологией[697]). Обратим внимание на представление о границах XVIII столетия – оно, конечно, воспринималось не только в хронологическом смысле. С одной стороны, XVIII век был тесно связан с именами Петра I и Екатерины II (что нашло яркое выражение в знаменитом стихотворении Радищева «Осьмнадцатое столетие»: «Петр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами / Зрите на новый вы век, зрите Россию свою»). С другой стороны, новый век начинали отсчитывать не просто с воцарения Александра I (его могли связывать с правлением Екатерины, тем самым не разделяя, а наоборот – соединяя столетия). В представлениях русского просвещенного общества рубежом между столетиями мог выступать и 1812 год, завершивший одну и открывший другую, новую эпоху. Если в отношении Европы в качестве границы, завершающей XVIII столетие, чаще всего назывались события революции 1789 года во Франции, то применительно к России такой определенности не существовало, и границы XVIII столетия были весьма пластичны. Пётр Вяземский писал в 1848 году:
Во Франции революция 89 года и последующих годов все перевернула вверх дном, вместе с прочим и ниспровергла красивое и уютное здание векового общежития. У нас не было такого крутого переворота. Но вскоре после смерти отца моего 1812 год временно рассеял общество из Москвы, и оно после на старом пепелище своем никак не могло возродиться на прежний лад. <…> Вообще другие требования, другие обычаи и в Москве и везде установили новый порядок. Мне иногда сдается, что все виденное мною было только игрою и обманом сновиденья или что за тридесять веков и в тридесятом царстве жил я когда-то и ныне перенесен в совершенно другой мир[698].
В первой половине XIX века представления о восемнадцатом столетии сохранялись прежде всего в индивидуальной памяти, но постепенно перемещались в область общего исторического сознания, из пределов личного опыта в сферу коллективного переживания. Вопрос о репрезентативности нашей реконструкции этого общего «имагинативного» фонда всегда останется открытым. Мы обратимся главным образом к наследию трех видных деятелей российской культуры того времени: Петра Вяземского, Александра Тургенева и Александра Герцена, при всех идейных и поколенческих различиях отразивших в своих текстах (включая мемуарные, эпистолярные и т. д.) схожие схемы переживания/конструирования относительно близкого прошлого, общие модусы восприятия века Просвещения – глядя уже из другого столетия и иной культурной эпохи.
Вяземский, которого Чаадаев называл «русским отпечатком XVIII столетия», в своих «Записных книжках» неоднократно обращается к теме ушедшего века и уходящего поколения, которое видится ему замечательным и оригинальным. Формированию соответствующего образа XVIII столетия в немалой степени способствовало общение П.А. Вяземского с друзьями его отца, например с поэтом и сановником Юрием Александровичем Нелединским-Мелецким (1751–1828). В биографическом очерке о нем Вяземский писал:
Упомянутая мною эпоха почти принадлежит уже к эпохам допотопным; лица, в ней действовавшие на сцене, если не публично, то по крайней мере на блестящей сцене домашнего театра, едва ли не баснословные лица для нового поколения. Хотя Нелединский дожил до нашего времени, но и он цветущими, лучшими годами своими принадлежал той эпохе, давно минувшей. Предание, воспоминание мое связывают и меня с нею[699].
Л. Голбурт (L. Golburt) в статье, раскрывающей особенности восприятия минувшего века у современников Герцена, отмечала, что стареющие мужчины и женщины XVIII века сохраняли одну из самых своеобразных эпох русской культуры нового времени уже самим своим физическим складом, поведением и костюмом[700]. Эту же особенность – буквальное сохранение черт старины, свойство быть отпечатком прошлого столетия, несмотря на все новые порядки, общественные преобразования или моду, замечает и Вяземский, описывая Наталью Кирилловну Загряжскую (1757–1847), старшую дочь малороссийского гетмана К.Г. Разумовского, известного брата фаворита Елизаветы Петровны:
В ней было много своеобразия, обыкновенной принадлежности людей (а в особенности женщин) старого чекана. <…> Она была, как эти старые семейные портреты, писанные кистью великого художника, которые украшают стены салонов новейшего поколения[701].
Несколько страниц посвятил в «Былом и думах» Герцен другой представительнице XVIII века – Ольге Александровне Жеребцовой (1766–1849), создав портрет умной, деятельной, сильной и независимой женщины, прожившей длинную и очень насыщенную жизнь (сестра братьев Зубовых, выдвинувшихся на излете екатерининского царствования, она была знакома с Вольтером, блистала при европейских дворах и содействовала заговору и убийству Павла I). Мемуарист выразительно описывал первое впечатление о знакомстве: «…Взошла твердым шагом высокая старуха, с строгим лицом, носившим следы большой красоты; в ее осанке, поступи и жестах выражались упрямая воля, резкий характер и резкий ум»[702]. Герцен назвал Жеребцову «странной и оригинальной развалиной другого века»[703], обращаясь к ассоциациям с руинами – свидетелями исторических эпох и знаками скорее величия, чем упадка и дряхлости[704]. В то же время отметим, что в разделе «Былого и дум», озаглавленном «Люди XVIII века в России», Герцен также писал об оригинальности этого поколения, но в более негативном смысле (он называл их иностранцами дома и за границей, испорченными западными предрассудками и русскими привычками). Размышления о людях прошлого столетия позволяли Герцену показать и проблему европеизации России, и особенности положения российского дворянства. Представляет интерес описание поведения и характера Сергея Петровича Румянцева (1755–1838), сына фельдмаршала и младшего брата знаменитого археографа Николая Петровича Румянцева, у известного мемуариста Михаила Александровича Дмитриева (1796–1866). Выбранные характеристики воплощают представление о настоящем вельможе екатерининского времени, аристократе ушедшего века. Создавая образ живого, веселого, просвещенного человека с прекрасными манерами и литературным вкусом, «немножко вольнодумца, как человека XVIII века»[705], М.А. Дмитриев противопоставляет «настоящих» вельмож XVIII столетия современной ему знати («нынче вельмож нет; нынче есть знатные люди только по чину, а более по близости к Государю…»[706]).
Во многих заметках Вяземского также ощущается своеобразное ностальгическое настроение, составляющее элемент исторической памяти деятелей его круга. «Блестящий век Екатерины, век Державина, пиитический век славы России»[707]. «Эпоха, ознаменованная деятельностью Хераскова, Державина, Дмитриева, Карамзина, была гораздо плодороднее нашей»[708]. Обратим внимание на особое значение царствования Екатерины II в представлениях Вяземского, выделение ее правления как особой эпохи, целого века, блестящего времени русской истории. Как убедительно показал М.И. Гиллельсон, взгляд на эпоху Екатерины II как на время успехов русского Просвещения сложился у Вяземского еще в 1810-е годы, и это идеализированное представление он пронес через всю свою жизнь[709]. Такая идеализация XVIII столетия у Вяземского определялась, с одной стороны, оценкой современных ему событий, критикой царствования Александра, а затем и Николая I, противопоставлением современности XVIII века как эпохи, достойной подражания в политическом и литературном смысле. Вяземский писал:
Не умею придумать великолепнейшего и поучительнейшего зрелища как пример владыки народа, с престола братски подающего руку писателям, образователям народов. В сем священном зрелище Екатерина играет первое лицо. <…> Лучшими успехами своими на поприще ума обязаны мы движению, данному ею; оглянемся без предубеждения: где и что были бы мы, если вычесть из гражданского и политического бытия России тридцать четыре года ее деятельного царствования?[710]
С другой стороны, идеализация прошлого была обусловлена неприятием Вяземским литературы критического реализма, растущим одиночеством и невостребованностью его творчества молодыми поколениями. Как признавался сам Вяземский, «весело, а может быть, и грустно смотреть на себя, как в волшебном зеркале, и увидеть себя, каковым ты был в любимом и счастливом некогда»[711].
Но образ XVIII века в сознании русских интеллектуалов был не только идиллическим; уже Карамзин после Французской революции не узнавал века Просвещения «в дыму и пламени». Как считает Ю.В. Стенник, для Карамзина XVIII столетие представляло собой отдельную эпоху, пролегающую между «древней» и «новой» Россией (александровского времени), ставшую «самостоятельным и также до конца необъясненным этапом отечественной истории»[712]. А для идущего после Карамзина поколения (в записках П.А. Вяземского, А.И. Тургенева) эпоха Александра Благословенного чаще всего выступает завершением XVIII столетия, или, по крайней мере, тесно связанным с XVIII веком периодом – в противоположность следующим годам. Возможно, это различие в трактовке эпохи Александра I действительно определялось принадлежностью к разным поколениям русского образованного общества, а исторические события второй четверти XIX века давали основание создать идеализированный образ ушедшей эпохи, соединяя XVIII век и первую четверть XIX столетия.
Уверенность русских интеллектуалов в прогрессивном развитии человечества, сформировавшаяся под влиянием идей Просвещения, давала основания представить век XIX, превосходящим век XVIII, разрушить идеализированный образ минувшего века, утвердившийся в сознании благодаря господству прежних просветительских идей и мифологизации Петра, и надеяться, что «мы перестанем жалеть, как некогда жалели некоторые в Европе о золотом греческом периоде, – перестанем жалеть о веках семнадцатом и осьмнадцатом»[713]. Этот выход за пределы просветительских постулатов, постепенное осознание их исторической относительности сами базировались на основных категориях Просвещения, прежде всего – принципе прогресса. Прогресс, понимаемый как просвещение общества, распространение образования и развитие науки, становился одним из ключевых понятий исторического сознания русского общества первой половины XIX века. П.А. Вяземский создает яркий образ этого всеохватного движения и видит «просвещение, грядущее исполинскими шагами, усовершенствовавшее науки, обогатившее казну человеческих понятий, преобразовавшее самые государства…»[714]. О просветительском историзме Вяземского, доказывая близость этого типа историзма мировоззрению других арзамасцев, а также Пушкина, писал М.И. Гиллельсон[715]. Просветительская модель исторического процесса «прочитывается» во многих сочинениях первой половины XIX века, где вполне отражена уверенность русских интеллектуалов в разум ном основании истории, неизбежности прогресса. Эти представления транслировались не только в исторических сочинениях, но и в путевых заметках, которые, будучи в первые десятилетия XIX века чрезвычайно популярным жанром, давали возможность выразить основные идеи Просвещения, так сказать, в пространственном виде. И речь в этом случае идет как о ставших классическим примером «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина, образце для будущих русских травелогов XIX века, так и, например, о менее известных «Записках о Голландии 1815 года» будущего декабриста Николая Александровича Бестужева (1791–1855). В них автор, рассуждая об истории Голландии в связи с историей Европы, пишет:
Но уже приготовлялся в Европе важный переворот. Возрождение наук, распространение торговли, изобретение книгопечатания и компаса приблизили эпоху, в которую разум человеческий долженствовал свергнуть иго предрассудков, положенное на него временами варварства[716].
Отражением историзации сознания, становления представлений о постепенности исторического развития являлось изменение взгляда на реформы Петра I, начавшийся переход к критическому осмыслению этой фигуры в истории России, отказ от радикальных, внеисторических оценок первой четверти XVIII века. Образы этой эпохи, созданные XVIII веком, по мнению Ю.М. Лотмана, фактически сводились к одному —
мгновенному, чудесному и полному преображению России под властью императора Петра. Синтетическую формулу нашел Кантемир: «Мудры не спускает с рук указы Петровы, / Коими стали мы вдруг народ уже новый…» Образ «новой России» и «нового народа» сделался своеобразным мифом, который возник уже в начале XVIII столетия и был завещан последующему культурному сознанию[717].
Свой вклад в укрепление этого мифа внесли затем и Ломоносов, и, безусловно, Вольтер, – сочинением «История Российской империи при Петре Великом». И в «Письмах русского путешественника» Карамзина (в отличие от позднейшей его «Записки о древней и новой России»), и еще более – в уже упомянутом сочинении Н.А. Бестужева подчеркнуты «чувство благоговения», связь деяний Петра с вечностью, а он сам называется «Великий Преобразователь Отечества», «великий гений»[718] (и список подобных примеров можно продолжить).
Преодоление мифологизированного образа Петра и его эпохи в сознании русских интеллектуалов связано с развитием отечественной историографии в целом, знакомством с трудами европейских историков, распространением исторических знаний и принципа историзма. В отличие от «Писем русского путешественника», в «Истории государства Российского» Карамзин уже отказывается от культурно-исторического мифа о Петре – создателе новой России, от идеи внезапного преобразования страны. Он указывает на деятельность царей XVII столетия, положивших начало постепенному сближению России с Европой:
Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему, и новое соединяя со старым[719].
Эту же мысль, совпадающую дословно, мы видим в «Записке о древней и новой России»:
Вообще царствование Романовых – Михаила, Алексея, Феодора – способствовало сближению россиян с Европою, как в гражданских учреждениях, так и в нравах от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым[720].
Показательно, что А.И. Тургенев после чтения одного из трудов французского публициста и дипломата Доминика Дюфура де Прадта (1759–1837) в 1827 году, частично соглашаясь с ним, в то же время замечает: «Мы не такие варвары были тогда, как думают – и не так далеко ушли с тех пор»[721]. Эта позиция была близка немецким историкам, чьи труды оказали влияние на развитие исторического знания в России в целом. В том, что касается представлений о роли и характере преобразований Петра I, как показала в своем исследовании Г. Леман-Карли, уже немецкие историки А.Ф. Бюшинг и А.Л. Шлёцер в 1760–1780-х годах выступили против попыток изобразить допетровское время как варварский период в истории России, а Петра I как преобразователя, неожиданно открывшего россиянам блага западной цивилизации. «Не отрицая несомненных достижений царя-реформатора, они считали – на основании многочисленных источников времен Московской Руси, – что радикальные реформы были подготовлены длительным процессом постепенных культурных трансформаций»[722]. Важный вклад в критическое осмысление реформ и личности Петра внес, безусловно, М.М. Щербатов[723], так же как и Г.Ф. Миллер; именно они положили начало разрушению героического мифа еще в XVIII веке. С этими историческими представлениями о характере преобразований Петра согласуется и мнение Вяземского, высказанное в «Письмах русского ветерана 1812 года о восточном вопросе»:
Пётр I застал свое государство в полной готовности к совершению великих преобразований. Одаренный могучим и предприимчивым гением, он двинулся в путь, уже приготовленный для него, и не довольствовался медленным движением, как его предшественники, а с горячностью и нетерпеливостью устремился к своей цели[724].
Но в то же время представления о переломном характере реформ первой четверти XVIII века как о социальной и культурной революции, совершенной Петром, оказались чрезвычайно устойчивыми, они были также актуализированы в русском общественном сознании спором западников и славянофилов, которые акцентировали ситуацию «разрыва» в начале XVIII века в положительном или отрицательном смысле. В.Г. Белинский в работе с характерным названием «Россия до Петра Великого» отстаивал тезис о резком разрыве в отечественном прошлом, произведенном реформами Петра, и подчеркивал роль личности царя-преобразователя:
Пётр Великий есть величайшее явление не нашей только истории, но и истории всего человечества; он божество, воззвавшее нас к жизни, вдунувшее душу живую в колоссальное, но поверженное в смертную дремоту тело древней России[725].
Показательно, что популярный публицист упрекал современников в излишнем внимании к древнему периоду русской истории вместо изучения истории XVIII века – ибо русская история начинается, по его мнению, с эпохи Петра. В 1843 году выходит труд Н.А. Полевого «История Петра Великого», в которой автор уподобляет Петра мифическому герою, богоподобному существу, который «вдохнул жизнь в вещество» и был провиденциально предназначен для России: «Он родился предназначенный, он совершал предопределение Божие…»[726].
Таким образом, мы видим сосуществование двух тенденций – периодическую актуализацию мифологизированных представлений о XVIII веке, мифа о Петре Великом, с одной стороны, и стремление к преодолению этого мифа, формирование нового типа исторического сознания, нового режима историчности, – с другой.
Например, Александр Иванович Тургенев (1784–1845), учившийся в Гёттингене у Шлёцера, стремился «открыть» XVIII век русскому обществу; в течение нескольких лет он работал в архивах и библиотеках Парижа, Лондона, Ватикана, отыскивая и копируя источники по русской истории этого столетия. Важно заметить, что в образе XVIII века, сложившемся у Тургенева, сочетаются представления, связанные с детскими воспоминаниями, культурные стереотипы и новые «профессиональные» соображения, возникшие в результате работы историка с историческими источниками. Все эти компоненты образа минувшего столетия выявляются через сравнение дневниковых записей, писем (предназначавшихся для печати и частного характера) и исторических сочинений Тургенева. Прежде всего он выделяет две «блестящие» эпохи XVIII века – Петра I и Екатерины II, что отвечает сложившейся традиции связывать эти два имени в русской истории. Причем для Тургенева эти эпохи принадлежат не истории вообще, т. е. прошедшему времени, но истории новейшей (эти же периоды отмечаются как значимые затем и во многих воспоминаниях представителей русского образованного общества XIX века, и эта двойная связка-отсылка становится своеобразным историографическим штампом).
Эпоха Петра воспринималась Тургеневым как время начала европейской истории страны, «когда Россия грозно и величественно вошла в систему держав европейских и стала наряду с первейшими»[727]. Однако после тщательного знакомства с донесениями европейских дипломатов Тургенев обращает внимание на длительность и сложность процесса европеизации России, связывая его также с царствованием Елизаветы, когда «Россия впервые по-настоящему и бесповоротно вошла в число великих держав. До того времени эта еще совсем недавно варварская империя, даже не понимавшая, на что употребить свои огромные силы, оставалась как бы вне цивилизованного мира»[728]. Сходные мысли видим и в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, когда он замечает, что после смерти Петра I «преобразованная Россия казалась тогда величественным, недостроенным зданием»[729]. Заметим, что А. Тургенев являлся внимательным читателем сочинений Карамзина, и многие сюжеты истории России трактовал схожим с ним образом.
В то же время в характеристике эпохи Екатерины II Тургенев часто обращает внимание на сохранение «азиатских» черт в жизни русского общества, считая ее царствование не более чем комедией, разыгрываемой для Европы и развлечения подданных. Однако, критикуя царствование Екатерины II, Тургенев дает ей следующую характеристику в письме к Вяземскому: «умная и опередившая не свой, а наш век Екатерина. …Как ни говорите, а в бессмертной Екатерине было в самом деле что-то бессмертное, и Пушкин недаром любил ее…»[730]. Положительно окрашены в записках Тургенева события русско-турецкой войны; Репнин, Румянцев, Суворов представлены как знаковые персонажи той эпохи и русской истории вообще: «…из какого-то мрака сияют для меня имена сии, переживая даже век Наполеона и Каннинга»[731]. Записки Тургенева не только не воспроизводят стереотип о «блестящем веке» Екатерины, а напротив, демонстрируют критическое отношение к этому периоду русской истории и далеко не восторженное видение истории XVIII столетия в целом. При этом ключевой фигурой исторических представлений остается Пётр Великий, а его преобразовательная деятельность часто характеризуется как революционная. О революционере на троне писал и Вяземский: «Царствование Петра заключает в себе несколько революций, изменивших старый склад и, так сказать, ветхий русский мир»[732]. Метафора революции при оценке преобразований Петра получила широкое распространение и в последующих исторических сочинениях, она закрепилась и в историографии, и в историческом сознании в целом.
Восприятие XVIII столетия как эпохи революционной было тесно связано не только с переменами в русской истории первой четверти XVIII века, но прежде всего с коренными преобразованиями во Франции, которые во многом и сформировали представления о сущности и роли революции в историческом процессе. Великая французская революция XVIII столетия стала одним из тех событий, которые не только повлияли серьезнейшим образом на всемирную историю, поразили воображение современников и потомков, но и заложили определенную политическую и историческую традицию, сформировав в значительной степени модель революции в целом и скорректировав основополагающие представления об историческом процессе. Франция, Париж, революция соединились в историческом сознании и русского просвещенного общества первой половины XIX века. Французская революция для русских приобрела особое значение не только из-за своего «разрушительного» характера, но и вследствие французской культурной ориентации русского образованного общества, придававшей особый смысл событиям именно французской истории, идеям Просвещения. Французская революция как ключевое событие европейской истории XVIII столетия являлась постоянным элементом дискурса русских интеллектуалов первой половины XIX столетия. Ее события и персонажи были своеобразными мнемоническими топосами, соединявшими прошлое и настоящее. Тот же Тургенев, который многие годы провел во Франции, но не терял связи с Россией, в своих корреспонденциях 1820–1830-х годов о событиях в Париже и собственных впечатлениях не раз вспоминал о французской революции 1789 года, включая тем самым прошлое в пространство настоящего. Основой для этих «воспоминаний» являлись «Письма русского путешественника» Карамзина, ставшие не для одного поколения русских интеллектуалов источником формирования представлений о европейской истории и культуре, хотя непосредственно события французской революции 1789 года занимают в них незначительное место[733]. Обращение к революционным событиям во Франции актуализировало для А.И. Тургенева и само пространство Парижа (Гревская площадь, Марсово поле), и встречи с их очевидцами, что также формировало определенные личностно окрашенные «воспоминания» о революции. Можно предположить, что именно воззрения на французскую революцию сфокусировали особенности восприятия недавнего прошлого среди русского образованного общества, а сочи нения, посвященные событиям 1789 года, стали важным фактором формирования исторических представлений в целом.
Среди таких исторических трудов обратим внимание на «Историю французской революции» (1824) Франсуа Минье, не утратившей своего значения на протяжении всего XIX века. Об отношении в России к труду Минье ярко свидетельствует написанное уже на рубеже XIX–XX веков предисловие К.К. Арсеньева, известного либерального публициста из круга «Вестника Европы», к очередному изданию русского перевода книги. Арсеньев называет среди достоинств сочинения Минье не только объективность, но и сжатое, ясное, точное изложение, наглядность и самобытность, серьезность и глубину мысли. Вследствие этих отличительных особенностей, по мнению автора предисловия, «книга Минье не потеряла своего значения и до сих пор, несмотря на всю массу исторических трудов, последовавших за нею»[734].
Это сочинение было хорошо известно А.И. Тургеневу, который неоднократно перечитывал его, обращаясь к событиям французской революции как во время своего пребывания во Франции (что делало это особенно актуальным), так и во время посещения Карлсбада и Дрездена, обсуждая прочитанное с братом С.И. Тургеневым и В.А. Жуковским[735]. Подтверждение этому находим в дневниковой записи А.И. Тургенева от 30/18 сентября 1826 года: «Читаем Mignet “Histoire de la Revolution française” и вместе с сим заглядываем и в биографию генерала Фуа и в речи его»[736]. Отметим тот факт, что «История французской революции» Минье в декабре 1826 года была послана В.А. Жуковским из Дрездена П.А. Вяземскому с пожеланием написать статью для «Телеграфа»[737].
Тургеневу, напомним, учившемуся в Гёттингенском университете у Шлёцера, идеи постепенного и закономерного исторического развития были несомненно близки, что проявляется во многих его письмах и публицистике. Поэтому утверждение Минье о закономерном характере французской революции («когда реформа делается необходимостью и наступает минута ее осуществления, тогда ничто не может воспрепятствовать ей, и все обращается в ее пользу»[738]) в целом согласуется с историческими взглядами самого А.И. Тургенева. Сравнивая историю французской и английской революций на основании изучения трудов Минье и Гизо, Тургенев запишет в своем дневнике: «Революции прибавили ходу, так сказать, ускорили дело веков…»[739].
Значение сочинений Минье подчеркивается и включением сообщения о нем в «Хронику русского» Тургенева, в его «Письма из Дрездена», напечатанные в «Московском телеграфе» в 1827 году:
Я на днях перечитывал Минье «Историю революции французской, от 1789 до 1814 года», в двух частях. В ней много обозрений, портретов, прекрасных, и есть страницы красноречивые. Например: о казни Лудовика ХVI и в нескольких строках верный портрет коронованного праведника и мученика.
Обратим, вслед за Тургеневым, внимание на характеристику Людовика ХVI, данную Минье:
Он, может быть, единственный государь, который, не имея никаких страстей, не имел и страсти к власти и который соединял оба качества, характеризующие хороших королей: страх Божий и любовь к народу. Он погиб жертвою страстей, которых не разделял, – страстей его двора, которые ему были чужды, и страстей толпы, которых он не раздражал. Не много королей, оставивших по себе такую добрую память. История скажет о нем, что, при большей твердости характера, он был бы королем, единственным в своем роде[740].
Идея добродетельного монарха, заботящегося о благе народа, занимала центральное место в политических воззрениях просветителей, и стала одной из главных надежд русского просвещенного общества в начале XIX века. Сила и слабость человека на троне, отношение к личности государя, олицетворявшего власть как таковую, – все это было для тогдашних русских интеллектуалов крайне важно, так как именно с государем связывались и будущие изменения в русском обществе. Тема «государь и народ» была одной из приоритетных в политическом дискурсе русского просвещенного общества, а отношение к монархии и республике во многом основывалось на историческом опыте, причем сами эти понятия усваивались с учетом античной истории и истории Франции.
Возвращаясь к сочинению Минье, заметим, что в дневниковой записи от 30/18 сентября 1826 года А.И. Тургенев не только комментирует взгляды историка, характеризуя его как «друга нового порядка вещей», склонного к стороне революционной в итоговой оценке событий, но и непосредственно приводит фразы из «Истории французской революции». Сам автор «Истории французской революции» был хорошо знаком Тургеневу, для которого европейская интеллектуальная среда была «своим» пространством. Тургенев совершенно свободно чувствовал себя в европейских странах, легко находил общий язык с разными представителями европейской интеллигенции. М.П. Погодин передает следующее впечатление о А.И. Тургеневе:
Французские министры поверяли ему опасения о судьбе министерств, английские толковали о преобразованиях парламента, немецким профессорам доставлял он сведения о коммунизме, французским аббатам привозил он труды православия, а членам Синода рассказывал о произведениях новой немецкой школы[741].
Близкую характеристику дает А.И. Тургеневу и Герцен:
А.И. Тургенев – милый болтун; весело видеть, как он, несмотря на седую голову и лета, горячо интересуется всем человеческим, сколько жизни и деятельности! А потом приятно слушать его всесветные рассказы, знакомства со всеми знаменитостями Европы[742].
Стоит еще раз обратить внимание на то, что помимо чтения исторических сочинений значимым являлся и фактор непосредственной коммуникации, которая способствовала распространению европейских идей в среде русских интеллектуалов.
Своеобразной пограничной фигурой в процессе смены темпоральности и характера восприятия истории европейским обществом был Франсуа Шатобриан, а «книги Шатобриана – это те произведения, в которых совершается переход от времени замкнутого ко времени разомкнутому»[743]. В связи с этим особое значение приобретает знакомство с взглядами Шатобриана русских интеллектуалов[744].
А.И. Тургенев слушал сочинения Шатобриана в салоне мадам Рекамье, неоднократно участвовал в обсуждении их; в результате в Россию Вяземскому, Пушкину отправлялись соответствующие комментарии, которые знакомили русское просвещенное общество с творчеством и личностью Шатобриана. Так, 29/17 декабря 1825 года Тургенев в салоне Рекамье читал брошюру Шатобриана о государе и о греках, что было отмечено в дневнике записью: «Много говорили опять о Шатобриане»[745]. В январе 1826 года Рекамье собиралась познакомить Тургенева с Шатобрианом лично, но тогда встреча не состоялась, так как Тургенев уехал в Англию, но сразу по возвращению его из Англии, 10 марта (26 февраля) 1826 года Тургенев, наконец, лично знакомится с Шатобрианом, разговаривает с ним о его сочинениях, об императоре Александре и переписке самого французского писателя с императором, об английском премьере Каннинге и пр. Интерес к сочинениям Шатобриана в русском просвещенном обществе был достаточно устойчивым. Сам А.И. Тургенев высоко оценивал творчество Шатобриана, говоря о правосудии историка, высоком беспристрастии христианина, стиле Тацита и Боссюэ, хотя отмечал и такие его малосимпатичные черты, как самохвальство и национализм.
Дневники А.И. Тургенева заполнены записями о встречах с разными представителями европейской политической и культурной элиты, в том числе и с уже упоминавшимися Гизо и Минье. В сети интеллектуальных коммуникаций Тургенева важное место принадлежит общению с Гизо, в салоне которого А.И. Тургенев начал бывать сразу же после приезда в Париж осенью 1825 года. В дневниках А.И. Тургенева зафиксированы вечера у Гизо 29/17 октября, 10 ноября/29 октября, 27/15 ноября, 1 января/20 декабря 1825 года. Интересно отметить, что Тургенев сравнивал Гизо с Н.М. Карамзиным, находя у них такие общие качества, как ум, благородство души и независимость. В письме брату Николаю Александр Тургенев называет Гизо центром парижского «Арзамаса»[746], опять проводя сравнение французских и русских интеллектуалов и обнаруживая общие черты интеллектуальной жизни. Во время «приятных и наставительных» вечеров Гизо показывал Тургеневу вышедшие книги, делился впечатлениями, обсуждал исторические сочинения. Тем более важно, что взгляды Гизо на прошлое в целом и возможности его познания, по мнению Ф. Артога, отражали становление нового режима историчности, утверждая идею поступательной динамики исторической эволюции. Гизо писал:
Идея прогресса, развития, кажется мне основополагающей мыслью, заключенной в слове «цивилизация»; идея народа, который идет вперед не для того, чтобы изменить [некое] место, но чтобы изменить [собственное] состояние[747].
Гизо и Тургенева объединяли не только профессиональные занятия историей, определенное сходство историографических, методологических позиций (что проявилось в отзывах Тургенева на «Историю английской революции» Гизо). Гизо помогал А.И. Тургеневу получить доступ в архивы и библиотеки для поиска источников по истории России, о чем свидетельствуют не только записи самого Тургенева, но и сохранившиеся в архиве Тургенева письма к нему Гизо. Последний рекомендовал Тургенева директорам четырех публичных парижских библиотек, которые, как писал Гизо, «приложат все старания, дабы облегчить ваши поиски и сделать их по возможности исчерпывающими»[748].
О вечерах, проведенных в 1832 году в Париже с Гизо, Мишле, Тьером, сообщает в своих записках и видный публицист, один из основоположников славянофильства Александр Иванович Кошелев (1806–1883), отмечая, что эти вечера были для него так интересны, что он не пропускал ни одного из них, уходя в числе последних гостей[749]. Сочинения Гизо также были хорошо известны в России, что подтверждается многочисленными примерами из переписки этого времени. Так, например, Н.В. Станкевич, сравнивая понимание истории Шеллинга и Гизо, признавался в письме Я.М. Неверову: «Мне больше по сердцу мысль Гизо – представить в истории постепенное развитие человека и общества»[750]. В 1830-е годы Н.В. Станкевич дважды обращается и к книге Минье, называя ее своеобразным пособием по новой истории, необходимым для уяснения главнейших сведений, а также включает в список книг, которые планировал прочитать, готовясь к путешествию в Европу[751]. Такая практика была весьма распространена среди русского образованного общества, о чем свидетельствует еще опыт Карамзина. По мнению М.И. Гиллельсона, труды Гизо и Минье серьезно повлияли на формирование и развитие исторических взглядов целого ряда представителей русского просвещенного общества:
Они оказали, несомненно, воздействие на эволюцию исторических взглядов Жуковского, а через него, можно полагать, способствовали первоначальному ознакомлению Пушкина с трудами французской романтической историографии[752].
17/5 декабря 1825 года Тургенев записал в своем дневнике:
Разогнал грусть в обществе Гизо с Минье, автором «Истории французской революции» (которую я читал в Карлсбаде). <…> Говорили о состоянии умов во Франции, о степени просвещения до и после революции в некоторых классах народа[753].
То, что Тургенев обсуждает с Минье и Гизо, авторами трудов по истории французской и английской революций, вопрос о степени просвещения во Франции, далеко не случайно. Просветительское ядро мировоззрения русских интеллектуалов первой половины XIX века обусловливало интерес именно к состоянию образованности, которое считалось показателем прогресса, залогом успешного проведения реформ и неизменно связывалось с мерой свободы в обществе. Кроме того, именно в вопросе о степени просвещения во Франции в период французской революции А.И. Тургенев был не согласен с Минье, так как считал, что просвещенный народ не допустил бы такого кровопролития и всех ужасов террора, и революция имела бы совсем другой характер. Выписывая фразу «Au jour de l’explosion, un seul fait restoit réel et puissant, la civilization générale du pays»)[754], – Тургенев комментирует: «Во французской революции господствовало страшное единство всего нового»[755]. И тут же он добавляет свой вопрос: «Где общая образованность во Франции – в минуту революции? И тот ли был характер оной, есть ли бы она разразилась над просвещенною во всех классах народа Франциею?»[756]
Обращает на себя внимание присутствие в текстах Тургенева эмоциональных оценок революции, сравнение с бурей, грозой, что может быть как результатом влияния романтизма на исторические представления, так и акцентировкой разрушительного характера революции[757]. Можно предположить, что метафора бури могла быть навеяна книгой Минье, который достаточно часто ее использовал («Ураган уносит и разбивает целую нацию среди бурь революции», «отличительное свойство подобной бури заключается в том, что она ниспровергает всякого, кто старается утвердить положение свое», «выходя из бешеной бури, все чувствовали себя ослабевшими и разбитыми» и т. д.)[758]. В то же время сравнение революции с бурей, грозой встречается достаточно часто в романтической историографии, становясь постепенно устойчивым образом в историческом сознании.
При этом разрушительный характер революции воспринимался Тургеневым двояко. С одной стороны, разрушение было связано с такими понятиями, как варварство, кровопролитие, забвение прошлого, и обладало ярко выраженным негативным смыслом. Гуманистический характер мировоззрения Тургенева не позволял ему смириться с революционным террором; для него была неприемлема беспристрастность истории и историка: «Как назвать в авторе сие беспрерывное желание умерить выражениями ужас, который должна возбуждать в сердце человеческом жажда крови?»[759] Показательно и отношение Тургенева к разрушению статуи Генриха IV как недопустимому, оскорбительному для народа и для человечества деянию. С другой стороны, разрушение понималось как освобождение, открытие дороги для нового, ускорение хода истории. В 1834 году в Германии, посетив Палату депутатов, Тургенев увидел и в этом учреждении результат французской революции, и позже записал в своем дневнике:
О революция! Ты много крови пролила на землю, но она удобрила почву и приготовила ее к принятию установлений, благодетельных для человечества, засеяла семена лучшего будущего и плодами, от них созревшими или еще зреющими, примирила людей с собою и со своими ужасами, ибо на земле для великого и прекрасного нужны жертвы…[760]
Кроме исторического труда Минье, необходимо назвать и «Историю французской революции» Луи-Адольфа Тьера, опубликованную почти одновременно с «Историей» Минье. Французское издание в десяти томах, например, было обнаружено при обыске у Огарёва в 1834 году, но очень подробный, изобилующий деталями труд Тьера вряд ли мог найти широкий круг читателей среди русского общества. О знакомстве Герцена с трудами Тьера, Мишле, Ламартина, Токвиля, Гизо упоминают многие исследователи его творчества, и по мнению Д. Шляпентоха (D. Shlapentokh), круг друзей Герцена, русских радикалов первой половины XIX столетия, в целом разделял герценовское страстное увлечение французской революцией (принимая также и политику террора)[761].
Среди сочинений, оказавших влияние на формирование образа французской революции в русском просвещенном обществе, отметим и сочинение Жермен де Сталь «Размышления о главных событиях французской революции» (1818), которое было довольно популярно в России[762], а также произведение Вальтера Скотта «Картина французской революции, служащая вступлением к жизни Наполеона Бонапарте». Обращает на себя внимание данное шотландским романистом изображение бунта черни – жестокого, яростного, подстрекаемого руководителями революционных парижских клубов, – иллюстрация того, как свобода превращается в деспотизм. Явно негативные коннотации в описании французской революции у Скотта проявляются не только в употреблении слов «бунт», «чернь» («подлая чернь многолюдного города, всегда готовая на буйства и грабеж», «подозрения буйной черни, сделавшейся свирепою от привычки и безнаказанности»[763]), но и в постоянном проведении мысли о необходимости принятия твердых мер для устранения беспорядков, устрашения черни, которые могли предотвратить дальнейшую трагедию. Представления об опасности власти народа, которая легко превращается в деспотизм, были весьма распространены среди русских интеллектуалов еще в XVIII веке, и события французской революции стали для них еще одним подтверждением опасности народовластия. При этом исторический опыт дополнялся суждением о невозможности народного представительства в России, со ссылками на уровень образования народа. Хотя, например, для Карамзина даже степень просвещения общества не являлась достаточным основанием для ограничения самодержавной власти. Великая французская революция навсегда убедила его в опасности безначалия, народных волнений, подтвердив уроки античной истории. Поэтому даже просвещенная Германия, с его точки зрения, не нуждается в народном представительстве: «Сапожники, портные хотят быть законодателями, особенно в ученой немецкой земле. Покойная французская революция оставила семя, как саранча: из него выползают гадкие насекомые»[764]. Распространение идеи народного представительства, ограничения самодержавной власти порождает страхи во многом под влиянием европейских революций, несмотря на стремление к обузданию властного произвола в России. Интеллигенция осознает угрозу, таящуюся во власти народа, что подтвердил опыт европейских революций. «Самовольные управы народа бывают для гражданских обществ вреднее личных несправедливостей или заблуждений государя»[765], – эту мысль настойчиво проводит Карамзин в «Записке о древней и новой России». Народная свобода не является абсолютной ценностью и, более того, может привести к той же несвободе, но в другом виде. В первой половине XIX века ясно осознается опасность замены одного деспотизма на другой, деспотизма самодержавия на деспотизм народа. «Всякий абсолютизм приводит мою кровь в волнение, но абсолютизм в красной шапке так же мне противен, как святому дьявол», – писал Жуковский А.И. Тургеневу[766].
Представления о французской революции 1789 года транслировались и с помощью сочинений античных историков; происшествия во Франции XVIII века описывались как факты истории древнего Рима, с использованием соответствующих цитат. В этом случае акцентируется не столько связь прошлого и настоящего, сколько повторение явлений минувшего, сходство различных исторических эпох и событий, определяемое властью традиции и представлением о неизменности человеческой природы. Карамзин в «Пантеоне иностранной словесности» публикует фрагменты сочинений Ливия, Тацита, Саллюстия, Светония, из которых «создается» история французской революции[767]. Этот перевод Карамзин сопровождает небольшим предисловием:
Несколько ученых французов издали сей опыт истории, столь любопытный. Они не прибавляют ни слова к Латинским классикам, переводят их и ставят внизу текст. Вот их предисловие: «Французская Революция ждет еще своего Историка, и долго будет ждать его… Писатель, могущий предпринять такое великое дело, должен еще родиться! Пока Небо не дарует нам сего гения, мы можем, по крайней мере, находить главные черты нашей истории в славнейших классиках древности… Многие места в их сочинениях суть верные зеркала, в которых мы себя видим. Сходство так велико, что оно изумляет и трогает до глубины сердца»[768].
Показательно, что этот перевод был впервые опубликован в начале XIX века, когда история французской революции действительно еще не была написана. Кроме того, на такие исторические параллели наталкивал как «античный маскарад» самой французской революции, так и значительная роль античной историографии в формировании идей эпохи Просвещения. Русская интеллектуальная элита еще с XVIII века увлеклась чтением произведений античных авторов (во французском переводе или оригинале), в России выполнялись переводы и издавались античные сочинения, создавались собственные произведения, отмеченные духом и стилем Античности. Переводы В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, С.П. Крашенинникова, Е.И. Кострова, В.П. Петрова и других авторов сыграли важную роль в освоении античного наследия. Для русского просвещенного общества долгое время был характерен взгляд на события современности через призму античных сюжетов, создание новых мифов и облечение старых в античную оболочку, использование языка Античности, что позволяет говорить о существовании особого дискурса, определенного классическим наследием[769]. По мнению Э.Д. Фролова,
среди античных авторов, чьи сочинения привлекли тогда внимание русских переводчиков, почетное место занимают историки. В частности, в это время были переведены произведения Геродота, Диодора Сицилийского, Иосифа Флавия, Геродиана, Юлия Цезаря, Саллюстия, Веллея Патеркула, Валерия Максима, Тацита (не полностью), Светония, Флора, сборник «Писатели истории Августов» и так называемое «Сокращение римской истории до времен кесарей Валента и Валентиниана» Флавия Евтропия. Если добавить к этому переводы Корнелия Непота, Курция Руфа и Юстина, то выходит, что к концу XVIII века сочинения большей части античных историков были уже доступны русскому читателю[770].
Все это создает ситуацию «узнавания», особого «прочтения» событий французской революции через призму античной истории, усиливает назидательное значение исторических сочинений и демонстрирует устойчивость исторического мировоззрения века Просвещения.
Кроме того, если мы вновь обратимся к сочинению Минье, то увидим и у него явное присутствие античного компонента в трактовке событий французской революции. Например, говоря о жертвах революционного террора, Минье вспоминает мужество древних римлян или изгнание Тарквиния, заменившее казнь. Таким образом, память о событиях античной истории соединяется с воспоминаниями о французской революции, создавая особый «текст» прошлого, не только прочитываемый при свете настоящего, но и акцентирующий внимание на повторяемости явлений прошлого.
Важно отметить, что представления русского просвещенного общества о французской революции складываются не только благодаря историческим сочинениям. Важное место, особенно на начальном этапе формирования исторических взглядов, занимает непосредственное общение с людьми, которые так или иначе оказались очевидцами или участниками революционных событий. Среди таких людей выделяются прежде всего французские эмигранты, которые спасались в России от бедствий революции и часть которых стала новыми воспитателями русской дворянской молодежи. По словам Ключевского, «на место гувернера-вольнодумца становится аббат – консерватор и католик, это был гувернер третьего привоза»[771]. В то же время Герцен вспоминал о своем учителе французского языка Бушо, который поведал ему об эпизодах 1793 года и о том, как он уехал из Франции, когда «развратные и плуты» взяли верх. Герцен отмечает значительное влияние рассказов наставника на его представления о французской революции, например роль фразы Бушо об измене короля отечеству и справедливости приговора, вынесенного ему судьями: «Этот урок стоил всяких субжонктивов; для меня было довольно; ясное дело, что поделом казнили короля»[772]. Д. Шляпентох в исследовании, посвященном влиянию французской революции на русскую интеллектуальную жизнь второй половины XIX – начала ХХ века, писал, что французская революция во многом определяла философские взгляды Герцена. А.И. Герцен останавливался на этом вопросе во многих своих работах, а в «Письмах из Франции и Италии», «С того берега», «Былом и думах» он обсуждал французскую революцию в деталях, и его подход к ней развивался вместе с эволюцией его собственной философии. Д. Шляпентох выделил соответственно четыре этапа в развитии подхода Герцена к французской революции 1789 года[773]. Слова-символы французской революции прочно вошли в интеллигентский дискурс и могли использоваться для представления других политических событий, определения сущности политических взглядов и направлений. Так, А.И. Герцен, описывая в «Былом и думах» противостояние славянофилов и западников, использует для характеристики двух ветвей славянофильства, отличающихся степенью радикальности воззрений, названия «ультраякобинцы» и «умеренные жирондисты». Первые отвергали все бывшее после киевского периода русской истории, вторые отрицали только ее петербургский период[774]. Французская революция стала знаковым событием не только для Герцена и других западников, постоянно обращавшихся к европейскому историческому опыту, но и для славянофилов, также сформировавшихся под влиянием европейских идей. Например, Герцен называет Ивана Киреевского поклонником свободы и великого времени французской революции[775]. Параллели проводятся между характером личных отношений среди деятелей французской революции и персональными связями в русской интеллектуальной среде. Это касается прежде всего соотнесения личного и общественного, формирования стратегий поведения по отношению к идейным противникам. Имеется в виду принципиальность, твердость в отстаивании своей точки зрения, несмотря на дружеские отношения, и даже готовность разорвать личные отношения по идейным соображениям. В сознании некоторых представителей революционно настроенной русской интеллигенции происходит определенная идеализация образа французских революционеров.
Личные отношения много вредят прямоте мнений. Уважая прекрасные качества лиц, мы жертвуем для них резкостью мнений. Много надобно сил, чтобы плакать и все-таки уметь подписать приговор Камиллу Демулену[776].
Герцен с присущей ему наблюдательностью сумел заметить очень важную черту в отношении части русской интеллигенции к французской революции. Такой особенностью было создание целостного эмоционального образа, который не совместим с критическим осмыслением исторического процесса, что приводит к сакрализации и самого явления, и лиц, с этим образом связанных. В качества примера можно привести характеристику отношения Н.Х. Кетчера к французской революции[777], данную А.И. Герценом:
Девяностые годы, эта громадная, колоссальная трагедия в шиллеровском роде, с рефлекциями и кровью, с мрачными добродетелями и светлыми идеалами, с тем же характером рассвета и протеста – поглотили его. Отчета Кетчер и тут себе не давал. Он брал Французскую революцию, как библейскую легенду; он верил в нее, он любил ее лица, имел личные к ним пристрастия и ненависти; за кулисы его ничто не звало[778].
Субъективность созданных и транслируемых образов соединяется с эмоциональным восприятием, препятствующим критическому осмыслению исторических событий, но тем лучше способствующим сохранению их в исторической памяти и представлениях. Вспомним слова К.Н. Батюшкова: «О память сердца, ты сильней / Рассудка памяти печальной!». Французская революция стала для русских интеллектуалов первой половины XIX века одним из основных мнемонических мест, важнейшим фактором формирования исторического сознания русского общества и политической традиции в России.
Таким образом, в восприятии XVIII века в первую половину последующего столетия соединялись мифологические и исторические компоненты, отражая становление нового режима историчности, а сам XVIII век выступал для русских интеллектуалов того времени одним из значимых «мест памяти», включавшим и преобразования Петра Великого и события екатерининского царствования, а в общеевропейской перспективе – и бурные обстоятельства Великой французской революции. В этом случае подтверждается характеристика, данная П. Нора местам памяти: «место памяти – это двойное место. Избыточное место, закрытое в себе самом, замкнутое в своей идентичности и собранное своим именем, но постоянно открытое расширению своих значений»[779].
В.В. Боярченков Провинциальные исследователи старины в российском историографическом пространстве середины XIX века
1830–1860-е годы – время, почти полностью выпавшее из поля зрения исследователей, изучающих историографическое наследие российской провинции. При всем своем разнообразии научные ориентиры провинциалов – авторов «партикулярных» историй второй половины XVIII – начала XIX века, впервые преодолевавших каноны уходившего в прошлое городового летописания, – сравнительно ограниченны – это редкие в ту пору столичные исторические издания, а также материалы хозяйственно-географических описаний. Анализ обширного пласта этих сочинений привел А.А. Севастьянову к обоснованному выводу о единстве тематики, подходов, приемов и мировоззренческих позиций их авторов[780]. Контуры историографической ситуации в провинции конца XIX – начала XX века, определяемой, в основном, функционированием ученых архивных комиссий, так же легко уловимы[781]. Задача обнаружения каузальных связей, выводимая из позитивистских установок, возобладавших тогда в общественных науках, в целом обеспечивала надежной легитимацией исследовательские притязания авторов трудов по местной истории.
И в то же время попытки обнаружить общие черты и проблемы в исканиях провинциальных любителей древностей 1830–1860-х годов (чему и посвящена настоящая статья) могут показаться безнадежными. Говорить применительно к этому времени об оформленном институциональном пространстве исторического знания за пределами столиц и университетских центров не приходится. Во всяком случае, редакции неофициальной части тех или иных местных «Губернских ведомостей», где в эти годы, как правило, публиковались документы и статьи, посвященные местному прошлому, вряд ли могли претендовать на роль подобных институций. Еще один из первых обозревателей этого историографического источника Н. Сумцов отмечал, что насыщенность неофициальной части «Ведомостей» историческими материалами чаще всего была обусловлена «появлением там и здесь страстного и вместе свободного любителя археологии и этнографии»[782]. Дневниковые записи В.И. Аскоченского о времени его работы в «Волынских губернских ведомостях» (1847) содержат красноречивые свидетельства о том, что одного исследовательского энтузиазма для успеха научных начинаний на этом поприще было недостаточно: сотрудники по редакции были склонны усматривать в подобном рвении автора скрытую угрозу сложившимся в местном бюрократическом бомонде отношениям субординации[783]. Можно предположить, что обрисованная Аскоченским ситуация была во многом типичной для издания, существование которого определялось неразрывной связью с губернской чиновничьей средой.
Концептуальный разнобой российской историографии середины XIX века так же мало способствовал становлению как общепризнанных образцов исторического письма, так и относительно устойчивых исследовательских стратегий провинциальных любителей старины. В самом деле, не так уж много общего можно было найти между идеями критической истории «школы» Каченовского и попытками И.М. Снегирёва и Н.Н. Мурзакевича обозначить контуры науки русских древностей, между требованиями «высших взглядов», предъявляемых к современным историческим сочинениям Н.А. Полевым и археографическими предприятиями П.М. Строева. Совсем не было очевидным и идейное родство прагматической истории в понимании Н.Г. Устрялова и истории как народного самопознания, о чем на разный лад писали в то время М.П. Погодин и С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин и Ю.Ф. Самарин. Вектор развития российской историографии в сторону «внутренней», «народной» истории, впервые отчетливо обозначившийся именно в 1830-е годы, как будто оправдывал поиски исторических сюжетов на местах, в стороне от прослеженного Карамзиным основного, общегосударственного русла политической жизни. А романтизм с его культом непосредственного знания, обретаемого на путях художнического вдохновения, заставлял по-новому смотреть на задачи ученого путешествия, в котором провинциальный знаток теперь мог, по крайней мере, в теории на равных конкурировать (или сотрудничать) с искушенным столичным исследователем.
На практике, однако, отсутствие не только готовых рецептов, согласовывавших ход местной исторической жизни с общероссийским событийным нарративом о прошлом, но также и рассчитанного баланса между научной и эстетической составляющими в занятиях местным прошлым, мешало провинциальным любителям истории воспользоваться новыми завоеваниями отечественной историографии. Судя по всему, самым авторитетным историческим повествованием, зовущим их к подражанию, на протяжении всего рассматриваемого периода остается «История государства Российского» Н.М. Карамзина – труд, воспринимавшийся глашатаями новых научных направлений в столицах хотя и с почтением, но скорее в качестве памятника уже давно ушедшей научной эпохи. Призыв к преодолению карамзинского наследия, настойчиво звучавший на рубеже 1820–1830-х годов в статьях, например, Каченовского и Полевого, не находил отклика у провинциальных авторов.
Туляк Иван Петрович Сахаров (1807–1863), десятилетия спустя вспоминая свой первый опыт приобщения к познанию прошлого, выделял именно «Историю государства Российского», за чтением которой ему «являлась всегда одна мысль: что же такое Тула и как жили наши отцы»[784]. Ответ на этот вопрос молодой студент-медик искал поначалу в опубликованных материалах, выписки из которых он компоновал в очерки, помещаемые затем в «Московском телеграфе» и «Галатее». При всей своей источниковедческой и концептуальной невзыскательности эти работы были встречены в целом благожелательно. Только Н.И. Надеждин на страницах «Телескопа» укорял Сахарова за то, что тот в «Достопамятностях Венёва» (1831) слишком много внимания уделил ничтожному архиву местного монастыря и пренебрег возможностью расспросить «развалины описываемой им обители»[785].
Столь теплый прием вскоре сподвиг начинающего автора объявить о подписке на задуманную им «Историю общественного образования Тульской губернии». Но после того как подписчики получили в 1832 году первый выпуск этого сочинения, в исторических публикациях Сахарова наступила продолжительная пауза, прерванная выходом в свет в 1836 году первой части «Сказаний русского народа о семейной жизни своих предков». Здесь уже не было и намека на местные сюжеты, которые прежде составляли его исключительный интерес. В дальнейшем Сахаров лишь от случая к случаю обращался к истории Тульского края, так и оставив подписчиков без продолжения своего обобщающего труда на эту тему.
Едва ли есть смысл усматривать в незавершенности этого замысла прямое свидетельство неразрешимых проблем, стоявших перед исследователем местной истории в 1830-е годы. Однако критический отзыв земляка Сахарова Н.Ф. Андреева по поводу «Истории общественного образования Тульской губернии» позволяет увидеть в смене исследовательских интересов ее автора нечто большее, чем просто факт биографии одного провинциального историка.
Андреев обратил внимание на то, что единственный выпуск «Истории общественного образования…» Сахарова посвящен временам «чуть ли не доисторическим», где эрудиция автора черпала факты «не в толстых фолиантах, а в области вымысла и догадок, которые были бы превосходны в романе, но отнюдь не в истории». Многословное повествование о вятичах, предстающих в разбираемом сочинении «вроде рыцарей Средних веков», не вызывает у Андреева доверия. Несколько фраз Нестора об этом племени содержат в себе очень мало положительных сведений, а ссылок на другие источники Сахаров в своем труде не представил, оставив читателей гадать, на чем основаны, в частности, его представления о рубежах земли вятичей. Андреев полагал, что автор «Истории общественного образования Тульской губернии» гораздо больше преуспел бы, «если бы он сократил все, что относится до времен слишком отдаленных, полубаснословных; а там, где источники размножаются, открылось бы свободное поле для размашистого пера его»[786].
Впрочем, недостаток критической работы с источниками, по мнению Андреева, не единственное препятствие на пути реализации намеченного Сахаровым замысла. Сообщив о непритворной радости, с которой жители Тулы встретили первый выпуск «Истории общественного образования…», он упомянул и о тех, кто не спешил «разделять восторженных ощущений земляков своих». К этой категории Андреев, несомненно, относил и себя. Их смущали и обещание автора определить «первые моменты общественных форм» на территории Тульской губернии, в отсутствие каких бы то ни было установленных фактов на сей счет, и не устоявшийся в тогдашней литературе термин «образование», вынесенный Сахаровым в заголовок своего сочинения.
Но главное, критик и его единомышленники сомневались, что автору удастся так размежевать общероссийское и местное, чтобы можно было действительно говорить об истории. Андреев исходил из убеждения, что
описание событий, случившихся в одной какой-нибудь провинции колоссальной России… еще не история, потому что они, эти события, начинались и оканчивались вследствие общего порядка вещей, общего движения и государственных обстоятельств, которыми наполняются целые страницы в Русской Истории.
Однако насколько очевидным для Сахарова был тезис его критика о том, что «история каждой губернии сливается с историей нашего отечества, как ночь с днем», оставалось под большим вопросом. Так или иначе, сам Андреев, похоже, не знал решения этой проблемы. Что же касается требования научности применительно к «Истории общественного образования…», то его Андреев считал слишком взыскательным[787]. Видимо, во избежание этих чрезмерных требований в своем критическом разборе он упорно именует автора не историком, а бытописателем.
Если для Сахарова переход от тульских сюжетов к общероссийским был резким и бесповоротным, то протоиерею из Нерехты (в Костромской губернии) М.Я. Диеву удалось более органично вписать свои местные изыскания в круг современной историографии, отталкиваясь от традиций «Истории государства Российского». Он нашел поддержку в лице московского профессора И.М. Снегирёва, который со второй половины 1820-х годов твердо вступил на путь собственной переквалификации из преподавателя-латиниста в исследователя русских древностей. «Предметы», относимые им к этой вновь создаваемой дисциплине, на исходе 1830-х годов включали в себя: «1) Жизнь религиозную, к коей относятся языческие суеверия, поверья, обычаи, возникшие в христианстве, 2) Жизнь юридическую, гражданскую, обычное право, 3) Семейную жизнь»[788]. К тому времени Снегирёв уже успел зарекомендовать себя как автор изданий «Русские в своих пословицах» и «Русские простонародные праздники и суеверные обряды», отличавшиеся внушительными размерами и новизной вводимых в оборот материалов.
В предисловии к последнему из этих трудов автор заявлял, что предметы его исследования, «по ближайшему отношению к мифам и поверьям, к внутренней Истории и Древностям народа, составляют часть Археологии»[789]. Что не мешало ему обосновывать свой интерес к этой теме ссылками на авторитет Шлёцера, Карамзина и митрополита Евгения (Болховитинова), которые, по словам Снегирева, говорили «о важности и необходимости исследования сего предмета». Но здесь же, хоть и не в явном виде, он отступал от историографической традиции, освященной перечисленными именами. Буквально в двух словах сообщив об использованных и неиспользованных письменных источниках, он замечает: «Как старинные обычаи живут более в народе, чем в книгах, то я сбирал местные об этом сведения и живые предания посредством переписки или путешествия по России»[790]. М.Я. Диев и стал для Снегирёва едва ли не основным корреспондентом – поставщиком местных сведений о пословицах, загадках, праздниках и обрядах. Его имя с благодарностью упоминалось автором в предисловиях к названным трудам. Кроме того, благодаря содействию этого любителя древностей Снегирёв получал интересующие его материалы от знакомых, разделявших увлечение нерехотского священника, – например, В.А. Борисова из Шуи и С.В. Кострова из Галича[791].
М.Я. Диев, с энтузиазмом осваивая новую в деле изучения русской старины область, как и Снегирёв, не был склонен противопоставлять свои занятия интересам, господствовавшим в отечественной историографии в прежние времена. В письме своему московскому покровителю от 12 марта 1832 года по поводу полученного второго выпуска сборника пословиц он так определял преемственность замыслов Снегирёва по отношению к прошлому:
Россияне Карамзину одолжены верным описанием деяний наших предков, но мысли и чувствования наших предков, которые более и лучше всего убереглись в пословицах и поговорках, едва ли где так живо изображены, как в сочинении Русские в пословицах, и тем оно ближе для всякого Русского, что в сей картине каждый видит портрет собственный или дедов[792].
Попутно Диев трудился над собственными сочинениями, многие из которых были посвящены костромской истории. Его письма к Снегирёву изобилуют подробными описаниями как самих этих работ, так и попыток добиться их публикации, в большинстве своем безуспешных. А те немногие сочинения, которые все же доходили до читателя, ценились, главным образом, благодаря все тем же местным сведениям и наблюдениям, привлекшим в свое время внимание Снегирёва. Его оригинальная интерпретация же этих материалов уже в середине XIX века казалась современникам безнадежно устаревшей.
Последняя прижизненная статья М.Я. Диева «Какой народ в древние времена населял Костромскую сторону, и что известно об этом народе?», появившаяся на страницах «Чтений в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете» в 1865 году[793], вполне обнаружила изъяны исследовательских методов ее автора. Известный петербургский нумизмат-ориенталист В.Г. Тизенгаузен, поместивший в «Известиях Императорского археологического общества» рецензию на издание московского общества, не оставил камня на камне от построений нерехотского любителя древностей, тщившегося на основании поверхностных историко-филологических и археологических наблюдений доказать тождество летописной мери и упоминавшегося у Геродота племени невров. Среди незатейливых аргументов Диева особенное внимание критика привлекла забавная, на его взгляд, интерпретация случайно обнаруженного в земле, «под горою села Туровского», медного идола, представлявшего собой мужскую, как можно было догадаться по отчетливо обозначенным половым признакам, фигурку. Опираясь на местный топонимический материал и аналогии из языка офеней, священник-археолог пришел к заключению о распространенности среди обитавших здесь некогда племен мери почитания Тура, бога сладострастия. Над этими и подобными им выводами Тизенгаузен и не упустил возможности поиронизировать[794].
Секретарь Общества истории и древностей О.М. Бодянский ввязался было в полемику с не в меру ироничным, как ему показалось, рецензентом. Проявленный Тизенгаузеном интерес к пикантным подробностям он трактовал в «Объяснении» как бестактность и свидетельство дурного, «бурбонского» вкуса[795]. Однако на последовавшую затем от оппонента оценку статьи Диева как попросту плохой Бодянский так и не смог возразить по существу[796].
Редкость настолько откровенных отрицательных отзывов в отношении работ исследователей из провинции объясняется не столько отсталостью Диева по сравнению с его собратьями по увлечению, сколько нежеланием последних ставить свои построения под удар критики. Большинство из них добровольно устранялось от решения сколько-нибудь претенциозных задач синтетического свойства, довольствуясь либо ролью подручных у столичных ученых, как это удачно получалось у того же нерехотского священника, либо ограничивая свои научные изыскания участием в своего рода инвентаризации русских древностей (каковая начиналась в то время силами столичных и провинциальных любителей старины). Результатами этой «инвентаризации» стали получившие в середине XIX века небывало широкое распространение публикации всевозможных грамот местного происхождения, описания церквей и монастырей, а также их собраний и т. п.
Необходимость проникновения во «внутренний быт», продиктованная логикой развития исторической науки в России, способствовала возрождению анкеты как продуктивной формы взаимодействия столичных и провинциальных ученых. Об этом убедительнее всего свидетельствует успех этнографической программы Н.И. Надеждина, текст которой в 1848 году был разослан от имени Русского географического общества по различным губернским и уездным инстанциям, а также учебным заведениям. В течение последующих пяти лет в Этнографическое отделение Общества поступило более 2000 ответов. Несмотря на то, что многие из них носили формальный характер и не удовлетворяли предъявляемым научным требованиям, профессиональные исследователи народности оказались перед лицом такого массива сведений, обработать который им было не под силу[797]. Для ученых из провинции работы в русле надеждинской программы означали не только расширение проблемного поля их исследований, но и появление новых соблазнов уйти от решения принципиальных задач изучения местной истории, предполагавших самостоятельные анализ и обобщение, в строго очерченное извне пространство описательных ответов на заданные вопросы.
Впрочем, в российской историографии 1830–1860-х годов существовала и иная модель взаимоотношений, не так жестко связывавшая исследовательскую инициативу любителей древностей из уездных и губернских центров. Ее олицетворением стал М.П. Погодин, не одно десятилетие выказывавший живейший интерес не только к археологическим наблюдениям своих многочисленных корреспондентов из провинции, но и к проблеме исторического самосознания на местах в целом.
Пробуждению интереса Погодина к местной истории в немалой степени способствовала поездка по Русскому Северу П.М. Строева в рамках его знаменитой Археографической экспедиции. Возвратившись из этой поездки осенью 1829 года, он представил в Академию наук отчет, где, помимо достижений чисто археографического порядка, были изложены выводы из «наблюдения местностей, особенно любопытного и поучительного». Археограф утверждал, в частности, что
двиняне, онежане, пинежцы, вожане мало изменились от времени и нововведений: их характер свободы, волостное управление, образ селитьбы, пути сообщения, нравы, самое наречие, полное архаизмов, и выговор невольно увлекают мысль в пленительный мир самобытия новгородцев.
И даже больше того: «Двина и Поморие суть земля классическая для историка русского»[798]. От Строева досталось «нашим историкам – сидням столичным», которые
довольствуются из летописей и дипломов одними событиями, но черты прежних нравов, народного характера, образа действий внутренних и внешних, физиономия театра происшествий и общежития – все это (для них) вещи сторонние, малопостижные.
Поэтому, на его взгляд, нет ничего удивительного в том, что «в историях Российских… часто находим смесь фантастических рассказов, преувеличения, чего-то полуримского, а еще чаще празднословия!» Но археограф указывает и выход из этого неудовлетворительного состояния: «Познание местностей, особенно девственного севера, приложенное к преданиям и документам старины, способно озарить наше Дееписание живым светом истины. Сюда, опытные наблюдатели!» – таким призывом завершил он свой «очерк успехов восьмимесячного странствия»[799].
М.П. Погодин оказался очень восприимчив к этим словам. После разговора со Строевым он немедленно написал С.П. Шевырёву: «Строев здесь. Какие чудеса рассказывает он о северном крае! …Каковы самоеды там, каковы русские, чистые и не смешанные», а в свой дневник занес: «Что за Россия! Сколько миров в ней!»[800] Намерение историка знакомиться с местной историей укрепилось, когда к впечатлениям Строева он прибавил свои собственные, полученные летом 1837 года в Тверской губернии, куда его привлекли камни и курганы, описанные Ф.И. Глинкой в статье «Древности Тверской Карелии». Здесь ему довелось присутствовать на празднике св. Арсения Тверского. Увиденные Погодиным совершенно незнакомые обряды навели его на мысль, что «русская история может улучшиться, усовершенствоваться, даже уразуметься только посредством местных наблюдений и разысканий». А это, в свою очередь, вызвало его на критику кабинетной науки: «Нет, пятьсот тысяч Москвы и Петербурга не составляют еще России, и чтоб знать Россию, надо ее рассмотреть, и рассмотреть не из кабинета московского или петербургского, а на месте, пожить долго в каждом ее краю, познакомиться со всеми ее званиями, ибо дворянин московский совсем не то, что оренбургский, курский, и крестьянин тверской во многом не похож на орловского, не говорю уже о малороссийском»[801].
Погодин сделал для себя два главных вывода из этой поездки. Во-первых, он решил «отправляться всякий год в путешествия по России, которую решительно мы знаем очень мало, погрузясь в своих школьных разысканиях и диссертациях». Аккуратно исполнять это намерение ученому, обремененному служебными обязанностями, семейством, а вскоре и журналом, было невозможно. Но уже в 1840 году Погодин пустился в поездку, в ходе которой внимательно осмотрел Владимир, Нижний Новгород, Кострому, Галич, Вологду, Белозерск, Рыбинск, Ярославль и некоторые другие старинные русские города. Эта поездка познакомила его с местными исследователями старины, а также подсказала ему, каким образом местное прошлое могло бы быть использовано для «возбуждения охоты к истории» в учениках гимназий и училищ. Столкнувшись во время посещения галичского училища с незаинтересованностью воспитанников в учебе, в том числе и в занятиях по истории, ученый порекомендовал начинать этот курс со своего города, обстоятельств его возвышения или упадка; «от своего города легкий и естественный переход к своему княжеству, а потом и ко всей Русской Истории»[802]. В последующем Погодин не раз совершал подобные путешествия по России, всякий раз плодотворно отражавшиеся на его исследованиях.
Во-вторых, анализируя еще опыт своей прежней, тверской поездки 1837 года, Погодин осознал и ограниченность возможностей путешествия при решении местных исторических вопросов: «Никакие путешественники не могут так описать, заметить многое, как жители. Притом сколько нужно путешественников, чтобы объехать наше неизмеримое государство и рассмотреть его во всех отношениях?»[803] Отсюда вытекало и признание необходимости разработки материала на местах. В этой связи любопытно отметить, что «Путевые записки», опубликованные Погодиным по итогам его поездки в Тверскую губернию, заставили взяться за перо купеческого сына из Тихвина Г. Парихина. Прочитав погодинское описание, он припомнил старинную русскую пословицу: «Что город, то норов, что деревня, то и обычай» (ее же, к слову, вспоминал и М.Я. Диев в начале его переписки со Снегирёвым). Парихин обратил внимание, что приведенная Погодиным тверская свадебная песня в Тихвине имеет совсем другое значение, будучи одним из элементов игры, которая бытовала на «посидухах» – зимних вечеринках, устраиваемых для девушек на выданье. В связи с чем у автора возник вопрос исследовательского плана: что первично – тихвинская игра или тверская песня[804]. Неудивительно, что в его распоряжении не оказалось средств найти ответ на этот вопрос.
Вероятно, поэтому Погодин предпочитал полагаться в местных изысканиях не только на такой интерес случайной публики, к которой можно было причислить Парихина, но, прежде всего, на учителей уездных училищ, священников и студентов, приезжающих на вакации из университетов, семинарий, академий. Научные исследования он находил для них наилучшим способом заполнить свой досуг. Спасение от почти неизбежного в этом случае дилетантизма ученый видел в инструкциях, «наставлениях вообще для всех желающих», как собирать «нужные известия об обрядах, поверьях, областных словах, лекарствах, примечательных предметах, на что обращать внимание при находимых монетах, вещах, книгах старопечатных, рукописях». В составлении этого «наставления» М.В. Погодин рассчитывал на помощь Ф.Н. Глинки, П.В. Киреевского, С.П. Шевырёва, И.М. Снегирёва и П.А. Муханова[805]. Судьба этого начинания неизвестна, что, впрочем, больше говорит об обыкновении московского профессора бросать начатое на полдороге, чем об ослаблении его интереса к местной истории.
Рецензируя в 1841 году на страницах «Москвитянина» несколько недавно вышедших изданий о различных городах и монастырях, Погодин заявляет о своей всегдашней готовности хвалить подобные сочинения, поскольку «всякое примечательное место в России должно быть описано, сперва хоть как-нибудь, а потом все лучше и лучше». Сетуя на острый недостаток сочинений по местной истории («Сколько городов, сколько монастырей, церквей, мест имеют у нас свои истории? Сотая доля не имеет»), он был готов примириться даже с присущими им погрешностями в стилистическом отношении: «красноглаголание» Н.Д. Иванчина-Писарева, описывавшего подмосковные монастыри, по мнению Погодина, больше способствует пробуждению интереса к историческому знанию в полуграмотном мирянине, которому и должны быть адресованы подобного рода книги, тогда как «простоты требуют, простоту понимают люди высокообразованные». Знакомство с местным прошлым, по мысли рецензента, как и в упомянутом случае со школьным преподаванием, обретает свою истинную цену только в свете горизонтов всемирной истории:
пусть всякий мещанин знает что-нибудь о своей приходской церкви, о городском соборе, об своем городе… Любопытство не остановится на этом: узнав о своем городе, захотят они узнать и о Москве, потом и обо всей России, и обо всем Божием свете[806].
Сочинение А. Козловского «Взгляд на историю Костромы» побудило Погодина обратиться к проблеме, о которой заставила задуматься Н.Ф. Андреева неудача Сахарова с его «Историей общественного образования Тульской губернии» – о соотношении местного и общероссийского при освещении подобных сюжетов. Обнаружив в изложении Козловского пространные описания Батыева нашествия, междоусобиц сыновей Александра Невского, времен Ивана III и Ивана IV и много других отступлений от основной нити повествования, рецензент рекомендовал сочинителям городских летописаний «помещать как можно менее общего в свои частные Истории, разве где общее сливается совершенно с частным, например пребывание Михаила Фёдоровича в Костроме». Во избежание ошибки Козловского, у которого местные происшествия «скрываются в куче общих», он дает такой совет: «Историк Владимира, Суздаля, помещай у себя, что важно для Владимира, Суздаля, а иначе при всяком городе надо будет повторять всю Историю». В распределении труда между историком России и местным исследователем Погодин придерживался той же формулы, что и Снегирёв: «Общий историк должен заимствовать от частных, а не наоборот»[807].
Вместе с тем Погодина отличало более бережное отношение к авторскому началу в провинциальных штудиях. На страницах «Москвитянина» регулярно находила себе место корреспонденция из провинции, значительная часть которой была посвящена историческим, археологическим и этнографическим вопросам. П. Савваитов из Вологды, И. Кедров из Ярославля, Н. Борисов из Шенкурска, П. Кузмищев из Архангельска, уже упоминавшийся В. Борисов из Шуи и многие другие удостаивались от московского профессора самых лестных слов за свои местные изыскания[808]. В свою очередь, провинциальные исследователи при случае обращались к своему московскому патрону за напутствием. В феврале 1846 года нижегородский учитель гимназии П.И. Мельников, в скором времени получивший известность в литературе под псевдонимом Андрей Печерский, испрашивал у Погодина как у «патриарха Русских Археологов» благословения на «подвиг серьезный» – написание воображаемого путешествия по Нижнему Новгороду в 1621 году, в ходе которого получили бы освещение все местные достопамятности, сохранившиеся и утраченные: «До сих пор я не решался приняться за это дело, боясь его, – теперь, когда решился, к вам обращаюсь, не оставьте меня»[809].
Примечательно, что даже поблекшая на фоне утверждавшейся на рубеже 1840–1850-х годов «новой исторической школы» К.Д. Кавелина и С.М. Соловьёва слава издателя «Москвитянина» не изменила предельно почтительного отношения к нему со стороны провинциальных исследователей старины. Видимо, трудно уловимые очертания схем Погодина казались им более приспособленными к практике изучения местной истории, чем логически выверенные построения его ниспровергателей. Кроме того, трудно представить кого-то другого из русских историков времен николаевского царствования, настолько заинтересованного вопросами исторического самосознания жителей старинных городов, чтобы публично предаваться мечтам об открытии памятника Минину в Нижнем Новгороде, Прокопию Ляпунову и Стефану Яворскому в Рязани, Сусанину в Костроме, Андрею Боголюбскому во Владимире[810]. Немногочисленным хранителям исторической памяти в провинции подобные пожелания, время от времени исходившие от Погодина, позволяли видеть в нем союзника, на авторитет которого при случае можно опереться.
О потребности, испытываемой местными исследователями в такого рода поддержке, можно догадываться по реплике преподававшего философию в Вологодской семинарии П.И. Савваитова, брошенной им в письме к Погодину от 17 ноября 1841 года. Влиятельному единомышленнику, с которым вологодский любитель древностей познакомился за год до этого, были адресованы весьма важные для провинциальных деятелей вопросы:
Скоро ли примутся у нас за составление отдельных историй местных – и светских, и духовных? А давно пора бы. Конечно, частные люди без содействия начальства немного могут сделать. Для чего же не заставить начальников губерний и епархий заняться чрез кого-нибудь этим?[811]
Эти вопросы в данном контексте можно назвать риторическими, поскольку вряд ли Савваитов полагал своего корреспондента полномочным добиться их удовлетворительного решения.
Масштаб трудностей вненаучного характера, с которыми «частные люди», интересовавшиеся местной историей, сталкивались в самой провинциальной среде, открывается в переписке Диева и Снегирёва. Едва ли не каждый костромской архиерей отметился в научной биографии нерехотского исследователя старины тем, что чинил ему препятствия. Епископ Павел (Подлипский), сам неравнодушный к изучению древностей, выражал неудовольствие в связи с тем, что подчиненный представляет свои работы в московское Общество истории и древностей без его санкции. В конце 1831 года владыка положил конец этой практике, приказав Диеву предварительно показывать ему всякое сочинение, отправляемое в Общество. Вскоре епископ настоял на перемещении священника-археолога в другой приход, что было воспринято тем как бедствие, первопричиной которого были его ученые занятия. Может показаться парадоксальным, но взгляды костромского епископа на отношения субординации находили поддержку и в кругах московских ученых. Снегирёв сообщал Диеву, что председатель исторического общества А.Ф. Малиновский признал дерзостью то обстоятельство, что священник «пишет об одном предмете с архиереем». Общность интересов епископа и рядового служителя церкви не только не благоприятствовала карьере последнего, но, скорее, оборачивалась для него ущербом: сменив костромскую кафедру на черниговскую, Павел (Подлипский) увез с собой 18 книг из библиотеки Диева, включая особенно ценимый владельцем рукописный летописец 1671 года[812]. Впрочем, служба под началом менее просвещенных владык также была чреватой неприятностями для увлекавшегося стариной протоиерея. Преемник Павла епископ Владимир (Алявдин) посчитал нужным заметить Диеву при духовенстве, что «священнику некогда заниматься такими безделицами, как история и археология». А епископ Иустин (Михайлов), смирившись с этими занятиями своего подчиненного и поручив ему описать всех костромских архиереев, «приказал писать только доброе»[813].
Еще один источник невзгод для провинциальных исследователей, помимо служебных обстоятельств, состоял в самом предмете их изучения – представителях той самой «народности», местные особенности которой пользовались таким интересом у столичных ученых. Амбивалентные, а иногда и просто насмешливые характеристики жителей различных городов в народных присловиях, замечания по поводу особенностей обычаев несли в себе опасность для собирателей, изымавших эти фрагменты «внутреннего быта» из привычной для них устной стихии и предававших их печати. Так, смотритель нерехотского духовного училища Яблоков, добиваясь дискредитации преподававшего там Диева, собрал накануне Рождества в думу купцов и мещан, чтобы вызвать их возмущение опубликованной стараниями священника пословицей: «Не бойся на дороге воров, а в Нерехте каменных домов». Последний имел возможность убедиться, что этот демарш привел к отнюдь не безобидным для него последствиям: «Хотя половина нерехотского веча сказала: нам не до этих безделиц, но некоторые довольно накричали и положили не впущать меня в каменные домы славить». Откупщик нерехотских питейных домов из Романова пришел в негодование, когда узнал, что напечатано присловие о том, как романовцы барана в люльке закачали. По сообщению В.А. Борисова, жители Иванова, прочитав пословицы о себе, испытывали подобные чувства, но, поскольку не знали имя издателя, никому не могли адресовать свой гнев.
Немало горьких замечаний пришлось услышать и тихвинцу Г. Парихину в связи с публикацией его «Провинциальных увеселений» на страницах литературных прибавлений к «Русскому инвалиду», «начиная с того, что в купеческом звании неприлично заниматься Словесностью, до того, что будто на сограждан своих сочинил… пасквиль». О своих злоключениях, вызванных этим сочинением, купеческий сын третьей гильдии подробно рассказал в 1839 году в письме к И.П. Сахарову. Оказывается, его земляков задела за живое совершенно невинная, казалось бы, фраза в примечании об исключительной распространенности жемчуга среди жителей Тихвина: «В самом бедном семействе, где часто питаются одним хлебом, вы наверно отыщите 15–20 золотников порядочного жемчуга, а иногда и гораздо более!» На основании этих слов незадачливому автору не давали проходу, «честя, как Иуду». Парихин признавался Сахарову:
Я не знаю, да и не дай бог и знать печатного Разругали, но думаю, что оно рай против этого, когда почти на каждом шагу вас останавливают словами: Ах, Господин писатель, наше почтение, за что такая немилость на Тихвинцев! – Э, не стыдно пустяками заниматься, да добро бы писал сказки, а то вздумал конфузить своих Граждан!.. Ну, брат, спасибо тебе, отделал ты нас! Хватило у тебя совести написать, что мы едим один хлеб! – Это в глаза, а позаглазью…[814]
Ошибкой было бы рассматривать эти эпизоды с Диевым и Парихиным как следствие досадного стечения обстоятельств. Нелепые ситуации, в которые попадали ревнители местной старины, были слишком типичны, чтобы воспринимать их как недоразумение. Скорее в этих, на первый взгляд, немотивированных столкновениях с земляками можно видеть свидетельство маргинального статуса любителя древностей в провинциальном сообществе. Даже превосходное знание тульской истории не спасло Н.Ф. Андреева от крайней степени нищеты у себя на родине[815]. Так что отторжение, которое встречали Диев и Парихин в среде духовенства и купечества соответственно, представляется весьма симптоматичным. Как показывает биография касимовского купца И.С. Гагина, даже полное разорение было недостаточным условием для расторжения связей со своим сословием. Находясь тогда в одном шаге от самоубийства, он пришел к мысли о необходимости посвятить себя служению людям. И только после этого новая модель социального поведения, предполагавшая реализацию творческого потенциала в занятиях историей, археологией, архитектурой, сблизила Гагина с согражданами[816].
Конечно, нельзя сказать, что, располагая столь скромными возможностями самоидентификации в губернской или уездной социальной среде, провинциальные исследователи старины были обречены оставаться полностью безучастными к задачам, встававшим тогда перед национальной историографией вообще. Так, шуйский купец В.А. Борисов, хороший знакомый Диева еще с 1830-х годов, очень живо отреагировал на обозначившиеся намерения правительства улучшить быт помещичьих крестьян. 5 ноября 1858 года он отправил Бодянскому из своего собрания несколько документов XVII века о быте помещиков и крестьян «в той уверенности, что акты эти для издаваемых под Вашею Редакциею “Чтений” не будут лишними и потому самому, что сословия, высказывающие себя в актах, стоят ныне на первом плане внимания всей России»[817]. Но такие робкие попытки выполнить нечто большее, чем описание предметов, до которых еще не дотянулись руки столичных ученых, только лишний раз показывают границы, за которые провинциальные любители древности не рисковали выходить. Местное общество, во всяком случае в лице духовенства и купечества, весьма недвусмысленно давало понять провинциальным любителям древности безосновательность их притязаний на роль выразителей исторических запросов своей среды. Другими словами, они были лишены своей заинтересованной публики, в отличие, скажем, от авторов историй национального прошлого. Наряду с концептуальным замешательством, свойственным российской историографической ситуации середины XIX века в целом, это обстоятельство существенным образом сковывало исследовательские амбиции провинциальных ученых и ставило их в заведомо зависимое положение по отношению к тем, кто брал на себя труд создания обобщающих концепций истории России.
Возможно, увлекавшиеся изучением прошлого представители среднего поместного дворянства в наименьшей мере испытывали указанные неудобства. Относительно высокий образовательный уровень и привычка воспринимать интеллектуальный труд как одну из сословных принадлежностей, подкрепленные стабильным материальным достатком, позволяли им становиться на более независимую позицию в исторических занятиях. Другое дело, что эти занятия, далеко не так широко распространенные среди провинциальных дворян, как охота или разведение лошадей, обычно расценивались в этой среде как причуда и потому не становились консолидирующим фактором для местного сообщества. Все это в той или иной степени дало о себе знать в таком археографическом начинании, как «Белёвская вивлиофика». Его инициатором выступил Н.А. Елагин, приходившийся сводным братом по матери известным славянофилам И.В. и П.В. Киреевским. Именно последними, по собственному признанию Елагина, «внушена была первая мысль собрать и издать в исторической последовательности все, что уцелело из памятников об нашей стороне». Основной объем «черновой» работы проделал, судя по всему, сам Елагин. Об этом он весьма красноречиво поведал Хомякову в одном из своих писем: «Я уже с месяц в деревне из множества копен очень мало вымолачиваю зерна, т. е. из озимого хлеба, собранного с полей, и из ярового, нажатого мною нынешним летом в архивах». Но детали становления замысла и его реализации в «Белёвской вивлиофике» едва ли подлежат полной реконструкции. Можно только догадываться, как много значила для Елагина «братская помощь», о которой он так проникновенно говорил в предисловии к первому тому своего издания[818]. Не вызывает сомнений только то, что будь первоначальный замысел «Вивлиофики», кому бы он ни принадлежал, осуществлен, русская историческая наука приобрела бы публикацию уникального корпуса источников по истории одного уезда.
В первых двух из пяти предполагавшихся Елагиным томов должен был появиться датируемый концом царствования Михаила Фёдоровича список с писцовой книги Белёвского уезда – древнейшее из известных издателю его описаний. В качестве приложения ко второму тому он рассчитывал поместить экономическое описание времен генерального межевания – это нарушение хронологической последовательности Елагин допускал, исходя из того, что «в настоящую минуту издание подробного описания и плана многим и во многих отношениях может быть полезно». Подготовленный к печати третий том составляли бы материалы переписных книг 1646 и 1678 годов, а также грамоты и акты середины – второй половины XVII века. Основой четвертого тома должна была послужить публикация выписок из Ландмилицких книг, других документов XVIII века и итогов первых ревизий. Сюда же Елагин хотел переместить из приложений второго тома памятники эпохи Михаила Фёдоровича. Завершали замысел издателя только собиравшиеся им для пятого тома материалы статистического описания современного Белёвского уезда[819]. Итак, по окончании всей серии публикаций почти все наиболее существенные источники по истории этого уезда стали бы достоянием каждого любителя местной старины.
Но не только размах археографического замысла подкупает в работе Елагина. Еще более, может быть, примечательны его соображения по поводу информативной ценности источников по местной истории, главным образом писцовых книг, а также суждения по поводу непростого вопроса о соотношении местной и общероссийской исторической проблематики. Первое знакомство с писцовыми книгами, как видно из его письма к Хомякову, окрылило Елагина. Хоть он и называет собранные им материалы «драгоценными только для нас, Белёвцев», его научные интересы выходят далеко за пределы уезда. Из этих материалов он выводит следующее:
Что закон об укреплении крестьян существовал, – ибо половина уезда, иногда целые деревни, в бегах при М[ихаиле] Ф[ёдоровиче]. Но что при Ц[аре] А[лексее] М[ихайловиче] de facto существовал и Юрьев день; рядом с крест[я ни ном] беглым показывается крестьянин, перешедший по старине… Юрьевым днем можно объяснить все Смутное время.
На этом общерусском фоне не теряется и Белёвский уезд: Елагин отмечает рост на протяжении XVII века размеров вотчинной и поместной запашки, сокращение крестьянского населения, увеличение числа дворовых и пашенных бобылей, постепенный выход земли из службы, так что «указ Петра, переменивший поместья в вотчины, для Белёвс[кого] уезда почти ничего не изменил»[820].
При подготовке издания к печати Елагин был, однако, уже более осторожен в своих наблюдениях, оценках и выводах. Выписки из писцовых книг он по-прежнему считает «драгоценным приобретением науки», но материалы каждой из них в отдельности теперь, похоже, представляются ему недостаточными для широких обобщений: «Вопросы не разрешаются, но только возбуждаются. Многое, даже при издании целой отдельной книги, остается темным и загадочным». Анализируя свой источник, Елагин убеждается в ведущей к ошибкам заведомой неполноте отраженных в нем сведений: «…в издаваемой писцовой книге нарочно обойдены и не описаны казачьи села и деревни, знаменитых Бобриковских казаков. – Они значительно увеличили бы число помещиков». Теперь Елагин постоянно задается вопросом о повсеместном распространении наблюдаемых им в книге Белёвского уезда явлений. Его интересует, насколько всеобщими были неразвитость вотчинного землевладения до XVII века, мелкопоместность дворянства, сила поместной общины, опустение крестьянских дворов и т. п. Ответы он призывает искать в писцовых и переписных книгах, в особенности «тех счастливых уездов, описания которых сохранились от различных эпох, где старейшая писцовая книга может быть дополнена и объяснена рядом книг позднейшего времени»[821]. Мало кто из современников Елагина выдвигал сразу столько проблем перед местным исследованием. Правда, в издании своей «Белёвской вивлиофики» он не продвинулся далее второго тома.
Энтузиастам из дворянской среды принадлежат и оба наиболее содержательных замысла местных сборников середины XIX века – «Синбирского» и «Курского». История издания «Синбирского сборника» изложена в предисловии к нему. Из него следует, что в 1837 году Д.А. Валуев, его дядя Н.М. Языков и А.С. Хомяков из уст «одного из любителей русской старины» услышали весьма высокую оценку исторической значимости материалов, отложившихся в архивах дворян Симбирской губернии. Предварительный осмотр некоторых из этих частных архивов привел их к мысли издать наиболее важные из найденных документов в специальном сборнике[822]. Затем в руки издателей попали другие материалы, имеющие общероссийское значение, и выпуск местного исторического сборника был отсрочен. Тем не менее, издатели не собирались вовсе отказаться от публикации в дальнейшем местных материалов, которые наряду с историческими, юридическими, бытовыми бумагами и бумагами А.И. Тургенева должны были составить самостоятельный раздел или том сборника. В него должны были войти сведения, «касающиеся собственно до Симбирской и соседних с нею губерний»[823].
Некоторые сведения, почерпнутые, в основном, из эпистолярных источников, позволяют дополнить эту историю некоторыми подробностями. Поначалу издание сборника находилось в руках братьев Языковых. Во всяком случае, когда П.В. Киреевский в апреле 1839 года сообщает Н.М. Языкову о поступившем ему предложении поместить имевшиеся у него письма Петра Великого в сборнике Оболенского, Киреевского интересует лишь мнение адресата и его брата, Петра Михайловича: «…я не могу на это согласиться без вашего разрешения, потому что они назначались в будущий Синбирский сборник. Впрочем так как Синбирский сборник еще за горами… я был бы не против этого». Таким образом, в Валуеве трудно видеть единственного инициатора издания[824]. Да и вряд ли можно себе представить, чтобы семнадцатилетний юноша, каким он был в 1837 году, сразу возглавил и организовал такую сложную и масштабную работу, как подготовка сборника.
К Валуеву инициатива в издательских мероприятиях перешла приблизительно в начале 1840-х годов, и с тех пор судьба «Синбирского сборника» неразрывно связывается с его именем. Развернутая Валуевым, несмотря на все усиливавшуюся болезнь, бурная организаторская деятельность и его научный труд, посвященный истории местничества, определили лицо этого издания. Однако по мере того, как «Синбирский сборник» приближался к выходу в свет, состояние здоровья Валуева вызывало в его соратниках все большую тревогу. Попытка Хомякова сберечь молодого единомышленника, переложив исполнение хотя бы некоторых его начинаний на представителей славянофильского кружка, успеха не имела. Валуев скончался в 1845-м – в год выхода первого выпуска «Синбирского сборника», который стал, таким образом, и последним. Как видно из письма Хомякова А.М. Языкову, написанного не ранее 1849 года, судьба валуевских бумаг тревожила его. Впрочем, сам он, «зная себя слишком ленивым для дела издания и слишком беспорядочным для должности хранителя», слагал с себя всякую ответственность за осуществление замыслов своего умершего друга[825]. Другие славянофилы также устранились от этой работы. Одним словом, местный раздел «Синбирского сборника», ставший некогда отправным пунктом складывания самой идеи этого издания, так и не дошел до читателя.
Судьба «Курского сборника», который должен был выйти в начале 1860-х годов, во многом напоминает историю своего старшего собрата. Его инициатором стал проживавший в своем имении в Короченском уезде Курской губернии молодой князь Н.Н. Голицын. Из-за полученного в детстве увечья он был не способен к военной службе, которой традиционно посвящали себя его предки, и нашел утешение сначала в библиографических штудиях, а затем и в занятиях местной историей. В конце 1850-х годов он задумал издать «Курский сборник», в котором нашли бы свое всестороннее отражение прошлое и настоящее края. Помимо местных любителей старины, он рассчитывал привлечь к участию в сборнике известных столичных ученых – М.П. Погодина, А.Н. Афанасьева, Н.И. Костомарова, В.И. Даля и даже предпринял некоторые действия в этом направлении[826]. Но время показало нежизнеспособность этих планов, и идея «Курского сборника» к 1863 году трансформировалась во вполне обычный для того времени том сборника местного губернского статистического комитета, в котором Н.Н. Голицын исправлял должность секретаря. Его подборка актов Оскольского края, опубликованная на страницах сборника[827], стала, пожалуй, самым ценным в историческом отношении материалом, вошедшим в его состав, а само издание прошло незамеченным в литературе. В конечном счете, провинциальные исследователи прошлого из дворянской среды приходили к результатам, едва ли превосходившим по своей значимости плоды деятельности их собратьев по увлечению из других сословий. Более благоприятные интеллектуальные и материальные условия их работы сказывались, в первую очередь, на стадии составления планов. Однако недостаток энергии и организаторских способностей чаще всего не позволял им доводить задуманное до конца.
Знакомство с провинциальной историографией середины XIX века производит неоднозначное впечатление. На первый взгляд, историческое знание в эту эпоху обнаруживает себя уже не только в губернских, но и во многих уездных городах России. Публикации этой поры, посвященные местной истории, отличаются не виданным ранее разнообразием. В то же время эти успехи могут быть отнесены на счет концептуального и институционального роста науки русской истории, обеспеченного, главным образом, усилиями столичных ученых. Интерес к проблемам народности и «внутреннего быта», непрерывно питавший научные изыскания в 1830–1860-е годы, привел к историзации таких пластов провинциальной действительности, которые прежде представлялись частью повседневного порядка вещей, и открыл перед местными любителями старины неожиданные области исследования. Новизна вновь поставленных задач обусловила концептуальную нерешительность провинциальных исследователей, а крайняя неустойчивость исторических запросов губернского и особенно уездного сообществ предопределила маргинальный статус немногих ревнителей старины и ориентацию их на научные круги Москвы и Петербурга. И все же именно в середине XIX века в российской историографии укореняется мысль о невозможности решения многих проблем исторического знания без местных наблюдений, и многие провинциальные любители древностей начинают непосредственно участвовать в получении научных результатов, ценных также и в общероссийском контексте.
Н.Н. Родигина «Журналы были нашими лабораториями…»: конструирование исторического сознания провинциальных интеллектуалов второй половины XIX века
В название статьи вынесены слова Льва Троцкого, писавшего о феномене толстого журнала: «Журналы наши были лабораториями, в которых вырабатывались идейные течения… Журнал в своем многообразии и своем единстве был наиболее приспособленным орудием для идейного сцепления интеллигенции»[828]. Идеолог большевизма акцентировал внимание на роли журналов в идеологической идентификации современников. Однако влияние общественно-политических и отраслевых ежемесячников на формирование коммуникативного пространства русских интеллектуалов во второй половине XIX века было шире и многообразнее. Журналы, наряду с кружками и университетами, конструировали само сообщество русской интеллигенции, формировали его мифологию, создавали «места» и ландшафты памяти, предлагали поведенческие образцы, способствовали складыванию не только мировоззренческой, но и социокультурной, национальной, региональной идентичностей.
Абрам Рейтблат, размышляя о причинах «журнализации» русской литературы XIX века, выделил следующие факторы, обусловившие популярность «идейных» и отраслевых журналов:
1) постепенное повышение уровня образования россиян, заимствование у столичного дворянства культурных образцов провинциальными помещиками, чиновниками, разночинцами, в результате чего чтение стало необходимым элементом образа жизни более широких слоев населения;
2) журналы являлись инструментом солидаризации сторонников того или иного идеологического направления, способствуя в условиях политической неразвитости формированию общественного мнения и мировоззренческой самоидентификации современников;
3) в условиях дифференциации культуры появилась потребность в посреднике между интеллектуальной элитой, ориентированной на просвещение населения, и читателями-неофитами, стремящимися получить оперативную трактовку главных научных, литературных и политических событий, которую мог удовлетворить толстый журнал, осуществлявший связь между столицей и провинцией;
4) в связи со сравнительной дороговизной книг читателям проще было выбрать «свой» журнал и в дальнейшем обращаться только к нему, доверив редакции отбирать произведения для чтения;
5) тенденция к усилению злободневности, социальной ориентированности литературы сформировала читательскую потребность не просто в хороших, но и в новых, актуальных произведениях – и лучше всего этому запросу отвечала именно периодика;
6) журнал отбирал, систематизировал из всего богатства и многообразия культуры наиболее важные тексты и в популярной, доступной форме транслировал их читателям, по сути создавая новый текст, определяемый конструкцией, образом издания[829].
Многочисленные исследования журнальных текстов подтверждают идею Пьера Бурдьё о том, что журналы (как одно из средств массовой информации), конструировали для своих читателей образ мира, осуществляя, таким образом, свое символическое господство. Отбирая и интерпретируя явления реальности, журналы участвовали в символической борьбе за восприятие читателями социального мира, заставляя их определенным образом увидеть и оценить действительность[830]. Имея в виду, что в XIX столетии история была объявлена европейскими (в том числе и русскими) интеллектуалами особой, привилегированной сферой познания (вспомним, к примеру, широко известные слова Виссариона Белинского о том, что «век наш по преимуществу исторический век»[831]), конструирование образов прошлого было одним из инструментов реализации социально-мобилизующей и идентификационной функций журналов. Я исхожу из того, что общественно-политические и отраслевые (исторические) журналы претендовали на формирование исторического сознания русских интеллектуалов: транслировали свои версии прошлого, детерминированные мировоззренческой ориентацией издания; репрезентировали свое понимание целей, закономерностей, функций, предметной области истории; исходя из своих интерпретаций прошлого, обосновывали свое видение истоков и причин происходящего в настоящем и, ссылаясь на опыт прошлого, аргументировали целесообразность тех или иных вариантов решения актуальных проблем современности.
Участие периодических изданий в формировании исторических представлений русской интеллигенции второй половины XIX века – сюжет не новый для отечественной историографии. Наиболее точно сформулировала роль журнальной периодики в конструировании исторических представлений Марина Мохначёва: «Журнал самопроизвольно формирует историческое знание читателя-любителя и профессионала, читателя – современника журнала и последующих поколений читателей»[832]. Однако, несмотря на солидную традицию изучения истории журналов и содержания образа прошлого на их страницах, представляется актуальным выяснение целого круга вопросов, связанных с участием общественно-политических и отраслевых журналов в создании коллективных представлений о прошлом (притом не только в общероссийском масштабе, но и в региональных измерениях). Была ли провинциальная интеллигенция «особым» адресатом журнального дискурса? Если да, то каковы мотивы обращения подписчиков и авторов русской провинции к теме прошлого – общего и своего? Каковы функции журналов в процессе становления исторического сознания провинциальных читателей? Как осуществлялось взаимодействие между редакциями толстых журналов и провинциальными авторами и читателями? Зависело ли содержание дискурса о прошлом, адресованного провинции, от типа журнала?
Журнальный текст, вслед за М. Мохначёвой, понимается здесь как коллективный «текст-источник», результат сотворчества редактора-издателя, автора, цензора и др.[833] Предположу, что на дискурс о прошлом, адресованный провинциальным интеллигентам, могли оказывать влияние следующие обстоятельства: тип издания (политический, литературный, исторический и пр.); его программа и структура; мировоззренческая ориентация; личность редактора-издателя; наличие в авторском коллективе издания людей, интересующихся провинциальной историей; наконец, и сам культурный контекст эпохи.
Антитеза «столичное – провинциальное» стала значимым явлением русской культуры с первой половины XIX века. При этом, как замечено Юрием Троицким, «провинциальное» из топоса превратилось в имя собственное, приобретя явные культурные коннотации (очевидные, в частности, из текстов В. Белинского, Н. Гоголя, Ф. Булгарина, эпистолярных свидетельств современников)[834].
В середине XIX века противопоставление «столица – провинция» из литературного факта превращается в факт общественно-политической и научной жизни. Сама провинция начинает формировать представления о своем месте в российском социуме. Появляются концепции земскообластной истории России А. Щапова и Н. Костомарова; складывается региональное самосознание, выражающееся, в том числе, и в зарождении сибирского областничества, появлении знаменитой своей приверженностью провинциальным идеалам «Камско-Волжской газеты», в публикации первых сборников провинциальной литературы («Нижегородского сборника» под ред. А. Гациского; «Сибирского сборника» под ред. Н. Ядринцева и др.). Выступления в местной и центральной прессе представителей провинциальной интеллигенции с призывами оживить культурную и общественную жизнь провинции в 1860–1870-х годах вызывали неоднозначную реакцию столичных интеллектуалов. Д. Мордовцев, П. Ткачёв на страницах журнала «Дело» утверждали, что XIX век – век централизации, когда цивилизация сосредоточивается в крупных мировых центрах, где собрана интеллектуальная элита. Только в столицах («монополиях ума»), личность имеет возможность раскрыться, а провинции должны довольствоваться ролью доноров для столиц, на которых «лежит вечная забота – питать свои центры». С резкой критикой такой позиции выступили идеологи областничества (понимаемого в данном случае как движение за активизацию культурной жизни провинции и учет региональных особенностей в правительственной политике) Н. Ядринцев, А. Гациский, К. Лаврский. Они отрицали способность столичных деятелей вникать в нужды провинции, выступали против оттока «лучших областных сил» в «столичное болото», отстаивали необходимость развития провинциальной печати, которая бы способствовала солидаризации местной интеллигенции, защищала бы интересы населения, координировала разностороннее изучение прошлого и настоящего «медвежьих углов» Российской империи. Можно интерпретировать данную дискуссию как репрезентацию двух конкурировавших проектов идентичности: «централизаторской» и «региональной»[835].
Таким образом, и в публицистике, и в исторической науке под влиянием общего интереса к народности, бурного развития этнографии, фольклористики, возник интерес к самобытной жизни «российской глубинки» в ее прошлом и настоящем. Такие проявления модернизации, как рост числа образованных граждан, появление интеллигенции как особой социокультурной группы со своей мифологией, культурными кодами, идентификационными основаниями и поведенческими образцами, с одной стороны, и консолидация провинциальных интеллектуалов, складывание регионального самосознания – с другой, породили «национальный», «региональный», «профессиональный» и другие коллективные исторические нарративы.
Далее будет рассмотрена роль как идейных журналов («Вестник Европы»), так и отраслевых изданий («Исторический вестник») в формировании регионального и общенационального исторического самосознания. Специфику «говорения» о прошлом с провинциальными интеллектуалами «идейных» журналов мы рассмотрим на примере либерального общественно-политического журнала «Вестник Европы». Выбор обусловлен следующими соображениями: 1) типичностью его структуры, способов репрезентации реальности, механизмов взаимодействия с цензурой и читателями для толстых журналов изучаемой эпохи; 2) долголетием (издание существовало на протяжении всего интересующего нас периода), что позволяет проследить эволюцию позиции журнала; 3) популярностью, определявшуюся достаточно высокими тиражами; 4) авторитетностью для современников разных мировоззренческих симпатий, о чем свидетельствовало пристальное внимание к журналу литературно-критических отделов крупнейших периодических изданий пореформенной империи; 5) интересом к истории, отразившимся даже в выборе подзаголовка издания, позиционировавшего себя как журнал «историко-политических наук».
История в структуре и содержании толстого журнала
22 ноября 1865 года Главным управлением по делам печати было дано разрешение на издание журнала «Вестник Европы» с периодичностью четыре выпуска в год и стоимостью годовой подписки 8 рублей, что соответствовало средней подписной цене на ежемесячные издания. Его учредители выбор заглавия соотносили со столетним юбилеем Николая Карамзина, издававшего в начале XIX века журнал с таким же названием[836]. Знающим читателям название указывало на либеральный и западнический характер журнала.
В программе «Вестника Европы» достаточно четко сформулировано понимание организаторами журнала предназначения истории и, исходя из него, задач «историко-политического» издания. Вслед за Карамзиным издатели рассматривали историю прежде всего как сущностную предпосылку всякой полномасштабной политики. Подъем политической истории в России и в Европе во второй половине XIX века объяснялся не только развитием исторической науки, но и социально-государственными факторами. Становление национальных государств, формирование общественного самосознания, рост национальных движений активизировали воспитательную функцию истории, которая приобретала непосредственно государственный характер[837].
В соответствии с таким понимаем истории журнал мыслился как место обмена мыслями между отечественными учеными и публикой «по вопросам интересным для науки и полезным для живой действительности»[838]. Создатели журнала были убеждены в том, что историческая наука, способная раскрывать универсальные, «общеисторические» законы бытия, должна стать наставницей современности, а ее представители – своего рода экспертами, выясняющими «правильность» и «закономерность» тех или иных преобразований. Не случайно один из разделов журнала был посвящен современной хронике – «описанию тех событий истории, в которых… выразился дух нашего времени»; он призван служить «вместе с тем средством для проверки тех общеисторических законов, которые выводятся из опытов над отжившими обществами и народами»[839] (здесь и далее курсив мой. – Н.Р.).
Развивая идеи европейской философской мысли первой половины XIX века, издатели «Вестника Европы» наделяли историю прогностической функцией и были убеждены в том, что учет исторического опыта поможет в решении злободневных проблем политической и экономической жизни России как в настоящем, так и в будущем. Закономерно, что любое ожидаемое правительственное мероприятие редакция журнала старалась предварять публикациями, в которых проводились аналогии с событиями и явлениями прошлого, обосновывались истоки предполагаемых преобразований и в завуалированной форме предсказывались возможные последствия. Возвращаясь к программе издания, заметим, что, несмотря на приоритет политической истории, редакция провозглашала интерес и к истории идей, «руководивших мыслями и поступками людей прошлого», и к повседневной истории людей[840].
Предназначение истории виделось и в формировании национальной идентичности: прошлое должно было способствовать самопознанию русского образованного общества, помочь ему в обретении своих корней. Так, один из идейных лидеров журнала Александр Пыпин писал:
Знание своей истории служит в особенности меркой умственного развития общества: этим знанием определяется у лучших просвещенных людей народа представление о национальной жизни с ее прошлым и настоящим, и вместе представление о том, что желательно для народа в его будущем. С историческим знанием тесно связана разумная постановка национального идеала[841].
Отсюда – серьезное внимание издания к проблемам преподавания истории в школе, анализу учебных пособий и программ по истории, наличие в первых номерах даже специального раздела «Педагогическая хроника».
В 1880–1890-е годы сотрудники журнала несколько разочаровались в подходе к истории как «учительнице любви к отечеству и добродетели», однако, декларируя приоритет научности над соображениями практической значимости в исторических исследованиях, тем не менее, продолжали относить историю к числу «нравственных наук»[842]. Польза истории «для общества» усматривалась именно в формировании исторического сознания, понимаемого как представление о закономерностях исторического процесса. Сразу замечу, что редакция отчетливо понимала ключевую роль «обыкновенных» и исторических журналов в распространении исторических знаний в «обществе, где нет еще широкой политической жизни», члены которого «рассеяны на громадных пространствах», лишены возможности изучать новейшую историю в школе и университете[843].
Программа и структура журнала свидетельствуют о том, что предметное поле истории соотносилось его редакцией как с научным, так и с художественным дискурсом. Его создатели были убеждены, что задачи науки и искусства в деле воссоздания прошлого принципиально едины, что было характерно для исторического сознания образованного общества пореформенной эпохи[844]. Первый, соответственно, самый значимый отдел журнала предназначался для исторической беллетристики. Литература оказывалась историей в самом высшем смысле этого слова, а история литературы становилась, по сути, второй историей своего времени.
Человек в истории не только действует, но и относится известным образом к собственной деятельности в своем сознании. Если мы думаем знать свою историю… то в ней мы прежде всего знаем знание людей того времени о свершившемся на их глазах. Только с этим знанием людей об их времени мы можем иметь дело непосредственно. Пред нами не могут ни стоять отжившие люди, ни снова повториться их деяния, пред нами лежит одно слово, как пред археологами находится кусок ткани или обломок оружия, по которому он может судить о средствах к жизни, к защите. В этом смысле слово и история этого слова представляются сокровищницей – музеем, куда слагали все поколения самый живой, самый наглядный и полный памятник своей исторической жизни», —
такими словами анонсировался раздел «литературной хроники» первого выпуска журнала[845].
Пристальный интерес журнала к истории во многом определялся профессиональным составом его редакционного коллектива, основу которого составляли известные профессора Петербургского университета историки М. Стасюлевич, К. Кавелин, этнограф и литературовед А. Пыпин, демонстративно ушедшие в отставку в 1861 году в знак протеста против политики правительства в отношении студенчества. Обратим внимание на биографическую связь лидеров издания с провинцией. Первые два года литературно-критическим отделом, помещавшим рецензии на провинциальную литературу, заведовал уроженец Воронежской губернии и поборник малороссийской истории Н. Костомаров; родом из Саратова был автор многочисленных статей по истории провинциальной историографии и этнографии А. Пыпин.
Мировоззренческое кредо издания было достаточно четко сформулировано его редактором-издателем М. Стасюлевичем в одном из писем, написанных еще до создания журнала в 1862 году. Он так определял место своих единомышленников в общественном движении:
Снизу считают нас ретроградами и почти что подлецами, а сверху смотрят чуть не как на поджигателей. Теперь люди благоразумные, попавшись между двумя фанатизмами, без сомнения, отойдут совершенно в сторону и составят, так сказать, партию воздержания[846].
Расценивая демократическое движение (в том числе и представляющий его в русской периодической печати «Современник») как слишком радикальное и революционное, а также отвергая ярый консерватизм и национализм катковских изданий, Стасюлевич позиционировал свой журнал как общественную трибуну сторонников «третьего пути» – русского либерализма.
Адресаты дискурса о прошлом в толстом журнале
О степени популярности журнала свидетельствует его довольно большой тираж, доходивший в 1890-е годы до 7000 экземпляров[847]. Состав читательской аудитории журнала удачно отразил его цензор в ежегодном отчете в Главное управление по делам печати за 1878 год:
«Вестник Европы», имеющий многочисленных читателей, преимущественно среди высшего и образованного класса общества, является одним из влиятельных органов нашей периодической печати. Большинство серьезных статей «Вестника Европы» пишутся людьми талантливыми и специально изучавшими предмет, почему мнения, выражаемые ими, не могут проходить бесследно для общества[848].
Вообще, как отмечалось многочисленными специалистами по истории чтения, аудитория толстых журналов не была обширной. По подсчетам А. Рейтблата, для того, чтобы журнал «не прогорел», нужно было хотя бы 2–3 тысячи подписчиков[849]. Суммарный одноразовый тираж их, по данным того же Рейтблата, в 1860 году составлял – 30 тысяч, в 1880-м – 40 тысяч, в 1890-м – 90 тысяч экземпляров[850]. По свидетельствам информированных современников, в среднем на один экземпляр приходилось 13–14 реальных читателей. Таким образом, можно констатировать, что толстый журнал «обслуживал» интеллектуальные запросы «мыслящего меньшинства».
По моим подсчетам, основанным на материалах журнальной статистики, публиковавшейся в декабрьских номерах «Вестника Европы», в 1871–1881 годах провинциальные подписчики составляли в среднем 69 % читателей издания (оставшиеся приходились на долю Санкт-Петербурга, Москвы и заграницы). Лидирующее положение среди провинциальных подписчиков занимали жители Херсонской, Киевской и Екатеринославской губерний. Сведения о распределении подписчиков в пределах сибирских губерний говорят о том, что журнал читали не только в губернских центрах, но и в селах, и в уездных городах. Письма в редакцию «Вестника Европы», мемуары образованных россиян свидетельствуют о том, что провинциальную читательскую аудиторию журнала составляли люди из разных сословных и возрастных групп: разночинцы, чиновники, представители духовенства и купечества, обитатели «дворянских гнезд», учащаяся молодежь.
Функции журнала в процессе формирования исторического сознания
Анализ публикаций «Вестника Европы» дает основания выделить следующие функции журнала в формировании исторического сознания современников: информационную, идентификационную, координирующую, мобилизационную, профессионально-социализирующую.
Информационная функция заключалась в трансляции социальных представлений о прошлом (в форме научных знаний, литературного творчества, обыденных воззрений современников событий, зафиксированных в мемуарах, дневниках, письмах).
В соответствии с программой издания на протяжении всей второй половины XIX века политическая история, с ее акцентом на государственные преобразования, восстания, войны, деятельность выдающихся людей (и взаимоотношения между ними), была основным предметом научного осмысления истории на страницах «Вестника Европы». В отличие от отраслевых исторических журналов («Русский архив», «Русская старина» и др.), публиковавших главным образом исторические источники, журнал М. Стасюлевича основное предпочтение отдавал научным исследованиям ведущих современных историков. Большинство научных статей предварялось авторскими и редакционными комментариями, поясняющими причины обращения издания к тому или иному историческому сюжету. Как правило, актуализировалась связь тех или иных событий прошлого с настоящим и стремление сохранить в памяти потомков выдающихся героев и злодеев прошлого. При помощи такого рода «вступлений» порождалось эмоциональное отношение к национальной истории, транслировались мировоззренческие оценки прошлого, обращенные, безусловно, в настоящее и имеющие целью найти в прошедшем истоки и обоснования мнений русских либералов по текущим вопросам современности. Типична следующая ремарка, четко формулирующая редакционный заказ историкам:
…в истории мы хотим видеть начало и судьбу тех жизненных стремлений, которые наполняют настоящее противоречиями и столкновениями и которые представляют собой зерно будущего. Чем больше исторические труды будут доставлять разъяснения по этим предметам, тем будут они плодотворнее: сюда направляется больше всего внимания и пытливости, и отсюда всего больше будет исходить возбуждений к новым историческим розысканиям, вопросам и комбинациям[851].
В числе критериев отбора исторических трудов для публикации и для критического анализа лежал как тематический, так и хронологический принцип. Редакция отдавала приоритет работам, посвященным недавнему прошлому и раскрывавшим белые пятна тех периодов истории, которые еще памятны читателям. При этом историография понималась как результат совместных усилий ученых и общества по последовательному заполнение содержательных лакун в знаниях о прошлом. Примечательна в этом смысле реплика рецензента книги П. Щебальского «Чтение из русской истории. Пётр III – Екатерина II» (1866):
Весьма недавно мы устремились к истории прошедшего столетия, и, весьма естественно, на первых порах приходится ограничиваться изданием памятников и документов, подготовлением средств будущему историку. С.М. Соловьёв только что входит в XVIII век, и пройдет еще не один год, прежде он соберет в одно стройное целое то, что пока остается рассеянным в отдельных исследованиях, и воспользуется разнообразными документами, обнародованными по сие время. В ожидании такого труда было бы полезно ввести в общество познание о недавно прошедших временах более того, что уже сделано…[852]
Включению читателей журнала в число тех, кто должен воссоздавать национальную историю и формировать ее источниковедческую базу, способствовало употребление местоимений «мы», «наша». Создавая ощущение сопричастности к «нашей» истории, предлагая «общие» образы прошлого, редакция либерального ежемесячника выстраивала свое коммуникативное пространство, реализуя идентификационную функцию журнальной прессы и консолидируя своих единомышленников. Реконструкция событий прошлого оказывалась социально значимым делом, участие в котором должно стать потребностью каждого образованного человека. Более того, широкий общественный интерес к прошлому, доступность архивов по новейшей истории и возможность ее критического осмысления, свободный выбор тем исторических исследований понимались как обязательное условие либерализации общественной жизни. По мнению редакции, демонстрация «свободы мысли и слова» в исторических трудах означала освобождение общественной мысли от присущей николаевскому царствованию «боязни истории» и гарантию успешности либеральных реформ. В октябрьском номере 1869 года читаем:
Очевидно… что расширение свободы исторического изучения составляет неизбежную необходимость для общества, если только для него предполагается нужным какое-нибудь умственное развитие. Все толки о нашей особенной национальности, о необходимости самопознания, об обращении к народным началам, не говоря уж о превосходстве нашем над Европой… не имеют никакого смысла, как скоро литература еще столь бессильна, что для нее остаются закрытыми многие важные вопросы даже прошедшего[853].
Осознанное стремление влиять на содержание исторической памяти современников воплощалось и в тематике, и в содержании публикаций по истории, и в определенных методологических предпочтениях, детерминированных либеральной мировоззренческой ориентацией издания и соответствующими ей образами прошлого. Как установлено О. Леонтьевой, в общественной мысли пореформенной России соперничало несколько проектов мировоззренческой идентичности: династический, национально-государственный (в либеральном и консервативном вариантах), национально-культурный, демократический или народнический[854]. Содержательный анализ публикаций «Вестника Европы» позволяет сделать вывод о сосуществовании на его страницах национально-государственной и народнической (демократической) версий прошлого. Журнал, в частности, транслировал представления сторонников либеральной национально-государственной концепции (С. Соловьёва, К. Кавелина, Б. Чичерина), признававших государство высшей стадией развития народности, разумной силой, воплощающей идею общего блага и коллективную волю народа[855]. Отсюда – культ русских реформаторов, к которым причислялись Пётр I, Екатерина II, М. Сперанский. Народническое (демократическое) понимание прошлого усваивалось из опубликованных на страницах журнала работ А. Щапова, Н. Костомарова, В. Семевского. Народничество трактовалось сотрудниками журнала максимально расширительно, как интерес к народу в идеологии, в науке, литературе, в школьном преподавании, в музыкальном и изобразительном искусстве и даже в моде[856]. При этом «народ» понимался и как синоним (политической) нации, и как обозначение крестьянства. Исходя из этой народнической платформы, журнал помещал статьи о народных движениях, расколе, сектантстве, социально-экономическом положении и этнографии русского крестьянства.
Знакомство при помощи журналов с лучшими образцами современной научной литературы не только способствовало оперативному распространению исторических знаний среди провинциальных читателей, но и формировало представление о тематических приоритетах академической науки, о нормах историописания, о методах и источниках исторического исследования. Чтение художественных текстов (исторических романов, повестей) обусловливало воспитание ценностного отношения к прошлому, его более активное «присвоение». Информационная функция журнала реализовалась и при помощи критических разборов монографий, сборников документов, учебных пособий по истории.
Дискурс о прошлом «Вестника Европы», как впрочем и других толстых журналов, предназначался всем читателям: как жителям столиц, так и провинции. Однако в нем можно выделить совокупность текстов, адресованных главным образом провинциальным интеллектуалам. С начала 1870-х годов редакция регулярно помещала обзоры литературы по региональной истории и краеведению. Внимание к работам провинциальных авторов объяснялось самой редакцией журнала несколькими обстоятельствами. Выдвигая в качестве одной из важнейших задач развития нации самопознание, «Вестник Европы» исходил из того, что изучение как прошлого, так и настоящего «должно быть поддержано работой всей страны, работою местных сил»[857]. Именно местной интеллигенции отводилась основная роль в изучении прошлого русской провинции. Как считали петербургские публицисты, обращение к прошлому регионов Российской империи должно способствовать росту самосознания провинциального общества и реконструкции тех фрагментов прошлого, которые обычно ускользали от внимания столичных историков или могли быть восстановлены только по местным источникам.
В связи с этим примечательна позиция редакции в уже упомянутой дискуссии об отношении столичной печати к провинции. «Вестник Европы» так отвечал на обвинения в игнорировании столичной печатью интересов провинциальной России:
До сих пор приходится слышать и читать упреки какому-то «Петербургу», что он не знает провинции и народа… Под словом «Петербург» можно подразумевать весьма различные вещи, в упомянутых укорах всего чаще понимается именно Петербург административный, когда он не оказывает достаточного внимания к каким-либо местным вопросам провинции… С другой стороны, предполагаемое малое знание провинции Петербургом составляет вину самой провинции. До последнего времени она слишком мало изучала и вводила в литературу свою местную историю, свои общественные и народные отношения[858].
С усилением, как в количественном, так и в качественном отношении самой провинциальной литературы, увеличивалось и число публикаций, посвященных провинциальной истории и краеведению.
«Вестник Европы» чутко следил за новинками «областной литературы», уделяя особое внимание историческим разделам многочисленных губернских сборников, издававшихся, главным образом, статистическими комитетами[859]. Помещая рецензии на такие издания, журнал не только представлял читателям результаты работы местных историков и краеведов, но и координировал деятельность местных ревнителей старины. В числе наиболее предпочтительных направлений по воссозданию прошлого русской провинции либеральные обозреватели журнала называли: сбор и публикацию материалов местных архивохранилищ, фольклорных и этнографических источников; правильную организацию археологических раскопок; учреждение музеев и общественных организаций, занимающихся изучением истории родного края. Журнал сообщал о проведении археологических съездов, деятельности краеведческих и педагогических музеев, губернских архивных комиссий, провинциальных историко-филологических обществ, акцентировал внимание на роли статистических бюро в изучении истории русской провинции. Внимательное изучение рецензий, анонсов, информационных сообщений о прошлом русской провинции на страницах «Вестника Европы» позволяет сделать вывод о том, что журнал видел роль местной интеллигенции не только в изучении, но и популяризации истории родного края. История провинции рассматривалась как основа просвещения населения, формирования регионального и национального самосознания (как части и целого). Участие провинциальной интеллигенции в этом процессе оценивалось изданием как подвижничество, проявление гражданской позиции, как деятельность, заслуживающая уважения и подражания. Показателен, с точки зрения риторических приемов конструирования образа провинциала-подвижника, фрагмент рассказа об издании, освещающем деятельность Минусинского краеведческого музея:
Нас вообще радует появление серьезных трудов по какой-либо отрасли науки и публицистики в провинциальной литературе. Наша провинция, за исключением четырех университетских городов, так обделена средствами образования, что от нее немыслимо требовать сколько-нибудь значительной научной деятельности: отсутствие книг… отсутствие людей с научными интересами способны убить всякую любознательность, всякий порыв работать хотя бы в тесных условиях местного изучения. И если, тем не менее, изредка являются труды подобного рода, они внушают особое уважение, потому что для совершения их нужно много бескорыстной любви к науке, много нравственной выдержки в неблагоприятных условиях провинциального захолустья, без опоры в сочувственном кружке, без обмена мысли с товарищами по занятиям, часто при затруднениях материальных[860].
Приведенный отрывок, во-первых, свидетельствует о внимании издания к провинции; во-вторых, демонстрирует сочувственное, но несколько снисходительное отношение столичного рецензента к результатам интеллектуальной деятельности местного общества, смягченное перечислением «объективных» трудностей работы провинциальных исследователей и публицистов; в-третьих, иерархически интерпретирует «региональный масштаб» исследований как второстепенный, вспомогательный по отношению к более общим трудам, посвященным изучению страны, всего народа и пр. Назидательность столичного издания в обращении к провинциальным историкам объяснялась распространенным в профессиональной корпорации историков (и отчасти оправданным) отношением к региональной истории и краеведению как уделу историков-любителей. В связи с этим журнал видел свои функции не только в мобилизации и координации деятельности провинциальных интеллектуалов по изучению истории, этнографии, археологии родного края, трансляции полученных знаний своим землякам, но и в приобщении историков-любителей к профессиональным стандартам академической науки.
Именно ко второй половине XIX века исследователи относят становление академической исторической науки и появление «профессионального кодекса» историка-исследователя. Создатели журнала стремились сформировать коллективные представления о качествах, которые должны быть присущи всем, кто занимается историческими изысканиями. Объективность, беспристрастность, скрупулезность назывались теми чертами, которые должны культивировать как профессиональные историки, так и рядовые любители старины. Однако у людей, делавших «Вестник Европы», не было иллюзий по поводу возможности идеального воплощения в практике исторических исследований позиции объективного и беспристрастного наблюдателя. Так, ведущий раздела «Исторические новости» замечал в 1890 году, что как бы историк ни проникался философскими представлениями о значении своей науки, он множеством нитей связан с условиями данной минуты, с характером своего общества и народа, которые не могут на него не влиять[861].
Внимательное прочтение рецензий на «областную литературу» по истории и этнографии дает возможность выделить требования, которые предъявлялись к провинциальным исследователям.
Во-первых, предполагалось, что они будут создавать источниковедческую базу для воссоздания прошлого русской провинции. «Настоящая эпоха нашей историографии характеризуется не столько обилием исследований, сколько массой издаваемого вновь материала, за которым не поспевает историческая разработка», – утверждал ведущий «Литературного обозрения» журнала в 1885 году[862]. В соответствии с этим давались рекомендации о том, как правильно собирать и фиксировать этнографические сведения и фольклорный материал; как записывать воспоминания очевидцев тех или иных событий. Обозреватели журнала настаивали на том, что местная история должна быть написана на материалах местных источников, в первую очередь, архивных. Показательна в этом смысле реакция на «Исторический очерк Сибири» В. Андриевича, которая, по мнению редакции, представляла собой конспект тех фрагментов «Свода законов Российской империи», которые касались Забайкалья:
Это издание опять свидетельствует о недостаточности провинциальных сил, которым нередко трудно бывает справляться с вопросами истории или местного описания. Заглавие книжки способно сильно заинтересовать всех, занимающих русской историей, и книга о Сибири, написанная на месте, заставляет предполагать местные сведения, документы, предания, которые трудно иметь вне Сибири. Но на этот раз ожидание не будет удовлетворено[863].
Большое значение придавалось правилам публикации «найденных» источников, суть которых, прежде всего, «передать памятники, сколько можно точно» и «облегчить пользование ими»[864].
Во-вторых, рецензенты из «Вестника Европы» обращали внимание и на саму историографическую операцию – на то, как местные историописатели работали с источниками и исторической литературой. Как правило, это внимание ограничивалось констатацией круга привлеченных источников (реже – рефлексией по поводу их полноты) и рекомендациями тех исторических исследований, которые могли бы быть учтены. В данном случае важно, что журнал давал представление о «прозрачности» всех процедур, выполняемых историками, предъявлял требования «научности» к провинциальной исторической и краеведческой литературе.
В-третьих, журнал пытался влиять и на «литературную фазу» текстопорождения, анализируя особенности стиля и приемы изложения краеведческого материала. Как указывали С. Маловичко и М. Мохначёва, в провинциальной историографии и краеведении второй половины XIX века и в России, и в Европе господствовал антикварно-эрудитский тип историописания (он продолжает сохранять свои позиции и в современных отечественных исследованиях по региональной истории). Для такого типа текстов характерен культ эмпирического знания, когда процесс сбора фактов понимается как смысл исторического творчества. Часто такое историописание сопровождалось некритичным подходом к источникам, стремлением к комментированию всего, что есть в них, произвольным отношением к «фактам» и мнениям о них вплоть до построения весьма сомнительных общих конструкций[865]. Вполне естественно, что работы провинциальных историков часто вызывали непонимание у представителей академической историографии, сотрудничавших с «Вестником Европы». Поддерживая работы по региональной истории и историческому краеведению, они часто критиковали их авторов за отсутствие обобщений, игнорирование влияния природно-климатических, культурно-исторических условий на историю края, чрезмерную доверчивость к свидетельствам источников, преобладание позиции «краелюба» над позицией исследователя. Несмотря на то что основной объем рецензий занимал пересказ содержания произведений «областной литературы», они, тем не менее, включали и критические требования относительно и приемов повествования, и качества анализа источников, и «литературной обработки» исторического материала. А. Пыпин предложил такой алгоритм организации работы для провинциальных историков: 1) необходимо выяснить, что ранее написано по избранной теме; 2) выявить круг источников, в первую очередь местных, ранее не известных историкам; 3) сравнить информацию, содержащуюся в уже опубликованных источниках и работах предшественников, с собственными выводами[866].
Толстый журнал и его провинциальный читатель: способы коммуникации
Как сами провинциальные историки относились к рецензиям «Вестника Европы»? Для поиска ответа на этот вопрос прежде всего обратимся к текстам журнала и выясним, актуальна ли была для издания реакция самого «адресата» дискурса о провинциальной историографии. Наличие рецензий на повторные издания «областной литературы» или на новые публикации авторов, о которых уже ранее писали литературные обозреватели журнала с репликами о том, изменился ли рецензируемый текст под влиянием критики журнала или нет, позволяет ответить на этот вопрос развернуто. Как правило, позиция ведущего «Литературной хроники» журнала публично формулировалась в тех случаях, когда автор прорецензированного труда выражал свое несогласие с критикой. Журнал, таким образом, становился ареной для дискуссии, в ходе которой уточнялось видение задач, методов, источников работ по местной истории, формулировались сами правила и приемы профессиональной дискуссии. Позволю себе объемную цитату, иллюстрирующую типичную реакцию автора журнала на упреки со стороны провинциальных авторов. Речь идет о рецензии на книгу В. Витевского по истории Оренбургской губернии.
Что это – работа весьма полезная для истории нашей восточной окраины, в этом нет сомнения, автор весьма трудолюбиво собирает свой материал, в котором особливо ценным является, конечно, тот, который извлекает он из архивных бумаг… О способе изложения мы уже говорили. В предисловии автор опять счел нужным говорить о своих рецензентах и, между прочим, негодует на рецензию… «Вестника Европы», видя в ней несправедливые нападения на его работу. Нам очень жаль, что он пришел к такому заключению, потому что оно совершенно несправедливо. Например, в рецензии «Вестника Европы» было говорено о недостатках в изложении, которое впадало в ненужные излишества (например, по поводу процесса Волынского, по поводу известной Салтычихи), но оказывается, что то же самое замечание было сделано в рецензии «Журнала министерства народного просвещения», которую автор считает благосклонной к своему труду. Автор принадлежит к числу писателей, не допускающих никакого противоречия: он продолжает защищать уместность того, что его читателям (совершенно независимым друг от друга) показалось совершенно неуместным, но, очевидно, что в замечании «Вестника Европы» не было ничего недоброжелательного[867].
Приведенный фрагмент, как минимум, показывает не только наличие обратной связи «журнал – читатель», но и указывает на ее оперативность (и книга, и две рецензии «Вестника Европы» датируются одним годом), свидетельствует о важности мнения журнала для провинциальных историков и о значимости реакции последних для самой редакции. О типичности описанной ситуации свидетельствует содержание и других рецензий, очень схожих между собой не только по содержанию, но и лексике, риторическим приемам аргументации в коммуникативной цепочке «журнал – провинциальный историк – журнал». Таким образом, журнал участвовал в разработке корпоративного кодекса историков как представителей единого коммуникативного пространства, включавшего в себя не только профессиональных исследователей, но и провинциальных историков-любителей, выполняя роль посредника между ними. Он не только транслировал мнения столичных историков о том, какой должна быть провинциальная историография, но и включал региональных историков и краеведов в процесс обсуждения норм провинциального (и в конечном счете национального) историописания, информировал интеллектуалов о проблемном поле и результатах развития отечественной исторической науки.
Провинциальными авторами публикация своих работ на страницах «идейных журналов», в том числе и «Вестника Европы», воспринималась как возможность максимально расширить круг своих читателей; существенное значение имело для них и материальное вознаграждение за труд (так как надежда на гонорар многими провинциальными авторами расценивалась как шанс поправить свое, порой тяжелое, экономическое положение). Чаще всего «провинциальные материалы» передавались на суд редактора через посредничество сотрудников издания, биографически связанных с тем или иным регионом или хорошо знакомых с авторами, писавшими о нем.
Например, в «Вестник Европы» обращались с рекомендациями о публикации произведений о сибирской провинции Г. Потанин, Н. Ядринцев[868]. Посредниками для «определения» рукописей о Сибири в «Русскую мысль» выступали Г. Мачтет, Г. Успенский, К. Станюкович[869]. В «Русском богатстве» функции «литературных сватов» чаще всего выполняли сибиряк Н. Анненский, а также В. Короленко, А. Иванчин-Писарев, С. Кривенко, Д. Клеменц, познакомившиеся с сибирскими реалиями во время пребывания в ссылке[870].
Порой авторы напрямую обращались к редакторам и ведущим сотрудникам изданий с просьбой о публикации своих текстов. Архивные фонды редакторов ведущих журналов содержат немало обращений провинциальных историков с просьбой «решить судьбу» их произведений. Стасюлевич, например, как свидетельствуют воспоминания Л. Слонимского, старался своевременно сообщать авторам о судьбе присланных ими рукописей и не задерживал больше месяца редакционное решение, каков бы ни был объем материала. Отрицательные ответы давались гораздо быстрее, и если автор не являлся лично, то ему посылали сообщение по почте, часто с приложением рукописи[871].
Посредническую функцию в общении между провинциальными авторами толстых журналов и их редакторами выполняли журфиксы, роль которых в «журнальном» быту достаточно подробно охарактеризована М. Мохначёвой[872]. Известная мемуаристка Эмилия Пименова так писала о журфиксах «Русского богатства»:
Если кто-нибудь из провинциальных писателей приезжал в Петербург, то непременно появлялся в который-нибудь из четвергов в «Русское богатство». Это был своего рода «литературный клуб», но, разумеется, не все были вхожи туда, и для этого надо было обладать определенной репутацией передового общественного или литературного деятеля и быть знакомым кому-нибудь из членов этого круга[873].
Некоторое представление об авторитете «Вестника Европы» среди провинциальных интеллектуалов дают поздравительные телеграммы в честь юбилеев журнала и его ведущих сотрудников. В большинстве такого рода текстов, изобилующих гиперболами и метафорами, журнал называется «светочем среди мрака провинциальной жизни» (Курск), а его лидеры «глашатаями добра и широкого простора в общественной деятельности» (Ирбит), «гуманными защитниками окраин» (Тифлис), «представителями той общественной программы, которая в течение целого ряда лет напоминала о роли интеллигенции в создании лучших форм русской жизни» (Омск)[874].
Дискурс о прошлом, адресованный «Вестником Европы» провинциальным читателям, по своей тематике, структуре, функциям был типичен и для других «идейных» журналов второй половины XIX века, вне зависимости от их мировоззренческой принадлежности. Отличались лишь его содержательные характеристики, контексты актуализации и ценностные интерпретации тех или иных образов прошлого. К примеру, редакция консервативного «Русского вестника» акцентировала внимание на роли провинциального дворянства и казачества в территориальном расширении империи, на вкладе духовенства в изучении провинциальной истории и этнографии, настаивала на необходимости изучения дворянских родословных (в том числе и провинциальных). Анализ содержания разножанровых публикаций «Русского вестника», «Русской мысли», «Русского богатства» подтвердил наблюдение О. Леонтьевой о том, что все соперничавшие проекты коллективной идентичности роднили друг с другом схожие цели обращения к историческому прошлому и общие способы его реконструкции. Их объединял интерес к одним и тем же историческим сюжетам, к одним и тем же «поворотным моментам» родной истории, игравшим ключевую роль в общенациональном историческом нарративе[875].
Особенности репрезентации прошлого русской провинции в исторических журналах
Следует также указать на зависимость журнального текста о прошлом «для провинции» и «о прошлом провинции» от типа толстого журнала; для этого можно выделить общее и особенное в освещении областной истории в общественно-политических и исторических ежемесячниках. Обратимся с этой целью к текстам отраслевого исторического ежемесячника «Исторический вестник».
Упомяну два основных критерия выбора данного издания: 1) в отличие от «Русского архива» и «Русской старины», специализировавшихся в основном на публикации источников, «Исторический вестник» являлся не узкоспециализированным изданием, а популярным журналом «для всех», кто любит историю, демонстрируя переход отраслевой периодики от «публикаторской» к научно-популярной; 2) журнал также выделялся ориентацией на широкую аудиторию, о чем свидетельствует динамичный рост численности подписчиков – с 2375 в 1880 году до 10 460 в 1904 году[876]. Для сравнения, максимальный тираж «Русской старины» в лучшие ее годы доходил до 7 тысяч экземпляров. Журнал был рассчитан на широкую читательскую аудиторию, включавшую наряду с профессиональными историками, археографами, этнографами также и обывателей, интересовавшихся исторической проблематикой.
«Исторический вестник» был основан в Санкт-Петербурге в 1880 году и до 1913 года редактировался историком Сергеем Николаевичем Шубинским (1834–1913). Издателем журнала был популярный публицист и газетный магнат А. Суворин, который рассматривал издание прежде всего как коммерческий проект. Для расширения круга читателей Шубинский привлек к сотрудничеству авторов исторических романов Д. Мордовцева, П. Полевого, Е. Карновича, Е. Салиаса де Турнемира, признавая высокую значимость художественных текстов для формирования исторических представлений и популяризации истории. Наряду с исторической беллетристикой и публицистикой, источниками личного происхождения, биографическими очерками, редактор помещал в журнале научные исследования по истории, историографии, рецензии на историческую литературу, в том числе и по региональной истории и историческому краеведению, пытаясь сохранять баланс между популярной историей «выходного дня» и научным знанием о прошлом. С. Шубинский был сторонником умеренно-либеральных взглядов, однако в своем издании давал высказываться относительно прошлого как охранителю Д. Иловайскому, так и народнику, будущему «Шерлоку Холмсу русской революции» В. Бурцеву и др.
Авторы издания понимали роль отраслевых периодических изданий в формировании «достоверных» исторических представлений современников, повышении социального статуса научной истории. Подводя основные итоги развития исторической науки за последнюю четверть века, Н. Аристов писал в 1880 году:
Кого прежде занимали исторические романы Загоскина и Лажечникова, теперь стали предпочитать статьи по русской истории и становились на почву действительной жизни, а не сочиненной в воображении писателя. Когда обнаружилась любовь к историческому чтению, сделалось возможным для частных лиц издавать «Русский архив», «Русскую старину», «Древнюю и новую Россию», «Исторический вестник». Дело правительственного покровительства русской истории и румянцевского меценатства уступило место трудам обществ и частных деятелей[877].
В числе наиболее значимых результатов пореформенной историографии Аристов отмечал становление «областной» истории и литературы, называя в числе ее теоретиков А. Щапова и Ф. Буслаева[878].
Интерес «Исторического вестника» к жизни различных провинций империи, к их истории поддерживался самим С. Шубинским, писавшим К. Бестужеву-Рюмину в 1874 году: «…знание родины, “отечествоведение” должно составлять, если можно так выразиться, необходимую принадлежность каждого образованного человека»[879]. Как свидетельствуют публикации журнала, под «отечествоведением» его редактор понимал изучение прошлого и настоящего российской провинции[880].
В отличие от явного крена в сторону политической истории в «идейных» журналах, в круг интересов «Исторического вестника» входила история культуры, медицины, преступности, «бытовая», «женская», «семейная» и прочие истории. Поиски типичного, демонстрация всеобщего, универсального характера исторических законов и своеобразия русской истории, присущие общественно-политической периодике, соседствовали в журнале с пристальным вниманием к уникальным событиям, казусам. Все это задавало определенные тематические ракурсы и для авторов, писавших о русской провинции.
Выявляя общее и особенное в дискурсе о прошлом русской провинции в рамках и отраслевой («Исторический вестник») и «идейной» («Вестник Европы») периодики, обратим внимание на то, что исторические журналы демонстрируют больший перечень жанров, при помощи которых репрезентировалась «областная» история. Наряду с типичными для «идейных» журналов художественными текстами, научными статьями по истории, этнографии, археологии регионов империи, рецензиями на провинциальные издания, в «Историческом вестнике» широко публиковались популярные статьи на исторические темы, большое количество мемуаров и путевых заметок, биографических очерков и некрологов выдающимся деятелям «русской глубинки».
Как и в общественно-политических журналах, наибольшее число публикаций «Исторического вестника» о русской провинции было представлено рецензиями на «областную» литературу по истории. Предпринятый нами анализ содержания публикаций раздела «Критика и библиография» подтверждает наблюдение М. Мохначёвой о том, что к 1870-м годам в журналах произошло перерождение информационно-библиографических материалов в критико-библиографические и собственно историографические рецензии, что свидетельствует о переводе данного жанра историописания с внешнего, информационного типа работы к внутреннему, литературоведческому и науковедческому[881].
Рецензенты «Исторического вестника», подобно своим коллегам из общественно-политических изданий, не только информировали своих читателей о выходе в свет работ по провинциальной истории, этнографии, археологии, археографии, но и подробно анализировали их достоинства и недостатки, определяли их соответствие собственным представлениям о структуре, методах, принципах «исторического письма». Типичными можно назвать замечания рецензента книги Н. Латкина «Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее»:
К сожалению, в ней совершенно отсутствуют точные указания, откуда и что заимствовано автором, то есть из каких книг и статей, посвященных той же Енисейской губернии… Это отсутствие указаний и ссылок на литературу исследуемого предмета ставит почти неодолимые препятствия для определения того, какое именно место принадлежит данному очерку в ряду других трудов, описывающих также Енисейскую губернию. Для читателя-неспециалиста совсем не видно, что нового сказал автор в своей книге, насколько продвинулось вперед изучение того или иного вопроса, касающегося рассматриваемой губернии[882].
Как и сотрудники «идейных» ежемесячников, авторы «Исторического вестника» видели в изучении провинциальной истории эффективное средство консолидации провинциальной интеллигенции, способ «пробудить провинцию от спячки, в которую она погружена, дать ей возможность жить более высокими интересами»[883]. Можно с уверенностью утверждать, что исторические журналы выполняли те же функции в формировании исторического сознания провинциальных читателей, что и «идейные» ежемесячники. Содержательный анализ «Исторического вестника» позволяет выделить еще одну функцию, на которую претендовало издание, а именно – контролирующую. Редакция регулярно напоминала читателям о недостаточности усилий провинциальной интеллигенции по изучению и популяризации истории родного края, о невысоком уровне значительного числа историко-краеведческих работ, об отсутствии широкого интереса к деятельности статистических бюро, архивных комиссий и других организаций, занимавшихся «местной историей». Типичной можно назвать такую реплику: «Курский губернский статистический комитет никогда не отличался особенной деятельностью на поприще науки. До половины 70-х годов он, однако, еще подавал признаки жизни…»[884]. Приведем еще один из многочисленных примеров, демонстрирующих коммуникативные стратегии «Исторического вестника» в отношении провинциальной интеллигенции. Сообщая читателям о прекращении из-за хронической нехватки материальных средств «Нижегородского сборника», ведущий литературно-критического отдела замечал:
На грустные итоги наводит нас эта длинная эпопея злоключений «Исторического вестника». Более двадцати лет один человек (о комитете говорить нечего, весь он сосредотачивается в одном А.С. Гациском) бесконечно отдал одной цели, делу изучения родного края, борется с часто непреодолимыми трудностями, знает при этом, что общество мало интересуется его трудами… и под конец, не видя ниоткуда поддержки, он должен согласиться, что одному ему оно не под силу, что ему остается лишь махнуть рукой на излюбленный привычный труд. Опять приходится убеждаться в том, как трудно сделать у нас многое частными средствами при отсутствии поддержки со стороны общества, нисколько не интересующегося серьезными книгами и периодическими изданиями[885].
В отличие от либеральных и народнических общественно-политических изданий, конструировавших в массовом сознании образ провинциального интеллигента-подвижника, редакция «Исторического вестника», наряду с признанием заслуг провинциального общества по изучению своего прошлого, показывала расхождение «бумаги и действительности», акцентировала внимание на равнодушии значительной части «местных деятелей» к истории края.
Один из способов порождения потребности провинциальных интеллигентов в самопознании через прошлое «Исторический вестник» видел в развитии областной исторической периодики, относя ее появление к «отрадным результатам общественной жизни и историографии последних десятилетий». Важно, что наряду с декларациями о пользе таких изданий журнал давал практические советы о том, как расширить круг подписчиков, предлагал наиболее оптимальные варианты структуры и критерии отбора текстов. В качестве образца успешной провинциальной периодики журнал называл, к примеру, «Киевскую старину», из оценки которой ясны ожидания от аналогичных изданий:
Вообще говоря, от книжек «Киевской старины» веет каким-то хорошим, здоровым духом, чуждым всяких партий и этнографической розни, далеким от мелочности застоя тесных провинциальных уголков. Книжки эти с одинаковым удовольствием прочтутся и великорусом, и малороссом, и возбудят одинаковый интерес в Москве и Одессе, в Петербурге и Харькове[886].
По сути, в данном фрагменте сформулированы представления о сверхзадаче краеведческих произведений – расширять круг «своих» читателей, выходя за пределы «своего» этноса, «своей» провинции.
В отличие от «политических» журналов, ориентировавшихся на освещение злободневных «сюжетов прошлого, обращенных в настоящее», отраслевая периодика, в том числе и «Исторический вестник», публиковала очерки, мемуары провинциальных «собирателей исторических материалов и древностей» о повседневной истории русской «глубинки», о любопытных, но малоизвестных людях и случаях, о приездах в провинцию известных людей. Такова, к примеру, серия воспоминаний о пребывании в разных городах «внутренней» России Екатерины II и Александра II, представляющих ценный материал для изучения образа царской власти в сознании обывателей, ментальных, культурных воплощений оппозиции «столичное – провинциальное» и пр.
В отличие от общественно-политических изданий, фокусировавших внимание главным образом на государственных деятелях или выдающихся ученых и писателях (и, как правило, в контексте их «вклада в историю и культуру») историческая периодика проявляла интерес к жизни обычных людей. Героями публикаций становились и одаренные учителя, и чиновники-казнокрады, и крестьяне-археологи, и «злодеи» преступного мира. Исторические журналы расширяли границы предметной области и проблематики региональной истории, включая в число ее объектов историю памятников, учебных заведений, библиотек, музеев и часто смещая акцент повествования с «больших нарративов» на сюжеты микроуровня.
О том, что журнал моделировал социальное поведение читателей, в том числе и провинциальных, побуждал к сбору архивных материалов и устных источников по истории края, свидетельствуют многочисленные письма читателей в редакцию «Исторического вестника». Корреспондентами редакции были провинциальные учителя, чиновники, офицеры, представители духовенства. Характерно следующее обращение к С. Шубинскому народного учителя из Забайкальской области:
При сем посылаю Вам некоторые исторические материалы: 1) торжественная песнь на коронование императора Павла I; 2) стихотворение крестьянина М. Фёдорова «Велик Бог земли русской»; 3) две песни сибирского казака Назимова и отрывки писем его к родным в г. Верхнеудинск. Если найдете желательным, то поместите их в уважаемом Вашем журнале[887].
Имеющиеся у меня материалы ясно характеризуют наши пограничные сношения с соседями китайцами, бухарцами… Располагая этим материалом, я бы желал поделиться им с русской читающей публикой, а в особенности с той ее частью, которая интересуется прошлым нашей обширной и малоизвестной родины Сибири, и поместить на страницах Вашего многоуважаемого журнала все то, что, конечно, позволяет его программа. Ввиду этого я обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбою, не отказать сообщить мне: может ли Ваш почтенный журнал уделить для моих сообщений место, в каком виде нужно посылать материал для печатания, то есть в необработанном – как то документы и акты, или же в обработанном, как, например, в форме очерков или монографий», —
спрашивал в 1887 году офицер Н. Путинцев из г. Омска[888].
* * *
Общественно-политические и исторические толстые журналы второй половины XIX века претендовали на участие в конструировании исторических представлений современников, видя в истории, главным образом, средство формирования коллективных идентичностей. Журналы тогда выступали в роли «экспертов», транслировавших свои образы прошлого как власти, так и обществу, являясь, как это было неоднократно отмечено, одним из элементов становления и самого гражданского общества, и феномена общественного мнения, и будущих политических партий. Журнальный дискурс «о прошлом» актуализировал разные компоненты исторических представлений: информативный, сообщая читателям о тех или иных событиях, людях, явлениях или умалчивая о них; концептуальный, связанный с презентацией изданиями своего понимания логики исторического процесса, его основных акторов, закономерностей; эмоционально-ценностный, подразумевающий формирование оценочной позиции в отношении к прошлому. Журналы представляли разные варианты историописаний, соответствующие разным уровням исторического сознания: они знакомили с достижениями академической историографии, распространяя таким образом научные знания о прошлом; они публиковали художественные тексты, вызывая разные эмоциональные реакции от «присвоения» до «отторжения» прошлого; они репрезентировали и обыденные исторические воззрения, печатая немалое число мемуаров, писем, публицистических очерков. Именно комплексная подача исторического материала и регулярная периодичность журналов способствовала, помимо прочего, эффективности их воздействия на читателей.
Провинциальные интеллектуалы были особым адресатом журнального дискурса о прошлом на протяжении всего изучаемого периода уже в силу того, что составляли большинство подписчиков толстых журналов. Интерес к провинциальной истории первоначально ограничивался публикацией рецензий на «областную» литературу, мемуарные и художественные произведения о прошлом отдельных провинций и имперских окраин. С конца 1870-х годов в связи с численным ростом образованных россиян, в том числе и в провинции, с формированием регионального самосознания, появлением массовой литературы по истории русской провинции, увеличением количества краеведческих музеев, общественных организаций, занимавшихся изучением местной истории, усиливался интерес журналов и к провинциальному прошлому, и к настоящему. Создавался механизм взаимодействия журналов и провинциальной публики: письма в редакцию, журфиксы, юбилейные поздравления и т. д. Безымянная, абстрактная провинция обретала имя, и журналы начинали репрезентировать «сибирский», «кавказский» и прочие тексты русской истории. Зарождавшиеся региональные интеллектуальные элиты стремились использовать коммуникативный потенциал толстых журналов для передачи своих версий прошлого, в то время как редакции столичных изданий предлагали свои варианты осмысления региональных «изобретений прошлого», предъявляя к ним требования «научности», объективности, профессиональной компетентности.
И.М. Чирскова Цензура и историческое знание в России второй половины XIX века
Историческая информация, учитывая ее социальную значимость, всегда находилась в поле пристального внимания цензуры. В России второй половины XIX века интерес к истории как важнейшему способу социальной и культурной самоидентификации не только возрос, но и приобрел качественно новые черты. Расширение образовательных и общественных инициатив, появление специализированных журналов, увеличение числа изданий и статей по исторической тематике в периодике широкого профиля, – все это стимулировало и цензурный контроль над публикациями источников и исследованиями, более пристальное внимание к учебникам и книгам «для народного чтения», театральным постановкам на исторические сюжеты. Степень надзора и границы допускаемой исторической «гласности» были обусловлены многими факторами – например, временной отдаленностью описываемых событий, их характером и кругом участников. Значение имела актуальность материала в конкретный исторический момент и возможность параллелей с современностью, а также оценочные характеристики и другие факторы. Цензорами учитывались состав и массовость читательской аудитории (которой была адресована та или иная публикация), ее образовательный уровень, социальный статус, возраст, в ряде случаев – и пол потребителей печатного слова, а также характер издания, личность издателя, состав редакции, авторство конкретного материала и прочее.
Поскольку история немыслима без имен правителей, а их упоминание требовало соответствующего разрешения, временные пределы «свободного» изложения отечественной истории в разные ее периоды варьировались. Впервые (в прецедентном порядке) они были определены в 1852 году Николаем I: личная цензура императора распространялась на освещение событий после 1796 года. В 1860 году, уже в другом политическом контексте, был принят циркуляр, расширивший хронологические рамки контроля и впервые указавший на идеологические причины временных ограничений[889]. Циркуляр от 8 марта 1860 года констатировал отсутствие в цензурном уставе статьи, воспрещающей «распространение известий неосновательных и по существу своему неприличных к разглашению о жизни и правительственной деятельности Августейших Особ Царствующего Дома, уже скончавшихся и принадлежащих истории». Документ проявлял заботу о «не принесении вреда» подобными «известиями» и одновременно о том, чтобы «не стеснить отечественную историю в ее развитии». Рубежом был принят конец царствования Петра I, после которого запрещалось «оглашение сведений, могущих быть поводом к распространению неблагоприятных мнений о скончавшихся Августейших Лицах Царствующего Дома, как в журнальных статьях, так и в отдельных мемуарах и книгах» В то же время в совете Главного управления по делам печати (далее ГУДП) и тогда не прекращались споры о необходимости общего «ограничительного законоположения о скончавшихся особах августейшего дома»[890].
Официально границы «дозволенного» изучения (конец царствования Петра I) сохранялись вплоть до отмены хронологических рамок цензурного контроля над историческими публикациями в ноябре 1905 года. Однако на практике, особенно в последней четверти XIX века, придворную цензуру интересовали главным образом предшествующее и текущее царствования – публикации относительно остальных периодов, как правило, проходили через цензуру общую. Главное внимание в настоящем очерке будет уделено реакции разных подразделений цензурного ведомства на публикации по исторической тематике в первые десятилетия после перемены цензурного законодательства в начале 1860-х годов.
* * *
Становление цензуры как института и регламентация деятельности соответствующих учреждений в Российской империи развивались на протяжении практически всего XIX века. Тогда происходили важные структурные внутриведомственные изменения, уточнялись и совершенствовались методы практической работы, в зависимости от политической конъюнктуры менялась иерархия функций и собственно активность цензурного ведомства. Степень цензурного давления практически всегда соотносилась с состоянием общества, уровнем гражданской активности. Поскольку печать по-прежнему оставалась главным информационным ресурсом для общества, то в деятельности надзорных инстанций, и прежде всего цензуры, первое место занимал контроль за печатной продукцией.
Отмена крепостного права и эпоха Великих реформ оказали огромное влияние на культурную жизнь страны. Судьба тогдашних «конституцио-налистских» дискуссий наглядно отразилась в цензурной практике[891]. Цензура как властный институт подверглась существенной трансформации. При этом следует отметить, что к началу 1860-х годов правовой статус и законодательство ни в коей мере не удовлетворяли требованиям цензурной практики. Продолжал действовать устав 1828 года, дополненный циркулярами, распоряжениями, инструкциями и пр. Ужесточению цензурного режима в стране способствовали и европейские революции 1848 года. Сотрудники ведомства были дополнительно предупреждены об ответственности за пропуск статей «предосудительного» направления, а печально знаменитый «Бутурлинский комитет» (иначе – Комитет 2 апреля 1848 года), по определению многих позднейших исследователей, стал фактически цензурой над цензорами[892]. Ситуация усугублялась и широким распространением в 1830–1840-е годы ведомственной цензуры. Все это создавало колоссальные трудности как для самих цензурных органов, так и для авторов, которые практически не были законодательно защищены от произвола чиновников, тонувших в правовой и циркулярной неразберихе. По свидетельству одного из наиболее известных исследователей деятельности МНП – С.В. Рождественского – к 1862 году насчитывалось 22 специальные цензуры. Очевидно, что столь громоздкая система не могла обеспечить четкой работы. Нужны были организационные преобразования. Подготовка нового цензурного устава началась в 1857 году и затянулась на восемь лет.
В условиях значительно возросшего потока печатной продукции и расширения контингента ее потребителей особенно важной стала проблема профессионализации цензорского труда и превращение его во вполне самостоятельный вид деятельности. Уже указ от 2 апреля 1848 года требовал, чтобы цензор имел единственное место службы[893]. Это окончательно закрепил закон от 19 июля 1850 года, утвердивший, что «во время занятия сей должности» цензоры «не должны вместе с оною нести никаких других обязанностей». Здесь же был установлен и своеобразный «культурный минимум» цензора-профессионала. К должности допускались
только чиновники, получившие образование в высших учебных заведениях или иным способом приобретшие основательные в науках сведения, если они притом достаточно ознакомлены с историческим развитием и современным движением отечественной или иностранной словесности, смотря по назначению каждого[894].
В самом начале 1860-х годов произошли некоторые структурные изменения. Было упразднено Главное управление цензуры, часть его функций возложили на министра народного просвещения. В его ведении оказались цензурные комитеты, отдельные цензоры, канцелярия бывшего Главного управления цензуры, ставшая «особенной канцелярией». Из министерства иностранных дел сюда передали рассмотрение статей и известий политического содержания. Пересмотр законов о печати проходил поэтапно. 12 мая 1862 года временные правила о цензуре отменили все постановления, вышедшие по этой части с 1828 по январь 1862 года. В 1863 году, в разгар реформ, институт цензуры поменял свою ведомственную принадлежность, что чрезвычайно показательно. Окончательная передача цензуры из министерства народного просвещения в министерство внутренних дел свидетельствовала о повышении статуса данного института (поскольку министерство внутренних дел, наряду с ведомствами военным и по иностранным делам, было одним из ключевых в государственном аппарате). Кроме того, МВД, как ведомство сугубо охранительное, включило в себя недостающий элемент контроля за культурой, лишний раз официально и публично подтверждая основную функцию цензуры – надзор за печатным словом и общественным мнением. Само же изъятие цензуры как структуры контрольно-карательной из министерства народного просвещения вполне соответствовал духу либеральных реформ. Неслучайно тогдашний руководитель ведомства, либерал А.В. Головнин говорил, что задачи его министерства – «содействовать развитию умственной деятельности», предоставлять необходимую «свободу анализа», а по сему и направление цензуры здесь могло быть «более снисходительным». Министр просвещения считал, что нахождение цензуры в его ведомстве не уместно[895].
В рамках этих преобразований было упорядочено общее устройство цензурного аппарата (создан центральный орган управления – Главное управление по делам печати и сеть цензурных комитетов), в его деятельность введены коллегиальные начала (советы ГУДП и комитетов), был профессионализирован и специализирован цензорский труд. Цензор должен был рассматривать произведения определенной тематики, соответствующей, как правило, полученному образованию. Контроль за исторической информацией находился в русле общей регламентации печатного слова, но имел и некоторые особенности.
«Временные правила о цензуре и печати», принятые 6 апреля 1865 года, – основополагающий цензурный акт (вплоть до ноября 1905 года)[896], как это часто бывало в отечественной юридической практике, довольно быстро оброс дополняющими и разъясняющими документами. В данном контексте будут проанализированы лишь те из них, которые чаще других упоминаются при рассмотрении цензурных дел, касающихся исторических сочинений. Таковой была, например, появившаяся вскоре «конфиденциальная инструкция» министра внутренних дел П.А. Валуева, где он указывал на необходимость «при рассмотрении дел о произведениях печати» учитывать характер издания, состав редакции, а также – «обращать внимание на то, чтобы под формою ученых статей и трактатов не скрывалась недозволенная пропаганда атеизма, социализма, материализма»[897].
Специальное значение придавалось законодательному определению порядка издания книг исторических, для составления которых «правительство представляло материалы или открывало архивы». Этот вопрос неоднократно обсуждался в ГУДП. Уже в ноябре 1865 года член совета В.Я. Фукс указывал, что практика применения временных правил «показала их недостаточность, особенно по отношению к изданиям, для которых использовались правительственные материалы и архивы»[898]. Ему возражал граф Панин, предлагавший соблюдать закон от 6 апреля. Он указывал, что «опыт еще не приводил» к необходимости более строгих мер. К середине же 1866 года ГУДП, принимая во внимание «высочайшее повеление от 28 мая 1866 года» и накопленные практические результаты, пришло к выводу о необходимости подчинить подобные издания «предварительной цензуре, несмотря на объем книги или сочинения». В качестве примеров необходимости столь строгих мер приводилась, в том числе и переписка ГУДП по ряду статей, помещенных в «Чтениях Общества истории и древностей российских» (далее – ЧОИДР) и затем напечатанных отдельными брошюрами. Совет предложил дополнить IV отдел закона от 6 апреля 1865 года пунктом «в» следующего содержания:
Предварительная цензура распространяется на книги какого бы то ни было объема, для составления коих само правительство дало материалы, равно сборники, заключающие в себе заимствованные из правительственных архивов документы прошлого и текущего столетия и частные письма и записки царственных в России особ, равно прочих членов императорского дома и высших государственных сановников.
Предлагалось также добавить пункт «г», который должен был распространять те же правила на
сочинения, переводы и статьи, в коих описываются события, относящиеся до государей-императоров и членов императорской фамилии, или сообщаются личные их действия и изустные выражения, а также на все статьи, содержащие в себе частные письма и записки в бозе почивающих лиц царствующего дома[899].
Однако эти нововведения не обрели силу закона.
Закон «О дополнении и изменении некоторых из действующих узаконений о печати» от 7 июня 1872 года стал важным руководством для непосредственной цензурной практики, поскольку очень часто он служил основанием для предъявления претензий и для прямых запретов публикации исторических материалов начиная с последней трети века[900]. Последующая законодательная регламентация, включая и печально знаменитые временные положения от 27 августа 1882 года, касалась прежде всего периодической печати, но затрагивала также и сферу исторической информации, контроль за которой всегда находился в русле общей цензурной политики. Кроме того, сведения из прошлого все чаще появлялись на страницах периодики, а исторические параллели помогали более точной характеристике современных событий. Среди обременительных для печати мер, закон содержал статьи, непосредственно повлиявшие на степень контроля за историческим знанием. Это – получение цензорами права приостанавливать выход издания, не возбуждая судебного преследования; обязанность редакций по требованию министра внутренних дел сообщать имена авторов статей. Сюда относился и сам факт распространения правил на все издания, «арендуемые у правительственных и ученых учреждений»[901]. По существу же, внедрение в цензурную практику подобного документа, означало, по мнению авторитетного отечественного исследователя, «установление системы самого неприкрытого административного произвола»[902].
Середина 1880-х годов знаменовалась включением наказаний за преступления в сфере печати в круг уголовных преступлений[903]. Из законодательства этого времени практически исчезают акты, дававшие право на бесцензурное получение литературы, столь характерные для предшествующего времени. Последующее законодательство содержало ряд изменений ужесточающего характера[904]. Строже стал и порядок перехода повременных изданий от одного лица к другому, ставший возможным не иначе, как с разрешения министра внутренних дел[905]. Эта временная мера ставила издателей в еще большую зависимость от министра, ибо сама процедура передачи нередко затягивалась, усложнялась, а порой и заканчивалась запретом. С увеличением в августе 1888 года количества букв на печатном листе (с 11 до 33 тысяч) под предварительную цензуру стали попадать печатные издания большего объема[906], в том числе и исторические.
* * *
Рассматривая публикации, посвященные прошлому, цензоры особенно внимательно относились к именам участников исторического повествования, строго ранжируя информацию и оценочные характеристики согласно статусу упоминаемой в тексте личности. Среди персоналий отечественной истории первое место, причем с колоссальным преимуществом, несомненно, занимали представители верховной власти. Архивные материалы свидетельствуют и об интересе цензурного ведомства к информации о государях, великих князьях и княгинях (в том числе и самозванцах и самозванках, оставивших след в отечественной истории, вроде Лжедмитрия или княжны Таракановой). Очевиден и контроль за изложением сведений об известных персонажах истории, среди которых фавориты царствовавших особ, представители известных дворянских родов, государственные мужи, деятели культуры и науки.
Вопрос об освещении в печати сведений об особах царской фамилии на протяжении всего изучаемого периода был для цензуры чрезвычайно актуален. Он неоднократно поднимался как цензурными комитетами, так и советом ГУДП. Не решил проблему и циркуляр от 8 марта 1860 года. Уже в 1866 году, в связи с книгой князя К.Н. Урусова «Очерки восточной войны 1854–1855», Московский цензурный комитет отмечал, что ни в Уложении о наказаниях, ни в законе от 6 апреля 1865 года «нет ограничительного законоположения о скончавшихся особах августейшего дома»[907]. Поднят вновь вопрос был в связи с двумя публикациями о княжне Таракановой (в книге первой «ЧОИДР» за 1867 год и в «Русском вестнике»). Московский цензурный комитет вновь указывал на отсутствие закона, запрещавшего сообщения в печати «неблагоприятных сведений о скончавшихся особах царствующего в России дома». Член Совета ГУДП А.Г. Петров также отмечал, что «высочайшее повеление» от 8 марта 1860 года может относиться «только к подцензурной прессе, потому что оно не вошло в Уложение о наказаниях и не подкреплено никакой карательной мерой». Такой же законодательная ситуация оставалась и в 1869 году, о чем свидетельствует заключение Московского цензурного комитета по поводу исторического сборника П.И. Бартенева «Осьмнадцатый век»[908].
Прецедент с изданием в первой книге «Русского архива» за 1871 год «Писем из Петербурга в Италию гр. Жозефа де Местра» вновь возбудил этот вопрос. Член совета Ф.П. Еленев[909], наблюдавший за журналом, подчеркивал, что цензура обязана «постоянно и настойчиво не допускать» рассуждений о царствующих особах (в данном конкретном случае о кончине Павла I), ибо помимо закона утвержденного есть «высший закон политического приличия и нравственного уважения к верховной власти». МВД не решилось собственною властью разрешить или запретить подобные издания и сочло нужным испросить высочайшее указание[910]. Примечательно, что именно Еленев, специализировавшийся на цензуре литературы исторической, четко сформулировал принципы контроля за информацией о лицах императорской фамилии.
Следует отметить, что охранительное ведомство не чуждалось заботы о качестве печатной продукции. Так, в 1874 году в петербургский цензурный комитет поступила рукопись некоего Лебедева «Император Павел и его царство», автор которой попытался «опровергнуть ложное мнение о характере царствования императора Павла I». Цензурное ведомство обратило внимание на «резкие отзывы о характере Петра III», «неудовольствие, высказанное гр. Н.И. Паниным» по отношению к Екатерине II, упоминание об обещании Екатерины «уступить престол Павлу I», на замечания «об угрюмом и недоверчивом характере Павла Петровича» и др. Подобные утверждения, допустимые, по мнению чиновников ведомства, в специальном историческом сборнике, не должны были появиться в подцензурном издании. Кроме того, крайне низко были оценены научные и литературные достоинства труда, грешившего «весьма поверхностным изложением». В заключении ГУДП книга была названа «бездарной компиляцией» из специальных бесцензурных изданий, что стало одним из основных мотивов ее запрещения[911].
Важным аспектом надзорной политики по отношению к исторической литературе являлось цензурирование трудов, посвященных зарубежной истории, особенно тем событиям и фактам, которые могли нарушить общественное спокойствие. Пристальное внимание властей привлекали публикации о французской революции 1789–1794 годов. В 1866 году Главное управление рассматривало вопрос о первой части издания Е.О. Лихачёвой и А.И. Сувориной «История Французской революции» Минье. Книга не была арестована и не подверглась судебному преследованию только потому, что авторы были названы «самыми умеренными восхвалителями революции». Однако политическая репутация издательниц, а также «пропаганда, скрывающаяся под формою перевода», вызвали дебаты в цензурном ведомстве. Совет Главного управления предложил столичному цензурному комитету на будущее время «при появлении книг, исполненных революционных тенденций, под какой бы то ни было формою, приступать немедленно к решительным, на основании закона 6 апреля 1865 год действиям». Книга стала поводом для появления циркуляра, по которому все распоряжения иностранной цензуры должны были сохранять «свою обязательную силу и для переводов с обращающихся в России иностранных сочинений». В то же время разрешение иностранной цензуры на распространение в России книги на иностранном языке не заключало в себе «изъятия от ответственности за содержание оной в случае перевода на русский язык». Особо обращалось внимание на публикации, «не имеющие безусловно ученого характера и заключающие в себе, хотя бы и не совсем очевидное, революционное направление». Высшее цензурное руководство предлагало комитетам «иметь постоянно в виду вопрос о неудобствах перевода» подобных сочинений на русский язык[912].
Издание еще одного перевода труда о французской революции – «Истории Французской революции» Т. Карлейля (т. 1 «Бастилия», под редакцией И. Ляпидевского), – представившего, по мнению надзирающих лиц, «рельефную картину революционной эпохи во Франции», порицавшего «принцип монархической власти» и содержавшего «насмешки» над королями Людовиком XV и Людовиком XVI, повлекло за собой выговор высшей инстанции в адрес московского цензурного комитета. Московский комитет, признав книгу подлежащей судебному преследованию, тем не менее промедлил с наложением ареста, мотивируя это тем, что окончательное заключение следует давать «о целом сочинении в том виде, как оно будет издано», а не о томе первом. Главное же управление распорядилось начать судебное преследование, а комитету поставило на вид за неоперативность ареста[913].
Контрольная функция через надзор за публикациями распространялась так или иначе и на деятельность самих академических учреждений. Одним из старейших научных объединений в стране было Императорское общество истории и древностей российских при Московском университете. Его всегда отличала лояльность по отношению к властям, должность его вице-президента обычно занимал попечитель учебного округа. Самым крупным изданием общества являлись «Чтения в Обществе истории и древностей российских», которые, по мнению цензуры, находились «почти в привилегированном положении… в сравнении с частными издателями и журналистами», что, конечно же, не исключало неусыпного контроля. В рассматриваемый период «ЧОИДР» не подвергались судебным преследованиям. Но все же московский цензурный комитет неоднократно обращал внимание на содержание его публикаций, сообщал сведения о них в Главное управление, указывал председателю общества на необходимость более тщательно соблюдать существующие цензурные правила (а также следить за соответствием содержания «Чтений» специальным целям общества), на несовпадение статей с программой изданий общества и т. п.[914]
Пристальное внимание цензуры приковывали статьи, посвященные: национальному вопросу («Движение латышей и эстов в 1841 г.», «Донесение товарища министра внутренних дел Сенявина о положении в Ливонии в 1845 г.», «О необходимости уничтожения отдельных прав в губерниях, от Польши возвращенных, и изменении недостатков, противных государственному благоустройству», «Записки графа Толя о военных действиях против поляков в 1831 г.», «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия» и др.); внутренней политике, законодательству, чиновничеству («О редакционном исправлении Свода законов», «Изображение нынешнего состояния России (1830 г.)», «К истории сожжения книг у нас», «О военном значении железных дорог и особенно их важности для России»); смутным периодам русской истории, щекотливым подробностям из жизни особ царской фамилии («Описание Великого княжества русского Петра Петрея», «Заметка об одной могиле в посаде Учеже Костромской губернии», «Записки Штелина об императоре Петре III», «Краткая история княжны Таракановой», «Мысли по поводу события 25 мая 1867 года»); церкви, духовенству, сектам («Материалы для истории Сибири», «Магазин Бишинга», «О секте Татариновой», «Краткое обозрение русских расколов, ересей и сект», «Раскольничий Апокалипсис», «О Филарете, митрополите московском, моя память»).
В отличие от «ЧОИДР», известный журнал П.И. Бартенева «Русский архив» с самого начала столкнулся с цензурными запретами. В 1863 году, несмотря на «исключительно библиографический характер означенного издания», не увидели свет «Отрывки из рассказов князя А.Н. Голицина», в 1864 году – стихотворение А.В. Кольцова об Иване Грозном «Еще старая песня», в январе 1865 года – «шуточное описание бракосочетания Карамзина». После принятия «Временных правил о печати» издание, как «чисто ученое», по прошению редактора-издателя было освобождено от предварительной цензуры[915]. Однако издаваемый частным лицом «Русский архив» не был освобожден от внесения залога, обеспечивавшего штраф в случае цензурных нарушений. Интересны доводы Главного управления на этот счет. Необходимость залога объяснялась тем, что частный издатель не может предоставить достаточных гарантий соблюдения цензурных правил. Ссылки московского цензурного комитета на «ЧОИДР» не убедили управление, которое отметило, что и в издании общества были «уклонения от установленных правил». В качестве еще одного важного аргумента приводился тот факт, что в «Русском архиве» разбирались «по преимуществу материалы второй половины XVIII столетия, не всегда удобные к оглашению в современных изданиях». Указывалось также на имевшие место цензурные нарекания по поводу того, что журналом «принимаются для напечатания статьи, доставленные частными лицами, не имеющие специального характера, что также не может быть предоставлено усмотрению редактора».
Отношения П.И. Бартенева с цензурой складывались непросто. Его неоднократно вызывали в комитет, пугали наложением ареста, ставили на вид помещение в журнале той или иной статьи, предлагали изъять из текста отдельные места, делали «категорические заявления», что статьи, подобные, например, «Извлечениям из записок Саблукова о временах императора Павла», «решительно не будут терпимы и будут подвергать редакцию законным преследованиям»[916]. Некоторые статьи вообще изымались из журнала.
Особое внимание цензурных органов привлекали документы о декабристах, часто появлявшиеся в научных изданиях во второй половине XIX века. Политическая окраска событий придавала особую значимость подобным публикациям, одни из которых печаталась с исключениями, другие – вызывали дебаты в цензурном ведомстве. Так было со статьей П.Н. Свистунова «Несколько замечаний по поводу новейших книг и статей о событии 14 декабря и о декабристах», опубликованной в «Русском архиве» в 1870 году. Московский цензурный комитет получил выговор от Главного управления за незадержание статьи, которая, в отличие от уже бывших в печати и имевших «характер исторических материалов, не заключающих в себе оценки, а тем менее оправдания этого преступного покушения», делала первый шаг в этом направлении. Судебное преследование после выхода журнала в свет и возможное по нему наказание, по мнению управления, «в подобных случаях не только не могут вполне удовлетворить интересам правительства, не устраняя важного вреда, какой может причинить распространение предосудительных мнений в публике, но, напротив, могут представлять некоторые важные неудобства»[917]. Таким образом, вышестоящая цензурная инстанция указывала нижестоящей, что задачей последней – задержание статьи до выхода ее в свет, а арест уже после опубликования мог вызвать нежелательный общественный резонанс.
Описанный прецедент четко характеризует направление цензурной политики. Работа, хотя и посвященная событиям сорокапятилетней давности, но имевшая политический контекст, не должна была появиться даже в издании, рассчитанном на узкий круг образованных людей. Подобных примеров можно привести множество; они были не исключением, а скорее правилом. Научные издания были чуть более свободны в публикации исторических документов и исследований в сравнении с другими органами печати, но в не меньшей мере зависели от цензурной опеки. Так, в 1867 году внимание цензуры привлекла книга писателя Д.Л. Мордовцева «Самозванцы и понизовая вольница». Утверждалось, что ее автор «косвенными намеками» обозначил противоречия между «провозглашениями» и деяниями Екатерины II («…Благие намерения только на словах, а на деле существовали во всех слоях, начиная с высших, неурядицы, распутство, воровство и разбой»). Вышедший без предварительной цензуры первый том сочинения Мордовцева не дал «достаточных поводов для судебного преследования», но Главное управление предложило столичному цензурному комитету обратить особое внимание на второй том, причем сделать это «до выпуска его в свет»[918].
Проблемы религии и нравственности, весьма важные с точки зрения общественного спокойствия, всегда были в сфере внимания цензуры. Предполагалось, что исторические публикации должны были, опираясь на традиции и каноны православия, поддерживать уважение к устоям общества. Прерогативой духовной цензуры являлась церковная богослужебная, житийная и т. п. литература, а также тексты религиозного содержания из сочинений светского характера. В массе исторической литературы по данной тематике наибольшее опасение обычно вызывали статьи и книги, описывающие деятельность различных религиозных сект, участие в них известных исторических лиц, языческие и другие неправославные обряды и празднества, всяческие отступления от православных канонов.
В 1866 году ярославский губернский статистический комитет получил от Главного управления указание, чтобы в его трудах более не помещались работы, подобные статье А.И. Трефолева «Странники», посвященной секте бегунов. Автор, хотя и направлял свою статью «не в пользу секты», но приводил выписки из дел следственной комиссии, на что «следовало бы спросить разрешения»[919]. В середине 1870-х годов действительному статскому советнику П.И. Мельникову (известный русский писатель, публиковавший литературные произведения под псевдонимом «Анд. Печерский») было отказано в выпуске в свет его сочинения «Материалы истории хлыстовской и скопической ересей». Часть материалов Мельников уже опубликовал в специальном научном издании – «Чтениях в Обществе истории и древностей российских», однако отдельные оттиски не были допущены «к обращению в публике». Признавая, что «таинственность прежних лет о раскольниках принесла больше вреда, чем пользы», цензура тем не менее отказалась дать раскольникам «полный свод их вероучения и предпринимавшихся против них правительством преследовательных мер». Ученые, занимавшиеся проблемами раскола, по мнению совета, всегда могли обратиться к научным изданиям, а широкое распространение подобных трудов, как предполагалось, могло иметь самые нежелательные последствия[920].
Большое значение власти придавали перепечаткам из научной литературы, что нередко практиковали газеты и журналы (подцензурные в том числе), а также выпускам статей из специальных изданий в виде отдельных брошюр. На этот счет неоднократно давались официальные разъяснения. Так, о перепечатках из научных изданий говорилось в предложении управляющего министерством народного просвещения председателям цензурных комитетов, высказанном 18 октября 1862 года. Отмечалось, что «в записках ученых обществ и в книгах ученого содержания могут нередко появляться статьи, неудобные для помещения в газетах и литературных журналах». Цензура обязывалась давать разрешение на подобные перепечатки «с большою осторожностью»[921]. Комитеты должны были довести содержание документа до сведения редакторов и издателей, которые давали соответствующую подписку. Сразу же после введения «Временных правил о печати» (1865) циркулярным разъяснением по цензурному ведомству было объявлено, что перепечатки в подцензурных изданиях из бесцензурных возможны лишь в тех случаях, когда они «удовлетворяют самому строгому применению существующих по цензуре постановлений».
Специальные исторические издания по закону от 6 апреля 1865 года, как правило, освобождались от предварительной цензуры. Однако это не означало отсутствия контроля. Напротив, в конфиденциальной инструкции министра внутренних дел цензорам столичных комитетов (от 25 августа 1865 года) подчеркивалось, что бесцензурные публикации «подлежат более строгому рассмотрению». Однако узость адресной аудитории последних, состоявшей преимущественно из специалистов, позволяла относительно свободно излагать события прошлого в таких изданиях. Надо сказать, что круг вопросов, привлекавших пристальное внимание цензуры вне зависимости от социального статуса предполагаемого читателя, был одним и тем же. Но глубина, подробность и трактовка информации непосредственно зависели от адресата и цены издания. В литературе, рассчитанной на научную общественность, допускалось изложение исторических документов, фактов и обстоятельств «с излишней подробностью». Как правило, после цензурного просмотра издание выходило в свет, случаи запрещения (в основном это касалось острых политических публикаций) были редки. Иногда использовались сокращения, изменения текста с согласия автора или публикатора, чаще же делалось отеческое внушение: впредь не допускать подобного даже в специальном издании. Неоднократные отступления от цензурных правил могли повлечь за собой карательные меры.
В 1866 году в ведомственном органе «Северная почта» появилось официальное предостережение министерства внутренних дел по поводу перепечаток из научных изданий, которые, по мнению властей, делались почти всегда «с тенденциозной целью, ибо из целого тома выбирается самое резкое и выдающееся». Однако этот аргумент не был основным; главным являлся вопрос о расширении круга потребителей – подчеркивалась нежелательность распространения подробных сведений «в среде менее специальной публики, нежели ученые». Позднее в «Правительственном вестнике» (1869. № 179) было опубликовано предупреждение о необходимости строгого отбора материала при перепечатке его из научной литературы. В декабре 1871 года цензурные комитеты получили распоряжение министра внутренних дел о воспрещении перепечаток в литературно-политических газетах и журналах из специальных изданий таких исследований и статей, содержание которых «может послужить орудием распространения каких-либо вредных мыслей». В 1872 году председатель Главного управления по делам печати выступил с докладом на ту же тему, подчеркнув, что и в научных сочинениях не следовало бы допускать статей, которые «при известном круге публики и в целом своем объеме представляются вредными». Он предложил еще раз предупредить редакции общедоступных литературно-политических изданий «о недопущении подобных перепечаток», угрожая принятием по отношению к нарушителям запрета административных мер[922].
И в последующем этот вопрос оставался чрезвычайно актуальным. В середине 1870-х годов руководство цензурного ведомства отмечало, что отечественные газеты вновь стали «злоупотреблять тем снисхождением», которое оказывается ученым изданиям, и заимствовать из них сведения, которые «не могут служить достоянием всей массы читателей». За подобные вольности газета «Новое время» была лишена розничной продажи. В 1880 году газета «Русский курьер» за перепечатку некоторых материалов о царствовании Екатерины II из XXIX тома «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьёва получила внушение и предупреждение о том, что если такой случай повторится, газета будет подвергнута взысканию. В 1881 году эта тема поднималась вновь.
Что касается выпуска статей из специальных исторических изданий отдельными брошюрами, то на это всегда требовалось особое цензурное разрешение и объяснение со стороны автора или редактора той цели, ради которой публикуются оттиски. Как правило, оттиски не должны были предназначаться для продажи, так как из-за малого объема и невысокой цены они могли попасть в учебные заведения, в руки необеспеченной и малообразованной публики.
Статьи исторического характера появлялись не только в специальных, но и в общественно-политических, литературных и других популярных изданиях. Судьба подобных публикаций полностью зависела от адресата издания, авторитета и политической ориентации редакции, ее предшествующих отношений с цензурой. Одним из крупнейших и уважаемых отечественных журналов того времени был «Вестник Европы», который нередко предлагал вниманию читателей исторические материалы. Многие из них попадали в поле зрения цензурных органов; большинство все-таки выходило в свет, но некоторые вызывали бурное обсуждение не только в цензурном комитете, но и в Главном управлении по делам печати. Так было, например, со статьей А.Н. Пыпина «Очерки общественного движения при Александре I» (сентябрьская книжка журнала за 1870 год), которая, как подчеркивалось, содержала «неуместные» цитаты из записки «О древней и новой России» Н.М. Карамзина с замечаниями автора. Ряд оценок Пыпина был с неудовольствием отмечен цензурой (Карамзин «рекомендовал программу застоя и реакции»; его система обнаружилась «весьма печальными результатами эпохи» и др.). Совет Главного управления, указав на «ловкое изложение», «серьезность журнала и круг его читателей», вынужден был констатировать, что это «заставляет смотреть на подобные статьи с снисхождением и не принимать против единичного появления их каких-либо административных мер», но все же «помещение в журнале хотя бы и немногих подобных статей не должно пройти незамеченным». Поэтому статья была принята к сведению «как материал для определения характера издания»[923].
Декабрьская 1870 года книжка «Вестника Европы» вызвала дебаты в совете из-за двух статей: «Начала единодержавия в Древней Руси» Н.И. Костомарова и продолжения статьи А.Н. Пыпина «Очерки общественной жизни при Александре I». Большинство членов совета отметило тенденциозность материала Пыпина, хотя и выраженную «весьма сдержанно». Статья Н.И. Костомарова тоже не могла быть оставлена без внимания, ибо показывала «направление журнала, изобличающего знаменательное стремление к свободным учреждениям», что и требует «усиления наблюдения за оным»[924]. В следующем году петербургский комитет доносил вышестоящему начальству о № 12 «Вестника Европы», где разбирался восьмой том «Сборников Русского исторического общества» с публикацией протоколов заседаний Уложенной комиссии. Замечания редакции вроде «ловкий политический прием» или «средство прочно воссесть на престоле» вызвали негодование комитета, признавшего статью «предосудительной по направлению и по превратному толкованию намерений» Екатерины II. Однако комитет не нашел оснований к возбуждению судебного преследования. В совете Главного управления было отмечено, что по «давности времени» и «тону» подобное может быть «терпимо в журнале, имеющем исключительно образованных читателей». Кроме того, статья появилась уже после объявления «Вестнику Европы» первого предостережения, поэтому совет предложил, а министр согласился при повторении подобного рода нарушений объявить журналу второе предостережение, которое грозило не только усилением надзора, но и временной приостановкой издания, штрафами и другими взысканиями. Таким образом, авторитетность редакции и читателя могли явиться основанием некоторого снисхождения со стороны цензуры, но не освобождали от ответственности в случае повторных нарушений.
Совершенно иначе складывалась цензурная судьба исторических публикаций в демократическом журнале «Дело». Здесь основной карательной мерой было запрещение исторической статьи в полном объеме; так, в 1867 году цензор подцензурного в то время «Дела» получил выговор сове та за допуск в XI книжку журнала материала «Судьбы русского образования со времен Петра Великого». Петербургский комитет запретил публикацию статей «Увлечение национальным превосходством» (1869), «Исторические судьбы женщин» (1870), «Благодушество эстетического непонимания» Н.В. Шелгунова (1870), IV и V глав «Русских реакций» С.С. Шашкова, «Общественно-экономическая жизнь на Урале» Навалихина (1870), «Общий взгляд на историю великорусского народа» А.П. Щапова (1871) и др. Ряд статей вышел с существенными сокращениями: «Женский труд и его вознаграждение» (с исключением «тенденциозных мыслей и выражений»), «Русские реакции» С.С. Шашкова (исключены сведения о смерти Петра III «от геморроидальных колик», так как этого не было в манифесте о его смерти; о раздаче крестьян любимцам; о закрепощении «будто бы 3 000 000 душ крестьян, в т. ч. в Малороссии»; об оценке Екатериной энциклопедистов – «навели на меня скуку и не поняли меня», и др.). Неоднократно руководство цензурного ведомства напоминало цензору «о необходимости более строгого цензурования журнала “Дело”»[925], а министр внутренних дел П.А. Валуев в свое время даже отдал распоряжение, чтобы «неудобные для напечатания в этом журнале статьи не цензуровались, а запрещались бы в целости».
Особой заботой цензуры была литература учебная и народная, в том числе историческая. Эти две наиболее социально опасные, с точки зрения правительства, категории населения (учащиеся и простонародье) должны были получать строго определенный объем информации и в совершенно однозначной трактовке. Появление в середине 1860-х годов ряда учебных книг (например, таких как «Самоучитель» И.А. Худякова и «Книга для чтения» А.И. Сувориной) вызвало предписание министров просвещения и внутренних дел о необходимости принятия мер к «прекращению издания и изъятию из употребления вредных для молодого поколения учебников». В 1866 году последовало два высочайших повеления об «особого рода цензурном надзоре» за учебниками и книгами для простонародья. Совет Главного управления поднял вопрос о восстановлении предварительной цензуры «для учебных, а равно предназначенных для народного и детского чтений изданий», как оригинальных, так и переводных. Начальству государственных и частных учебных заведений, а также обществам по народному образованию разрешалось допускать в учебные каталоги, училищные библиотеки и склады, издавать за свой счет, принимать к руководству или рекомендовать ко всеобщему употреблению только те общеобразовательные издания, которые «были цензурованы установленным порядком и одобрены министром народного просвещения»[926].
В связи с изданием учебной литературы цензурное ведомство и министр внутренних дел предлагали, чтобы Ученый комитет министерства народного просвещения в своих заключениях строго указывал на изданиях «рекомендуется», «одобряется» или только «допускается или в виде руководств, или в виде пособий, или для библиотек основных и ученических… для тех или других классов». Точная формулировка публиковалась в «Журнале министерства народного просвещения»[927]. Подобные меры должны были оградить наиболее «уязвимые», с точки зрения властей, слои населения от информации, в том числе и исторической, которая могла бы нарушить социальную и политическую стабильность в русском обществе. Именно народная и учебная литература, подлежащая особо строгому контролю, часто вызывала дебаты в цензурном ведомстве относительно содержания и процедуры надзора.
* * *
Взаимоотношения цензуры и исторического знания в России, как, впрочем, и ужесточение или смягчение цензурного давления на печатное слово, всегда находились в прямой зависимости от состояния общества, гражданского сознания его образованного слоя. В этом смысле перемены первых пореформенных десятилетий представляют значительный интерес. Возросшая политическая и культурная активность некоторых социальных кругов, оживление печати, расширение временных рамок используемой информации о прошлом имели своим следствием усложнение правительственного контроля, который включал целый спектр реакций – от упреждения до прямого запрета.
Важно подчеркнуть, что в условиях того времени цензура была не только репрессивным институтом власти, но также заставляла оттачивать язык научной публицистики, вынужденной постоянно оглядываться на цензурные строгости, использовать четкие формулировки и в то же время прибегать к эзоповому языку, учила обходить препоны и рогатки идеологических запретов. В сложившейся во второй половине XIX века обстановке цензура уже не могла быть тотальной. Она вынуждена была считаться с ею же контролируемым общественным мнением. Не пропуская ничего явно предосудительного, цензура предоставляла определенные возможности для развития исторического знания и науки в целом. Другая ситуация для публикации документов прошлого и сочинений на исторические темы сложится в России уже после 1905 года, в совершенно новой политической и общественной обстановке.
А.В. Топычканов Охрана и музеефикация культурного наследия России в XVIII – начале ХХ века
По каким бы отраслям мы ни служили археологии, извлекаем ли из недр земли останки старины, группируем ли их в витринах музеев или занимаемся их научной обработкой – все мы работаем во имя одной, освящающей наш труд идеи: просветить людей, научить их уважать былое как источник их собственного благополучия и трудиться на дальнейшее развитие человечества.
Председатель Императорской археологической комиссии граф А.А. Бобринский[928]В модерных обществах отношение к культурному наследию и музейному делу является одним из главных показателей отношения к прошлому вообще. Саму историю сохранения и публичной репрезентации памятников принято подразделять на несколько периодов; каждый из них характеризуется своей особой стратегией как сохранения, так и уничтожения материальных свидетельств минувшего[929], сочетанием прежних и новых форм музеефикации. Каждый из таких периодов далее мы будем рассматривать как время формирования и распространения определенной модели отношения к культурному наследию. Эти модели могли сосуществовать параллельно или присутствовать в практике одного и того же специалиста[930]. Поэтому далее при описании этих моделей мы иногда будем нарушать хронологические границы их преимущественного бытования. В данной статье лишь намечен новый подход к анализу охраны памятников и музейного дела. Детальное и глубокое изучение каждой из выделенных моделей с учетом их изменений и трансформаций в различные периоды истории дореволюционной России – дело будущего.
Культурное наследие в XVIII веке: «куриоз» или географический объект?
Как известно, культурные преобразования Петра I привели к резкому противопоставлению «старины» и «новизны». Хотя Пётр I оценивал прошлое России (если пользоваться весьма огрубленным обобщением) как варварское, тем не менее он признавал в его свидетельствах определенные культурные ценности – либо в качестве курьезов (своей необычностью они оказывали эмоциональное воздействие), либо в качестве источников по истории России (прибегая к более поздней терминологии), либо в качестве мемориальных объектов, свидетельствующих о конкретном историческом событии или правителе и подтверждающих легитимность верховной власти, а также ее территориальных владений. Культурные ценности в эпоху Петра получили название «древности»[931]. Этот термин оставался общепринятым вплоть до начала XX века, когда стали указывать на его недостатки[932].
Пётр I принял ряд законодательных мер для сохранения древностей. Во-первых, он потребовал присылать «куриозные вещи» в Москву и Санкт-Петербург для пополнения сначала собственного собрания, а с 1714 года – Кунсткамеры (указы 1704, 1718, 1722 годов[933]). В этих указах формулируются первые критерии культурного наследия: «куриозность и необыкновенность», к чему относится все, что «зело старо», т. е. создано до Смуты начала XVII века[934]. Далее, в связи с задачей написания истории России при Петре I начали собирать (преимущественно в списках) «древние жалованные грамоты и другие куриозные письма оригинальные, также книги исторические рукописные и печатные», «куриозные, то есть древних лет рукописные на хартиях и на бумаге церковные и гражданские летописцы, степенные, хронографы и прочие сим подобные» (указы 1715, 1720, 1722 годов[935]). Кроме рукописей, царь намеревался собрать для подготовки исторических сочинений надписи на камнях, монетах, гробницах, а также «ветхости или старые вещи»[936]. Наконец, Петр отдавал поручения о сохранении конкретных объектов культурного наследия: крепости Болгар на Волге, Коломенского дворца под Москвой, кораблей, галер и яхт в Переславле-Залесском и т. д. Петровские указы подтверждались в течение длительного времени, регулярно цитировались и дополнялись преемниками Петра на императорском престоле[937] (например, последнее подтверждение указа 1718 года относится к 1832 году[938]).
Пётр задал основные формы мемориализации культурного наследия. Прежде всего, по его инициативе появились протомузеи: Арсенал («Цехгауз») в Москве (1702), в котором выставлялось трофейное вооружение «для памяти на вечную славу»[939], Арсенал («Цехгауз») Петропавловской крепости (1703), Модель-камера для хранения чертежей и моделей кораблей (1709), собрание Кабинета Петра I (1711). Эти коллекции, по сути, выполняли функции исторических музеев. Так, например, арсеналы должны были хранить оружие старше 40 лет (было разрешено переливать только те пушки, «которые не старинные и никакого куриозства не имеют»)[940]. После создания в 1714 году Кунсткамеры Пётр I распорядился закупать
каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или и такие, да зело велики или малы перед обыкновенным; также… старые подписи на каменьях, железе или меди, или какое старое и ныне необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно (1718)[941].
Этот указ вышел после второго заграничного путешествия Петра I (состоявшегося в 1716–1717 годах), во время которого царь получил ясное представление о собраниях европейских музеев, кабинетов натуральной истории, художественных галерей и о нумизматических коллекциях. К самым ранним примерам музеефикации можно отнести сохранение первого дворца Петра I в Петербурге («Красные хоромы», или Домик Петра, 1703 год), для чего Пётр I распорядился выстроить специальную галерею[942].
В первой четверти XVIII века были предложены две формы выявления культурного наследия, которые ожидала большая будущность – анкетирование и экспедиции. Они возникли и развивались в рамках географической науки. Первое анкетирование, начавшееся в 1724 году, уже включало вопросы о местных древностях. Полученные ответы картограф и статистик Иван Кириллович Кириллов (1695–1737) использовал в книге «Цветущее состояние Всероссийского государства» (1727)[943]. Выявлением объектов культурного наследия занималась первая научная экспедиция Д.Г. Мессершмидта по Сибири 1719–1727 годов. Материалы этой экспедиции поступили на хранение в Кунсткамеру.
Модель отношения к культурному наследию, заданная Петром I, сохраняла свою актуальность до конца XVIII века[944]. Усилилось только мемориальное значение некоторых музеев. Кунсткамера, переданная Академии наук, в 1729 году включила в свой состав Императорский кабинет Петра I, а в 1730-е годы – коллекцию личных вещей Петра I и коллекцию Я.В. Брюса. Оружейная палата в XVIII веке стала выполнять функции хранилища коронационных предметов правящей династии. С середины XVIII века открываются новые музеи: Музей слепков при Академии художеств (1757), Музей натуральной истории при Московском университете (1791) и др. Появились провинциальные музеи: Иркутский музеум (1782), Барнаульский и Нерчинский музеи (1820-е). Первые сибирские музеи создавались с целью пробуждения интереса к специфике местного края, поэтому они экспонировали исключительно региональный материал. Следует отметить, что из-за отсутствия финансирования эти музеи просуществовали недолго[945].
Императорская академия наук с середины 1720-х годов становится одним из главных центров изучения наследия прошлого – в том числе в ходе экспедиций в Сибирь, Поволжье, Приуралье, Предкавказье и на Север[946]. Исследования почти не затрагивали территорию Средней России, что было обусловлено, с одной стороны, интересом к «куриозностям», которые значительно реже встречались в Средней России, а с другой – стремлением укрепить российскую власть на окраинах империи. Участники экспедиций занимались древностями в первую очередь как объектами географического изучения и описания[947]. Лишь некоторые исследователи (прежде всего В.Н. Татищев и Г.Ф. Миллер) подошли к изучению археологических памятников в качестве исторического источника[948].
В XVIII веке предпринимались попытки провести анкетирование в регионах России. Хорошо известны опыты В.Н. Татищева по анкетированию территории Сибири и Казанской губернии в 1730-е годы[949]. М.В. Ломоносов как руководитель Географического департамента Академии наук в 1758 году выступил с инициативой проведения анкетирования территории империи с целью исправления и дополнения Атласа России. Ученый обращал внимание на необходимость изучения Средней России и описания исторических городов[950]. С 1770-х годов больше внимания уделяется центральным провинциям, особенно Москве и Московской провинции[951]. Так, например, известный исследователь Сибири Г.Ф. Миллер в 1778 году изучал Московскую провинцию с целью «учинить ей географическое описание»[952]. По инициативе М.В. Ломоносова и других членов Академии наук Синод начал собирать сведения о храмах и монастырях России[953]. К концу XVIII века во многих регионах составляются и издаются географические, топографические и экономические описания губерний, уездов и городов[954].
Качество ремонтных работ на архитектурных памятниках выросло после того, как в 1730-е годы ответственность за ремонт старых зданий легла на архитекторов (ранее подрядчики выполняли многие работы самостоятельно)[955]. Церковные здания нередко ремонтировались или «по прежнему», или «против прежнего» («как и впредь было»), что допускало изменение облика здания при сохранении плана и общей композиции. Только небольшой круг памятников, обладающих особым мемориальным значением, действительно сохранял свой облик при ремонтах. К ним, прежде всего, относились памятники Московского Кремля: Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, стены и башни Кремля. Сохранность памятника зависела и от условий ремонтных работ, профессионализма архитектора и его представлений о ценности культурного наследия. В 1740-е годы в России зародилась реставрация станковой живописи: тогда в Россию были приглашены немецкие специалисты для «починки картин», которая заключалась в переносе красочного слоя на новую основу[956].
С 1770-х годов растет число изданий о российских древностях. Н.И. Новиков в 1775 году предложил программу первой специализированной серии «Сокровище российских древностей», в которой предполагалось публиковать описания церквей и монастырей, исторических гербов, монет, портреты и биографии российских правителей, библиографии по истории российских древностей. Для этого издания московский архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский) (1708–1771), знаток и любитель церковной архитектуры, контролировавший реставрацию Кремлевских храмов, подготовил описание Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов Московского Кремля, однако в свет тогда вышел только корректурный экземпляр сборника[957].
В рамках этой модели отношения к культурному наследию национальные памятники вызывали противоречивые оценки современников: самостоятельная эстетическая ценность русских древностей отрицалась, зато признавалось их историческое значение. В этом плане показательно отношение к ансамблю Московского Кремля. С одной стороны, при перестройке Кремля в 1769–1774 годах В.И. Баженов, оценивавший совершенство старых построек по близости к ордерным началам, отмечал, что зодчие прошлого,
без всякого правила и вкуса умножая украшения, ввели новый род созидания, который по времени получил от искусных исполнителей, хотя и не следующих правилам, огромность и приятство[958].
Таким образом, архитектор признавал эстетическую значимость построек, ранее считавшихся варварскими. Одновременно руководитель Каменного приказа Н. Кожин утверждал, что Соборная площадь «есть сама по себе в древности славна, то и оставается к сохранению своего вида по прежнему»[959]. Современники отмечали, что памятники Соборной площади являлись «святынями» и «древностями», т. е. объектами религиозного и мемориального значения. Это подчеркнул Г.Р. Державин в стихотворении «На случай разломки Московского Кремля для построения нового дворца». При этом он высказал уверенность, что эта перестройка позволит кремлевскому ансамблю «прежней красоты чуднее процветать», т. е. улучшит внешний вид «великолепных зданий»[960].
С другой стороны, в начале XIX века руководитель Экспедиции кремлевского строения Пётр Степанович Валуев (1743–1814) накануне коронации Александра I сообщал императору, что многие постройки в Кремле «помрачают своим неблагообразным видом все прочие великолепнейшие здания», и предлагал их уничтожить[961]. В 1801–1808 годах один за другим были разобраны Сретенский собор, Хлебный и Кормовой дворцы, Троицкое подворье, Гербовая башня, часть Потешного дворца, Годунов дворец, некоторые постройки Государева двора. Руководствуясь теми же принципами, П.С. Валуев навел порядок и в Оружейной палате, освободив ее от ветхих вещей и поновив оставшиеся (полихромные изразцы, например, были покрашены краской). Подобные противоречивые оценки отечественных древностей можно встретить на протяжении XVIII и первой половины XIX века, что, по мнению А.А. Формозова, позволяет рассматривать соответствующие споры в контексте борьбы классицизма и романтизма, понимаемых уже не просто как художественные стили, но как определенные типы мировоззрения[962]. Очевидно, что отрицание ценности российских древностей имело и другие причины: географический взгляд на древности, преобладавший в рамках этой модели, сужал их значение до объектов исторического ландшафта; в связи с отсутствием в историческом сознании того времени идеи органического и непрерывного развития страны культурное наследие обретало легитимность только благодаря своим связям с царствующей династией. Если эта связь не прослеживалась, историческая ценность памятника ставилась под сомнение.
«Иконография» культурного наследия: первая половина XIX столетия
В начале XIX века начинается формирование новой модели отношения к культурному наследию, которая получает распространение в царствование Николая I. Для нее характерно признание за российскими древностями значения ценностной и эстетической категории, внимание к иконографии культурного наследия, выделение его мемориального значения, подчеркивание связи наследия с принципом народности[963]. В процессе осмысления национальных основ российской государственности утверждалось представление о ценности русских древностей, вне зависимости от их отношения к классицизму и классической традиции. Однако классицистическая концепция продолжала оказывать влияние на отношение к материальному наследию прошлого. Во-первых, памятники прошлого оценивались с точки зрения иконографии, внешнего облика – «вида», форм, которые ассоциировались с определенными эпохами (собственно материальное воплощение почти не представляло интереса для историков, археологов и архитекторов)[964]. Во-вторых, существовала убежденность в стилистической однородности памятников одного периода, что позволяло широко использовать аналогии и не всегда указывать их источники[965]. Конечно, круг аналогий был крайне узок, зачастую включал памятники других эпох или памятники, восстановленные с существенными искажениями (например, Теремной дворец Московского Кремля), поэтому представления об иконографии были достаточно обобщенными. В-третьих, памятники воспринимались как материальные свидетельства ушедшего прошлого, что также подразумевало отсылку к «первоначальному» виду и назначению этих памятников, которые понимались порой довольно условно и приблизительно[966].
Император Александр I, на взгляды которого оказала влияние классицистическая концепция, в большей степени интересовался памятниками Причерноморья. Именно на них распространялось первое в России распоряжение об охране всех объектов культурного наследия (на практике оно касалось только казенных владений) – высочайшее повеление «Об ограждении от разрушения древностей Тавриды» (1805). Император запретил «частным лицам» собирать и вывозить древности, найденные на Керченском и Таманском полуострове, а также потребовал предоставлять сведения о находках и месте их обнаружения в Академию наук[967]. Император Николай I ценил не только произведения античного искусства, но и остальное культурное наследие России[968]. По его поручению уже в 1826 году министерство внутренних дел выпустило циркуляр о собирании сведений об «остатках древних замков и крепостей или других зданий древности» и их сохранении[969]. На основе поступивших из губерний материалов был составлен первый свод сведений о памятниках[970]. Для сохранения памятников большое значение имел Строительный устав 1835 года, вобравший в себя все предшествующие законодательные акты об охране архитектурных памятников. Серия указов 1820–1840-х годов обозначила основные принципы отношения к памятникам древности: все древние здания (в том числе церковные) должны сохраняться, их реставрация допускается только по разрешению Технико-строительного комитета министерства внутренних дел (при финансировании работ из казны) или императора, при реставрации должен оставаться «древний стиль византийского зодчества», все археологические находки должны передаваться в Академию наук[971]. В 1840-е годы Синод издал распоряжения по сохранению церковных памятников, основанные на этих же принципах.
Благодаря личному контролю императора удалось упорядочить работу соответствующих ведомств. Основной контроль за охраной памятников осуществляло министерство внутренних дел. Губернские статистические комитеты, подчинявшиеся Центральному статистическому комитету министерства внутренних дел, вели учет памятников и иногда создавали музеи[972]. Финансирование памятникоохранительной деятельности было возложено на губернские органы власти. Технико-строительный комитет министерства внутренних дел рассматривал проекты перестройки и реставрации зданий. Сложившаяся к 1840-м годам система охраны объектов культурного наследия в целом работала неэффективно и не могла остановить повсеместное разрушение памятников, особенно в провинции. Для сохранения культурного наследия необходимо было усиление государственного и общественного контроля за охраной памятников. Возможно, именно поэтому император поддержал создание в 1846 году Санкт-Петербургского археологическо-нумизматического общества, целью которого было «изучение классической археологии», а также «археологии и нумизматики новейших времен стран западных и восточных»[973]. После переименования Императорское русское археологическое общество издало программу описания российских древностей – «Записку для обозрения русских древностей», составленную И.П. Сахаровым (СПб., 1851)[974]. Эта программа так и не была реализована.
Александр II продолжил политику своего отца. В 1856 году он поручил председателю Общества истории и древностей российских при Московском университете графу С.Г. Строганову, неоднократно субсидировавшему археологические раскопки в Причерноморье, заведовать археологическими разысканиями в России[975]. Через три года, в 1859 году, С.Г. Строганов возглавил учрежденную Императорскую археологическую комиссию при министерстве Императорского двора. Комиссия должна была заниматься выявлением и изучением древностей. Ресурсов комиссии хватило лишь на контроль за археологическими раскопками, преимущественно в Причерноморье, и на заведование Керченским музеем древности. Выявленные комиссией памятники чаще всего передавались в собрание Эрмитажа[976].
В рамках данной модели отношения к культурному наследию развиваются различные формы его мемориализации. С 1820-х годов обнаруживается тенденция специализации музеев по различным профилям – историческому, археологическому, военно-историческому, нумизматическому и другим[977]. Показательно разделение Кунсткамеры Академии наук на несколько подразделений – Азиатский, Египетский, Этнографический, Нумизматический музеи и Кабинет Петра I (1836). Ряд протомузеев (собрания Эрмитажа, Вольного экономического общества, Модель-камера при Адмиралтействе) был преобразован в музеи.
В 1806 году Оружейная палата стала музеем. По словам ее директора П.С. Валуева, Оружейная палата превратилась в «исторический кабинет» правящей династии, поэтому в историографии ее принято считать первым историческим музеем России[978]. В царствование Николая I был создан еще ряд исторических музеев: Исторический музей в Нижнем Новгороде (1827), Музей Рижского общества истории и древностей (1834), Музей древностей при Киевском университете (1835), Музей Русского археологического общества (1846), Музей древностей в Вильно (1856). Археологические музеи создавались преимущественно в Причерноморье: в Николаеве (1806), Феодосии (1811), Одессе (1825), Керчи (1826), Херсонесе (1827). Заслуга создания керченского музея принадлежит керченскому градоначальнику И.А. Стемпковскому, автору первой программы археологического изучения Причерноморья[979]. В рассматриваемый период создаются мемориальные музеи, например, музей в селе Васьки близ Переславля-Залесского (1803), Кутузовская изба в деревне Фили под Москвой. Признание эстетической ценности отечественного средневекового искусства привело к тому, что музеи стали комплектоваться предметами быта и произведениями древнерусского искусства. И.М. Снегирёв, неоднократно указывавший на историческую и эстетическую ценность древнерусских памятников, в 1848 году выступил с программной статьей «О значении отечественной иконописи (Письма графу А.С. Уварову И.М. Снегирёва)»[980], в которой подчеркнул значение соответствующих памятников. Уже в 1856 году при Академии художеств открывается Музей православного иконописания[981]. Музейные предметы часто оценивались с точки зрения эстетических предпочтений, поэтому нередко встречаются примеры уничтожения предметов. Так, например, Оружейная палата в 1840 году переплавила 400 кг подлинных серебряных изделий[982].
В 1805 году известный коллекционер и основатель Депо манускриптов (Рукописного отдела) Публичной библиотеки Пётр Петрович Дубровский (1754–1816) впервые поднял вопрос о создании «всеобщего Музея древностей русских» и разработал его программу[983]. Это тогда так и не стало предметом публичного обсуждения. На рубеже 1810–1820-х годов члены Румянцевского кружка Ф.П. Аделунг, друживший с П.П. Дубровским, и Б.-Г. Вихман вновь предложили создать Российский национальный музей[984]. Эти проекты не были реализованы, хотя повлияли на организацию в 1831 году государственного Румянцевского музея, созданного после смерти Н.П. Румянцева на основе его коллекций рукописных и старопечатных книг, карт, медалей и археологических памятников. Музей стал одним из первых музеев в ведении министерства народного просвещения и был открыт для посещения раз в неделю.
В царствование императора Николая I был накоплен и систематизирован значительный объем сведений о культурном наследии, прежде всего по иконографии памятников. С 1806 года Московское архитектурное училище начало собирать «сколько возможно чертежи и виды древних зданий, а паче в Кремле находящихся»[985]. По поручению А.Н. Оленина академик живописи Ф.Г. Солнцев рисовал старинную утварь, оружие и архитектуру в Москве, Новгороде, Киеве и других городах. Эти материалы были опубликованы в шести отделах издания «Древности Российского государства» (СПб., 1846–1853). Подготовке этого издания содействовал И.М. Снегирёв, участвовавший в нескольких иллюстрированных сериях: «Памятники московской древности» (1842–1845, рисунки Ф.Г. Солнцева), «Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества» (1846–1859, рисунки А.А. Мартынова), «Памятники древнего художества в России» (1850–1854, рисунки А.А. Мартынова), «Русские достопамятности» (1862–1866, рисунки А.А. Мартынова). В середине XIX века воспитанники Фёдора Фёдоровича Рихтера, директора Московского дворцового архитектурного училища и основоположника научной реставрации в России, подготовили издание обмеров, планов и разрезов памятников архитектуры[986]. В 1841–1862 годах вышло монументальное сочинение военного историка Александра Васильевича Висковатова (1804–1858) – «Историческое описание одежды и оружия российских войск» в тридцати томах, содержавших более 4000 таблиц. Таким образом, к 1860-м годам уже была отобрана и частично представлена публике обширнейшая иконография русских древностей. Наряду с собиранием иконографии памятников, предпринимаются и другие попытки обобщения данных о культурном наследии России. Например, профессор Харьковского университета Гавриил Петрович Успенский опубликовал «Опыт повествования о древностях русских» (Ч. 1–2. Харьков, 1811–1812)[987]. На рубеже 1810–1820-х годов З. Ходаковский обобщил данные о курганах на территории России[988].
Экспедиции этого периода стали более специализированными. В 1805 году П.П. Дубровский составил «План путешествия по России для собирания древностей» – первый план изучения российских древностей[989]. На основе этого плана была организована первая архитектурно-этнографическая экспедиция под руководством Константина Матвеевича Бороздина (1781–1848), участники которой в течение трех лет (1808–1810) изучали памятники Киева, Чернигова, Старой Ладоги, Вологды, Белозерска и других городов[990]. К.М. Бороздин писал А.Н. Оленину, что это – первая экспедиция, поставившая перед собой исторические цели:
Много было в России путешествий… Однако ж могу заметить здесь, что главный и единственный предмет их был всегда естественная история и ее отрасли. Древностей они или совсем не описывали, или описывали их только поверхностным образом, и то мимоходом. Следовательно, путешествие мое есть в России почти первое в своем роде[991].
Программы П.П. Дубровского и К.М. Бороздина повлияли на организацию археографических экспедиций в 1820-е годы. Примечательно, что покровитель П.П. Дубровского, граф А.С. Строганов, заложил традицию обучающих путешествий по России, составив программу путешествия своего сына П.А. Строганова вместе с архитектором А.Н. Воронихиным по России, от Белого до Черного моря, от Западной России до сибирского Зауралья.
На пути к осмыслению специфики древнерусской архитектуры встречаются попытки стилизации (Москворецкие ворота, Никольская и Боровицкая башни Московского Кремля, здание Синодальной типографии в Москве). Такой подход осуществлен и при реконструкции ансамбля Московского Кремля после 1812 года. Первым примером реставрации в архитектурной практике того времени можно считать воссоздание позакомарного покрытия Дмитровского собора во Владимире в 1806 году[992]. По мере увеличения числа архитекторов, имевших опыт работы с античными памятниками в Италии, складывается практика реставрационной работы[993]. Полученный в Италии опыт использовали К.А. Тон – при восстановлении ансамблей Кремлёвского дворца и Измайловского острова близ Москвы и Ф.Ф. Рихтер – при реставрации палат бояр Романовых и других объектов. Конечно, большинство архитекторов продолжали руководствоваться принципами, выработанными в практике XVIII века. Исключения составляли работы Ф.Ф. Рихтера в Москве и Н.А. Артлебена во Владимирской губернии, которые проводили реставрации на основе длительных изысканий и изучения памятника. В этот период зарождаются и методы консервации объектов культурного наследия[994]. Воссоздавая памятники, архитекторы стремились сохранить черты стиля и типологию сооружений, но «соединение… уцелевших или восстанавливаемых реалий в единое целое происходило на основе современных реставратору представлений о композиции. Реставрация в этом смысле была частью архитектурной практики»[995]. Классицистическое и эстетическое восприятие продолжало влиять на общую оценку объектов культурного наследия, поэтому, например, руины не считались памятниками древности, а при реконструкции допускались исправления с точки зрения симметрии, единообразия и целостного восприятия[996].
При реставрации особое внимание уделялось памятникам религиозного и мемориального значения, особенно отмечалась связь с началом династии Романовых, первыми ее представителями (включая и Петра Великого), а также со знаменитыми историческими событиями[997]. Показательна серия реставраций 1850–1860-х годов. Идея восстановления Палат бояр Романовых и усыпальницы Романовых в Новоспасском монастыре была подсказана императору Александру II служащим Императорского Эрмитажа Б. Кене, уроженцем Пруссии, секретарем Берлинского нумизматического общества, одним из инициаторов создания Археологическо-нумизматического общества в Санкт-Петербурге. Возможно, Кене сообщил императору об опыте восстановления родовых замков Гогенцоллернов в Пруссии[998]. Воссоздание Палат бояр Романовых стало памятником коронации Александра II[999]. В 1850–1870-е годы были проведены ремонтные и реставрационные работы в кельях Михаила Романова (будущего царя Михаила Фёдоровича) в Ипатьевском монастыре (1858), в соборе Рождественского монастыря во Владимире, где прежде находились мощи Александра Невского (личного святого покровителя Александра II), реставрация Малого Николаевского дворца XVIII века (1874–1878), в котором родился Александр II.
Для того чтобы посетитель понимал историческое значение памятника, в середине XIX века достаточно часто стали использоваться текстовые или изобразительные пояснения. Так, например, на палатах Синодальной типографии были установлены клейма с изображениями царей Ивана IV, Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича и со сведениями о книгопечатной деятельности в их царствования[1000]. Тексты аналогичного назначения были помещены при входе в Покровский собор в Измайлове, отреставрированный К.А. Тоном в 1840-е годы.
В рамках этой модели отношения к культурному наследию формируется новая дисциплина – археология[1001]. Постепенно осмысляется ценность объектов наследия как источников познания «духа народа» и «народности». Поиски систематического взгляда на памятники древности привели к развитию «иконографического» подхода: художественный стиль, внешний облик становятся основой классификации объектов культурного наследия и приобретают значение эстетической ценности.
Подлинность культурного наследия: под знаком историзма
Следующая модель отношения к памятникам прошлого сформировалась благодаря признанию ценности их подлинности. Эта модель складывалась в 1860-е годы под влиянием археологических организаций: Русского археологического общества, Московского археологического общества и Императорской археологической комиссии. Сторонники такого подхода к культурному наследию признавали относительность современного им знания об архитектурных памятниках прошлого, поэтому не стремились к полной перестройке уже существующих зданий ради придания им «подлинного» вида, а более охотно допускали проведение фрагментарных реставраций и консерваций[1002].
Новое отношение к подлинности памятников ярче всего проявилось при воссоздании икон Успенского собора (1852), иконостасов Благовещенского собора Московского Кремля, Грановитой палаты к коронации Александра III (1882–1883), памятников Ростовского Кремля – Белой палаты, надвратного храма Григория Богослова, Успенского собора, надвратной церкви Воскресения Господня, Княжьего терема (1880-е), Дворца царевича Димитрия в Угличе (1890). Для этих реставраций характерно стремление максимально сохранить подлинные части памятника (при их замене подлинные фрагменты передавались на хранение в музей) и отказ от восполнения полностью утраченных элементов[1003].
В 1860–1880-е годы в деле охраны памятников, реставрации и археологии первенство принадлежало Московскому археологическому обществу, созданному в 1864 году по инициативе руководителя отдела русской и славянской археологии Академии наук графа Алексея Сергеевича Уварова (1825–1884). Московское археологическое общество ввело в практику обязательное утверждение проектов реставрации и разрешение археологических раскопок, организовывало в исторических городах археологические съезды, способствовавшие развитию охраны памятников[1004]. С 1871 года к съездам приурочиваются археологические выставки, влиявшие на развитие археологических исследований и музейного дела в регионе.
В 1886 году с назначением на должность руководителя Императорской археологической комиссии камергера Двора императорского Величества графа Алексея Александровича Бобринского (1852–1927) начались преобразования этого учреждения: было увеличено финансирование комиссии, она получила право избирать сверхштатных сотрудников и членов-корреспондентов[1005]. В 1889 году Императорская археологическая комиссия получает исключительное право проводить археологические раскопки, разрешать реставрации и ремонт древних зданий[1006]. Современный исследователь А.Л. Баталов считает, что к тому же году завершилось и становление дореволюционной системы охраны памятников[1007]. Длительное время шел раздел сфер деятельности между комиссией и общественными организациями, особенно непросто складывались ее отношения с Московским археологическим обществом[1008]. Местные общественные организации продолжали проводить исторические изыскания и занимались сохранением культурного наследия, хотя качество работ тут часто уступало столичным реставраторам. Наиболее масштабные и добротные реставрации проводила Комиссия по восстановлению древних зданий в кремле Ростова Великого[1009].
Одним из главных показателей нового отношения к культурному наследию явилось бурное развитие российских музеев, которые стали весьма значимыми культурно-просветительскими организациями. В результате интенсивного музейного строительства к 1917 году в стране насчитывалось более 600 музеев[1010]. В соответствии с уставом музеи должны были заниматься распространением экономических, географических, исторических знаний, знакомить посетителей с культурным наследием, хранить и приумножать коллекции, организовывать публичные лекции и беседы, экспозиции и выставки, научно-образовательные экскурсии, библиотеки. Они могли учреждать профессиональные учебные заведения[1011].
С 1850-х годов для посетителей стали доступны государственные музеи: Эрмитаж (1852), Оружейная палата (1856), Румянцевский музей (1861), Морской музей имени Петра Великого (1867), Киевский церковно-археологический музей (1878), Артиллерийский исторический музей (1889) и др. В местных музеях увеличилось число дней для посещения, а некоторые музеи, например, Житомирский, Енисейский, Архангельский, были доступны «во всякое время». Для посетителей открываются частные собрания: Третьяковская галерея, Музей украинских древностей В.В. Тарновского в Чернигове, Театральный музей А.А. Бахрушина в Москве и др.
В крупных музеях проводится реорганизация основных экспозиций в соответствии с принципом историзма. Систематизация коллекций Артиллерийского музеума в Санкт-Петербурге в 1868–1869 годах привела впоследствии, в 1870-е годы, к утверждению хронологического подхода в структуре музейного собрания[1012]. В 1867 году по тому же принципу прошла реорганизация и Морского музея. Возникновению новых музеев способствовали всероссийские Этнографическая и Политехническая выставки 1867 и 1872 годов. Основными историческими отделами Политехнической выставки 1872 года, приуроченной к 200-летию со дня рождения Петра I, были Исторический и Севастопольский отделы. В последнем экспонировали реликвии недавней героической обороны Севастополя; исторические памятники пополнили также Военный и Морской отделы. Организаторы Севастопольского отдела выступили с инициативой создания общенационального Исторического музея[1013]. Московские историки – С.М. Соловьёв, И.Е. Забелин – сначала не участвовали в подготовительной работе, поэтому программную статью об организации музея предложил К.Н. Бестужев-Рюмин. Главным принципом построения экспозиции он определил принцип историзма, согласно которому материал должен был «следовать порядку историческому», т. е. общему ходу исторического развития как закономерного процесса, а посетитель мог бы «наглядно переживать те исторические изменения, которым подвергалась жизнь русского народа»[1014]. Таким образом, музей призван был служить иллюстрацией жизни русского народа. При разработке устава музея программа К.Н. Бестужева-Рюмина была упрощена, но даже в таком виде структура экспозиции, построенная на основе археологической классификации памятников, соответствовала лучшим европейским музеям (Музею северных древностей в Копенгагене и Сен-Жерменскому музею). В создании экспозиции принял участие И.Е. Забелин, один из ярких представителей «историко-археологической школы» русской истории[1015]. Открытие музея состоялось в 1883 году. Благодаря активной деятельности руководителей музея его фонды увеличились с 2443 единиц хранения в 1881 году до 300 тысяч к 1917 году. Это позволило отказаться от массового использования копий[1016]. Основными источниками поступлений стали дары коллекционеров и общественных организаций (музей так и не получил право проводить самостоятельные археологические раскопки).
Еще до своего открытия Российский исторический музей был признан самым авторитетным историческим музеем в России, поэтому предполагалось, что он станет ведущим органом охраны памятников и музейного дела. Так, например, по проекту закона об охране памятников, предложенному министерством народного просвещения в 1876 году, Российский исторический музей (тогда еще не действовавший) должен был стать основным учреждением по охране культурного наследия в России. Эту же мысль повторил А.С. Уваров в неутвержденном проекте нового устава Российского исторического музея 1882 года[1017]. Участники Предварительного музейного съезда 1912 года предлагали Российскому историческому музею стать организационным центром всей сети исторических музеев страны и координировать их деятельность[1018]. Эти предложения не были реализованы.
В этот же период открываются мемориальные музеи, посвященные военным событиям и видным деятелям культуры (относительно) недавнего времени, например: Севастопольский мемориальный музей (1869), Музей А.С. Пушкина при Царскосельском лицее (1879), Лермонтовский музей при Николаевском кавалерийском училище (1883), Кутузовская изба в Филях (после пожара 1868 года открыта вновь в 1887 году), Дом-музей П.И. Чайковского в Клину (1894), Панорама «Оборона Севастополя» (1905), Музей А.В. Суворова (1904), Дом-музей Л.Н. Толстого в Петербурге (1911), Музей-квартира Д.И. Менделеева при Петербургском университете (1911), Музей Великой войны (1916)[1019]. Мемориальный характер имели и некоторые полковые музеи.
В России впервые в мире появились педагогические музеи. Первый подобный музей, Педагогический музей военно-учебных заведений, был открыт в Петербурге в 1864 году (в 1875 году он вошел в состав Музея прикладных знаний). После участия музея во Всемирной выставке в Париже в 1875 году подобные музеи стали создаваться по всему миру.
Во второй половине XIX века возникает множество местных музеев, наиболее интенсивно они открываются в 1880–1890-е годы[1020]. Организацией музеев сначала занялись губернские Статистические комитеты, отделы Русского географического общества, а затем земские организации, ученые архивные комиссии. Музеи земств и научных обществ часто отличались более систематическим построением экспозиции. На окраинах России, например в Сибири, где в 1870–1890-е годы было открыто около 80 музеев[1021], преобладали комплексные музеи. Организаторы местных музеев в просветительско-любительском духе порой ставили перед собой утопические и всеохватные задачи «разрешения всех вопросов современности»[1022]. Большинство музеев имели исторические отделы, при этом основной тематикой экспозиций была естественная история. Исторические материалы обычно присутствовали и в музеях неисторического профиля, например, в сельскохозяйственных[1023]. К концу XIX века во многих музеях систематизация материала осуществлялась в соответствии с историческим и естественно-научным методами, представляя в комплексе и прошлое, и природу местного края. Большинство музеев не имели стабильного и достаточного финансирования. Комплектование фондов осуществлялось благодаря организации научных экскурсий (экспедиций), выставок и получению в дар коллекций.
Строительство местных музеев в этот период опирается на формирующееся региональное самосознание. Так, например, представители сибирского областничества открыто поддерживали музейное строительство в Сибири. Н.М. Ядринцев, говоря о первом общественном музее в Минусинске (1877), ставшем образцом для других музеев Сибири, писал: «Высоко следует ценить в деле Минусинского музея то, что он соединяет около себя все выдающиеся силы края, поднимает местное чувство на ноги и дает ему пищу и деятельность»[1024]. Государственная власть хорошо осознавала роль музеев в формировании национализма и регионализма, поэтому при необходимости сокращала объемы экспозиции местных музеев. Особым казусом стала, например, судьба собрания Виленского музея, которое после подавления Польского восстания 1863 года было проинспектировано специальной комиссией (и часть предметов была передана в Румянцевский музей)[1025]. В середине 1870-х годов был закрыт и Юго-Западный отдел Русского географического общества в Киеве по обвинению в политической деятельности и пропаганде сепаратизма.
В рассматриваемый период появилась новая форма церковных музеев – древлехранилища (до этого традиционно приходские храмы и монастыри хранили древности в своих ризницах). Первые древлехранилища возникли при духовных академиях: Киевской (1872), Петербургской (1879) и Московской (1880). Большинство церковных музеев было создано на рубеже XIX – ХХ веков при церковно-археологических обществах и при православных братствах[1026]. Целью церковных музеев было «собирание местных исторических памятников и развитие в местном обществе, и особенно в среде духовенства и духовных воспитанников, археологического интереса и знаний»[1027]. Музеи занимались собиранием, изучением, охраной церковных памятников древности, популяризацией историко-археологических знаний. Для централизации церковных музеев в 1914 году при Синоде была учреждена Архивно-археологическая комиссия.
Интерес к культурному наследию проявился и в росте посещаемости музеев. Так, например, число посетителей музеев Академии наук с 1857 до 1877 год выросло с 10 до 70 тысяч, а Румянцевский музей на следующий год после перевода в Москву посетило 42 тысячи человек[1028]. Посещаемость местных музеев почти никогда не опускалась ниже тысячи человек в год в пореформенный период и постоянно росла (скачок посещаемости, по наблюдениям Д.А. Равикович, пришелся на 1900-е годы). Например, посещаемость Иркутского музея выросла с 1764 человек в 1885 году до 30 тысяч человек в 1907 году. Среди посетителей преобладали мужчины, к 1910-м годам процент женщин заметно вырос; в некоторых музеях женщины составляли около трети посетителей. Музеи расширяли аудиторию за счет малоимущих слоев населения, для которых в воскресенья и праздники предлагалось льготное или бесплатное посещение. Так, например, Румянцевский музей в 1911 году бесплатно посетили 79 464 человека, а заплатили за вход всего 15 805 человек. На популярность музеев влияли различные события в стране. Так, например, рост ежегодного посещения Морского музея с 4701 до 61 916 человек в 1900–1916 годах был обусловлен не только проведением специальных экскурсий для военных чинов[1029], но и интересом общества к военной проблематике в годы Русско-японской и Первой мировой войн. Состав посетителей различался в зависимости от музея. Так, например, Исторический музей сравнительно мало интересовал учащихся и рабочих[1030], которые преобладали среди посетителей большинства центральных и всех местных музеев, где реже бывали представители других городских сословий.
Благодаря проведению экскурсий, народных чтений местные музеи заняли нишу организаций внешкольного образования[1031]. При некоторых музеях (например, при Московском политехническом, Нерчинском, Минусинском и др.) создавались образовательные отделы. После первой революции 1905 года музеи включились в политическое просвещение народа. Например: Политехнический музей предоставлял аудитории для монархистов, либералов и социал-демократов, в Историческом музее выступали преимущественно члены монархических организаций, Музей содействия труду Московского отделения Русского технического общества, занимавшийся пропагандой профсоюзного движения, сотрудничал с социал-демократами[1032].
В начале XX века происходило дальнейшее развитие форм мемориализации культурного наследия: были созданы Санкт-Петербургский и Московский археологические институты[1033], организовывались экспедиции[1034], увеличилось число фрагментарных реставраций[1035], появлялись новые музеи, росла их посещаемость (прежде всего, за счет учащихся), проводились исторические выставки. Возникают новые общественные организации в сфере охраны культурного наследия.
Императорской археологической комиссии, созданной в 1889 году, так и не удалось полностью сосредоточить в своих руках охрану культурного наследия, поскольку законодательное регулирование не распространялось на памятники, находящиеся в частном владении. Кроме того, в этой сфере сохранялась и ведомственная разобщенность: церковные памятники по-прежнему находились в ведении Синода, музейные учреждения и археологические общества подчинялись различным инстанциям. В деле изучения культурного наследия продолжала обширную работу Императорская академия наук (подчиненная министерству народного просвещения). Технико-строительный комитет МВД, сотрудники которого не обладали достаточными знаниями, по-прежнему собирал сведения о памятниках (в 1901 году было учтено 4108 памятников) и выдавал разрешения на их ремонт[1036]. Однако дело здесь обстояло далеко не во всем благополучно. Поэтому в 1906 году при участии общественных организаций создается проект «Положения об охране древностей», в котором впервые появляются уголовно-правовые запреты на разрушение памятников[1037]. Текст положения отражал стремление отдельных ведомств и общественных организаций к централизации системы охраны памятников, но проект не получил поддержки Государственной думы.
Тенденция к объединению и централизации разрозненных общественных усилий проявилась и в музейной сфере. В 1912 году Предварительный музейный съезд определил программу Первого музейного съезда, назначенного на 1915 год[1038]. Участники Предварительного съезда в своих выступлениях неоднократно обращали внимание на необходимость централизации музейной сети, унификации музейной деятельности, более четкой специализации и профилизации музеев.
Эта модель отношения к культурному наследию тяготела к научному, позитивистскому восприятию памятников, который в конце XIX века стал ассоциироваться с «археологическим подходом». Данный подход ярче всего проявился в стремлении к онаучиванию исследовательской, реставрационной практики и музейной деятельности.
Вместо заключения: в поисках «художественности» культурного наследия (начало ХХ века)
Последняя по времени модель отношения к культурному наследию сложилась в начале ХХ века. Для нее характерно особое
внимание к художественным, эмоционально воспринимаемым характеристикам сооружений. Не к иконографии формы, это было и прежде, а к особенностям ее воплощения, «почерку» эпохи, проявляющему себя в нюансах архитектурной пластики, графики, колорита[1039].
Одним из видных сторонников такого отношения к культурному наследию стал в 1910-е годы Н.К. Рерих. В эссе «По старине» он писал:
Мы признали значительность и научность старины; мы выучили пропись стилей; мы даже постеснялись и перестали уничтожать памятники древности… Мне приходилось слышать от интеллигентных людей рассказы о странных формах старины… о трактовке перспективы, о происхождении форм орнамента, о многом будут говорить, но ничего о красоте живописной, о том, чем живо все остальное… Посмотрим не скучным взором археолога, а теплым взглядом любви и восторга… Дело памятников старины может вестись очень научно… и все-таки в нем может не быть духа живого… В художественном понимании дела старины есть много не укладывающегося в речи… что можно воспринимать только чутьем[1040].
Позицию Н.К. Рериха поддерживали тогда и некоторые авторитетные критики, и сами творцы культуры – В.Я. Курбатов, С.К. Маковский, А.В. Щусев, и мыслители, писавшие об «эстетике истории» (Д.В. Философов), «чувстве истории». Ряд энтузиастов объединился в начале ХХ века вокруг культурных начинаний, связанных с журналами «Мир искусств» и «Аполлон» (А.Н. Бенуа, С.П. Дягилев и др.)[1041]. Особую роль для пере оценки актуальной художественной, а не просто историко-культурной значимости наследия прошлого сыграла уже накануне Первой мировой войны деятельность журналов «Старые годы», «Столица и усадьба», «Зодчий» и др.[1042]. Одним из главных идейных вдохновителей этих проектов был тесно сотрудничавший с Эрмитажем и Институтом истории искусств графа В.П. Зубова барон Николай Николаевич Врангель (1880–1915)[1043], которого поддерживали издатель П.П. Вейнер, историк культуры Петербурга Г.К. Лукомский, художник Е.Е Лансере и др. Эти инициативы были непосредственно связаны также с деятельностью Музея Старого Петербурга (начал работать с 1907 года[1044]) и петербургского Общества защиты и сохранения памятников искусства и старины (с филиалами в Туле, Орле, Казани, Вильно, Ярославле и других городах). Общество было создано в 1909 году во главе с великим князем Николаем Михайловичем при ближайшем участии Николая Врангеля, Николая Рериха, Александра Бенуа и других защитников и любителей старины (в том числе из числа активно работающих деятелей искусства, а не только специалистов) – как раз в связи с тогдашними горячими дискуссиями о новом законодательном оформлении области охраны памятников[1045]. Художественный подход к культурному наследию привел к пониманию самостоятельной ценности уже не только допетровских строений, но и более «современной» архитектуры XVIII и XIX веков, к идее целостного восприятия памятника. Этот принцип включал внимание и к позднейшим наслоениям, признание и сохранение «неправильности» архитектуры предшествующих эпох, осмысление связи памятника и культурного ландшафта[1046].
* * *
В Российской империи сложились и действовали несколько систем охраны культурного наследия: в царствование Николая I главным органом охраны памятников являлось министерство внутренних дел, при Александре II государственные и общественные организации контролировали эту сферу совместно, Александр III в 1889 году сосредоточил соответствующие полномочия в руках Императорской археологической комиссии. С XVIII века государство постоянно и последовательно расширяет свой контроль за охраной культурного наследия, что прослеживается, в частности, и по отношению к церковным памятникам[1047]. Однако вопрос сохранения памятников, находящихся в частной собственности, так и остался трудноразрешимым. Попытки общественности хотя бы частично ограничить произвол индивидуальных (или групповых) владельцев старинных зданий находили в начале ХХ столетия определенное понимание и в правительственных кругах, но эти идеи так и не получили законодательного оформления[1048]. Помимо государства и общества, важным звеном в системе сохранения и репрезентации материальных свидетельств прошлого была академическая и университетская наука. Роль научного подхода в этой области возрастала на всем протяжении XIX века. (Нельзя забывать также о деятельности многих энтузиастов, собирателей и археологов-любителей в провинции из числа учителей, чиновников, земских служащих и т. д.).
На протяжении XVIII – начала ХХ века не было существенных противоречий между охраной памятников и музейным делом[1049]. Их единство обеспечивалось тем, что они входили в состав археологии как особой сферы знания (области более широкой, чем одноименная нынешняя академическая дисциплина). Поскольку мемориализация и охрана памятников понимались достаточно широко, то объекты культурного наследия рассматривались в одном ряду с монументами в честь выдающихся лиц и исторических событий, а также с художественными артефактами[1050]. Только на рубеже XIX – ХХ веков постепенно происходит дифференциация отраслей археологии и определение их сфер интересов. Академическая сторона была лишь одной из частей более комплексного механизма формирования социальной памяти.
Интерес государства к вещественной стороне социальной памяти имел несколько причин. Мемориализация памятников, связанных с правящей династией и историей России, была, в первую очередь, формой легитимации верховной власти. Мы только бегло затронули тему частного коллекционирования и собирательства, судеб личных коллекций и связанной с этим деятельности, общественной и художественной рефлексии. Культурное наследие было мобилизовано также в рамках различных локальных начинаний местных властей, а со второй половины XIX века – в региональных движениях (вроде сибирского областничества) или зарождающихся на территории империи национальных проектах[1051]. Эти факторы интереса самых разных социальных агентов к «материальной истории» оставались действенными, несмотря на трансформацию ключевых моделей отношения к культурному наследию. Общественные организации и деятели культуры, охраняя культурное наследие, ставили перед собой различные идеологические и политические цели, которые еще предстоит изучить во всем их многообразии и полноте[1052].
Вера Каплан Исторические общества и идея исторического просвещения (конец XIX – начало XX века)
[1053]
Одним из лучших средств для распространения исторических знаний, несомненно, служит постоянное напоминание о местах славных исторических событий. Но на Руси так водится, что исторические места как бы нарочно замалчиваются и узнать о них можно путем не всем доступных справок. Так, о знаменитом Куликовом поле, лежащем в 20 верстах к северу от станции Куркино Рязанско-Уральской железной дороги ничто не напоминает тем миллионам пассажиров, которые проезжают по железной дороге и могут вдали видеть из окна вагона верхушку поставленной на «Красном холме» колонны. Между тем у этих пассажиров так легко пробудить интерес к историческому месту. Стоит только переименовать станцию Куркино в «Куликово поле». Тогда о знаменитом историческом месте железнодорожные служащие будут в силу своих обязанностей постоянно напоминать проезжающим пассажирам при каждом подходе поезда к станции. Переименование станции Куркино в «Куликово поле» не сопряжено с большими расходами и, несомненно, Министр Путей Сообщения, как русский человек, любящий родную историю, окажет этому делу содействие, если Общество Ревнителей Русского Исторического Просвещения признает возможным возбудить этот вопрос[1054].
Письмо это было послано совету одного из многочисленных исторических обществ, существовавших в начале XX века в России. Совет Общества счел мысль «прекрасной», и делу был дан ход: в 1911 году станция Куркино была переименована в станцию Куликово Поле[1055]. В этом небольшом, но примечательном эпизоде обращает на себя внимание роль, которая отводится в распространении знаний о прошлом добровольному объединению: Общество ревнителей русского исторического просвещения оказывается «инстанцией», способной взять на себя инициативу пробуждения интереса к прошлому у «массовой аудитории» пассажиров железных дорог. Действительно, активная роль исторических обществ в распространении знаний и формировании представлений о прошлом являлась характерной особенностью исторической культуры дореволюционной России. Следуя принципу, заложенному в основу создания «первого ученого общества империи» – Императорской академии наук, возникшей, в противоположность европейским образцам, как исследовательское и образовательное учреждение одновременно, – просветительские задачи ставили перед собой уже самые ранние российские исторические общества. Первое из известных нам образований такого рода – Вольное историческое для архангелогородских древностей собрание, возникшее в 1759 году, видело свою цель – сбор документов, «прежнюю историю изъясняющих», – в «просвещении граждан полезнейшими знаниями»[1056]. Систематизацией сведений о прошлом России должно было заниматься основанное в 1783 году Екатериной II Историческое собрание, представлявшее собой, по определению В.О. Ключевского, «переходную форму от правительственного учреждения к частному обществу»; «совокупные труды» этого собрания впоследствии предполагалось публиковать[1057]. Цель «приведения в ясность Российской Истории» ставило перед собой основанное в 1804 году при Московском университете Общество истории и древностей российских. Оно намечало задачи «скорейшего и вернейшего» издания русских летописей, а также «обнародование замечаний на всякие нелепые сочинения, до Российской Империи касающиеся»[1058]. Задачей возникшего в 1866 году Русского исторического общества являлись сбор, «обработка» и распространение материалов и документов по отечественной истории[1059]. Вопросы преподавания и теоретического освоения истории обсуждались в исторических обществах при Санкт-Петербургском и Московском университетах[1060]. Рубеж XIX и XX веков ознаменовался новым явлением в развитии исторических обществ, а именно возникновением историко-просветительных объединений, выдвигавших образовательные задачи на первый план и стремившихся сочетать в своей практике научность и массовость. Появление союзов такого рода отражало общую тенденцию активизации культурно-просветительской деятельности ученых обществ, что отмечается как в работах по истории науки, так и в исследованиях добровольных ассоциаций (voluntary associations)[1061]. Одним из первых историко-просветительных обществ было Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III, основанное в 1895 году. Позднее появился еще ряд добровольных объединений «ревнителей» и «любителей» истории, сформировалась сеть военно-исторических кружков, возникли также общества «ознакомления с историческими событиями России» и «любителей старины». В то же время в конце 1880–1890-х годов открываются исторические отделы общеобразовательных обществ – наиболее авторитетными среди них были историческое отделение Педагогического общества при Московском университете и историческая комиссия при учебном отделе Общества по распространению технических знаний[1062]. Некоторые видные историки участвовали в деятельности комиссии по организации домашнего чтения этого же Общества: в создании этой комиссии большую роль сыграл П.Н. Милюков, а под ее скромным названием действовал общероссийский проект по разработке программ самообразования в объемах университетских курсов[1063].
С точки зрения истории культурно-просветительской деятельности новые исторические общества становились частью широкого общественного движения по развитию внешкольного образования[1064]. В то же время для историко-просветительских обществ была характерна более явная политизация деятельности: идентифицировавшиеся как «либеральные» или «консервативные», общества разделялись по их принадлежности к правому или левому политическому лагерю. Идеологическая поляризация историко-просветительских объединений была связана с ростом общественного интереса к изучению прошлого, политизацией истории как профессии и особенностями институционального статуса добровольных ассоциаций. Более существенным фактором, однако, являлась специфика самого исторического знания – его нарративный характер. Ежи Топольски, предложивший в одной из своих теоретических статей модель исторического повествования, подчеркивал наличие в его структуре теоретико-идеологической (определяемой им также в качестве «политической») основы. Последняя, согласно его модели, влияет на «инструментарий убеждения» («риторику») и набор фактической информации в историческом тексте. В структуре «большого нарратива» Топольски выделял элементы «нарративного целого» (narrative wholes) – составляющие его «истории». Становясь частью «большого нарратива», каждая из таких конкретных «историй», согласно его модели, приобретает новые смыслы («every single statement acquires more and more meaning»)[1065].
Идеологическая ориентация историко-просветительских обществ влияла на определение их тематических интересов. В то время как консервативное Общество ревнителей исторического просвещения проводило конкурсы работ об исторической роли Александра III, заслугой которого его руководство считало прекращение реформ («господствовавшей двадцать пять лет смуты»), либеральная историческая комиссия при учебном отделе Общества по распространению технических знаний готовила юбилейное издание «Великая реформа: Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем», призванное подчеркнуть историческое значение начатых отменой крепостного права реформ 1860–1870-х.
Особый институциональной статус «частных обществ» и отсутствие характерных для академических институций корпоративных ограничений позволяли большую, по сравнению с государственными историческими комитетами и комиссиями, свободу в выборе направлений деятельности, и предопределяли бо́льшую «включенность» исторических обществ в динамику общественной и политической жизни. Не являясь академическими учреждениями, частные добровольные исторические общества обладали отмеченной Томасом Сандерсом возможностью «усваивать» политические и социальные интерпретации, отражающие точки зрения различных групп населения империи[1066]. Исторические общества, таким образом, выполняли функцию институтов, в рамках которых формировались конкурирующие нарративы национального прошлого, «транслировавшиеся» затем в практиках исторического просвещения. Парадоксальность ситуации, как показывает в своих работах Ричард Вортман, заключалась в том, что новым и антитрадиционалистским для конца XIX века являлся именно консервативный исторический нарратив, характеризовавшийся отказом от складывавшегося с петровских времен идеала европеизации России и отрицанием этоса либеральных реформ[1067]. Радикальностью «консервативного поворота», предлагавшего под видом возвращения к традиционной идее самодержавия новую концепцию исторического развития России, можно, по-видимому, объяснить факт возникновения в конце XIX – начале XX века целого ряда историко-просветительских обществ консервативной ориентации. Независимо от того, насаждались ли эти общества правительством или создавались по инициативе снизу, они составляли существенный, но остававшийся большей частью «невидимым» для современных исследователей элемент культурно-просветительского движения. Наибольший интерес с этой точки зрения представляет уже упоминавшееся Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III, существовавшее в период с 1895 по 1918 год; анализ его деятельности позволяет поставить вопрос о роли консервативных просветительских обществ в формировании исторического нарратива монархии в последние десятилетия ее существования.
«В понятие об историческом просвещении включается все, что нам нужно…»
Инициатива создания Общества ревнителей принадлежала известному поэту, члену-корреспонденту Академии наук, а с 1895 года – начальнику личной канцелярии вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны графу А.А. Голенищеву-Кутузову[1068]. Он же предложил и название Общества: «Что Вы скажете о названии: “Общество распространения исторического просвещения”? – писал Голенищев-Кутузов будущему бессменному председателю Общества С.Д. Шереметеву. – Было бы очень хорошо, если бы в оном можно было прибавить: “Александровское Общество”. В понятие об историческом просвещении включается все, что нам нужно»[1069]. Как следует из переписки Голенищева-Кутузова с соучредителями Общества (в их число входили будущий министр внутренних дел Д.С. Сипягин, редактор журнала «Церковные Ведомости» протоиерей П.А. Смирнов и ведущий петербургский историк К.Н. Бестужев-Рюмин), а также из подготовленных им документов – устава и «Записки об основаниях и способах деятельности общества ревнителей» – само понятие исторического просвещения формулировалось прежде всего политически[1070]. Общество, задуманное как институт увековечивания памяти Александра III, ставило перед собой задачу «умножения и распространения знаний по отечественной истории в духе русских начал, проявленных в славное царствование в Бозе почившего Государя»[1071]. Ключевая для «ревнителей» концепция «русских начал» основывалась на традиционной уваровской триаде самодержавия, православия и народности, но интерпретировалась ими в контексте более современных взглядов К.П. Победоносцева и Л.А. Тихомирова (последний стал в 1896 году членом Общества). Теория «официальной народности» являлась, по определению Вортмана, «попыткой такого объединения национальных концептов и западных форм, которое позволило бы сохранить миф об императоре-европейце». В отличие от принципа «официальной народности» идеологи самодержавия конца XIX века формулировали идею царской власти как «квинтэссенции национального духа» и подчеркивали «отдельность» русского самодержавия от монархий западноевропейского типа[1072]. В соответствии с таким подходом народность рассматривалась в программных документах «ревнителей» как национальная самобытность, а время правления Александра III – как новый период русской истории, характеризовавшийся проявлением этой самобытности. В «Записке» Голенищева-Кутузова Александр III сравнивался с Иваном III и Петром I. В то время как с Ивана III, говорилось в документе, началась история самодержавия, а с правления Петра I – сближение России с европейским просвещением, Александр III открыл эпоху расцвета русского национального самосознания[1073]. Главным критерием различия между петровскими и александровскими временами провозглашалось отношение к просвещению. В то время как Пётр I начал период усвоения Россией европейского просвещения, утверждалось в «Записке», Александр III завершил его, и русский народ,
претворив в себе все те начала западного просвещения, которые были ему нужны для создания государства, вступил на поприще всемирной истории во всеоружии самостоятельности и самобытности.
Но Александр III, согласно «Записке», сделал только первые шаги в формировании российской самобытности, так же как в свое время Иван III и Пётр I только начали движение в выбранном ими направлении. Однако если для завершения начатого Иваном III и Петром I требовалась государственная деятельность, то продолжать дело Александра III, полагали ревнители, должно общество в широком смысле слова. Такой вывод объяснялся необходимостью деятельности «в области умственной и нравственной, ускользающей от прямого воздействия государственной власти и силы» и требующей участия общественных сил, добровольно и сознательно «сплотившихся под хоругвью русского народного самосознания»[1074]. С инициативой сплочения общественных сил для «мирного завоевания умов и сердец силою просвещения» и выступали ревнители. «Более чем когда-либо желательно сближение русских людей, дорожащих самобытностью и самостоятельностью своего отечества», – писал С.Д. Шереметев Я.И. Шаховскому в марте 1896 года, сообщая о готовящемся первом общем собрании Общества, а Голенищев-Кутузов в письме Шереметеву подчеркивал необходимость придания Обществу характера «союза и притом союза, совершенно частного»[1075].
Присваивая общественным силам ведущую роль в выполнении задач исторического просвещения, консервативно настроенные ревнители парадоксальным образом подвергали сомнению приоритет государства в важнейшей сфере образовательной политики – неудивительно, что в момент появления Общества возникли слухи о его «неблагонадежности»[1076]. Концепция общественных сил у ревнителей была, однако, направлена не против правительства, а против интеллигенции, которая представлялась им носительницей «чуждых идеалов». В серии писем, направленных Шереметевым потенциальным членам Общества, необходимость объединения связывалась с участием «в борьбе с враждебными силами, большею частию сплоченными»[1077]. Историческое просвещение, таким образом, превращалось ревнителями в сферу борьбы «истинно русских» и «антинациональных» общественных сил, а политическая цель Общества формулировалась Голенищевым-Кутузовым в одном из писем следующим образом:
Нужно доказать, не посредством диалектической полемики, а научно, на основании твердых исторических фактов, как дважды два четыре, что космополитизм обманно и притворно поднимает соблазнительное для толпы знамя свободы, призрачность которой обличается всей современной Европой, и что, напротив, торжество и воплощение русской государственной идеи самодержавия, как это блистательно доказало царствование Александра III, только и обеспечивает как всему народу и его совокупности, так и каждой отдельной личности наибольшую долю свободы, спокойствия и благосостояния, какая возможна на земле[1078].
Характерная для такой постановки цели антилиберальная направленность особенно четко формулировалась в оставшейся, по-видимому, неопубликованной статье об Обществе, которая сохранилась в его архивном фонде. В этом недатированном и неподписанном документе распространение исторических знаний рассматривалось в контексте противопоставления консерватизма и либерализма. Изучение прошлого, согласно статье, должно было служить задаче «ограждения» молодежи «от вредных и бессмысленных влияний фальшивого, ничего общего не имеющего с историческими преданиями России либерального направления», а консерватизм характеризовался как «любовь к родине не такой, какая она воображаема в своих умозаключениях, а таковой, какая она на самом деле есть вследствие своего исторического прошлого, характера и религии народа и прочих условий прогресса»[1079]. Прогресс при этом связывался «с развитием тех истин, которыми располагает государственная и народная жизнь страны» – для России ими, с точки зрения автора статьи, являлись православие и самодержавие. Соответственно, в документах ревнителей подчеркивался религиозный аспект их будущей деятельности: «русское историческое просвещение будет в тоже время духовным просвещением вообще», – писал Шереметеву Голенищев-Кутузов во время работы над уставом[1080].
Формулируя идею исторического просвещения прежде всего политически, основатели Общества в то же время связывали ее с идеалом научности. «Научность» предполагала изучение русской истории, и именно эта задача выдвигалась на первый план уставом Общества. Членам объединения предлагалось «собирать и обрабатывать сведения о царствовании императора Александра III», материалы по русской истории, по «соприкасающимся с нею отделами истории всеобщей, а также по церковным, правовым и бытовым вопросам»[1081]. Стремясь укрепить научный статус Общества, инициаторы его создания стремились привлечь к своей деятельности академических ученых (одним из соучредителей, напомним, являлся известный историк К.Н. Бестужев-Рюмин). Как следует из писем А.А. Голенищева-Кутузова, весной 1895 года обсуждалась возможность приглашения в качестве соучредителя В.О. Ключевского; его кандидатура, однако, была найдена «не совсем удобной»[1082]. Первым председателем исторического отделения Общества был избран декан историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета И.В. Помяловский, его преемником стал Н.Д. Чечулин, вступивший в Общество в январе 1896 года; в 1901 году в совет Общества был выбран и С.Ф. Платонов[1083]. Присоединение к Обществу университетских историков усиливало аспект «науки», но не уменьшало удельный вес «политики» в концепции и практике исторического просвещения: modus vivendi сообщества академических историков был насыщен политикой не в меньшей степени, чем деятельность просветительских обществ. Платонов в письме к Шереметеву пишет об осуждении его учебника «левой критикой»; Кизеветтер рассказывает в воспоминаниях о том, как в Московском университете был освистан Ключевский, выступивший с хвалебной речью Александру III[1084]. Более того, как показывает в своем исследовании Томас Сандерс, общественный резонанс и политический смысл приобретают такие специфические для академической практики события, как защиты диссертаций. В качестве примера Т. Сандерс анализирует защиту Н.Д. Чечулина, принявшую характер публичного скандала из-за проявившегося в ходе обсуждения столкновения политических взглядов диссертанта, оппонентов и рецензентов[1085]. Стоит заметить, что защита Чечулина происходила в декабре 1896 года, т. е. в то время, когда он уже стал «ревнителем»[1086]. Повлиял ли этот факт на остроту развернувшейся в ходе защиты полемики? Влияло ли вообще членство в Обществе ревнителей русского исторического просвещения на академический статус его членов? По-видимому, ответ может быть утвердительным: об этом свидетельствует дальнейшая судьба Чечулина. В том же 1896 году он оставил неблагоприятно складывавшуюся университетскую карьеру и перешел на более спокойную, но значительно менее престижную должность помощника библиотекаря Императорской публичной библиотеки. Членство в Обществе ревнителей, где Чечулин возглавлял сначала издательское, а затем, с 1901 по 1915 год, историческое отделение, открыло для него возможность альтернативной научной карьеры и обеспечило поддержку председателя Общества – влиятельного графа Шереметева – в его продвижении по службе в министерстве народного просвещения[1087]. В то же время идентификация с Обществом, открыто подчеркивавшим политический характер своих целей, по-видимому, входила в определенное противоречие с идеалом преданности науке, на котором основывался статус академической элиты. Так, Платонов, выбранный прямо в день своего вступления в Общество членом его совета, спустя всего два года, в ноябре 1903-го, сообщил о своем намерении отказаться от этого поста, причем, как следует из письма чрезвычайно огорченного этим решением Шереметева, поступок был связан с «убеждениями» Платонова и его взглядами «на известную деятельность» Общества и некоторых его членов[1088].
Взаимодействие «науки» и «политики» в вопросе о членстве в Обществе касалось не только историков. В руководство Общества входили такие влиятельные при дворе фигуры, как товарищ министра, а затем и министр внутренних дел Д.С. Сипягин, комендант императорских дворцов П.П. Гессе и церемониймейстер двора князь С.Д. Горчаков. Существовала ли связь между их членством в Обществе и определенной «историзацией» властных практик первых лет XX столетия? Известный историк А.А. Кизеветтер в своих воспоминаниях связывает изменение общего стиля государственной политики с назначением в 1900 году ревнителя Сипягина министром внутренних дел. Саркастическое описание этого явления приводится в его воспоминаниях:
Предоставление поместному дворянству привилегированного положения во всех отраслях государственной жизни и подчинение ему, как руководящему классу, всех остальных слоев и групп населения было объявлено теперь исторической особенностью русского национального жизненного строя. Политике «контрреформ» теперь старались придать характер возвращения к национальным заветам допетровской московской старины… Либеральные бредни были объявлены наносной из чужих земель проказой, а ретроградная политика – русской старозаветной мудростью[1089].
При Сипягине, писал Кизеветтер, вошли в моду «археологические маскарады», на которых «государь появлялся в костюме царя Алексея Михайловича, царская семья, великие князья, придворные чины – в костюмах XVII столетия», а сам Сипягин выступал в виде «ближнего боярина». Как показывает в своем фундаментальном исследовании Ричард Вортман, изменения в стиле репрезентации власти, которые Кизеветтер связывал с периодом министерства Сипягина, начались еще в 1880-х годах: следовательно, ревнители использовали элементы уже сложившегося архаизированного образа монархии[1090]. Придавая этому образу научную легитимность, ревнители укрепляли идеологическую основу консервативной версии монархического нарратива. В то же время постановка задачи изучения «заветов царя-миротворца» позволяла расширять тематический спектр этого нарратива. Этот аспект ученой деятельности ревнителей тонко отметил Чечулин в обращении к историческому отделению Общества:
Различными сторонами своей деятельности покойный государь охватывал всю жизнь русского народа, он явился выразителем извечных его идеалов, и вместе с тем оставил заветы, исполнение которых составляет задачу будущего. Поэтому достойным служением имени покойного Государя будет изучение истории России вообще со всех сторон, лишь бы изучение это было одушевлено любовью к России и истине[1091].
Связывая изучение истории с распространением знаний о прошлом, ревнители ставили перед собой сложную задачу соединения научности и общедоступности.
«Расширять круг лиц, участвующих в Обществе…»
В интерпретации ревнителей принцип общедоступности предполагал прежде всего открытость членства в Обществе. Действительно, в Общество входили на условиях формального равенства историки, журналисты, придворные сановники, чиновники правительственных ведомств, иерархи церкви и многочисленные сельские священники. В 1900 году в Обществе ревнителей было 946 членов, а два года спустя его численность увеличилась до 1166 человек (для сравнения, Императорское русское историческое общество насчитывало в 1912 году 29 действительных и 5 почетных членов)[1092]. Участие в Обществе носило активный характер: каждый из его действительных членов имел возможность «приписаться» к одному из трех отделений – издательскому, историческому или исполнительному (в ведении последнего находились библиотеки Общества) – и тем самым участвовать в его деятельности. С 1897 года началось создание местных отделов Общества – первоначально в Бежецке и Москве, затем, в 1898-м, в Подольске и Серпухове, в 1899-м в Туле и Вильно, в 1900-м в Томске и Тифлисе, в 1902 году в Киеве[1093]. Совет Общества призывал местные отделы «расширять круг лиц, участвующих в Обществе, обращаясь к тем, от которых можно ожидать содействия и сочувствия его целям»[1094]. Кроме того, ревнители стремились к привлечению «литературных сил», не связанных с Обществом организационно. С этой целью первоначально предполагалось учреждать премии за исторические работы, признанные лучшими и «наиболее отвечающими основной задаче общества», а затем, в 1899 году, было принято решение проводить конкурсы «исторических сочинений», посвященных периоду Александра III[1095]. Одновременно Обществом был создан особый фонд для выдачи премии «за составление учебника по русской истории», а его томское отделение объявило об установлении своей собственной премии «за лучший учебник для деревенской школы грамоты в духе русских начал»[1096]. Участие в конкурсах не ограничивалось предварительными условиями, но «правила о премиях» устанавливали критерии оценки конкурсных работ. Представленные сочинения должны были быть «обработаны строго научно, изложены беспристрастно и спокойно, но притом так, чтобы они оказались доступными не только специалистам по известной отрасли знаний, но и широкому кругу читателей». Общество оставляло за собой право издавать награжденные работы в том случае, если они в течение года после конкурса не были опубликованы самим автором. Что более существенно, в правилах оговаривалось «преимущественное право на награждение» для сочинений, в которых разрабатывались бы рекомендованные Обществом темы[1097]. В перечень последних входили прежде всего сюжеты, связанные с биографией Александра III; кроме того, вниманию будущих авторов предлагались вопросы, отражающие политические приоритеты ревнителей, такие как «восстановление и укрепление сословного начала в государственной жизни России» и «религиозная жизнь русского народа». В то же время конкурсная программа Общества включала спектр тем, связанных с изучением социально-политических и культурных аспектов недавнего прошлого, включая развитие народного образования и русского искусства; предлагалась также отдельная тема по истории Сибирской железной дороги[1098].
Были ли конкурсы Общества результативны? Совет Общества признал достойными отличия лишь немногие из представленных на них «сочинений». Награждена была, в частности, книга священника К.Н. Королькова «Жизнь и царствование Императора Александра III» – в 1903 году ее автору была присуждена премия в 500 рублей[1099]. Безрезультатными оказались попытки подготовить учебник истории – ни один из представленных на соискание вариантов не удовлетворил историческое отделение Общества[1100]. В то же время система премий и возможность печатать работы под эгидой Общества ревнителей сделали это объединение центром притяжения для авторов, которых Шереметев определял как «исторических писателей». В их числе заметную часть составляли сельские священники – один из них, C.Д. Поспелов, представил Обществу сразу два своих труда: «Сказание об основании и устройстве Свято-Троицкой женской общины в Тарусском уезде Калужской епархии» и «О миссии русской женщины на почве общественной деятельности в духе православных начал»[1101]. Другой священник, И.И. Темногрудов, поставил издательское отделение Общества в весьма затруднительное положение, прислав свою автобиографию (не представлявшую, как писал в своем отзыве Н.Д. Чечулин, «решительно никакого интереса») и предложив Обществу купить право ее первого издания[1102]. Работы этих авторов не были приняты издательским отделением – система отзывов и рецензий, заимствованная ревнителями из академической практики, действовала в данном случае как механизм регуляции и отбора «историй», из которых складывался охранительный нарратив. Среди тех, чьи работы Общество не допустило к публикации, были, однако, не только неизвестные сельские батюшки, но и придворный историк С.С. Татищев. К Татищеву, написавшему ранее историю царствования Александра II и уже начавшему работать над историей жизни и правления Александра III, обратился в 1898 году с предложением издать его труд от «имени общества» сам его председатель Шереметев[1103]. Но подготовка книги затягивалась, между Шереметевым и Татищевым назревал конфликт, и характер отношений последнего с советом Общества менялся. В 1903 году Шереметев добился предоставления Обществу ревнителей особого права рассматривать и утверждать подготовленные Татищевым рукописи без их дальнейшего «цензирования» [так в тексте] министерством императорского двора[1104]. От отзыва Общества на рукопись Татищева зависела теперь дальнейшая судьба его труда – и отзыв этот, написанный Шереметевым, был отрицательным. В результате Татищеву было разрешено продолжать работу, министерство двора выделило ему щедрое (в 12 000 рублей) вознаграждение за труд, но одновременно поставило в известность о том, что публикация его книги признана «преждевременной»[1105]. В «Известиях» Общества ревнителей, между тем, было напечатано «Предисловие к биографии Императора Александра III», написанное орловским краеведом В.Н. Лясковским, где подчеркивалась важность составления не истории, а биографии Александра III: «Придет пора – история истолкует нам Царя; дело биографии – изобразить человека; эта задача несравненно уже, но зато она исполнима теперь и только теперь…»[1106]. Используя статус частного, но тесно связанного с центральными институтами власти добровольного союза, и манипулируя требованиями научности и общедоступности, ревнители расширяли круг сотрудников Общества, но одновременно строго контролировали состав тех, кто допускался к созданию образа монархии и монарха.
Конкурсные программы Общества и динамика конфликта с Татищевым свидетельствовали о том, что, предлагая изучать правление Александра III как новый период русской истории, ревнители вносили в консервативный нарратив определенный элемент модернизации. Тенденция модернизации проявлялась особенно явно в концепции периодического сборника Общества «Старина и Новизна», в каждом из томов которого должны были затрагиваться также «современные вопросы»[1107]. Отведение специального раздела материалам, связанным с личностью Александра III, еще более увеличивало долю публикаций, связанных с историей недавнего прошлого. Период правления Александра III приобретал черты современности, а само объединение – статус исторического общества, занимавшегося изучением новейшей истории. Укреплению этого статуса служило создание «особого исторического архива общества» для сбора материалов о времени царствования Александра III[1108]. В процессе комплектации архива формировался еще один, значительно более широкий круг участвующих в деятельности Общества. Как следует из списков поступавших документов, часть из них передавалась ревнителям правительственными ведомствами, а некоторые материалы поступали непосредственно от вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны и Николая II[1109]. Бо́льшую часть поступлений, однако, составляли материалы из частных архивов дворянских семей. Именно материалам такого рода отдавалось предпочтение при подготовке сборников «Старины и Новизны». Публикация исторических мемуаров и дневников соответствовала концепции сборника – в нем предполагалось, прежде всего, освещать вопросы «бытовой старины», «истории общественности и культуры» и «умственной жизни русского общества»[1110]. Кроме того, ревнители придавали «национально-воспитательное» значение самому факту издания документов. «В обществе, уже достигшем умственной зрелости, документальное историческое чтение естественно пользуется особенною любовью, и это понятно: в нем общество находит способы наиболее самостоятельного прямого ознакомления с судьбами своей страны», – писали «Известия» ревнителей о первых выпусках «Старины и Новизны». Это «живое знание», утверждалось в обзоре, – «лучшее условие крепкого, здорового консерватизма, для которого прошлое и будущее соединяются с настоящим в одно осмысленное целое»[1111].
Существенным был сам процесс сбора и публикации документов – его участники в той или иной степени становились создателями, персонажами и «читателями» возникающего повествования. В итоге складывалась ситуация, которую Фредерик Корни назвал лучшим сценарием для формирования нарратива, «когда слушатель становится рассказчиком, пересказывая основные элементы основополагающего рассказа»[1112]. Документальность придавала нарративу ревнителей динамизм и эмоциональную напряженность.
Тщательность подготовки и высокий археографический уровень изданий обеспечил «Старине и Новизне» авторитет в ученых кругах. Протоколы советов Общества регулярно отмечают поступление запросов о присылке сборников, исходящих от губернских комиссий и высших учебных заведений; последними, уже в феврале 1917 года, с подобными запросами обратились в Общество библиотека Харьковского университета, Высшие женские богословские курсы и лично ректор Петроградского университета[1113]. Успех сборников превращал их в важный канал популяризации создававшегося ревнителями идеального образа современной монархии, в которой национальная самобытность должна была сочетаться с возрожденным сословным началом, а политическое и культурное лидерство принадлежать дворянству.
Но, с точки зрения ревнителей, задача распространения исторических знаний могла быть решена только при условии, что их удастся донести народу. В марте 1900 года Шереметев писал новому члену совета Общества, начальнику главного управления по делам печати Н.В. Шаховскому:
Наше общество имеет двоякую цель: воздействуя на народ, ради ограждения его от заразы, оно в то же время не только должно заслужить уважение образованного слоя (конечно и лиц противных убеждений), но равномерно стремиться занять такое положение, которое вынудило бы с ним считаться в лучшем значении этого слова![1114]
В свою очередь, Шаховской использовал те же категории – «образованное общество» и «народ» – в докладе совету о главных направлениях практической деятельности ревнителей. Эти направления, по его мнению, должны были включать «издание книг и брошюр для образованного общества и для народа»; «составление библиотек для самообразования и народных»; «основание журналов и газет литературно-политических» и проведение «публичных лекций и народных чтений»[1115]. Фокусом «народных» проектов «ревнителей» стало создание бесплатных библиотек, а идеологически сконструированная категория «народ» трансформировалась в их практике в синоним сословно-окрашенного понятия «крестьянство».
«…Дело, предпринятое нашим обществом в прямое пособие просвещению крестьянства»
Выдвигая задачу создания народных библиотек, ревнители объективно присоединялись к мощному общественному движению, инициированному в 1893 году Санкт-Петербургским комитетом грамотности и захватившему образовательные общества, земства, волостные и сельские крестьянские общины. О размахе движения свидетельствовал быстрый рост числа сельских библиотек: по данным В.П. Вахтерова, их количество, составлявшее в начале 90-х годов XIX века несколько десятков, выросло к 1896 году до 300[1116]. В 1898 году в 34 земских губерниях насчитывалось уже более 3000 народных библиотек, а к 1904 году их число выросло до 4500[1117]. Совет Общества ревнителей исторического просвещения принял решение приступить к учреждению собственных народных библиотек в январе 1897 года[1118]. Согласно статистике Общества, публиковавшейся до 1904 года, в период между 1898 и 1902 годами ревнителями была основана 81 библиотека в 16 губерниях. Почти все они открывались в деревнях – В.Н. Лясковский с воодушевлением писал о библиотеках Общества как о «первом по времени деле», предпринятом Обществом «в прямое пособие просвещению крестьянства»[1119]. Половина из общего числа – 40 библиотек – были открыты в 1898–1899 годах, т. е. в период, когда процесс создания народных библиотек шел особенно интенсивно, и ревнители были его активными участниками. Ведущую роль в этом движении играли, однако, образовательные общества, видевшие в библиотеках средство обновления деревни. В соответствии со взглядами либеральных деятелей народного образования, библиотека, управляемая выборным коллегиальным советом (с участием представителей от земства, местной волости, сельских обществ, просветительских учреждений и читателей), должна была служить очагом того типа социального прогресса, против которого была направлена просветительская концепция ревнителей[1120]. Но, действуя под охранительными лозунгами, ревнители были заняты теми же поисками подходящей для российской деревни формы общедоступных сельских библиотек, что и либеральные идеологи библиотечного движения. И те, и другие ориентировались на грамотных крестьян, «сельскую публику», с характером которой нужно было считаться при издании предназначенной для народных библиотек литературы. Особенности восприятия крестьянских читателей объяснял членам совета Общества председатель его издательского отделения И.П. Хрущов:
В охотниках читать из народа заметно стремление к истории, при этом, как приходится наблюдать, очерк событий исторических не по силам грамотника, не получившего среднего образования; напротив того, историческая личность как средоточие явлений, как живой тип героя или общественного деятеля, привлекает его внимание[1121].
Сельский священник, активист Общества, предлагал использовать любимый народом жанр жизнеописания святых для «изображения попутно» исторического хода «прошлой жизни», в первую очередь «всех важнейших, назидательных, и, следовательно, наиболее ценных в просветительско-воспитательном отношении событий»[1122]. Стремясь «развивать» народного читателя, консервативные ревнители, так же, как и либеральные просветители из комитетов грамотности, пытались противостоять валу увлекавшей крестьян коммерческой литературы[1123]. Так, при обсуждении вопроса о публикации сборников исторических рассказов Общества подчеркивалось: издания, предназначенные для народных библиотек, «должны удовлетворять наиболее высоким запросам этого круга читателей, быть книгой для людей высшей грамотности». Составителям сборников предлагалось обратить главное внимание на удачный выбор материалов и «тщательную их обработку в отношении редакции, которая должна, с одной стороны, устранить все несущественное или недоступное пониманию читателей, а с другой стороны, дать необходимые для них пояснения». Предполагаемый сборник, как считал Хрущов, мог быть «привлекательной книгой» как для того, «кто читает с охотою жития святых и “Училище благочестия”», так и для того, «кто пристрастен к газетам»[1124]. Опубликованные в 1905 в 1907 годах сборники исторических рассказов Общества включали тщательно подготовленные переложения глав из книг С.М. Соловьёва и В.О. Ключевского, а фрагменты сочинений одного из основателей Общества – К.Н. Бестужева-Рюмина – соседствовали в них с отрывками из статей автора совершенно противоположного лагеря – лидера кадетов П.Н. Милюкова[1125].
На этом, однако, сходство между консервативными ревнителями и либеральными «просвещенцами» заканчивалось. Действуя как «общественная сила», ревнители не становились «общественностью»: основывая свои библиотеки, они противопоставляли идее обновления деревни задачу охранения традиционных устоев сельской жизни. Один из вариантов создания библиотек ревнителей был предложен С.А. Рачинским: он советовал открывать библиотеки при церковных школах, передавая надзор за ними местному священнику. Важным обстоятельством Рачинский считал существовавший порядок комплектования церковных библиотек («исключительно в духе Общества», писал он Шереметеву), при котором в них могла попасть книга «посредственная» или «простым читателям недоступная», но не могла проникнуть «книга вредная». Общество ревнителей, по плану Рачинского, должно было пополнять церковные библиотеки книгами не только полезными, но и отвечающими местным нуждам. Так, «в полосах, выселяющих массы переселенцев», он предлагал комплектовать библиотеки Общества книгами о Сибири, о Средней Азии, «о переселенческом деле», а там, «где возникает какой-либо кустарный промысел, дополнять библиотеки книгами, к нему относящимися»[1126]. Другой вариант, разработанный Сипягиным и принятый советом Общества, предполагал не расширение существующих, а создание новых библиотек, право открытия и заведования которыми предоставлялось действительным членам Общества. Заведующие могли также брать на себя расходы по содержанию библиотек, поручая практическую работу в них своим уполномоченным[1127]. На практике план Сипягина передавал значительную часть библиотек в руки членов Общества из числа местных помещиков. При этом, однако, деятельность библиотек строго контролировалась исполнительным отделением Общества, а состав их книжных фондов унифицировался. Одинаковыми во всех библиотеках ревнителей должны были быть не только расходы (утвержденная советом смета отводила на устройство каждой библиотеки 133 рубля 45 копеек), но и подбор книг[1128]. Комплектовать библиотеки разрешалось только изданиями, включенными в каталог Общества ревнителей, составленный «применительно» к каталогу церковно-приходских школ. Предлагавшаяся Рачинским дифференциация исключалась, а заведующим библиотеками не разрешалось пополнять библиотеки по собственному усмотрению даже книгами, одобренными для народных читален министерством народного просвещения и училищным советом при Синоде: «Общество, – подчеркивалось в решении совета, – не может отказаться от проверки тех сочинений, которые предлагаются народу от его имени и под его ответственностью»[1129]. В результате, в 1899 году библиотеки ревнителей могли предложить своим читателям только 151 книгу и три периодических издания – «Досуг и Дело», «Сельский Вестник» и «Троицкие Листки»[1130]. Характерно, что первый раздел каталога библиотек ревнителей отводился книгам «духовно-нравственного содержания». Историческая литература насчитывала чуть более четверти всего состава библиотек и была представлена во втором разделе, называвшемся «история церковная и гражданская». В списке книг этого раздела «История государства Российского» Н.М. Карамзина соседствовала с «Историей Православной Церкви до разделения церквей» К.П. Победоносцева и «Общедоступной военно-исторической хрестоматией» К.К. Абазы, а большую часть раздела составляли рассказы и беседы по истории: «О святых Московских митрополитах Петре и Алексии и о славном Мамаевом побоище», «О Смутном времени на Руси», «О Петре Великом», «О Суворове», «О севастопольцах»[1131]. Новейшая история была представлена в разделе тремя изданиями: брошюрой «Царь-Миротворец Александр III» Д.И. Ломана, сборником рассказов «Примеры из прошлой войны, 1877–1878» Л.М. Чичагова, а также брошюркой «17 октября 1888 года», посвященной спасению царской семьи во время железнодорожной катастрофы. Отдельно, в разделе «География и мироведение», крестьянским читателям предлагалось «Путешествие Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Великого Князя Николая Александровича на Восток в 1890–1891 годах»[1132]. Издания, так или иначе связанные с более современной тематикой, были исключены из библиотек Общества.
Даже при таком ограниченном выборе эти библиотеки привлекали сельских читателей. Основываясь на отчетах, представленных к 1 января 1900 года 20 (из 55 действовавших на этот период) библиотеками Общества, исполнительное отделение сообщало, что с момента создания в библиотеках побывало 9424 читателя, а число выданных книг и повременных изданий достигло 16 592[1133]. Отчеты за следующий, 1901 год, были присланы уже по 29 библиотекам и демонстрировали значительный рост числа как читателей (их количество составило за год 10 795 человек), так и выданной литературы (19 429 изданий). Общество с удовлетворением отмечало, что на долю взрослых читателей, в основном мужчин, приходилось две трети посетителей библиотек, а среди подростков «число мальчиков превышало число девочек весьма немного». Публикуя статистические данные по библиотекам, «Известия» Общества в тоже время обрисовывали тот идеальный тип крестьянского читателя, на которого ориентировались ревнители. Примером может служить заметка о библиотеке княжны Мещерской в селе Хотькове Сычёвского уезда Смоленской губернии: книгами из этой библиотеки, сообщалось в «Известиях», «пользовался крестьянин, занимающийся чтением вслух на посиделках, при чем им было прочитано 12 томов “Истории Государства Российского” Карамзина, 28 книжек журнала “Досуг и Дело”, 20 выпусков “Троицких Листков” и 10 книжек приложения к “Сельскому Вестнику” – “Бог Помощь”»[1134]. Образ крестьянина, получающего от просвещенной помещицы книги, чтобы затем читать на посиделках тома исторических и морализаторских сочинений, вполне соответствовал идеям ревнителей о сельских библиотеках как бастионах защиты традиционного образа жизни деревни и устоявшихся сословных отношений. Проблема, однако, заключалась в том, что такой тип народного читателя исчезал. О появлении «мужика новейшей формации» писал совету Общества заведующий одной из немногих городских библиотек ревнителей в г. Болхове Орловской губернии. Доказывая необходимость открывать библиотеки общества не столько в деревнях, сколько в уездных центрах, он утверждал:
Уездный город очень авторитетен для мужика новейшей формации, патриархальность быта почти исчезла; появился тип шахтера и фабричного, и уличные понятия местных центров приобретают с каждым годом все большее влияние на сельскую жизнь. Теперь все реже попадаются мужики прежнего закала, смотрящие на городскую суету всегда немного сверху вниз[1135].
О том же косвенно свидетельствовали и отчеты библиотек Общества. По их данным, периодические («повременные») издания читались охотнее, чем книги, а среди книг наибольшим спросом пользовались исторические романы А. Толстого, Загоскина и Лажечникова. Чтение книг религиозно-нравственного содержания, сообщалось в отчетах, «приурочивалось большей частью к посту»[1136]. Более того, отчеты фиксировали выражавшееся народными читателями «сожаление об отсутствии ежедневной газеты, из которой своевременно можно было бы узнать о текущих событиях»[1137]. Сторонники консервативного исторического «народовоспитания» оказались перед дилеммой, различные варианты решения которой предлагались уже не советом, а местными активистами Общества. Упоминавшийся ранее заведующий Болховской библиотекой настаивал, что библиотеки ревнителей не должны напоминать «епархиальную библиотеку в миниатюре», и предлагал расширить «беллетристический и исторический отделы», пополнить их «романами лучших писателей», а также обеспечить библиотеки журналами и газетами по выбору совета[1138]. В то же время сельский священник Московской губернии В. Востоков предлагал «восполнить бедность народной исторической литературы корпоративным трудом» священников и учителей: им предлагалось взять на себя организацию популярных религиозно-исторических чтений. Из таких чтений в дальнейшем Востоков надеялся составить общедоступный курс «Русской церковно-народной истории»[1139]. Руководство общества попыталось следовать обоим предложениям: с одной стороны, была создана комиссия по подготовке дополнительного каталога библиотек ревнителей, с другой – дано разрешение на организацию первого народного чтения Общества[1140].
Результаты чтения, проведенного в Бежецке местным священником Иоанном Хильтовым по статье одного из учредителей Общества протоиерея П.А. Смирнова «Завет Царя-Миротворца», оказались впечатляющими – «Известия» Общества сообщали об этом следующим образом:
Чтение это было встречено местным населением очень сочувственно: обширная зала земского дома, могущая вместить более тысячи слушателей, оказалась настолько переполненною, что многие желающие не могли проникнуть в нее. В устройстве народных чтений Отдел встречает сочувственное содействие местной городской управы, которою приобретены фонарь для туманных картин и книги, содержащие предназначенные для прочтения статьи[1141].
Под влиянием успеха Бежецкого отдела Общества еще один, Тульский отдел, предложил организовывать «передвижные систематические чтения по русской истории», а в «Известиях» Общества появился раздел «Опыт народного исторического чтения»[1142]. Идея была поддержана Сипягиным, предложившим разработать правила Общества о бесплатных народных чтениях; в мае 1901 года такие правила были утверждены советом Общества[1143]. В отчете Бежецкого отдела за 1902 год речь шла уже о четырех чтениях на темы: «Об императоре Александре III»; «О церкви Христовой со времен Апостолов до Константина Великого»; «О Суворове» и «О Священном Короновании их Величеств». Отчеты отделов Общества не оставляли сомнения в том, что организация народных чтений контролировалась местным духовенством. В том же Бежецке, где чтениям уделялось особое внимание, ими заведовал о. Хильтов, его помощником был преподаватель Бежецкого духовного училища Н.П. Плотников, а средства на организацию чтений были пожертвованы действительным членом Общества, протоиереем Кронштадтского Андреевского собора о. Иоаном Сергеевым (знаменитым Иоанном Кронштадтским). «Чтения, – сообщалось в отчете отдела, – вызывали столь большой интерес в местном населении, что зал, где они происходили, едва мог вместить всех желающих»[1144]. Характер проведения чтений Общества свидетельствовал, однако, что их организаторы ориентировались уже не на «грамотников», а на неграмотное население деревень и городских окраин. Использование простых, предназначенных для чтения вслух или устного изложения текстов, а также «фонаря для туманных картин» позволяло «изображать» исторические события и не требовало «высшей грамотности». Такая форма народных чтений, сложившаяся в 1880-е годы, когда их организацией занимались преимущественно епархиальные училищные советы, в начале 1900-х уже воспринималась как устаревшая. С принятием в 1901 году новых правил о народных чтениях, определявших последние как одно из средств начального обучения, теоретиками внешкольного образования разрабатывалась уже идея о постепенном превращении народных чтений в научные лекции; такие чтения должны были служить «преддверием к народному университету»[1145].
В то же время устаревшая форма народных чтений, использовавшаяся в практике ревнителей, не только соответствовала охранительным задачам Общества, но и обладала преимуществом массовости. Успех народных чтений стимулировал появление новых практических идей. Одной из них стало предложение организовывать спектакли и представления исторического содержания, «призванные знакомить народ с историческими судьбами его Родины»[1146]. Другая идея была выдвинута Тифлисским отделом Общества, предлагавшим использовать читальни-витрины, устанавливаемые в оградах церквей и «местах наиболее людных и посещаемых массою народа». Особое значение придавалось их использованию в сектантских селениях и поселках русских крестьян-переселенцев.
Такие библиотеки в среде новоселов, перешедших от обычной обстановки русской деревни к условиям еще очень мало знакомой им стороны служили бы им нравственною связью с родиною и поддержкой в новом их положении в крае, не всегда на первых порах гостеприимно встречающем этих истинных проводников русских задач», —
полагали руководители тифлисского отдела[1147]. В ряд этих предложений логически вписывалось и упомянутое в начале статьи обращение в совет Общества с предложением использовать название станции для пробуждения народного интереса к историческому прошлому. Открытие ревнителями потенциала визуализации и новых способов использования давно известных средств, позволяющее сделать историческое просвещение массовым, не осталось незамеченным. В протоколах совета Общества за январь 1912 года отмечено слушание письма от земского начальника Богучарского уезда Воронежской губернии Ждановича «о возможной помощи со стороны общества в историко-патриотическом просвещении местного населения»[1148].
Разрабатывая новые практики исторического просвещения, ревнители расширяли и разнообразили «инструментарий убеждения» консервативного исторического нарратива. Проблема заключалась в том, что, тщательно выстраивая охранительный нарратив и конструируя образ идеальной сословной монархии в годы, когда реальная монархия находилась на по роге краха, ревнители создавали иллюзию, «оградить» которую они не могли при всем разнообразии освоенных ими средств.
Заключение
Общество ревнителей русского исторического просвещения было не единственным, но, как писал позднее Шереметев, «старейшим по времени» консервативным историко-просветительским обществом[1149]. Подобные объединения, возникавшие в последующие годы, как правило, ставили перед собой более конкретные задачи. Русское военно-историческое общество видело свою цель в организации библиотек в воинских частях, упорядочении военных архивов и проведении раскопок на полях сражений[1150]. Общество ознакомления с историческими событиями России «содействовало» постановке спектаклей исторического содержания и первым попыталось начать практику «изготовления исторических кинемо-картин»[1151]. Общество ревнителей истории, появившееся через пятнадцать лет после основания Общества ревнителей русского исторического просвещения, занималось организацией выставок, а позднее – созданием народного военно-исторического музея[1152]. Эти общества, за редким исключением, скорее соперничали, чем сотрудничали между собой. Тем не менее для всех этих обществ была характерна постановка задачи научного просвещения масс. Ставя своей целью распространение исторических знаний, консервативные просветители не в меньшей степени, чем их либеральные соперники, становились частью явления культурной модернизации, модерности (modernity), характерного для России на рубеже веков. Дэвид Хоффман в статье, посвященной анализу модерности как явления общеевропейской и русской истории, отмечал в качестве главного ее признака «рационалистический этос прогрессивного социального вмешательства». Модерность, согласно такому подходу, характеризуется абсолютизацией научности как основополагающей нормы деятельности общественных институтов и одновременно возникновением массовой политики, а следствием взаимодействия научности и массовости становится «изобретение традиции»[1153]. Консервативные историко-просветительские общества, создававшие в своей деятельности репертуар практик исторического просвещения и искусно манипулировавшие самим этим понятием, играли важную роль в «изобретении традиции», поддерживающей и одновременно изменяющей образ монархии последних лет ее существования.
Раздел III Историческое воображение
Е.А. Вишленкова Прошлое показанное (вторая половина XVIII – первая четверть XIX века)
Рассматривая исторические полотна отечественных мастеров XVIII – начала XIX века, современный зритель, как правило, испытывает не удовольствие, а недоумение и непонимание. Собственно, такие же ощущения были и у зрителей в начале XX столетия. В 1910 году Игорь Грабарь писал о восприятии этих картин так: «русские воины, полководцы и цари одеты в какие-то полуфантастические костюмы “героев”, как их вообще понимали в XVIII столетии»[1154]. Сегодня, вглядываясь в монументальные полотна А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмова, А.Е. Егорова, В.К. Сазонова и других членов художественного «цеха», невольно хочется спросить, а точно ли эти художники имели в виду Древнюю Русь и Московию, а не Древнюю Грецию? И с тогдашними гравюрами то же самое. Глядя на них, закрадывается сомнение: неужели и впрямь древнерусские князья были так похожи на западных королей, а русские богатыри на субтильных странствующих рыцарей с копьем? И если это так, то почему их сейчас изображают совершенно иначе?
Несмотря на оттенок «школярства», такие вопросы – ключ к пониманию культуры исторического мышления рассматриваемой эпохи. Ответы на них требуют реконструкции представлений современников о собственном прошлом и изучения характерных для них норм показа и восприятия «своей» истории.
Дело в том, что современники не видели в картинах Угрюмова и Лосенко фальши. Об этом свидетельствуют отзывы вдумчивого критика отечественной живописи того времени В.И. Григоровича. Именно он назвал А.П. Лосенко основателем национальной художественной школы. И это несмотря на то, что древнерусские персонажи его картин (их позы, одежды и даже природное окружение) неотличимы от изображений античных богов и героев. И рассуждая об исторической картине, за которую в 1797 году Угрюмов получил звание академика, Григорович знал, что она
представляет богатыря Русского… Смотря на него, видишь, что художник учился с Геркулеса Фарнезского. Для модели он употребил татарина Юзея, который имел удивительную маскулатуру и который, по совету Угрюмова, был принят в Академию натурщиком[1155].
Видимо, современники не испытывали неловкости от того, что их мастера кисти используют симбиоз античности и «азиатскости» (которую воплощали татары в костюмных альбомах) для показа древней «русскости». Тот же Григорович уверял, что в исторических полотнах Угрюмова «фигуры нарисованы правильно, характеры верны, выражение естественно»[1156].
В начале XX века А. Бенуа поражала возможность такого восприятия этих картин. С высоты столетия в творчестве мастеров XVIII века ему виделось лишь школьное прилежание и слепая вера в непререкаемость западной эстетики. «В начале XIX века всех этих художников считали за “русскую школу живописи”, – сообщал он своим читателям, – и находились патриотические энтузиасты, думавшие, что ими возвеличится Россия перед Западом. Но это было наивной ошибкой»[1157].
Сами художники объясняли силу своего влияния на современников либо божественным даром, либо извечным доверием человека к изображению[1158]. Сегодня подобное объяснение уже не может убедить или удовлетворить историка. Исследования показали, что каждый акт эстетического усвоения состоит из комбинации определенных когнитивных процедур. Он включает в себя изучение объекта, его оценку, отбор существенных черт, сопоставление со следами памяти, их анализ и организацию в целостный образ, который в дальнейшем тяготеет к упрощению[1159]. Это универсальные, или вневременные, свойства визуального восприятия. Но в нем есть еще и изменчивая часть, которая связана с социальными и эстетическими конвенциями эпохи. Их анализ влечет за собой реконструкцию историко-культурных особенностей производства и потребления визуальных образов.
С точки зрения упаковки и репрезентации прошлое может быть «рассказанным» или «показанным». И если история как производство нарративов давно является объектом научного изучения, то художественные образы прошлого долгое время находились на пограничье интересов искусствоведов и историков. Пожалуй, только с развитием визуальных исследований (т. е. с конца 1980-х годов) началось осмысление человека в истории сквозь призму его визуальной культуры и были предприняты попытки проследить участие его зрения в процессе осознания окружающего мира и себя в нем[1160].
Признав, что в культурных реалиях Российской империи (прежде всего при низком уровне грамотности) большинство ее подданных должны были быть визуально ориентированными реципиентами, ряд историков-русистов сделали мир визуального главным объектом своих штудий. И это дало позитивные результаты. Благодаря новому подходу К. Фрайерсон выявила варианты имперской и национальной самости в текстах икон и визуальных образах крестьянского мира[1161], а Е.И. Кириченко, К. Эли и С. Норрис обнаружили и ввели в научный оборот их «каменные» и «графические» версии, прописанные в архитектуре, пейзажной живописи и военном лубке[1162]. А после выхода русского перевода книги Р. Уортмана[1163] изучение репрезентаций и церемониальных сценариев власти превратилось в автономное направление в русистике[1164].
«Показанная российская история», а также способы ее изготовления и потребления еще не стали предметом активного изучения в визуальных исследованиях[1165]. А потому произведения на исторические темы, созданные художниками XVIII – начала XIX века, продолжают рассматриваться либо как таинственные письмена, либо как художественный «наив». Желая внести вклад в разработку данной темы, я сосредоточила внимание на анализе социальных договоров относительно того, как надо видеть и изображать российское прошлое. В данной статье художественные произведения рассматриваются и как реализация индивидуального воображения на темы отечественной истории, и как продукт коллективного творчества по ее созданию.
Я полагаю, что специфика изучаемых источников (живописных полотен, портретов, гравюр, росписи на декоративно-прикладных изделиях) и текстов (литературных программ для художников, учебников рисования, критических статей о художественных выставках) позволяет выявлять смыслы, которые в исследуемое время не были «отлиты» в вербальные категории и понятия, а также те версии прошлого, которые были вытеснены из исторической памяти в результате победы какого-то одного из вариантов. Благодаря такому подходу появляется возможность вывести изучение становления исторической культуры в России за пределы парадигмы поступательной эволюции.
Воображаемые образы далекого прошлого
В документах, регулирующих деятельность Императорской академии художеств, верховная власть требовала от ее педагогов и воспитанников «государственной пользы». И при каждом удобном случае Академия уверяла правительство в своей полезности. Поощряя художества, науку, литературное творчество, власть рассчитывала на благодарность облагодетельствованных служителей искусств и возлагала надежду на их участие в символической репрезентации Российской империи.
А в общественном сознании исследуемого времени «польза художеств» увязывалась с просветительскими задачами: «Искусства, – писал издатель «Журнала изящных искусств» В.И. Григорович, – в состоянии не только льстить нашим чувствам и пленять сердце, но вести нас к высокой цели – к нравственности, путем, усеянным цветами»[1166]. Указывая на силу воздействия зрительных образов на человеческое сознание, современники говорили о необходимости иметь не только правительственные, но и общественные заказы на художества[1167].
По примеру западных держав они обрели форму «программ» для ежегодных конкурсов художников, состояли из формулировок тем и их литературного описания. Многие из них придумывали сами профессора и президенты Академии, но историческая тематика была, по преимуществу, прерогативой верховной власти. Именно она заказывала и она же выкупала монументальные полотна на исторические сюжеты. Известно, что Екатерина II пожелала показать современникам подвиги Александра Невского, а Павел I хотел увидеть покорение Казани и сцену возведения Михаила Фёдоровича на царство (картины для Михайловского замка). «Победа Петра над турками» (1763), «Рюрик, Синеус и Трувор» (1766), «Крещение святой Ольги» (1768) – такие «программы» позволяли власти вписывать прошлое Российской империи в контекст мировой и, шире, священной истории.
Однако это стремление приводило к нивелированию культурных отличий и, как следствие, к демонстрации вторичности. На созданной в царствование Екатерины I графической версии генеалогического древа царствующего рода великие князья Древней Руси предстали универсальными типажами из европейских хроник, точной копией западных правителей[1168]. Чувствительный к такой подмене М.В. Ломоносов предложил Академии наук заняться созданием аутентичных образов отечественных правителей. В 1760 году он направил в академическую канцелярию записку «О посылке в древние столичные государственные и владетельных князей городы для собирания российской иконологии бывших в России государей»[1169]. Исполнителям сего проекта предстояло скопировать образы русских правителей с церковных и монастырских фресок и рукописных книг Новгорода, Твери, Москвы, Переславля-Залеского, Ростова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Мурома, Суздаля, Владимира, Переяславля-Рязанского, Чернигова, Киева, Смоленска и Пскова. Так могли быть собраны уникальные историко-художественные свидетельства для созидания национальной истории, но тогда такой проект еще не был актуальным.
Для «русских» саморепрезентаций Екатерины II и придворных театральных постановок французский график Ж.-Б. Лепренс создал сюиту гравюр с образами стрельцов[1170]. Западным покупателям художник объяснил, что
стрельцы – это старинное, вооруженное огнестрельным оружием войско России вплоть до времени Петра Первого, которое исчезло по причине мятежей. Их обмундирование дает представление о старинном костюме этого народа и его старинных традициях, еще бытующих на основной части Империи.
Всего в сюите семь гравюр, на которых тщательно прописано одеяние следующих чинов: «Colonel du Corps» (полковник войска), «Commendant du Corps» (капитан войска), «Lieutenant Colonel du Corps» (полуполковник войска), «Soldat du Corps» (солдат войска), «Tambour des Strelits» (стрелецкий барабанщик), «Ecrivain de la Chancellerie» (писарь в канцелярии), «Boureau du Corps des Strelits» (палач стрелецкого войска). Такие исторические образы служили удовлетворению интеллектуального любопытства просвещенных современников и одновременно представляли собой готовые образцы для сценических костюмов.
Естественно, что прибывший в Россию в 1758 году по приглашению И.И. Шувалова Лепренс не мог встречаться со стрельцами и видеть их воочию. Такая категория служилых людей официально исчезла из российской стратификации после указа Петра I 1701 года. Разгневанный вмешательством стрельцов в дела царской семьи, император повелел переименовать их в «пешие казаки»[1171]. С большой долей вероятности можно предположить, что данные персонажи были созданы художником на основе костюмов и оружия, хранящихся в Оружейной палате. Таким образом, в других условиях и для других целей был реализован ломоносовский принцип исторической документальности художественного образа.
Сама проблематизация отечественной истории в среде политических элит, по всей видимости, была связана с углублением процессов европеизации. Стремление обрести статус представителей «политичной нации» (т. е. рационально описанной и участвующей в принятии мировых судьбоносных решений), добиться высокого места на цивилизационной шкале стимулировало желание обрести национальную генеалогию. С наступлением эпохи классицизма источником символического материала для ее созидания стала служить Античность, вернее, – комплекс идей, ценностей и образов, который с ней ассоциировался. Используя ее аллегории и мифологию, протагонисты Просвещения переводили воспоминания и свидетельства отечественного прошлого на язык универсальной европейской культуры. Помощь в этом им оказывали словари символов, инструкции медальерам и рисовальщикам аллегорических виньеток.
Данные издания были весьма популярны в Европе XVI–XVIII веков. Они составлялись из древнехристианской и средневековой символики, сказок физиологов или бестиариев (василиск, феникс, сирена, петух, лев, орел, лиса), а также аллегорических фигур и антропоморфных символов отвлеченных понятий, заимствованных из античного искусства (Добродетель, Злоба, Порок, Вражда, Кротость и прочие с соответствующими атрибутами). В гравированных справочниках можно было встретить и фигуры из античной мифологии (Амур, Венера, Минерва, Геркулес и др.). Таким образом, это были своего рода европейские справочники, зафиксировавшие соглашения о семантике визуальных символов.
Для воплощения фантазий о прошлом в визуальные или поэтические образы российские интеллектуалы пользовались альбомом «Символы и эмблемата» (первое амстердамское издание Генриха Ветстейна, 1705)[1172]. Он состоял из 840 гравированных на меди изображений, расположенных по шесть на 140 листах с объяснительным текстом на восьми языках. Для нескольких поколений художников альбом служил своего рода словарем для перевода, а для зрителей – также и толкователем художественных произведений. Во вводных статьях к переизданиям 1788 и 1811 годов Н.М. Албодик разъяснял, как следует пользоваться содержащимися в нем сведениями и изображать такие отвлеченные понятия, как «вера», «слава», «смелость» и пр.
Во времена Екатерины Великой с помощью «Символов и эмблемат» планировалось создать визуальный рассказ о прошлом Российской империи, представив в медалях славные деяния императоров XVIII века. «Цель изобразить в медалях все достопамятные происшествия русской истории, – писал об этом проекте А.А. Писарев, – есть цель мудрая и преполезная. Во-первых, собрание таковых медалей есть прочнейший памятник всего собывшего; во-вторых, с большею пользою и с приятностию можно по оным обучать детей истории, которая без такого разнообразия часто бывает для них наукою скучною и незатверженною»[1173]. К тому же с медалей можно было копировать
изображения существ вымышленных, то есть дать свойственные черты и наготу нравственной добродетели, или одеть пристойно какие либо страсти… скорее можно понять всю одежду древних, обычаи, обряды, даже самое правописание, нежели по многим скучным и длинным примечаниям на древних писателей[1174].
Словом, на медальерные изображения возлагались большие надежды в деле объяснения и обучения.
В восьми томах отчетов медальерного комитета, вместе с остальной библиотекой князя Потёмкина хранящихся ныне в Отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки Казанского университета, запечатлелись представления современников об истории и способах ее аллегорического описания[1175]. Из близкого прошлого члены комитета выделили важные для империи даты и деяния (среди них – военные победы и основание просветительских учреждений), продумали, в какие символы эти деяния можно закодировать. Созданную таким образом литературную «программу» передавали художнику-медальеру и получали от него эскиз для последующей отливки или чеканки изображения в металле. На этой стадии проект замер[1176].
Наступивший век XIX не изменил тематических предпочтений власти, но усилил ее стремление к монументальности. Протокол большого собрания Академии художеств за декабрь 1802 года гласит:
…для прославления отечественных достопамятных мужей и происшествий найдены наипаче достойными произведения художества, скульптуры князя Пожарского, Кузьмы Минина, Филарета Никитича, князя Меншикова, князя Голицына, князя Долгорукова; для живописи: крещение Владимира, побоище Мамаево, пришествие Рюрика, свержение ига татарского, опыт любви к отечеству Петра Великаго под Прутом[1177].
Итак, теперь не медали, а монументальная скульптура должна была показать славных сынов Отечества, а живопись – их деяния. Эти пожелания были сформулированы задолго до всплеска военного патриотизма. Материализуя национальных героев и словно бы расставляя их в пространстве империи, верховная власть вводила прошлое в настоящее и историцизировала пространство имперских столиц.
На выполнение этого заказа у Академии ушло несколько лет. В 1804 году И.П. Мартос приступил к работе над моделью монумента, украшающего ныне Красную площадь Москвы. Этому памятнику было суждено стать главным символом эпохи – союз Минина и Пожарского олицетворял единство сословий перед лицом войны, союз единоземцев в деле спасения Отечества. Античные и былинные символы славы и достоинства, могущества и непобедимости воплотились в нем в качестве равноправных, но соревнующихся начал.
Скульптор прибег к ампирному решению важнейших символических деталей монумента: меч, шлем и щит покрыты богатым декором. Как и в «Клятве Горациев» Ж.-Л. Давида, меч играл в монументе И.П. Мартоса значение высокого символа. «Меч соединяет группу, – писал Н.Ф. Кошанский, – и показывает единство великих чувств и намерений»[1178]. Он был точной копией оружия с колонны Траяна, а вот шишак был скопирован со шлема из Оружейной палаты. Это объединение Древнего Рима и средневековой Руси отвечало двойственности восприятия национального героя – крестника Римской империи и Золотой орды. Да и война, героем которой он был, представала одновременно и античным соревнованием, и русским побоищем, кровавой ратью.
И поскольку борьба ополчения под руководством Минина и Пожарского воспринималась как прототип войны, ожидавшей Россию, возвеличивание деяний по спасению государства должно было утвердить в сознании россиян необходимость жертвы. В 1808 году аналог памятнику Минину и Пожарскому предполагалось установить еще и в Нижнем Новгороде[1179].
Другим «местом национальной памяти» стал образ Дмитрия Донского – освободителя Руси от монгольского нашествия. Драматическими и литературными произведениями он был возведен в категорию метафоры. На подмостках сцен и на страницах книг современники размышляли в связи с ним над природой воинского подвига. Варианты предлагались разные. Так, в одноименной трагедии В.А. Озерова Дмитрий Донской побеждает татарского князя из любви к дочери Тверского князя Ксении, что, с точки зрения П.А. Вяземского и сторонников Г.Р. Державина, принижало историческое значение великого князя. В основе его подвига, по их мнению, лежал долг. Но когда в 1805 году совет Академии художеств задал воспитанникам исторического, живописного и скульптурного классов программу «Дмитрий Донской на Куликовом поле», его победители воплотили те же доминирующие в восприятии Дмитрия Донского идеи-символы. Не долг, а любовь движет героем. Больших золотых медалей на конкурсе были удостоены созданные на этот сюжет скульптурные произведения И.З. Кащенкова и И.И. Воротилова, а также живописное полотно О.А. Кипренского «Дмитрий Донской по одержанию победы над Мамаем». Среди персонажей картины далеко не случайно выделен женский образ, очевидно, Евдокии (жены московского государя).
Наряду с образом героя Куликовской битвы в культурной памяти лепился образ героя Ледового побоища, защитника православной Руси от нашествия католических рыцарей – Александра Невского. Над его воплощением в скульптуре С.С. Пименов начал работать с 1807 года. Впоследствии монумент был установлен в северном портике Казанского собора. Специально занимавшийся этим вопросом Ф.Б. Шенк отмечал, что до конца XVIII века в российском сознании сосуществовали два различных образа Александра Невского: первый – святой чудотворец и монах, второй – прославленный князь и великий предок царской семьи. В начале XIX столетия к ним добавился третий образ: Александр Невский превратился в исторического деятеля, который не только защищал русское государство от захватчиков, но и оборонял русскую народность, русский быт и православную веру[1180].
Кисти Г.И. Угрюмова принадлежит полотно «Торжество въезда Александра Невского в Псков». Кроме того, сохранилось описание картины «Образ Святаго Благоверного Князя Александра Невского», выполненной несколькими годами позже его учеником Егоровым. «Александр, – рассказывал современникам Григорович, – представлен в латах и Княжеской порфире, стоящим; в правой руке держит он копие, а левою поддерживает край своей порфиры; у ног его лежат щит и шлем; с левой стороны сзади, на столе, покрытом бархатною пеленою, положена на подушке Княжеская корона, далее колонна и занавес; пол мраморный»[1181]. Здесь явно доминировал генеалогический мотив.
В 1808 году вернувшийся из Италии В.И. Демут-Малиновский создал колоссальную статую святого Андрея для Казанского собора. Как проницательно заметил И. Грабарь,
святой Мартоса смотрит гордым античным воином, святой Демута – добродушным русским крестьянином. Понятно, что это тип только относительно русский, как русским кажется стиль Карамзина или патриотические картины Шебуева[1182].
По всей видимости, в представлении верховной власти и определенного сегмента российских элит рубежа XVIII–XIX веков история была фронтально развернутой сценой, на которой совершались главные и второстепенные с точки зрения значений деяния. «Ампир – последний стиль, который хотел остановить бег времени, – считает историк искусства Александровской эпохи В.С. Турчин. – …Наступившая затем эклектика явилась калейдоскопом эпох, создавая иную картину бытия, и в этом кажущемся хаосе могла появиться концепция нового времени: показать смену времен в структуре художественной формы»[1183].
История излагалась аллегорически – как иллюстрация и назидание, структурировалась как сборник морально-басенных рассказов, ее нарратив создавался из вербальных и визуальных символов, которые были тесно связаны. Даже об «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина П.Я. Чаадаев отзывался так: «Живописность его пера необычайна: в истории же России это главное дело; мысль разрушила бы нашу историю, кистью одною можно ее создать»[1184]. При всей экстравагантности данного суждения Карамзин мог бы согласиться со специфическим способом построения нарратива российского прошлого. Во всяком случае, еще до того, как стал официальным историографом, он писал:
Нам, русским, еще более труда, нежели другим. Француз, прочитав Монтаня, Паскаля, 5 или 6 авторов века Людовика XIV, Вольтера, Руссо, Томаса, Маронтеля, может совершенно узнать язык свой во всех формах; но мы, прочитав множество церковных и светских книг, соберем только материальное или словесное богатство языка, которое ожидает души и красок от художника[1185].
Образность виделась ему ведущим способом описания жизни российского государства.
Но если политической власти определиться с художественными желаниями и формами их реализации было довольно легко, то сформулировать общественный заказ на коллективное прошлое оказалось непросто. Европеизация породила новые идентификационные явления в среде отечественных элит: адаптацию конструктов патриотизма, гражданственности, отечественной добродетели и других составляющих глобального просветительского проекта. Насытившись этим, «мы среди блеска просвещения нами приобретенного, – признавался В. Измайлов, – можем без стыда заглянуть под мрачную сень древности, скрывающую наших добрых предков, и у них научиться народному духу, патриотической гордости, домашним добродетелям и первому физическому воспитанию»[1186].
В последнюю треть XVIII века познание прошлого стало рассматриваться как проявление любви к Отечеству. Оно вышло за пределы государственных ведомств и обрело форму общественной инициативы. Находками местных любителей истории, пересказывающих легенды, сказания и выявленные письменные тексты, наполнились страницы столичных изданий. Примером такой инициативы могут служить чиновники торговой палаты В.В. Крестинин и В.А. Фомин, создавшие в 1760-е годы в Архангельске «Общество для исторических исследований». Оно просуществовало почти десять лет и собрало ценную коллекцию документов[1187].
Крупные и мелкие чиновники различных присутственных мест, духовные особы, «любители наук» собирали летописи, записывали пословицы, издавали сборники песен и сказок. Благодаря им Россия включилась в общеевропейский процесс «открытия фольклора», что в свою очередь знаменовало начало эры романтического национализма[1188]. Один из его идеологов, веймарский философ И.Г. Гердер, уверял единомышленников, что всеобщая история состоит из жизней различных наций, ранний период которых отражен в песенном и устном народном творчестве сельских жителей[1189].
Адаптация этих идей привела к признанию и росту культурной значимости русского фольклора в рамках «высокой» культуры. Так, если в 1780 году В. Левшин публиковал сказки для их сохранения и в подражание французам и немцам, а в 1792 году М. Попов издавал «Русскую эрату» как источник знаний о древних русских и о периоде их дохристианской жизни, то в 1805 году В. Львов утверждал, что народные песни – это ключ к пониманию национального характера, дающий доступ к самой сердцевине «русскости»[1190], а в 1809 году В. Измайлов призывал соотечественников объединиться для сотворения устного народного творчества[1191]. Откликнувшиеся на этот призыв любители старины пытались экстрагировать положительную традицию («русскую историю») из материала собранных фольклорных коллекций. Соответственно, былинам, песням, пословицам и поговоркам придавалось значение достоверных исторических свидетельств. Так, опровергая суждения французского историка Н.Г. Леклерка о низкой ценности жизни и рабском сознании русских[1192], И.Н. Болтин утверждал, что их отношение к жизни определяется «вкорененной в них мыслью, что чему быть, тому не миновать»[1193].
Одновременно с этим отечественные интеллектуалы начали отстаивать прерогативу россиян писать о русской истории:
Не зная о правоте, о твердости душ наших предков; не хотя или не умея видеть основательности, здравомыслия и прочих похвальных их дел: могли ли иноплеменники судить о Русской старине[1194].
Сама «русская история» стала осмысляться в качестве объекта заботы, которую и познать надо изнутри, и использовать для внутренних нужд: «Душа душу знает. Свои ближе к своим, и потому лучше высмотрят, что для них полезно»[1195]. И если это так, то к историческим свидетельствам и трудам иностранцев следовало относиться как к вызову, а не как к приговору[1196].
Увлечение фольклором привело к тому, что элиты стали иначе оценивать свою отстраненность от простонародной культуры. Если в первой половине XVIII столетия отход от нее ставился в заслугу дворянству, то в Павловскую и Александровскую эпохи удаленность элит от низовой культуры стала осознаваться как искажение, отступление от естественного развития и даже как национальное предательство[1197].
Так в общих чертах можно описать тот контекст, в котором происходило развитие интереса к национальному и государственному прошлому. Рост внимания к минувшему проявился, в том числе, в заказах, которые патриоты стали формулировать для художников. Сначала речь в них шла о необходимости создать «храм», или сонм, отечественных героев. К такой идее российский читатель был подготовлен чтением западных трактатов. Один из них, «Храм всеобщего Баснословия, или Баснословная история о богах египетских, греческих, латинских и других народов», переведенный с латинского языка сначала И. Виноградовым, а затем П. Рейпольским, выдержал несколько переизданий[1198]. Более узкий круг интеллектуалов читал французский оригинал книги «Храм благочестия, или избранные черты из житий святых и деяния добродетельных мужей и жен, прославившихся в христианстве»[1199].
Видимо, инициатива создания российского легендария зародилась и исходила от круга участников Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (ВОЛСНХ)[1200]. Эта организация была создана группой молодых интеллектуалов в 1801 году, получила высочайшее утверждение в 1803 году, а прекратила свою деятельность в 1826 году. Многие писатели Александровской эпохи являлись его членами или были связаны с ним. В его заседаниях принимали участие представители провинциальных культурных центров, а также целый ряд российских ученых и художников. Воспитанников Академии художеств в него привел кружок «остенистов», созданный А.Х. Востоковым (Остенеком) – будущим основателем отечественного славяноведения[1201]. Примечательно, что многие участники данного кружка впоследствии обрели славу создателей русской живописи, пейзажа, карикатуры и скульптуры, т. е. прославились национальными художественными проектами. Среди них – Е.М. Корнеев, И.И. Теребенёв, И.А. Иванов, С.И. Гальберг, Ф.Ф. Репин[1202]. Свое право на заказ художественного прошлого любители изящного аргументировали заботой о просвещении соотечественников – всех тех, кого Академия исключала из поля художественных отношений.
Пытаясь компенсировать отсутствие вербального нарратива отечественного прошлого, а также установить преемственность военных доблестей и славы, члены Общества поручили художникам построение виртуального храма, наполненного памятниками благочестивым и мужественным героям Отечества. Примером тому – трактат Павла Львова «Храм славы российских Ироев от времен Гостомысла до царствования Романовых»[1203]. Фрагменты из него автор начал печатать еще в 1801 году. Тогда в журнале «Ипокрена» он дал описание памятников Долгорукому, Суворову и Пожарскому, а в 1802 году в «Новостях русской литературы» появились описания памятников графу Румянцеву-Задунайскому, князю Потёмкину-Таврическому и Ломоносову. Физически в ландшафте российских столиц все они появятся позже, но задолго до их материализации образы отечественных героев поселились в воображении современников.
Львов призывал создать художественную проекцию социально желаемого прошлого, которая бы питала патриотические чувства в соотечественниках. В его версии Отечество представлялось сакральным объектом, требующим поклонения и защиты. Соответственно, «русские люди» виделись союзом богатырей, охраняющих божество. А в сонм святых включались те, кто воинским подвигом доказал ему особую преданность и верность, за что им полагалось бессмертие и «искусственное» тело.
А на следующий год альтернативную программу для художников издал другой участник ВОЛСНХ, А.А. Писарев[1204]. В отличие от Львова, он призывал воплощать национальный подвиг не в аллегорических фигурах, а создавать натуралистические тела отечественных героев. И поскольку это требовало от создателей изучения исторических свидетельств, «программа» включала выдержки из летописей и исторических сочинений. Радикально отступив от учебных указаний Академии художеств и ссылаясь на Винкельмана, А.А. Писарев уверял, что в идеале «надобно, чтобы зритель не по Истории узнавал содержание художественного произведения [т. е. догадывался о значении его символов и аллегорий. – Е.В.]; но чтобы оное само напоминало [показывало. – Е.В.] ему историческое событие»[1205].
По всей видимости, изучение фольклора и интерес к доимперскому прошлому тогда еще не породили восприятия истории как судьбы нации. Изданные в начале XIX века программы свидетельствуют о желании авторов показать участие России в цивилизационном процессе и представить пройденный ею путь в историческом времени. При этом само прошлое виделось статичной панорамой, вмещающей принципиально разновременные события и мало связанных между собой героев.
Технологии материализации фантазий
Художникам предстояло перевести фантазии и вербально сформулированные представления соотечественников на язык визуальных образов. Соответственно полученный результат зависел от технологий такого эстетического перевода и имевшихся в их распоряжении языковых средств.
Вплоть до открытия Академии живописи, ваяния и зодчества (трех знатнейших искусств) искусству изображать учили в паре «учитель – ученик». В связи с этим о художественном методе отечественные искусствоведы считают уместным говорить лишь применительно ко второй половине XVIII столетия. Учреждение Академии институционально закрепило обучение будущего художника у нескольких, а в идеале у всех живописных дел мастеров, служащих в ней. Поскольку подавляющая их часть были приглашенными на российскую службу иностранцами и поскольку существовала практика зарубежного пенсионерства, то западные художественные конвенции быстро проникли и утвердились в среде российских элит. Впрочем, так как эти соглашения не были фиксированными и их перенос всегда сопровождается изменениями, имеет смысл реконструировать отечественную версию воспринятого канона.
Легко было предположить, что новые формулы видения и критерии оценки художественного произведения следует искать в академических учебниках или руководствах для художников. В конце XVIII века на российского читателя обрушился настоящий шквал литературы, посвященной необычной для него теме – теории и истории искусств. За десятилетие с середины 1780-х и до середины 1790-х годов были опубликованы письма немецкого живописца Дона Антонио Рафаэля Менгса в переводе Н.И. Ахвердова (1786), оригинальный трактат французского художника И. Виена «Диссертация о влиянии анатомии в скульптуру и живопись» (1789), а также учебники преподавателей Российской академии художеств А.М. Иванова (1789), П. Чекалевского (1792) и И.Ф. Урванова (1793). Последние представляли собой переложения одного или нескольких трактатов западных теоретиков искусства. А в начале XIX века рассуждения об искусстве стали публиковать профессора новоучрежденных университетов, их студенты и сами художники. Изложенные в перечисленных изданиях положения о технике показа и видения получили условное обозначение «канон идеальной формы».
В силу жанровых различий изданий, а также тематических предпочтений авторов, опубликованные рассуждения не равноценны по объему и различаются в деталях. Наиболее развернутые рекомендации о том, как надо рисовать вообще (и прошлое, в частности), содержатся в сочинении «Понятие о совершенном живописце» Архипа Иванова[1206]. Это был вольный пересказ трактата французского художника и теоретика искусства Роже де Пиля (1699), которое Иванов перевел с итальянского издания[1207]. Некоторые детали к прописанному у Иванова канону добавил учебник П. Чекалевского. В значительной мере его автор опирался на суждения знатока искусств, дипломата, доверенного Екатерины II по приобретению произведений итальянской и флорентийской живописи князя Д.А. Голицына.
Итак, что ценилось в художественном полотне? Первое, что приковывает внимание, – от художника не ждали показа реалий жизни, а от исторического полотна – достоверности. «Ежели я пожелаю научиться Истории, – вторил французскому оригиналу Иванов, – то не стану в рассуждении сего советоваться с Живописцем, который не иначе как по случаю Историк»[1208]. Назначение художественного образа виделось в том, чтобы развлекать и учить, а не документировать и не иллюстрировать научный текст. Художнику следовало идти в искусстве проверенными дорогами и копировать признанные образцы. Их авторы, учил воспитанников П. Чекалевский, нашли достойные объекты изображения и выявили их внутреннюю ценность. «Гибкость руки» материализовала плоды их необычайного воображения, которое, в свою очередь, было порождением философического разума. Великие мастера проложили тропы к совершенству, и по ним должны идти их последователи[1209], даже если они рисуют «свое» прошлое.
Описание стадий производства «шедевра»[1210] в учебниках сделано на специфическом языке, посредством которого общались члены художественной корпорации и по которому они опознавали друг друга. Сегодня эти термины уже не кажутся прозрачными и требуют перевода на современный язык искусствоведения. Итак, «расположение» (композиция) подразумевало постановку объектов «для привлечения изящного внимания, и для удовлетворения зрению, показывая лучшие части, и наблюдая между оными хорошее противоположение, разноту и взаимную связь во всем»[1211]. Приступая собственно к рисунку, художнику следовало помнить, что «изражения» (мимика или выражение лица) должны соответствовать предлежности (замыслу) и быть благородными, «величественными и превосходными в главных лицах (персонажах); наблюдая притом правильную средину между излишностию и неприятностию»[1212]. Что касается поз персонажей, то «поставления должны быть естественны, выразительны, в оборотах своих различны и в членах противоположны; сверх сего просты или благородны, пылки или умеренны по содержанию картины и рассмотрению Живописца»[1213]. Руки следовало прописывать особенно тщательно, ибо «они способствуют к лучшему выражению действия фигур»[1214].
Эти наставления зафиксировали разрыв с иконописной традицией, проявлявшейся в странных позах персонажей. Дело в том, что в иконе «похожесть» оправдывала любые неправильности, а композиция сводилась к тому, чтобы расположить фигуру в наиболее «представительном» положении. Для иконописца было важным показать действие (стояние, держание книги, сидение, благословение), а не части тела или жесты. В первой половине XVIII века эта установка сохранялась и у светских живописцев. Так, на «Портрете Ф.Н. Голицына» И.Я. Вишнякова и «Портрете К.И. Тишининой» И.К. Березина ноги распластаны в левую и правую стороны. Это так называемый условный разворот ступней. В таком положении человек стоять не мог и, значит, художник не стремился изобразить объект реалистично. Спрятанные в обувь ноги относились не к живому телу, а к костюму, который он писал с манекена в своей мастерской. Отход от данной «позитуры» давался российским художникам трудно и занял продолжительный период времени.
Согласно учебникам, художнику предстояло усвоить законы перспективы[1215] и добиться правильного «расцвечивания». Именно оно давало образу «местный цвет» (основной) и «оттенение»[1216]. Далее картине следовало придать «единство предмета», то есть подчинить композицию одной идее, единой тональности[1217]. Соблюдение всех перечисленных правил обеспечивало «красоту» произведения.
Академических педагогов не интересовала исходная культура воспитанника: его эстетическое мнение или привычка видеть. Предполагалось, что они заведомо неверны и требуют исправления. Преподаватели «ставили» руку и глаз воспитанников, заставляя их годами копировать «антики» (копии греческих и римских статуй) и «оригиналы» (произведения европейской живописи). Для этого профессора использовали экспонаты, собранные в Эрмитаже и Академическом музее.
В результате такого обучения даже в натурном классе ученик ощущал, как между ним и портретируемым «как бы невидимо и постоянно помещался всегда древний Антиной или Геркулес, смотря по возрасту натурщика»[1218]. Современники постоянно говорили об эффекте «поставленного взгляда»: «Он [воспитанник Академии художеств] смотрит на натуру чужими глазами, пишет чужими красками»[1219]. Как правило, воспитанник Академии «изображал не тело конкретного человека, а просто человеческое тело, не дуб или березу, в вообще дерево»[1220]. И поскольку основной задачей для него было не достижение сходства, а «подражание» качествам реальных предметов, он стремился к общей символизации образов и сюжета. Этим объясняется тот факт, что ни художника Угрюмова, ни зрителя Григоровича не смущало, что русский богатырь есть «синтез» античной статуи и натурщика-татарина.
Судя по всему, утвердившийся в России синкретичный канон разорвал иконописную традицию и ввел отечественных любителей изящного в ренессансную парадигму западных художественных конвенций. Это повлекло за собой овладение техникой визуализации в режиме прямой перспективы (расслоение пространства на планы; уменьшение размеров тел, яркости тонов и отчетливости фигур по мере удаления тел на расстояние; сходимость зрительных лучей и живописного пространства в точку в центре рамы и сюжета) и усвоение специфической эстетики (красота – это «химера», составленная из многих идеальных качеств)[1221].
Изданные в начале столетия «речи об изящных искусствах» позволяют реконструировать взгляд на графические образы другой стороны – потребителя, выделить критерии, которыми он руководствовался в оценке художественных произведений. Большинство приобщающихся к рассуждениям об изящном россиян разделяли мнение Шарля Батто (abbé Charles Batteux, 1713–1780), что объектом искусства должно быть только прекрасное[1222]. И поскольку Античность была золотым веком искусства (до нее художественный вкус еще не образовался, а после – испортился), то именно античные типы олицетворяли идеал красоты. Почти все авторы призывали художников улучшать жизнь. При всем том они хотели, чтобы созданный образ был правдоподобен. Соответственно, его надо было творить из имеющегося в природе материала: найти для этого «приятные и грациозные» типажи и сделать их «гармоничными» (т. е. поправить «натуру», обогатив ее надындивидуальными свойствами)[1223]. Поклонники Ж.-Ж. Руссо призывали художников изображать жизнь и людей простыми и не испорченными цивилизацией, выражать через тело (т. е. форму) их внутреннее достоинство и присущее благородство души (т. е. свойства)[1224]. Благодаря этому достойными кисти художника руссоисты признавали не только объекты «чрезвычайные», но и обыденные.
А желание совместить канон «идеальной формы» с утверждающейся парадигмой экспериментального знания породило амбивалентное стремление зрителей получить достоверную проекцию окружающего мира (что потребовало натурных зарисовок) и в тоже время обрести дидактически ориентированные изображения (что проявилось в признании приоритета литературного образа). Соответственно художникам рекомендовалось обращаться за вдохновением к «истории, баснословию, образам жизни, идеалам и даже самой Природе»[1225], но предпочтительнее к литературным образам. И если в деле познания визуальный образ расценивался как самодостаточный и даже как не описываемый словом до конца, то в деле просвещения он представлялся вторичным по отношению к образу литературному.
В результате реализации таких пожеланий средневековый русский воин, как его писали и вырезали в начале XIX века, имел черты римского героя и военное убранство, воссозданное по образцам одежды и оружия, хранившимся в Оружейной палате московского Кремля. Такие «правдивые» атрибуты идентифицировали «русскость» в глазах современников. Ученик Угрюмова В.С. Добровольский по окончании академического курса специально поступил на службу в Оружейную палату, дабы изучить костюм и оружие русских предков. «Здесь он, – свидетельствовал Н. Рамазанов, – составлял рисунки размещения оружия и других древностей и драгоценностей, также делал рисунки на случаи больших праздников, торжеств, как, например, на коронацию Императора Александра I»[1226].
Искусство выразить пережитое
Война 1812 года создала разрыв в континуитете российского художественного письма. На «показе» прошлого отразилось изменение в отношении современников к истории. Она перестала быть чем-то, чего в настоящем нет. В 1812–1815 годах тысячи людей в России ощутили себя участниками «большой» истории, осознали масштабность событий, которые пережили. В связи с этим у них появилась острая потребность зафиксировать случившееся, объяснить его смысл.
Таковый приступ порукою нам, – писал генерал-майор А. Писарев, – что мы будем иметь Отечественного повествователя, воина-летописца, который сможет передать нам со всею точностию военной науки и с пламенеющим даром красноречия и любовию к Отечеству собывшееся в войне Отечественной![1227]
Но тогда же многие сознавались в неспособности выразить свои ощущения словом. Отлившиеся в визуальные образы (медали, карикатуры и лубки, скульптуры и архитектуру) версии войны свидетельствуют об использовании современниками разных кодировок, разного исследовательского инструментария для ее осмысления[1228].
Издатели журнала «Сын Отечества» – патриотически настроенные петербургские интеллектуалы – показали войну в карикатурах. Создавая образы народных героев, они приписали российскому простонародью статус творца истории, представили его действующим разумным субъектом. Метафоры Руси как сообщества земледельцев и войны как разбойничьего нападения карикатуристы воплощали посредством соединения типов славянской героики (Сила Мороз, Сила Богатырёв, Василиса) с образцами классицистической гражданственности (русские Гераклы, Курции, Сцеволы)[1229]. В результате такого кодирования прошлое предстало как среда и возрасты возмужания национального Героя – русского народа. В этой связи тот же А. Писарев предсказывал, что вскоре для его агиографии «важна будет каждая область, каждый город, каждое урочище – здесь-то, слушая повествования о богатырях недавно прошедших лет, кажется, становишься сам на пол-аршина выше»[1230].
А вот символические репрезентации официальной власти заставляют заподозрить, что Александр I не видел необходимости опереться на эти силы и признать в народе (сколь угодно по-разному толкуемом) субъекта истории. У него была другая историософия собственной жизни и правления. Волевым решением он пресек графическую репрезентацию гражданской нации (запретил в 1815 году карикатуры) ради утверждения в качестве официальной идеологии амбициозной метафоры «Россия – Священная империя славянской нации».
О том, что император не был безучастным наблюдателем при отборе идеологических образов, свидетельствует хотя бы тот факт, что монарх не поддержал аллегорию победы, предложенную О.А. Кипренским. По возвращении из Италии художник представил эскизы картин, символизирующих победу Александра I над Наполеоном. Средством для ее воплощения Кипренский избрал миф об Аполлоне, убивающем дракона Пифона («Аполлон, поражающий Пифона»). Вероятно, десятью годами ранее аллегория пришлась бы по сердцу императору. Но не теперь. Дело не только в том, что топика античного героизма уже отошла. Главное, Пифон не мог олицетворять Наполеона, ведь Бонапарт – дьявол. Перевод войны из античного противоборства в христианскую систему координат потребовал иной риторики и иных образов репрезентации.
Сакральный образ империи был представлен в визуальном оформлении ряда наградных знаков. Он воплотился в храмовой архитектуре, его можно обнаружить и в специфических «зонах умолчания»[1231]. Впрочем, сначала данная версия проговаривалась в церковных проповедях и прописывалась в графике (например, в гравюрах, документирующих «въезд властителя» в Париж (сердце Европы), Петербург (новую столицу мира) и Москву (престольный град)[1232]. И поскольку категория «священная война» была взята из лексикона западной культуры, образ русского монарха рисовали в роли то Добродетели (И. Теребенёв «Освобождение Европы»), то короля-чудотворца (гравюра неизвестного художника «Человеколюбие русского императора»).
На серебряной медали в память войны император велел поместить цитату из Псалтыри: «Не нам, не нам, а имени Твоему» (в полной версии: «Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему даждь славу о милости Твоей и истине Твоей» (Пс. 113, 9)), – которая заменила портрет императора. На лицевой ее стороне изображено лучезарное «всевидящее око» и дата «1812 год». Примечательно, что эти строки были во времена царствования Павла I отлиты на оборотной стороне рубля и красовались на полковых знаменах. Это обстоятельство придало медали оттенок покаяния, признания преемственности сына от отца, элемент замаливания грехов перед Всевидящим.
Впервые в истории наградной системы Российской империи медаль была вручена всем участникам войны: от генерала до рядового. Выдавать ее стали с весны 1814 года, и в общей сложности ее обладателями стали более 260 тысяч человек. Многие современники и вслед за ними исследователи недоумевали по поводу такого странного решения. Массовое награждение снизило престижность поощрения, его реальную и номинальную стоимость. Некоторые советники императора всерьез опасались, что вручение серебряной награды сотням тысяч простолюдинов, их уравнивание с офицерами будет способствовать развитию в них чувства собственного достоинства и гордости, питающих дух свободомыслия.
Но монарх помещал данный символ в иное смысловое поле. Он исполнял взятые на себя обязательства перед Богом, перед которым все равны. Не от своего лица он действовал в этой войне, не от своего имени и награждал. Медаль как напоминание о каре Господа и о его благодеянии, а также проповеди на эту тему должны были сделать россиян и единоверцами, и единой нацией.
Именно такой смысл награды и наступившего мира внушали непросвещенным соотечественникам официальные проповедники, например митрополит Евгений (Болховитинов). Отпечатанная в виде отдельных листов, его проповедь на эту тему транслировалась по всей православной России приходскими священниками. «Можем ли убо мы не признавать с благоговением защитительной десницы Вышняго в избавлении нас от напастей?» – вопрошали они паству.
Исследователи отмечали странность данной проповеди. «В ней, – писал В.Г. Пуцко, – не названо ни одно из имен современников, не упомянуто ни одно из только что происшедших особо потрясших тогда событий, естественно, известных проповеднику»[1233]. В этом сказалась логика построения текстуального образа как пространства утопического. Пронесшаяся война осмыслялась как часть всемирной истории, как одно из ярких явлений миру воли Господа. Потому в «Слове» митрополита нет ни призывов, ни поздравлений, ни похвалы. Современники представлялись орудиями в борьбе космогонических сил. Поэтому митрополит обращался не к памяти, а к религиозным чувствам слушателей, к их коллективному опыту.
Для анализа особенностей складывания национальной памяти показательна история создания медали «За взятие Парижа». Она была учреждена 30 августа 1814 года для награждения всех участников церемонии вступления во французскую столицу. Однако впервые медаль была вручена лишь спустя 12 лет. В. Дуров считает, что это связано с тем, что «в момент, когда во Франции было восстановлено правление Бурбонов, Александр I не решился раздать эту награду, которая напомнила бы французам о недавнем сокрушительном поражении»[1234]. Русский император, действительно, был щепетилен по отношению к поверженной стороне. Но зачем же тогда было вводить награду, тратить средства на ее изготовление, тем более, что Россия испытывала тогда финансовый кризис? К тому же для национального самолюбия французов и дипломатического этикета был важнее манифест, сопровождавший учреждение награды, а не ее символическое воплощение. Очевидно, ключ к пониманию данной истории лежит в той аллегории войны, что предполагалось представить на поверхности медали.
На ее лицевой стороне в лучах «всевидящего ока» помещалось бюстовое изображение Александра I, увенчанного лаврами. Так изображали античных полководцев-победителей. На оборотной стороне серебряного диска внутри лаврового венка была отлита надпись «За взятие Парижа. 19 марта 1814». Символический текст мог быть прочитан так: поединок двух монархов окончен, противник низвергнут. Очевидно, после восторженного приема в Париже у Александра I появился соблазн почувствовать себя Цезарем, подобно тому, как ощущал себя им Наполеон. К такой самоидентификации подталкивали русского монарха и его союзники, воздававшие ему почести римского императора. Восстановленный на престоле Людовик XVIII даже вручил своему благодетелю две шпалеры, которые замышлялись в прославление Наполеона и Жозефины, а закончены были «под» русского императора и его супругу. Их изображения в форме опять же античных бюстов находились на полотне в окружении французской имперской символики.
Однако последующие события (побег Наполеона с острова Эльбы, предательство союзников, переход на сторону Бонапарта «неблагодарных» французов) в очередной раз убедили Александра I в призрачности его человеческой силы. Он был не Цезарем, а исполнителем Вышней воли. И медаль «За взятие Парижа» так и не была вручена при его жизни. Ее стали раздавать участникам парижского парада лишь в 1826 году[1235]. Обладание медалями, орденами, знаками отличия создавало ощущение общего прошлого у сотен тысяч людей Александровской эпохи. Это были «метки» посвященных. Множественность подобных маленьких текстов задавала желаемую властями сетку культурных координат.
Самой же большой воинской наградой, врученной немногим избранным, было бессмертие. После посещения Галереи Ватерлоо в Виндзорском замке Александр I решил создать Военную галерею в Зимнем дворце. Ее исполнителем в 1819 году был назначен английский портретист Джордж Доу, который писал портреты совместно с А.В. Поляковым и В.А. Голике. Первых иностранных посетителей поразило то, что «изображенные стоят на голове друг у друга». Английский критик Чарльз Лэм объяснял это «варварским вкусом» русского императора. Вряд ли он был прав – ведь исходными были как раз не эстетические пристрастия заказчика. В отличие от трофеев, стоявших у императорского кабинета, галерея предназначалась не для иностранцев (не для устрашения), а для отечественного зрителя. Поэтому ее композиция была выстроена в соответствии с традициями иконостаса. В Галерее были собраны образы-лики канонизированных героев славной эпохи. Именно они – красивые, величественные, в парадных мундирах и орденах – наиболее соответствовали той версии войны, которую император хотел бы сохранить в памяти и душах подданных. Написанные образы воспринимались соотечественниками как некое священное воинство. В этой связи сама галерея производила впечатление своего рода домовой военной церкви.
Более массовый, нежели посетители Эрмитажа, зритель мог увидеть портреты героев 1812 года на фарфоровых изделиях. В отличие от этнических костюмов и портретов или от карикатур, их имел право изготовлять только Императорский фарфоровый завод и только в форме чаш цилиндрической формы на звериных лапах[1236]. Портреты императора, членов дома Романовых, боевых генералов художники-декораторы списывали с гравированных (следовательно, одобренных верховной властью для тиражирования) портретов и миниатюр.
Кроме того, в начале 1820-х годов Императорский завод начал выпускать украшения со скульптурными фигурками военных. Примером тому является ваза в виде чаши, установленной на колонне. По обеим сторонам от нее расположены сидящие фигуры казака и кирасира. Опубликовавшая ее фотографию искусствовед И. Попова дала следующее описание изделия:
Они показаны в спокойной позе, взгляд их устремлен вдаль. Погруженные в свои мысли, офицеры словно вспоминают что-то. Размещенная у их ног лавровая ветвь и дубовый венок символизируют былые победы[1237].
Проект и разработка данной модели принадлежали скульптору С.С. Пименову. Еще живые и реальные герои бронзовели, застывали, превращались в символы пусть славного, но все же прошлого. Теперь они не действовали, а, углубленные в себя, предавались думам и воспоминаниям. Наступило время рефлексии над опытом. Тем самым настоящее переводилось в категорию памяти и памятников.
Однако память и сознание современников формируются не только наличествующими, но и отсутствующими элементами – «зонами умолчания». Раздавая награды живым, Александр I явно желал забыть смерть, сопровождавшую войну. Правительство «прятало» убитых. Не было ни больших, ни малых кладбищ павших в войне, не было воздвигнуто значительных памятников и мемориалов. Захоронения погибших не опознавались и не идентифицировались: они производились на полях сражений в массовых могилах с единым крестом или камнем. И это касалось не только рядовых, но и офицерского состава. Вдова погибшего во время Бородинского сражения генерал-майора А.А. Тучкова тщетно пыталась найти тело мужа для индивидуального погребения[1238]. Неудача предпринятых усилий побудила ее поставить церковь на месте массового побоища и захоронения. Немногие мемориальные памятники, что были возведены в России в послевоенное десятилетие, созданы на частные пожертвования и установлены в частных имениях.
Поведение власти объясняется тем, что кладбища с идентифицированными могилами позволяют утвердить память о потерях. Само по себе их наличие способствует осознанию современниками размеров национальной жертвы, заплаченной за победу. Но именно это и не «вписывалось» в концепцию священной войны для Александра I, где Господь вел и защищал только «правых», сохранял для жизни благоверных. Призывая вернувшихся ополченцев возблагодарить Господа, епископ Амвросий напоминал им, что Бог
покрывал вас бронею всемогущества, когда под косою смерти повергались жертвы ея, как падает цвет сельный под косою оратая. Бог иже един живит и мертвит; милует, его же аще милует, и ущедряет, его же аще ущедрит[1239].
Да, в минуту опасности российская власть прибегла к «демократизации» войны (объявили о наборе ополчения, назвали войну народной, допустили показ сражающихся крестьян и городских низов), но после того, как опасность миновала, эта же власть решительно воспротивилась демократизации памяти о ней. И это отличало Россию от ее противника (даже учитывая крайности реваншистских устремлений в легитимистском окружении Людовика XVIII).
Всеобщая военная обязанность, – писал Ю. Хабермас о послереволюционной Франции, – стала оборотной стороной гражданских прав еще со времен французской революции. Готовность сражаться и умереть за Отечество должна была доказать наличие как национального самосознания, так и республиканского согласия. Это двойное кодирование проявляется также в надписях на местах исторической памяти: камни, обозначающие вехи в борьбе за республиканские свободы, связаны с символизмом смерти мемориальных церемоний, которыми чествуют павших на полях сражений[1240].
Очевидно, российской демократизации памяти о войне помешали политическое устройство страны и победа в противостоянии с наполеоновской Францией. Российское сознание не было травмировано поражением, и оставшимся в живых соотечественникам не пришлось идейно объединяться для того, чтобы простить себе негативное прошлое. А потому победа стала основой для официального утверждения легитимирующего мифа о правильности российской монархии и обеспеченного ею социального порядка[1241]. В России не появилось ничего подобного альбому Фабера дю Фора с телами замерзших убитых и раненых солдат, с видами разграбленных деревень[1242].
Объединяющий имперский миф «универсального христианства» мог быть создан только ценой подмены памяти о войне идеологической версией недавнего прошлого. Поэтому Александр I не допускал ритуального оплакивания жертв войны – ведь нельзя же, в самом деле, скорбеть об избранниках Господа. Можно лишь молиться за их души и прославлять их ратный подвиг.
Утешьтесь среди справедливыя скорби вашей! Они не взошли в торжественныя врата Отечества торжествующего; но, яко воины-Христиане, торжественно вступили во врата вечности! Они не возлягут на лоне тишины и покоя отечественнаго; но, ах! Они возлегли уже на лоне покоя вечнаго и торжествуют победы свои среди Церкви, и на небеси торжествующия! Тамо, тамо их венцы, тамо торжества, тамо покой, тамо слава неизреченная![1243] —
взывали проповедники в церквах.
Надо сказать, что российских интеллектуалов коробило правительственное забвение национальных жертв. В 1817 году вернувшийся из путешествия по России А.А. Писарев сетовал:
Нигде не встретил я по пути моем никаких-либо признаков памятников, возведенных павшим на войне в защиту отечества или героям, исторгнувшимся со славою из челюстей алчной смерти, и освободившим многие города и урочища от иноплеменных осквернителей Святой Руси в 1812 году[1244].
Император же считал своей главной обязанностью благодарить не павших соотечественников, а небеса. В случае помощи, т. е. в случае победы он посулил им возвести памятник, какого еще не знала история человечества. Почему именно такой акт благодарности? Во-первых, потому, что, как проповедовал духовный учитель Александра I архимандрит Филарет, возведенный храм – это знак внутренней церкви[1245]. А во-вторых, потому, что формы и символика храма визуально концептуализировали установленный «Священным Союзом» европейский мир, открывали его значения, пробуждали в зрителях соответствующие чувства и отношения.
Храм Христа Спасителя остался проектной архитектурой. Его визуальный образ был обнаружен императором среди двадцати проектов, представленных на первый российский конкурс (1814). Автор – молодой живописец Карл (после принятия православия – Александр) Витберг – воплотил в нем храм тела, храм души, храм духа святого. Будущий зодчий уникального храма полагал, что гармонические очертания и классические геометрические формы, совмещенные должным образом, позволят выразить духовные истины эпохи. Сам он впоследствии вспоминал:
Надлежало, чтоб каждый камень его и все вместе были говорящими идеями религии Христа, основанными на ней, во всей ее чистоте нашего века; словом, чтоб это была не груда камней, искусным образом расположенная; не храм вообще, но христианская фраза, текст христианский[1246].
В соответствии с этим Витберг спланировал трехуровневый собор: нижний в виде квадрата, средний в виде круга, верхним уровнем должен был служить купол, увенчанный крестом. Уровни выражали три явления – тело, душу и дух, и три момента из жизни Христа – Рождество, Преображение и Воскресение. На огромной колоннаде верхнего уровня задумано было поместить имена всех павших в 1812 году, написать историю русской победы, главные манифесты и расставить статуи, вылитые из захваченных пушек. Предполагалось, что средний уровень будет залит светом; его намеревались украсить статуями персонажей Священного Писания и иллюстрациями Евангелия. Купол с крестом не следовало украшать ничем.
С одной стороны, это был первый проект русского Пантеона воинской славы, а с другой, – это проекция космологического мира, объединяющая разные уровни социальной иерархии, все три ветви христианства, восславляющая Бога и его подобие – Человека (доски с именами погибших и награжденных живых). «Твои камни говорят», – сказал император победителю конкурса. Утопия Витберга не была воплощена в камне, но это не значит, что храм не существовал: он жил в сознании людей. Его словесный образ и идея входили в картину мира современников. Подводя итог александровскому правлению, один из них перечислял рукотворные деяния усопшего монарха и среди них назвал «план сооружения Храма Христа Спасителя в Москве»[1247].
Концепт «русский народ» получил в официальном изобразительном дискурсе фольклорно-романтическую интерпретацию и воплотился в более монументальных видах искусства, нежели военная карикатура. Поскольку «Священный Союз» мыслился императором не как политический договор национальных государств, а как семья христианских народов, то практика очевидного противопоставления русских французам и прочим европейцам натолкнулась на его желание заретушировать различия в семейном портрете. Как следствие произошла смена понятий. В частности, патриотизм перестал восприниматься как защитная реакция, а «русскость» сопрягаться с воюющим простонародьем Центральной России. Отделенная от Запада и Востока, в официальной версии она была соотнесена с внесословным и нелокальным концептом «славянства», прошлое которого не связано с борьбой с «латинством» и не скомпрометировано ордынским прошлым.
Славяне сильны Богом сил! — Они все святость почитают, Творца на помощь призывают И Бог дух гордости смирил, —уверял современников оставшийся анонимным провинциальный поэт[1248].
Новая визуальная «русскость» стала воплощаться в монументальных полотнах и в скульптуре. Графический рисунок, столь приближенный к натуре, стал играть роль заготовки для создания концептуальных произведений. Так, рисунок Теребенёва «Дух неустрашимости русских» лег в основу академических полотен учеников Шебуева – Сазонова и Тихонова. Причем наличие графического прототипа придавало этим картинам историческую достоверность. В то же время гравюра превратилась в средство популяризации монументального образа. В послевоенные годы офорты со скульптур, картин, архитектурных сооружений и строений издавались большими тиражами, публиковались в газетах и журналах, использовались в качестве книжных иллюстраций.
Качества вечности, незыблемости, константности «славянству» придавал не только материал воплощения (масло художественных полотен, металл медалей, гипс и мрамор скульптур), но и символически выраженный концепт времени. Художники и ваятели представляли национального героя Священной империи не в античном образе (как то было в годы расцвета отечественного ампира) и не в образе крестьянских мужиков и баб – защитников родного дома (как в карикатурах 1812 года), а в виде условного, исполненного гармонии славянского витязя.
Поскольку за карикатуристом И.И. Теребенёвым закрепился имидж национального художника, именно ему император поручил создание гипсовых фигур для деревянной триумфальной арки Дж. Кваренги. Она была возведена на Нарвской дороге для чествования русской гвардии, возвращавшейся из Франции. 30 июня 1814 года воины первой пехотной дивизии и в ее составе лейб-гвардии Преображенский и Егерский полки церемониальным маршем прошли под ее сводом. После этого арка еще трижды была местом встречи русских войск. Сегодня образ этого произведения сохранился лишь на нескольких рисунках. По замыслу художника, символом победы стали фигуры славянских витязей, установленные у подножия колонн. После деконструкции обветшалой арки на том же месте в 1827–1834 годах были возведены каменные ворота, при этом витязи были повторены и на них. Трудно сказать, насколько нынешние скульптуры отличаются от теребеневского оригинала. Известно лишь, что в 1824 году президент Академии художеств А. Оленин предлагал внести в них исправления, усилив национальные черты костюма и вложив в руки вместо перумов лавровые венки[1249].
Славянские мотивы были использованы и Ф. Толстым при создании коммеморативной серии медалей. На барельефе «Тройственный союз» (1821) он изобразил Александра I в виде витязя, скрепляющего рукопожатие двух немецких рыцарей, олицетворявших прусского короля и австрийского императора. А на медали (1814) «Родомысл девятого на десять века» император изображен в образе славянского бога[1250]. В 1817–1818 годах фигуры молодого и старого витязей, исполненные С.С. Пименовым и В.И. Демут-Малиновским, украсили фасады павильонов К.И. Росси у Аничкова моста в Петербурге. И если младший воин еще привычно одет в древнегреческие латы, то старший облачен в кольчугу. В рельефную арматуру самих павильонов включены древнерусские клевцы и пернаты, ранее в ампирных трофеях не участвовавшие. В 1824 году аллегорические чугунные статуи славянских воинов работы В.И. Демут-Малиновского были установлены в нишах царскосельской Белой Башни, а в 1829 году аналогичные фигуры работы И.Т. Тимофеева – на Московских триумфальных воротах[1251].
В национальном воображении части отечественных элит «славянскость» представлялась более широким и гомогенным явлением, нежели «природная русскость». Она позволяла соединить культурно-антропологическую версию военной графики с религиозно-исторической парадигмой объединения империи, отнеся точку отсчета отечественной истории ко временам церковного (а следовательно, духовного) единства европейских народов. К тому же «славянскость» была удобна тем, что снимала военное противопоставление «русский – европеец», заменяя его на более универсальное и мягкое различение «власть – народ». И если первая часть этой бинарной оппозиции воплощалась в образах людей войны и славянских богах, то вторая, т. е. «народ», представлялась зрителю в фольклорных образах. Элиты и народ обрели разные символические миры[1252].
Их создание потребовало новой технологии производства образов. «Русский Сцевола» резца В.И. Демут-Малиновского (1813) – уже не римский атлет, стоически переживающий боль, а страдающий за любовь к царю и Отечеству решительный и сильный крестьянин. Только в отличие от графического образа, скульптурный крестьянин воплощал не деяние или качество, а идеальную для России модель жизни. Ваятель не мог продемонстрировать зрителю множество народных типов, но мог предложить некий универсальный знак-типаж, воплощающий код национальной идентификации. От зрителя же требовалась способность видеть образ цельно, не раскладывая его на части, не соотнося с физическими образами себя самого и соотечественников.
Такой же уровень абстрагирования нужен был зрителю для выявления «русскости» в трехмерных, выполненных в полный рост фигурах плясунов на памятнике Минину и Пожарскому (1819) резца И.Т. Тимофеева[1253]. На материале изучения отечественной архитектуры интересующего нас периода Е.И. Кириченко обнаружила, что национальное (имперское) ассоциировалось у современников с высоким искусством, имевшим византийские истоки, а народное имело социальные (увязывалось с крестьянством) и местно-исторические (соотносилось с языческой культурой древних славян) коннотации[1254]. Видимо, это наблюдение применимо не только к архитектуре. Послевоенная скульптура с характерными для нее персонажами – языческими богами, плясунами, витязями – была попыткой визуальной репрезентации именно народности, а не нации. Победившая империя выражала себя в иных, универсалистских знаках, а народность представала в славяно-языческих символах.
Официальная идеология «Священной империи славянской нации» стала размываться еще при жизни Александра I. Претензии на нее не выдерживали испытания общеевропейским нациостроительством, с одной стороны, и прессинга со стороны внутренней оппозиции – с другой. Размежевание античного и священного текстов войны очевидно в рельефах Александровской колонны, установленной в 1834 году: три грани ее пьедестала украшены античными арматурами и одна – славянской. Символическая мимикрия проявилась и в эксплуатации образа Ангела. Из «Ангела кротости» он превратился в своего воинствующего двойника, стоящего на страже порядка. Он поражает мечом-крестом (символом христианской веры) гидру (символ революции, войны, кровопролития). Это было новое прочтение мира, далекое от александровского символизма. В этой ситуации здравствующий митрополит Филарет отредактировал свои ранние проповеди и опубликовал их в купированном виде, а о некоторых и вовсе «забыл»[1255]. Все это интенсивное художественное производство ввело прошлое в текущую жизнь современников. В связи с этим обострились потребность и желание иметь национальную версию русского прошлого.
Ее создание связано с полемикой издателей двух первых искусствоведческих журналов в России – П.П. Свиньина и В.И. Григоровича. В 1820-е годы они заявили о рождении «русской школы» в искусстве[1256]. Только один понимал под этим умножение числа отечественных художников и их произведений, а второй – технологию изготовления художественных образов. В этой связи Свиньину потребовалось максимально расширить локальную корпорацию художников посредством включения в нее «неизвестных талантов», а Григорович нуждался в вычленении «русской традиции» художественного письма.
В специально учрежденном для этого «Журнале изящных искусств» Григорович конструировал новый художественный канон. Его отличительными чертами предлагалось сделать естественность, натурализм и аутентичность. Первое подразумевало учет искажений человеческого глаза, второе – предпочтение натурных зарисовок, а третье – научную и литературную подготовку художника. Этими требованиями Григорович руководствовался при оценке художественных произведений, экспонируемых на выставках в Академии художеств.
В те годы любители прошлого еще не пришли к общему мнению по поводу исторических костюмов, которые носили древние русичи. Поскольку история, в том числе материальная история многих народов, известна плохо, – размышлял по этому поводу Григорович, – то у художника есть два пути: либо «руководствоваться примером и подражанием, громоздя нередко ошибки на ошибки», либо «в счастливых обстоятельствах советоваться с мнением тех, кои в состоянии дать им правильнейшия о том понятия, то есть с Учеными или с их творениям, с книгами»[1257]. Требуя достоверности образа, он стремился наполнить художественный образ рациональным содержанием (научным знанием), поэтому уверял художников, что необходим союз кисти и пера. От живописцев батальных полотен критик требовал: «Погрешать против костюма не должно… в картине, например, Бородинской битвы, нельзя представлять оружий Греческих, или других каких освященных временем»[1258].
И только если не удавалось найти никаких сведений об исторических персонажах или присущих им вещах в письменных источниках и научных текстах, тогда можно было представить «костюм» условно или аллегорически[1259]. Очевидно, древнерусское прошлое было в исследуемое время именно таким чрезвычайным случаем. Реконструкция русских исторических костюмов, орнамента и изучение древнерусской архитектуры начались лишь в 1830-е годы и осуществлялись объединенными усилиями того же Григоровича, президента Академии художеств А.Н. Оленина и художника Ф.Г. Солнцева[1260].
Вместе с каноном В.И. Григорович творил альтернативную (по отношению к трактатам В.Н. Татищева и Н.М. Карамзина) историю России – как историю русского искусства. В том, что оно – довольно позднее дитя, критик видел результат запоздалого развития русской идентичности. Именно поэтому до 1812 года художественное производство в стране поддерживалось лишь утилитарными потребностями императорского двора, и только война с Наполеоном породила ситуацию, когда «русское, отечественное получило цену в глазах даже любителей иноземного»[1261]. Послевоенные настроения соотечественников освободили местных художников от стилистической и тематической зависимости от Запада. В этой обстановке стало возможным появление оригинальных (не копийных и не подражательных) произведений.
Григоровичу хотелось предъявить современникам богатую генеалогию русской художественной традиции. С этим связано его обращение к историческим источникам. Но поскольку историю живописи он сопрягал с историей этнической группы, а не государства, то ее запутанный генезис и отсутствие научных изысканий в данной области не позволили ему утвердить континуитет. В результате получилось вот что. У славян (т. е. предков этнических русских), как считал Григорович, художеств не существовало: их рисунки он оценивал как «уродливые»[1262]. Что касается древних русичей, то критик предполагал, что у них были оригинальные произведения: ведь «если существуют изображения, писанные на нескольких листах Священных рукописных книг XI и XII веков, то нет сомнения в том, что могли сохраниться и иконы»[1263]. Однако имевшиеся в 1820-е годы сведения об иконописном искусстве русского Средневековья не позволяли ему показать наличие искомой традиции. В этом Григорович винил отечественных интеллектуалов: «У нас очень не много ревностных изыскателей древности»[1264], нет профессионалов, посвящающих себя поиску, сохранению, популяризации и изучению русских икон.
В итоге генеалогию «русского искусства» в том смысле, какое данному понятию придавал Григорович, он смог растянуть лишь на столетие, да и то с большими оговорками.
Пусть охотники до старины соглашаются с похвалами, приписываемыми каким-то Рублёвым, Ильиным, Васильевым и прочим Живописцам, жившим гораздо прежде времен царствования Петра, я сим похвалам мало доверяю[1265], —
резюмировал он свои изыскания.
Итак, проанализированные визуальные и связанные с ними письменные источники зафиксировали напряженный поиск, который вели отечественные интеллектуалы второй половины XVIII – первой четверти XIX века по созданию зримых картин российской истории. «Показанное прошлое» созидалось из разнородного строительного материала (былинных и иконных образов, императивов пословиц, из античной символики и западной средневековой мифологии). И в этом не было несуразности. В конце концов, жизнеспособность национального символа обеспечивается множественностью источников, из которых черпается традиция[1266]. Другое дело, что отдельные образы не создали некоего синтезирующего гранд-нарратива, или единого рассказа, и в результате – общего прошлого. И только ситуация войны на территории России, необходимость всесословной и всенародной мобилизации проблематизировали континуитет русской традиции, под которой подразумевалась смесь представлений об общих нравах, культуре и прошлом, границах и народе.
И если утвердить тождественность во времени русского искусства, русской культуры, русского народа вербальными средствами было трудно, то художественные образы сделать это все же позволяли. Невозможно было сказать современникам: «вы – такие же русские, как и древние русичи», так как при таком утверждении запускался механизм сравнения и различения. В подобной ситуации художественный медиум работал скорее на типизацию. Благодаря антропологической неопределенности и эстетической привлекательности он служил символом. Другой вопрос – какова была степень его аутентичности. Видимо, она зависела от согласия сторон признать ее за ним. Судя по бытовавшим в исследуемое время образам, империю можно было выразить аллегорически, а нацию – нет. Соответственно, если историю государства российского оказалось возможным представить через аллегории на медалях, то национальная история потребовала от своих создателей более аутентичных знаков (экспонатов из Оружейной палаты, летописных свидетельств, исследовательской реконструкции костюмов).
Очевидно, российские нациостроители двигались в общеевропейском потоке. Национальные мифологемы в Европе оформлялись в сторону смещения интереса интеллектуалов с Античности на Средневековье: «классический гуманизм» отступил перед «гуманизмом вульгарным» (античные памятники заменились средневековыми артефактами; древние языки постепенно уступали символическое первенство национальным языкам). Общекультурные и «антикварные» интересы вымещались локальными и национальными. В результате менялась оптика современников, равно как и их способность видеть прошлое, что приводило к смене априорных установок интеллектуалов и порождало изменения в массовых исторических представлениях.
Е.Н. Пенская Русский исторический роман XIX века
За последние полтора века исследователями потрачено немало усилий, чтобы описать особенности исторического нарратива, составить его генетическое досье, выявить трансформацию канонов. На этом фоне очередное обсуждение феноменологии исторического романа имеет смысл как попытка составить конспект «путеводителя» по двум масштабным библиотекам: собственно огромной коллекции исторических романов, преимущественно в их русском изводе XIX века, и собранию разномасштабных и разнокачественных трудов, неизменно сопутствующих этому жанру. Сразу оговоримся: в основном обсуждается русская история истолкования исторического романа, хотя учитываются отдельные зарубежные работы, повлиявшие на становление отечественного исследовательского контекста. Однако мы не претендуем на фундаментальное обозрение богатого научного пласта европейских материалов[1267].
Системное изучение европейского и русского исторического романа начинается в 1890-х годах. Одним из ранних научных подступов к этому жанру можно считать работы Луи Мэгрона об историческом романе эпохи романтизма[1268]. В России же в конце 1880-х к обсуждению истории жанра возвращает публику Александр Скабичевский, критик-народник, упрекавший Карамзина и его последователей – Загоскина, Лажечникова – в недостоверности и недостаточном соблюдении исторических реалий. По мнению Скабичевского, скачок, совершенный в 1820-х годах русской исторической беллетристикой, произошел благодаря некоторому освобождению от зачарованности Карамзиным[1269]. Уже позднее для Вильгельма Дибелиуса, профессора Берлинского университета (его читали и почитали также русские формалисты), важно было показать генезис жанра, балансирующего между готическими и авантюрными составляющими. Он выделил две главные характеристики исторического романа: преобладание частной жизни героя над общим ходом событий и «маркированный» выбор главного персонажа, независимого, чуждого всем враждующим или дружественным лагерям, партиям[1270].
Стратегии Вальтера Скотта обсуждал позднее и Дьёрдь Лукач в своей работе «Исторический роман» (написана в Москве зимой 1936 года)[1271]; в тогдашних спорах принимал активное участие Виктор Шкловский[1272], опубликовавший и свои размышления на тему исторического романа[1273]. Стоит отметить позднейшие исследования о читательских стратегиях восприятия В. Скотта[1274], критической рецепции историко-романного жанра[1275]. Большой комплекс работ связан с обсуждением структурных особенностей этого романа[1276], с поисками дифференциальных признаков в изображении исторического процесса[1277], тематических источников[1278]; с изучением возможных вариантов конфликтных ситуаций[1279], пропорций и диспропорций в соотношении документального и вымышленного начала[1280], обобщенного изображения и детализации[1281]; с осмыслением возможных конфигураций взаимодействия автора, повествователя и системы персонажей[1282], классификации видов, нюансов исторического нарратива[1283], этнографических элементов, повышенная концентрация которых может быть отнесена к доминирующим признакам жанра[1284]. Поиском «секретов» жанра, «ключей» к этой форме заняты многие исследователи, но особо перспективны, на наш взгляд, наблюдения, касающиеся морфологии исторического романа, его алгоритмов, которые держат повествовательный каркас и четко обнаруживаются при сравнении разных текстов[1285].
О восприятии романистики Скотта Пушкиным существует большая литература[1286]. В философском и историко-культурном плане важны те работы, в которых интерпретируются не только «уроки Вальтера Скотта», усвоенные Пушкиным, но их переосмысление, «переписывание»[1287]. Диалог, скрытая или открытая полемика с Пушкиным, отмена пушкинской логики, спор с ней или, наоборот, уточнение найденных им эстетических решений, когда сталкиваются законы истории и жизни частной, – вот та парадигма драматических коллизий, в которой обнаруживают себя и А.К. Толстой, и А.Ф. Писемский, и Л.Н. Толстой, и Н.С. Лесков[1288]. Обширен пласт работ, посвященных английской[1289] и французской[1290] ипостасям исторического романа, в них обсуждается также проблема соперничества в популярности Скотта и Виктора Гюго за пределами их собственных национальных культур.
Интерес к историческому роману в исследовательской литературе последних десятилетий остается стабильно высоким, что подтверждается также диссертациями[1291], пристальным изучением отдельных творческих историй авторов и текстов[1292]. В это время читательским ожиданиям отвечают издательские стратегии: выпуск исторических романов ХIХ века интенсивен, к их переизданиям активно привлекаются современные филологи[1293].
1830-е годы: освоение европейского опыта
Одно из немногих достаточно устойчивых положений, не вызывающих острого «конфликта интерпретаций», касается условной периодизации историко-беллетристического пласта. В нем традиционно признают две волны, два пика: 1830–1840-е и 1870–1880-е годы.
Первым русским историческим романом по праву считается «Юрий Милославский» М.Н. Загоскина, вышедший в 1829 году[1294]. Пройдет семь лет, и в 1836-м пушкинская «Капитанская дочка» обозначит ту вершину, тот «абсолютный уровень» и предел, которого достиг в своем развитии отечественный вариант жанра. «Капитанская дочка» очертила круг идей, ставший позднее ориентиром для всякого русского человека, кто так или иначе сверял свою судьбу с национальной историей. Романы И. Лажечникова, К. Масальского, Р. Зотова, Н. Полевого, Ф. Булгарина, П. Свиньина становились для публики значимым политическим событием.
«Замечательное семилетие» с 1829 по 1836 год, от «Юрия Милославского» до «Капитанской дочки», – одно из самых насыщенных и продуктивных в истории русской культуры XIX века. В тот период был найден язык и форма постановки проблем, жизненно важных для российского исторического самосознания. Жаркие умственные баталии во многом сосредоточились тогда на историческом романе как новой для России художественной практике. Русский исторический роман в 1830-е годы стал перекрестьем культурных магистралей, а также лабораторией ключевых сюжетов: позднее психологический и философский роман, квинтэссенция классической литературы в России, учитывал «находки» исторического жанра и опирался на эстетические и этические решения, обретенные в этих рамках.
Для того чтобы в кратчайшие сроки укоренить романные ростки на русской почве и дорастить их, довести до совершенства целую разветвленную культуру исторической романистики, России понадобилось буквально несколько лет. Распространение этого жанра шло столь стремительно, что напоминало пожар, который охватил читающую и пишущую аудиторию первой трети XIX века.
В основе романного взрыва лежали вполне объяснимые экономические и социальные причины. Исторические сюжеты, исторические сочинения в конце 1820-х – начале 1830-х годов вызывали неспадающий интерес. Спрос на них, в свою очередь, рождал и ответное предложение. Многие авторы охотно пробовали себя на этом поприще, тем более что оно приносило ощутимую выгоду. Объем исторических романов этого времени был достаточно внушительным. Самые «тонкие» насчитывали 400–500 страниц, а привычным считались «пухлые» тома до полутора тысяч страниц в одной книге. Их стоимость тоже была немалой по тем временам – 15–17 рублей ассигнациями, что составляло примерно треть среднего чиновничьего жалованья. Таким образом, потребители исторической художественной продукции – это в основном состоятельная читательская аудитория, не в последнюю очередь пополнявшаяся за счет провинциальных помещиков, закупавших у книгопродавцев целые библиотеки[1295]. Исторические романисты, по свидетельству современников, поставляли сюжеты для семейного чтения, рассчитанного на разные возрасты и вкусы. Рынок разрастался стремительно, и авторы с издателями поставили на поток изготовление романов и переводов.
К общим факторам, повлиявшим на тектонические сдвиги в понимании мироустройства, следует отнести особое, не сравнимое с прежними состояниями, острое чувство исторического времени. Именно тогда
средний рядовой человек на собственном опыте впервые почувствовал вторжение Истории в повседневность, пересечение мира большой политики с миром малой, частной жизни. Отсюда и возросший в невиданных прежде масштабах интерес к прошлому, вышедший за рамки учено-профессиональной среды и… обретший массовый, ментальный характер. Вопросы постижения смысла истории… места национальной истории в общемировом развитии, поиски философского объяснения исторического процесса… становятся, как никогда прежде, злободневными для умственной атмосферы эпохи[1296].
Для поколения первой трети XIX века массовое увлечение историей означало становление новой системы ценностных координат, новой системы отсчета собственной биографии, сопряженной с крупными политическими событиями прошлого и настоящего.
В России бурная реакция на прививку «историей» оказалась иной, пожалуй, еще более острой, чем в Европе. Отблеск французской революции, а затем война 1812 года («наполеоновский погром снова вывел наше общество на путь самопознания, по которому оно поступательно движется и до настоящего времени», – так позднее, в 1864 году, возвращался к последствиям войны П.И. Бартенев[1297]), декабрьская катастрофа 1825 года и последовавшее обращение к опыту западной философии истории – вот тот неполный перечень возбудителей исторической «высокой болезни», охватившей буквально все слои общества.
К ним необходимо добавить труд Н.М. Карамзина «История государства Российского», задуманный и начатый до 1812 года, но ставший важным интеллектуальным катализатором именно после войны и по значению своему сопоставимый с крупнейшими политическими событиями эпохи.
Карамзин – наш Кутузов Двенадцатого года: он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас Отечество есть, как многие узнали о том в Двенадцатом году[1298].
В этой характеристике П.А. Вяземского в 1836 году неслучайно значение карамзинской «Истории» сопоставляется с победой в Отечественной войне. А сам Карамзин приравнен тут к народному полководцу Кутузову. «История государства Российского» надолго стала чуть ли не главной книгой, современной российской Библией, в равной степени важной для любого думающего человека 1830-х годов[1299].
Неслучайно именно в 1820–1830-х годах в России появляются первые труды по методологии истории и исторической науки, апробируются первые подходы к систематизации познания прошлого. История в то время получила словно бы карт-бланш, стала синонимом мировоззрения, философией культуры, задавала вектор научным исследованиям. Ее универсальный, «генерализующий» смысл отмечали все, кто испытывал на себе действие этого особого силового поля. Именно в эти годы, в конце 1820-х, появляется и понятие историзма. Историзм означал в ту пору идею преемственности и неразрывной связи времен – прошлого, настоящего и будущего, а отдельный человек, его судьба и биография понимались как части исторического процесса.
«История сделалась теперь царицею в области наук и в словесности»[1300], – такого рода рассуждения о главенствующей роли истории, о подчинении ей всех помыслов и прочих областей знания существенно уточняют наши представления о культурной и мировоззренческой конструкции классического периода, в которой центральное место (согласно сложившимся представлениям) занимала литература. Но, как видим, становление литературоцентричной системы не в последнюю очередь начиналось с того, что ей предшествовал мощный историоцентризм, проникавший во все сферы частной и публичной жизни. Историзм, философия истории вырабатывали язык и основные ориентиры отношений с государством и властью, сохранившие свою актуальность до конца XIX века.
Устойчивость риторики, закрепляющей апологию истории в сознании общества, подкреплялась на всех «фронтах» – и не в последнюю очередь в образовательной сфере, в университетском преподавании, в домашнем воспитании, в новом курсе журналов, все больше ориентированных на обсуждение исторических вопросов, публикацию документов, в растущей охоте «вспоминать», писать мемуары и в том, что история становится нередко сенсационной модной темой разговоров в салонах, кружках столичных и провинциальных. История «сообщила новый характер политике, вошла в жизнь и нравы частных людей»[1301]. «История теперь превращается во все, что всем угодно…»[1302]
Пластичность истории, ее податливость, готовность вобрать и предложить ответ на самые жгучие современные вопросы обусловили ее небывалую экспансию, подчинение публицистики, театра, живописи. Отзывчивость литературы на запрос эпохи оказалась, наверное, одной из самых сильных.
…Исторический роман и историческая драма интересуют теперь всех и каждого больше, чем произведения в том же роде, принадлежащие к сфере чистого вымысла[1303].
«Культ истории»
«Страсти» общества по истории закономерно сконцентрировались в поисках оптимальной литературной формы, соответствующей накалу чувств. Исторический роман возникает как «симметричный» ответ в литературе тому брожению умов, что происходило в соседних интеллектуальных сферах. Неслучайно поэтому, что именно исторический роман стал кульминацией, вершиной, литературным «оформлением» культа истории.
Революция, совершенная в исторической романистике Вальтером Скоттом, имела для России пусть и локальное, но не менее важное значение, чем революции политические у европейских соседей. Смысл этого переворота заключался в нескольких вещах. Во-первых, Вальтер Скотт создал целую романную школу. Эта школа работала бесперебойно – с июля 1814 по ноябрь 1831 года. За 17 лет выпущено 26 романов. Один-два новых текста ежегодно приучали к регулярному чтению, давали уроки стабильной, хорошо отлаженной литературной практики, способствовали формированию привычек, вкусов, навыков исторического художественного письма. Кроме того, в этой школе русские писатели быстро обучались литературной технике, наблюдению за устройством романов, осваивали приемы, необходимые для исторического романиста. Прозрачность морфологии вальтер-скоттовского романного типа способствовала легкости обучения и воспроизводства этих конструкций с разным содержательным наполнением и в варьирующихся исторических декорациях[1304]. Но главное, конечно, заключалось в том, что школа Вальтера Скотта заложила целую культуру исторического романного мышления, сфокусировала романную оптику на обыденных, домашних, частных деталях. Их заразительность отмечал Пушкин в своих заметках 1830 года «О романах Вальтера Скотта». Его поддержали многие современники и те, кто, отдавая дань вальтер-скоттовскому писательскому искусству, позднее признавал его архаичность.
Исторический, вальтер-скоттовский роман – это пространное, солидное здание, со своим незыблемым фундаментом, врытым в почву народную, со своими обширными вступлениями в виде портиков, со своими парадными комнатами и темными коридорами для удобства сообщения[1305].
В России только за шесть лет с 1823 по 1829 год выходят на русском языке 25 переводных романов Вальтера Скотта. Тогда же в большом количестве выходили «серые и грязные» книжки 60-томного французского собрания сочинений – «дефоконпретовских переводов»[1306]. Переводчики внесли свою лепту в создание особого языка исторического романа, и провалы в этом смысле тоже сыграли свою роль, может быть, сопоставимую с удачами, оставшимися в читательской памяти. Несмотря на то что к концу 1830-х популярность Вальтера Скотта уменьшилась, все равно его сочинения переиздавались и раскупались позднее.
Для русских читателей значимы были не только тексты, но и подробности биографии своего литературного любимца. Жизнь Вальтера Скотта после его смерти становится частью легенды и той реальностью, которая особенно дорога русской публике. Биографы-посредники занимают должное место в вальтер-скоттовском пантеоне. В этом ряду обстоятельный очерк-рецензия на мемуары о В. Скотте Томаса Карлейля (London and Westminster Review. 1838. № 12)[1307] – чуть ли не самое веское суждение о Скотте[1308], на которое «оглядывались» те, кто писал о «шотландском барде» позже.
«Русских Вальтеров Скоттов» было много, каждый читатель и переводчик, собиратель библиотеки сочинял, кроил «своего» романиста по каким-то своим критериям и лекалам, «городским» и «усадебным», столичным и провинциальным, и по этому «вальтер-скоттовскому компасу» составлялись рецепты для русских исторических романов[1309]. Показательна история одного тогдашнего сочинителя. Михаил Воскресенский[1310] (1803–1867), из духовного сословия, медик, необычайно плодовитый литератор, выпустивший без малого 40 томов, известен как автор «Евгения Вельского», неудачной пародии-подражания пушкинскому «Евгению Онегину»[1311]. Свой вход в литературу он начал как раз с перевода романов Вальтера Скотта: «Талисман, или Ричард в Палестине» (Ч. 1–3. М., 1827), «Сен-Ронанские воды» (Ч. 1–6. М., 1828), «Морской разбойник» («Корсар») (Ч. 1–4. М., 1828), «Пертская красавица» (Ч. 2, 4. М., 1829). Случай Воскресенского – в высшей степени характерный. Он переводил с французского, учился у французов. Вальтер Скотт в его изложении тоже был отчасти «французский», близкий другим его литературным учителям – Гюго, Жюлю Жанену, раннему Бальзаку. В «исполнении» Воскресенского терялись характерные черты романистов, и получался некий средний образ исторической беллетристики, наполненной замысловатыми приключениями, мелодраматическими оборотами, интригами: «Целые груды страстей законных и противозаконных, события верхом на событиях»[1312]. Вальтер-скоттовская выучка сказалась в изначально полученном заряде, толчке, неостановимой инерции писательства.
Обыкновенно к новому году… издает роман замоскворецкий Вальтер Скотт г. Воскресенский, – роман, наполненный лицами и происшествиями, возможными разве на луне, роман, в котором герой непременно или черкес или разбойник… роман приторный, пошло чувствительный[1313], —
так отзывался Н.А. Некрасов в 1843 году, имея в виду рассказ Воскресенского «Замоскворецкие Тереза и Фальдони», опубликованный в «Литературной газете».
Итак, вальтер-скоттовская мода шла в Россию не прямым путем, а нередко формировалась через посредство французского примера. Поэтому в амальгаме русского исторического романа наряду с английской «струей» властно присутствует французское начало, особенно усилившееся после смерти Вальтера Скотта. Соперничество, интерференция этих двух линий повлияли на родословную отечественного исторического романа самым решительным образом. Имя Вальтера Скотта постепенно уступало место Виктору Гюго: их параллелизм, конкурентное сотрудничество отчетливо осознавались русской образованной публикой. «Собор Парижской Богоматери» и «Отверженные» постепенно вытесняют скоттовские тексты: «Квентин Дорвард», «Морской разбойник» и другие романы постепенно сдают свои позиции и безусловные приоритеты.
История «русского Гюго» не менее впечатляюща, богата своими сюжетными ходами, «вкладчиками», чем история «русского Вальтера Скотта». Вдобавок она подробно изучена[1314]. Таким образом, столкновение Скотт – Гюго на русской почве обеспечило «короткое замыкание» в культуре. При всех нюансах и тонких различиях, чутко расслышанных, эти два мира образовали симбиоз, срастались на другой культурной почве наподобие двуликого Януса. Один «поправлял», корректировал другого. «Мещанство» (по выражению Ап. Григорьева) Вальтера Скотта, домашность его истории пришлась ко двору отечественной публике и благосклонно отмечалась многими – и Пушкиным, и Белинским. А на другой чаше весов располагалась рафинированность, изощренность чувства истории Гюго, симметричные «обыденному» скоттовскому историзму. После первичного доминирования Вальтера Скотта англосаксонское и французское начала стали затем необходимо дополнять, уравновешивать друг друга. Оба течения смогли составить не лишенное внутреннего конфликта целое в сознании русского автора-читателя, нуждавшегося как в том, так и в другом опыте.
Это партнерство лишь ускорило рождение русских версий жанра и придало им особый мифологический отпечаток. Но об этих функциях исторического романа, о его вкладе в создание национальной мифологии речь пойдет дальше. Не в последнюю очередь изначально мифогенной природе романа сопутствовала та полемическая среда, в высшей степени насыщенная горячим интересом к истории, что продуцировала общие риторические шаблоны и модусы мировосприятия, усвоенные романистами.
Исторический роман как дискуссионная проблема 1820–1830-х годов
Многочисленные попытки русских писателей создать исторический роман вот-вот должны были увенчаться успехом, тем более что форма исторической повести к 1820-м годам состоялась и обещала продолжиться в романе – жанре, в сравнении с повестью чуть более пространном и «болтливом», по слову Пушкина. Между тем романа все не было. Роман не получался даже у Пушкина, но чем больше накапливалось не удач и разочарований, тем острее осознавалась неизбежность романа. Его нехватку компенсируют разговоры. А напряженное ожидание появления, предчувствия романа питают журнальные и салонные дискуссии[1315]. В «записках», «письмах» нередко воспроизводятся диалоги, в которых собеседники – «светские люди» – в кружках обсуждают благоприятные обстоятельства или неустранимые препятствия для возникновения романа на русской почве; журнальные герои представляют точки зрения реальных персонажей 1820-х годов: В. Титов опубликовал в «Московском вестнике» статью «О романе как представителе образа жизни новейших европейцев», М. Погодин делился с читателями своей версией жизнеспособности жанра в «Письме о русских романах», напечатанном в альманахе «Северная лира на 1827 год». П. Вяземский рецензировал альманах и отвечал М. Погодину, И. Киреевский сочинил очерк «Царицынская ночь» и в свою очередь полемизировал с П. Вяземским. Во всех этих текстах стоял вопрос: быть или не быть русскому историческому роману, приводились аргументы как сторонников, так и противников, категорически отрицающих отечественные перспективы жанра.
Если упростить всю сложную картину полемики, то среди ее участников можно выделить две группы – тех, кто отказывал русской истории в праве на самобытность, и тех, кто видел неповторимую насыщенность событиями, способными стать полноценной романной канвой. Так, в «Первом философическом письме» (1829) П.Я. Чаадаев, сравнивая русскую историю и европейскую, называл одно свойство, присущее европейским народам, но напрочь отсутствующее у русских, – наделенность исторической памятью:
Все общества прошли через такие периоды [великих побуждений и пр.], когда вырабатываются самые яркие воспоминания… Мы, напротив, не имели ничего подобного… Окиньте взором все прожитые века, все занятые нами пространства и Вы не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания…[1316]
С этой идеей «амнемозии», – глубоко укорененной в чаадаевском понимании русской истории, не знающей ни прошлого, ни будущего, а лишь тесное настоящее в мертвом застое[1317], – не соглашались многие.
К примеру, М. Погодин видел в русской истории исключительное богатство и в упомянутом выше «Письме о русских романах» предложил свой список, включающий темы-«воспоминания», будущие источники романа. В погодинскую программу входили допетровские времена, крещение Руси, междоусобие, Смутное время (богатое неординарными личностями и недюжинными характерами, вызывавшими зависть у западных романистов), сосуществование норманнов, греков и славян у истоков русской истории, разнохарактерность народонаселения России, что, по мысли Погодина, являлось залогом увлекательных романных положений.
П. Вяземский, отвечая М. Погодину, наметил свой «контрсписок», границы которого хронологически начинались там, где заканчивались «рубежи» М. Погодина: П. Вяземского как западника интересовали преимущественно петровское и послепетровское время. Обе программы предоставляли авторам свободный выбор и по существу открывали широкие возможности освоения всех разломов русской истории. Можно считать еще одним серьезным итогом историоцентризма «стирание границ» между прошедшим временем и современным, наделение истории статусом универсальной категории, прививку истории и привычку существовать в историческом контексте, постепенно ставшую образом мысли и стилем жизни.
Мемуарная литература и беллетристика: встречное движение
Отсутствие в русском обиходе культурной памяти как регулярной привычки вести записки, мемуары; дефицит и относительно позднее обретение «вспоминательных навыков», появившихся только в первые десятилетия XIX века, излечение от беспамятства, воспоминания как постоянная историческая практика – все это стало «разрыхлителем» романной почвы. Мемуары – генетическая составляющая исторического романа – отдельная капитальная тема. Мы лишь методологически наметим эту связь, хотя фрагментарно и по другим поводам на нее указывали прежние исследователи:
…потребности литературного развития явились еще одной причиной пристального внимания к мемуаристике, но – непременно надо оговорить – причиной вторичной, производной от общих достижений исторического сознания эпохи[1318].
Думается, что почти синхронное становление мемуарной и романной традиции в русской культуре или, точнее сказать, некоторое запаздывание мемуарной формы по отношению к романной, появление исторического повествования словно бы вопреки законам, наперекор обстоятельствам, свидетельствовало о том, что роман брал на себя функции отсутствующей мемуаристики – одомашнивать и приручать историю, видеть ее преимущественно в бытовом измерении.
Сотрудничество «двух литератур», двух ветвей словесности не случайно и на самом деле гораздо глубже, чем это кажется на первый взгляд. Однако бедность и слабость культурной памяти интерпретировались критиками и участниками споров о судьбе исторического романа как препятствие его развитию. Белинский, комментируя трудности, с которыми сталкивается тот, кто берется написать исторический роман, относил к ним отсутствие источников, а также самих навыков запоминать и записывать детали прошлого. А без опоры на живые свидетельства и факты, полагал он, невозможно воспроизвести, в частности, жизнь допетровской Руси, столь притягательную для авторов. «Где литература, где мемуары того времени?»[1319] Мемуарная литература довольно быстро наверстывала упущенное и взяла реванш, но имеет смысл проследить тенденции соотношения той и другой литературной ветви в интересующий нас период.
Если воспользоваться методикой расчетов А.Г. Тартаковского[1320], показывающих движение публикаций мемуарного характера в пределах 1801–1860 годов, то можно установить количественную и тематическую зависимость между «мемуарной» и «романной» группами, установить временные корреляции между ними. Кроме того, стоит уточнить, что исследователь учитывал только печатную продукцию, справедливо ориентируясь на ее известность и публичное распространение (для Пушкина и Вяземского, первых и главных ревнителей мемуарной культуры, факт попадания на журнальные страницы «записок» и «преданий» был принципиален; публичность, читательская доступность, открытость, а не кулуарность – залог воздействия такого рода текстов). Таблицы динамики движения публикаций воспоминаний и дневников в дореформенный период в исследовании А.Г. Тартаковского построены главным образом на материалах фундаментального справочника о русской дореволюционной мемуаристике[1321] и расписаны по годам.
Между тем, на наш взгляд, стоит расширить границы мемуарного «сектора» за счет включения в него рукописных материалов. Неизданные, хранившиеся только в узком домашнем кругу, они тем не менее также являются важным показателем подымающейся «температуры» в этой сфере. Представления об этом подспудном массиве с учетом старых[1322] и новых[1323] данных крупнейших архивохранилищ (к примеру, лишь одной мемуарной коллекции, хранящейся в РГАЛИ[1324]) позволят более полно восстановить картину. Даже анализ только этого собрания, насчитывающего сотни документов, показывает, насколько интенсивной и бурной была практика ведения дневниковых записей и воспоминаний в эти годы. Некоторая доля их публиковалась фрагментарно[1325], большая часть так и оставалась рукописной, бытовала в кругу семейных хранилищ и дружеских преданий.
Если дополнить количественные данные, приводимые в монографии А.Г. Тартаковского[1326], сведениями из библиографического указателя русских исторических романов 1830-х годов (Д. Ребеккини) а также результатами исследования ряда архивохранилищ (РГАЛИ, ОПИ ГИМ, ОР РГБ, ОР РНБ, РГИА), можно прийти к следующим предварительным выводам:
• за период с 1801 по 1840 год в целом наблюдается рост мемуаристики;
• сохраняется разрыв между неопубликованными, рукописными, хранящимися в семейных архивах, и опубликованными материалами. Причем к середине – концу 1830-х годов этот разрыв увеличивается: печать не успевает за темпами «домашнего» накопления мемуарного ресурса. К середине и во второй половине века этот разрыв будет сокращаться, появятся периодические издания («Русский архив», «Исторический вестник» и др.), публикация мемуаров, исторических документов бытового характера станет обязательной частью их программы. Кроме того, начиная с 1840-х годов все чаще выходят отдельные издания воспоминаний;
• в 1820-х все же происходит некоторый спад мемуаристики. В этот период мы видим некоторую «компенсацию» понижения «вспоминательной активности» (как в печатной, так и в домашней сферах) за счет значительного повышения доли исторической беллетристики – отечественных исторических повестей, переводных романов;
• первый кульминационный виток русской исторической романистики совпадает и с количественным ростом мемуарной продукции, что и в последующие десятилетия будет находиться в прямой пропорциональной зависимости.
Если говорить о соотношении тематического репертуара «двух литератур», то «расчистка» мемуарных запасов тоже показательна: мы видим, что разработка того или иного эпизода русской истории, интерес к историческим лицам и событиям взаимозависимы, одна литература служит «маркером» для другой, стимулирует, подталкивает к обсуждению и прорисовке деталей, вбрасывает трактовки сюжетов. Эта взаимозависимость усугубляется и дополняется еще одним важным качеством: не только привычка писать мемуары, но и читать их, вводить в научный, бытовой, писательский обиход, – все эти навыки, каждый по-своему, служили формированию контекста для создания исторической мифологии.
В зависимости от возраста и жизненного опыта читателя исторические события, описанные в мемуарном тексте, теряют конкретность и приобретают все более общие и абстрактные черты. Многосторонность и противоречивость исторического процесса стирается в читательском восприятии из-за отсутствия разных точек зрения на событие. Начинается процесс мифологизации истории[1327].
И мемуаристика, и русский исторический роман активно сотрудничают в создании специфического мифологического нарратива. Подробное описание такого сотрудничества может стать предметом отдельной работы.
Мифологизация – сложная, но достаточно разработанная тема, особенно в контексте широко обсуждаемых аспектов пушкинской эпохи[1328]. Забегая вперед, возьмем на заметку еще одно свойство историко-беллетристического жанра. Исторический роман словно бы нуждается в сопровождении, аккомпанементе и поддержке других сфер искусств. Так, теряя энергию в прозе, историческая тема блуждает, переселяется в театр 1850–1860-х годов и живет в драмах Л.А. Мея, хрониках, трагедиях, комедиях, написанных А.Н. Островским на темы русской истории[1329], драмах А.К. Толстого, А.Ф. Писемского. Затем роман снова берет реванш, набирает силу и возвращается, захватив читательское внимание в 1870–1880-х годах.
«Преджанр» исторического романа тоже проживает свою параллельную судьбу – в нем различимы завязка, развитие, кульминация и спад. Хронологически к завязке и развитию, наверное, следует отнести повести 1790–1810-х годов. В это двадцатилетие появляются исторические новеллы Н.М. Карамзина – «Наталья – боярская дочь» (1792) и «Марфа Посадница» (1803), «Рогвольд» В.Т. Нарежного, «Вадим Новгородский» (1803) и «Марьина роща» (1809) В.А. Жуковского, «Предслава и Добрыня» (1810) К.Н. Батюшкова, «Письма к другу… с присовокуплением исторического повествования: Зинобей Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия» (1816–1817) Ф.Н. Глинки.
Чем ближе к 1820-м годам, тем очевидней кульминация, жанровое «крещендо», связанное с освоением и отчасти присвоением вальтер-скоттовского канона исторической беллетристики как бытовой, домашней мифологии, удобной в то же время для описания современности. Такими были «русские» повести А. Бестужева-Марлинского – особенно «Роман и Ольга» (1823), «Изменник» (1825), «ливонские», открывшие экзотическую историю Прибалтики, – «Замок Венден» (1823), «Замок Нейгаузен» (1824), «Замок Эйзен» (1825), «Ревельский турнир» (1825), а также «родственная» географически и близкая по сюжету «эстонская» повесть «Адо» (1824) В. Кюхельбекера, – все они сделаны по лекалу «шотландского романтика», что доказали не раз критики-современники и более поздние исследователи.
Авторы этих текстов решали почти что лабораторные, «технические» задачи: таковыми были сочетание источников и первоисточников (в пределах одной повести всплывают, к примеру, реминисценции из Нестеровой летописи, «Повести временных лет», карамзинской «Истории»); табу и их нарушение, допустимость бытовых, этнографических примет, введение комментариев и примечаний, выбор между живым, современным языком или имитацией архаики.
Морфология исторического повествования
Конвейерный способ производства романной продукции, заведомая клишированность ее устройства не в последнюю очередь обеспечивали своеобразную легкость создания и распространения исторических мифов. Думается, что поэтика и генезис жанра во многом объясняют возможности встраивания его в дальнейшее развитие той или иной мифологемы. Выше речь шла об исторической повести как о полигоне и прологе романа. Но разумеется, и синхронический, и диахронический контекст ничуть не меньше значили для оформления жанра.
О «монтажном», эклектичном характере романа писали критики 1830-х годов и современные исследователи. Не раз отмечалось многими, что и повесть, и роман смонтированы из разных «лоскутов», фрагментов, готовых блоков сюжетных ходов, характеристик, предсказуемых положений, переходящих из текста в текст. Поэтому вальтер-скоттовский тип исторического повествования стал своего рода азбукой жанра, набор конструкций, образных и смысловых ходов которого укладывался в несколько комбинаций, привычных для читателя. Эти «кочующие» блоки, обнаруживаемые в разных сочетаниях, их «механическая» природа была очевидна аудитории, обращавшейся с текстом не только как со «штучным» фактом вымысла, фантазии, но и как с изделием «промышленным».
Писать романы в ту пору – все равно что заниматься промыслом, литературным ремеслом, обрекающим автора на неизбежные повторы. Спрос поистине рождал предложение. Отсюда – гонка объемов, быстрота, рост цен на рынке, авторская многостаночность:
Один из наблюдателей сей отрасли промышленности литературной извлек общие правила… Вот они: 1-е. В историческом романе герой необходимо должен быть лицом вовсе незначительным. Героиня также может обойтись без характера. 2-е. Постарайтесь злодеям вашего романа придать какую-нибудь странную добродетель, а честным людям какую-нибудь смешную странность, но самую необыкновенную. 3-е. Надобно всегда выставлять какое-нибудь площадное лицо с великим характером. 4-е. Не забудьте и того, что между лицами вашего романа непременно должен быть дурачок или дурочка, которых вы по временам заставляете произносить какое-нибудь таинственное изречение. 5-е. Беспрестанно мешайте комическое с трагическим[1330].
В целом правы те исследователи, которые рассматривают исторический роман 1830-х годов как отражение романтической эклектичной эпохи, ориентированной на мозаичные, клишированные жанры и формы культурного быта. Генезис романа соединяет две линии – собственно литературную и бытовую. Благодаря «сотрудничеству» литературы «высокой» и «массовой», салонной, кружковой, писательской, журнальной, околожурнальной, издательской – и шире – читательской среды складывалась особая культура мифологизации истории, совместно осваивалась практика литературно-исторической мифологии, формировалась писательская репутация как биографический миф. В силу «центрального» стержневого положения исторического романа в жанровой системе 1830-х годов, в силу монтажности устройства, его можно рассматривать как «первое лицо», «жанр номер один», «управляющий» целым жанровым государством. В нем собрана коллекция тематических линий, сюжетов, источников. Исторический роман оказался своего рода сверх-жанром, метажанром, структурно эквивалентным «библиотеке» книг, находящейся внутри единого текста.
Реальная библиотека в идеале своем наиболее полно стремится представить весь набор современных знаний, закрепленных рукописями, изданиями, а ее целостность обеспечивается предоставляемой возможностью пользоваться «ключами», а также описями, каталогизирующими собрание материалов. Уточним, что методологической основой такой практической мифологии в романе была не только литературная традиция и экспансия «монтажных» изделий, предопределенная всей эстетикой романтизма, о чем речь шла выше, не только Вальтер Скотт и «неистовые французы», но и фольклорное, сказочное сознание с его ориентацией на готовые образцы. Кроме того, необходимо учитывать и условия бытования исторического романа, его «дрейф» от отдельных дорогостоящих многотомных и многочастных изданий в сторону дискретных публикаций в толстых журналах (что, как показали исследователи, делало это литературное занятие еще более выгодным), а затем превращение романных авторских повествований в тексты лубочные, нередко безымянные, отредактированные по всем правилам народной массовой словесности[1331]. Таким образом, следование канону, с одной стороны, а с другой – множественность комбинаций литературной «переупаковки» стали залогом появления первой современной историко-литературной мифологии.
Фабрика романов
Эта мифология – как занимательное чтение – создавалась усилиями примерно пятидесяти авторов, на протяжении десяти лет выпустивших около сотни романов. Благодаря энергии «романной фабрики» и возник тот универсум, что позднее прочно вошел в русский культурный и бытовой строй жизни.
Рис. 1. Русские исторические романы 1830-х годов
Как видно из графика публикации исторических романов, «температурная» кривая исторической романистики измеряемого десятилетия крайне неровна. Первые два года в отсутствие конкуренции она держится на минимальных позициях. Следующие три – резкое обострение исторической «горячки» и рост. Пик продаж и читательского спроса приходится на 1834 год. «Фабрика» работает на пределе мощностей. Затем спад, примерное возвращение к позициям «первого подъема» 1832–1833 годов, когда романисты набирали обороты. 1837 год – снова скачок. 1838 – отсутствие новинок, падение, первый признак перенасыщения рынка. Но в 1839 году – новый мощный взлет, последний перед уходом со сцены на несколько десятилетий. С некоторой осторожностью можно говорить о том, что в этом плавильном котле исторической романистики складывалась «цеховая» биография автора, «коллективный портрет» того, кто был вовлечен в этот производственный процесс, «стоял у станка». Эта «коллективная биография» не менее мозаична, чем те произведения, которые выходили из-под пера тогдашних сочинителей. Попытаемся все же вывести общий характер и показательные черты «исторического романиста» той эпохи.
Два поколения трудились на ниве исторической беллетристики. Первое поколение – «отцы», старшие, к моменту вступления на литературное поприще – зрелые тридцати-сорокалетние мужи. Метрики старших, даты рождения: Загоскин – 1789 год, Лажечников – 1790, Свиньин – 1788, Булгарин – 1789, Полевой и Зотов – оба 1796 года. Все они – почти ровесники, располагающие общим историческим фоном переживания и действия. Второе поколение – «дети», «младшие», писатели «массовые», для низов (хотя довольно трудно четко провести черту; так, Иван Гурьянов[1332], год рождения 1791, одна из интереснейших фигур, создававших историческую беллетристику, по возрасту относится к первым, старшим, по роду и характеру занятий – ко вторым). Года рождения вновь близки: Глухарев – 1809, Любецкий – 1808, Голота – 1812. У многих «отцов» за плечами 1812 год, живой опыт участия в большой истории. «Дети» получили в наследство рассказы и предания старших очевидцев. «Дети» – вторые, поэтому они среди «отцов» выбирают «учителей». Для Гурьянова авторитет – Булгарин; Глухарев подражает Загоскину, используя «просто так» в заголовках фамилии героев известных книг, никак не оправдывая названия сюжетом; Голота, контаминируя детали, подражает сразу всем. И старшие, и младшие связаны с Москвой, с Московским университетом (либо получили систематическое образование, либо брали отдельные уроки, преподавали в «околоуниверситетских» учебных заведениях, дружили с профессурой – об эпизодах москвоцентризма будет сказано ниже). Отсюда – отчасти «университетский стиль» письма, сказавшийся, к примеру, в тщательной разработке источников, стремлении получить информацию из первых рук, проработать материалы de visu.
Если попытаться найти место литературы в насыщенных разнообразными и, порой, разнородными занятиями биографиях старших и младших, то вряд ли сочинение романов стоит считать единственным главным делом жизни, претерпевшим, однако, мифологическую аберрацию в восприятия последующих поколений. Нет, все они – «многостаночники», чиновники, государственные деятели, неуемные авторы проектов. Рафаил Михайлович Зотов (1796–1871), к примеру, был деятельным администратором; он обосновывал возможность постройки железной дороги из Петербурга в Одессу, был сторонником выкупа крестьян, сокращения воинской службы до трех лет.
При несходстве характеров и судеб авторов в культурной памяти современников и потомков остался отчасти идеальный, идеализированный, положительный «сборный» образ исторического романиста, обласканного властью, добившегося особой благосклонности и высочайшего поощрения, что приравнивало успех в этом литературном жанре к заслугам государственной важности, а сам роман обретал не просто художественную значимость, а политический смысл.
Посмотрим, как выглядела сложившаяся иерархия писательских позиций, как складывались авторские предпочтения в выборе источников, тем, героев, как этот выбор стимулировал возникновение национальной мифологической картины мира.
Сведения библиографов помогают восстановить данные[1333], согласно которым тематически и количественно обживание художественного космоса русской истории можно приблизительно разбить на следующие группы (цифры означают число опубликованных произведений по соответствующей теме в 1830-е годы):
• Киевская Русь, Русский каганат, Новгородская Русь – 4;
• Раздробленность и собирание русских земель – 3;
• Нашествие Золотой Орды – 2;
• Димитрий Донской – 2;
• Завоевания Новгородской республики, присоединение Пскова, Смоленска, Верховских княжеств и Рязани, возникновение Московского государства – 3;
• Царствование Ивана IV Грозного, завоевание Казанского ханства, укрепление Московского государства – 4;
• Ливонские войны – 2;
• Война с Польшей (Стефан Баторий) – 2;
• Русско-крымская война – 2;
• Походы Ермака в Сибирь – 2;
• Смутное время, конец Смуты – 4;
• Избрание Михаила Романова – 6;
• Укрепление Империи, присоединение к России Украины – 9;
• Петровские реформы – 13;
• Эпоха дворцовых переворотов 1725–1801 – 6;
• Царствование Екатерины II – 11;
• 1812 год – 18.
Можно полемизировать о точности показателей, тем не менее очевидно, что стараниями исторических романистов происходила известная мифологизация Петровской эпохи, екатерининских времен[1334], событий 1812 года[1335] и других важнейших вех жизни Российской империи, в романе закладывался каркас государственного мифа. Налицо массированная атака буквально на всех фронтах, на всех ярусах общества, стремительное заполнение вакансий, быстрый (в течение одного лишь десятилетия) взлет. Удовлетворивший потребности и вкусы и тем самым задевший по крайней мере два-три поколения, исторический роман сумел создать пересекающиеся контексты исторической мифологии, что дает нам некоторое право все многообразие сочинений этого рода прочитать как единый текст.
Фигуры
Одной из самых легендарных фигур среди литераторов, исторических романистов был Михаил Загоскин, автор романа «Юрий Милославский» (1829). С его легкой руки начинался отсчет русской исторической романистики.
В авторскую «легенду» Загоскина входило несколько принципиальных составляющих. Он – первый, основатель, «отец», центральная фигура, занявшая вакантное место национального романиста в отечественной словесности. Отсюда в многочисленной критике и воспоминаниях выстраивается мифология центра, главных и периферийных лиц и текстов в русской исторической романистике, эталонность, с которой так или иначе соотносятся новинки – сочинения собственные и чужие, а главное, морфология литературного успеха как национальной победы, воодушевившей и объединившей русское общество. Успех Загоскина многократно усилен двумя обстоятельствами: в первую очередь благоприятным контекстом – «Юрий Милославский» воспринимался как альтернатива нравоописательным и историческим романам Булгарина «Иван Выжигин» и «Дмитрий Самозванец». Второй фактор – активная национальная самоидентификация, настоятельный отказ от европейских учителей, что совпадает с общей тенденцией 1830-х (и знаменитое впоследствии «Нет, я не Байрон, я другой» написано Лермонтовым в 1832 году).
Свидетели успеха описывают его воздействие на публику как восторг, восхищение, единый порыв, объединивший обе столицы и провинцию, национальный праздник, радость. «Юрий Милославский» быстро перерос литературные рамки и превратился в событие политическое. Загоскин стал национальным героем, фигурой, которой почти поклонялись, а его дом превратился в место паломничества.
…Все обратились к Загоскину: знакомые и незнакомые, знать, власти, дворянство и купечество, ученые и литераторы – обратились со всеми знаками уважения, с восторженными похвалами; все, кто жили или приезжали в Москву, ехали к Загоскину; кто был в отсутствии, писали к нему. Всякий день получал он новые письма, лестные для авторского самолюбия[1336].
Это еще одно свидетельство об особой обстановке, сложившейся вокруг романа.
Концептуальная альтернатива вальтер-скоттовскому роману сформулирована Загоскиным 20 января 1830 года в полемическом письме В.А. Жуковскому, приученному традицией к тому, что действие отодвинуто в романах как минимум на полвека от времени написания текста. Загоскин же настаивает на правомерности иной хронологической актуализации и четче проясняет свою национальную «программу»:
Вам кажется почти невозможным написать роман, в коем должно вывести на сцену наших современников, с которыми мы так близки и из которых многие еще живы и теперь. Вот что я скажу вам на это. Исторические романы можно разделить на два рода: одни имеют предметом своим исторические лица, которые автор заставляет действовать в своем романе и на поприще общественной жизни, и в домашнем быту; другие имеют основанием какую-нибудь известную эпоху в истории; в них автор не выводит на сцену именно то или другое лицо, но старается охарактеризовать целый народ, его дух, обычаи и нравы в эпоху, взятую им в основание его романа. К последнему разряду принадлежит «Юрий Милославский» и роман, которым я теперь занимаюсь. И вот почему я не мог их назвать иначе, как «Русские в 1612-м» и «Русские в 1812 году»[1337].
Загоскин настаивал на своем приоритете разработки исторического романа как современного. Русский патент Загоскина признала публика, Пушкин, задетый идеей и ее художественным воплощением во втором загоскинском романе, писал своего, другого «Рославлева», а гоголевский Хлестаков, пребывая в состоянии «легкости мысли необыкновенной», не задумываясь признается в авторстве «Юрия Милославского», только другого, а не господина Загоскина. Знаменательно, что «воспоминание» о загоскинском сочинении возвращается в пересказах, продолжениях, новых версиях, возрастных адаптациях в последней трети XIX – начале XX века и совпадает со второй волной русского исторического романа.
С.Т. Аксаков (биограф М. Загоскина), И.С. Тургенев, А.А. Григорьев, – все те, кто писали о нем, так или иначе внесли свой вклад в создание «загоскинского мифа», окончательно оформившегося после смерти романиста в 1852 году. В этом мифе соединяются черты одновременно прагматичного успешного автора, умеющего извлечь выгоду из растущей славы, и отрешенного романтика, погруженного в свой предмет.
Встречаясь на улицах с короткими приятелями, он не узнавал никого, не отвечал на поклоны и не слыхал приветствий: он читал в это время исторические документы и жил в 1612 году[1338].
Слава скоротечна, и через несколько лет после смерти Загоскин уже записан в «бывшие», он – «литератор в отставке», не действующий. И эти воспоминания об успехе и о той небывалой роли, которую коротко, но так ослепительно сыграл автор первого исторического романа на русской культурной сцене, еще больше закрепили его персональный миф.
Благосклонности первого лица, императорской ласке, по праву принадлежало центральное звено в биографической легенде. Хроника покровительства коротка, но выразительна. Николай I сразу же публично причислил себя к числу страстных поклонников «Юрия Милославского» и свою поддержку подкрепил вещественным доказательством – он подарил Загоскину перстень. Более того, император не остался сторонним наблюдателем конфликта, а вмешался в журнальную травлю, которую учинили оппоненты. Булгарин опубликовал единственную отрицательную рецензию (в «Северной пчеле» за 1830 год, 16, 18, 21 января). За Загоскина вступился Воейков и в своем «Славянине» нещадно обругал Булгарина и всех его сотрудников. Николай I приказал Бенкендорфу объявить воюющим сторонам, чтобы они прекратили бой. Несмотря на это, Булгарин напечатал в «Северной Пчеле» отповедь Воейкову. Вследствие этого Булгарин, Греч и Воейков были 30 января 1830 года посажены на гауптвахту[1339]. Булгарин впоследствии оправдывался и много позже, 29 октября 1843 года, писал Загоскину, что автором ругательного отзыва о его романе в «Северной Пчеле» был не он, а его сотрудник А.Н. Очкин[1340].
Роман «Юрий Милославский» как ядро национальной мифологии
Роман «Юрий Милославский» сразу и безоговорочно погрузил публику в целый водоворот громоздящихся мифологических фрагментов, вступающих друг с другом в причудливые связи. В романе одним из ключевых оказался «антипольский миф», представленный поляком Гонсевским, играющим двойную роль – он и доброжелатель, и конкурент Юрия, – но никогда прямо не вступает в действие. Пан Тишкевич – для контраста – хороший поляк среди дурных. Уравновешивая «антипольский миф», симметрично ему художественно воплощен благостный и просветленный «пророссийский миф», миф об «освободителях Отечества» от поляков: Кузьма Минин, один из руководителей Земского ополчения, уговаривает Юрия изменить Владиславу ради православного народа. В ходе повествования главный герой понимает, что совершил ложный выбор, присягнув королевичу Владиславу в надежде на его помощь в прекращении русской Смуты. Переход Юрия к «своим», а также фигуры русских на польской стороне – все это призвано еще больше усилить миф о «плохих поляках». При всей пестроте и кажущейся избыточности разрозненных линий, все они неизменно сходятся в одной главной точке, в одном фокусе. Патриотический миф еще программнее, еще определеннее вырисовывается в следующем загоскинском романе «Рославлев, или Русские в 1812 году», который появляется вскоре после первого, в 1831 году.
Симметрия дат – 1612 и 1812 – замечена читателями как внятный авторский сигнал: победа заслужена страданием, поражением, а затем двухсотлетним искуплением. Эти события – не разрозненные эпизоды истории, а звенья одной цепи. Двести лет, отделяющих фабулу одного романа от другого, чуть меньше, чем двадцать лет – расстояние между событиями времен Отечественной войны в романе «Рославлев» и его реальным изданием. Рифмующаяся кратность своеобразных юбилеев – намек на почти мистическую подоплеку магистрального патриотического мифа.
Я желал доказать, что, хотя наружные формы и физиономия русской нации совершенно изменились, но не изменилась вместе с ними наша непоколебимая верность престолу, привязанность к вере предков и любовь к родимой стороне[1341].
С точностью часового механизма через два года после «Рославлева» Загоскин выпустил книгу «Аскольдова могила. Повесть из времен Владимира Первого», неожиданно сдвинув повествование на десять веков назад во времена Крещения Руси. В завязке романа, отличающегося сверхсложным, но крепко сколоченным сюжетом, лежит коллизия тотального предательства. Источником романа, как известно, стал «аскетичный» рассказ Карамзина. Загоскин максимально дополнил и расцветил карамзинскую канву своим воображением, однако не он один отметил своим выбором актуальность именно этого эпизода, изначально подтвержденного летописями. Свидетельством общего интереса, не раз отмечаемого исследователями, может служить почти параллельная разработка того же самого сюжета Н. Полевым в романе «Клятва при Гробе Господнем». Знаменательно, что в 1848 году, через семнадцать лет после «Рославлева», когда Европа была охвачена пожаром революций, Загоскин довершил свой национальный «проект», «закольцевав» мифологический эпос. Роман «Русские в начале осьмнадцатого столетия» – финальная часть «трилогии», завершающая глава – после «Милославского» и «Рославлева». «Рассказ из времен единодержавия» Петра Первого – согласно подзаголовку – в третий (или в четвертый раз) напоминает о стойкости отечественного имперского мифологического порядка, в своем упорстве противостоящего рухнувшим европейским устоям.
Скачкообразность временной оси в этой трилогии (или тетралогии) – XVII век, XIX, IX, XVIII – знаменательна и, как это ни парадоксально, может быть сопоставима с романом Лермонтова «Герой нашего времени», прочно вошедшим в культурную память. Исследователи также отмечают влияние «Юрия Милославского» на незавершенный исторический роман «Вадим»[1342]. Как известно, Лермонтов интересовался историей и собирался написать еще сочинение, планом которого делился с Белинским:
он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собой связь и некоторое единство…[1343]
Загоскинская мифология «народного здоровья», создаваемая как раз в 1830–1840-е годы, в эпоху сугубой атомизации культуры политической, общественной жизни, словно бы защищала от «порчи» современного человека, выступала альтернативой той изломанности русского сознания, что воплощена в нарушении нормального течения событий и хронологической последовательности «Героя нашего времени». Таким образом, загоскинские «Русские…», завершая цикл, получают еще и дополнительный смысл, участвуя в тогдашней полемике на стороне оппонентов Лермонтова, расценивавших роман поэта как следствие нравственного извращения поколения и воплощение авторского цинизма.
Для Загоскина и 1612 год, и 1812, и Крещение Руси, и «осьмнадцатое столетие», в сущности, – единое мифологическое время. В художественной реализации своего мифа Загоскин как раз очень последователен: ведь с самого начала он объяснял, что пишет не просто художественное сочинение о прошлом, а исторический современный роман, «исторический роман нашего времени». Между просто романом историческим и современным историческим романом – «дистанция огромного размера». И Загоскин в обращении с подлинной историей тоже подавал пример для последующих подражателей. Он создал узнаваемый тип исторического романа без исторических лиц. Приучал читателей к тому, что герои могут вообще не носить имени, в них лишь смутно угадываются прототипы; нередко у него лица названы, обещаны, но не участвуют в развитии действия – историческое «ружье», появившись на стене, так и не выстреливает. Близка к этим приемам и высокая степень условности реальных фигур. Загоскинский Пётр I в романах «Брынский лес. Эпизод из первых годов царствования Петра Великого» (1846), «Русские в начале осьмнадцатого столетия» (1848) – лишь знак истории и судьбы России.
Уроки Загоскина были услышаны и усвоены. Его особый «мифологический язык» повторяли и тиражировали собратья по литературному цеху.
Почти все наши писатели старой школы с легкой руки г. Загоскина заставляют говорить народ русский каким-то особенным языком с шуточками и прибауточками. Русский человек говорит так, да не всегда и не везде: его обычная речь замечательно проста и ясна, —
позднее объяснял эту общую мифологизацию слова И.С. Тургенев[1344].
Историческую «космогонию» и «антропологию» загоскинского цикла, спроецированную на современность, можно рассматривать как квинтэссенцию мифологии, сфокусированной в историческом романе. Этногенетическая, эсхатологическая, этиологическая, героическая ипостаси мифа обнаруживаются в произведениях разных авторов, при этом в зависимости от задач, темы, дарования, ориентации на ту или иную читательскую аудиторию либо сохраняется баланс истории, документа и мифа (как это происходит в художественной системе И. Лажечникова, в его романах «Последний Новик», «Ледяной дом», «Бирон»), либо преобладает одно начало (романы Ф. Булгарина, Р. Зотова, К. Масальского), либо контаминируется сразу несколько (практически у всех авторов, особенно представителей «массовой», «низовой» литературы, беспорядочно эксплуатирующих образы, пущенные в обиход их «высокими» наставниками).
«Лунатик. Случай» (1834) Александра Вельтмана, как и многие другие испытавшего обаяние «Юрия Милославского», может быть наиболее показателен как тип романного повествования, абсолютизирующий «миф ради мифа» и уводящий жанр в чистое предание, вымысел, сказку. Причем в вельтмановском повествовании мифологизация языка, пожалуй, выступает на первый план, оставляя за собой мифологизацию сюжета, и, во всяком случае, сопоставима с ним в плане выразительных средств. Среди западных учителей образцом для подражания были немцы, в первую очередь Шеллинг, уравнявший в правах изучение языка и мифа. Вельтман, как и Шеллинг, составлял замысел труда о мировой мифологии, а его концепция исторического романа стала частью большого мифологического проекта. По сути, он создал мифологическую матрицу жанра. «Кощей Бессмертный, былина старого времени» (1833) и «Святослав, вражий питомец. Диво времени Красного Солнца Владимира» (1835) представляют собой литературные обработки фольклорно-мифологических сюжетов. Все тематические линии там причудливо переплетены и запутаны настолько, что в них трудно обнаружить какую-либо последовательность событий, логику происходящего. Да и написаны они с другой целью. Автор намеренно нарушает традиционные представления о романе и сочиняет даже не роман, а сказку, былину, миф. Этот миф всегда, по мысли Вельтмана, как клад, спрятанный в реальной истории, ожидает того, кто его откроет, – и своего автора, и читателя вместе с ним. Вельтман – историк, филолог, лингвист – верит в особые свойства слова. Язык обладает самостоятельной силой и способен иной раз наиболее полно выразить какую-то очень важную мифологему или исторический факт:
В мире исторической истины часто огромный труд исследований, со всеми бесчисленными доводами, клонится к тому, чтоб доказать значение одного только слова – одного, не более <…> Но обдумайте значение этого одного слова, убедитесь вполне в справедливости вывода, признайте законным открытый смысл этого одного слова, и вы увидите, что эта искра грозит пожаром многим зданиям истории[1345].
Лажечников: каноны биографического мифа
Если 1830-е годы рассматривать как подвижный универсум русской исторической романистики, то при вроде бы безоговорочном приоритете Загоскина все же этот мир оказывается полицентричен; в нем обнаруживается не одна, а несколько «галактик» со своими литературными «звездами» и их спутниками. Иван Лажечников, автор трех романов – «Последний Новик» (1831–1833), «Ледяной дом» (1835), «Басурман» (1838) – один из центров этой романной вселенной, успешный «дублер» Загоскина. Траектории его успеха параллельны загоскинским, дополняют их. Отчасти его популярность равновелика загоскинской. И для претендента на звание второго «главного мифа» русской романистики у Лажечникова были жизненные и литературные основания, не менее веские, чем у Загоскина.
Биография Лажечникова поучительна и для современников, и для потомков. Это один самых из светлых, гармоничных и добропорядочных образов в истории нашей словесности. В биографии его, разумеется, было немало реальных эпизодов для такой трактовки. Но в конце концов эти фрагменты складывались в целостную, очень симпатичную легенду, задавали определенный тон обсуждения личности, угол зрения для восприятия, и литераторы сами собой включались в сотворчество, в сочинение предания о Лажечникове-бессребренике, человеке исключительной сердечной доброты. По преданию, в нем неконфликтно совмещались противоположные черты, включая благонравие, влюбчивость, непрактичность, неумение и нежелание воспользоваться высокими семейными связями и близостью к влиятельным особам, отсутствие под конец жизни какого-либо состояния, служебного положения (семье в наследство он оставил только два выигрышных билета). Лесков позднее в очерке «Русские общественные заметки» (1869) приводил пример «хорошего благополучного конца», не свойственного отечественным литераторам, – «так, как умер Лажечников, поручая детей своих милосердию государя (и то, заметьте, не общества, а государя!)»[1346].
В самом деле, мемуары о Лажечникове и богатая мемуарная публицистика, написанная уже после «романного залпа» 1830-х, биографические записки 1850–1860-х самого Ивана Ивановича Лажечникова[1347], подкрепляя друг друга, составляют единый романный текст. В зарисовках, сделанных в разное время и по разным поводам, как в романе, уживаются чудеса и правда, элементы живой истории, быта, наблюдательности, назидательного и философского нравоописания.
В юношеской части биографической легенды важно отметить влияние университета. Исторический роман и его автор как отчасти продукт университетской культуры – этой теме еще предстоит отдельное осмысление. Лажечников не был студентом Московского университета, но испытал его воздействие через уроки риторики профессора П.В. Победоносцева (отца будущего обер-прокурора Синода) и приватные лекции А.Ф. Мерзлякова. Еще один символический «жест» в лажечниковской биографии – уничтожение раннего сборника «Первые опыты в прозе и стихах» (1817), что поставило автора в один ряд с другими «великими сжигателями», устыдившимися своего дебюта[1348]. Другой важный эпизод – побег из родительского гнезда, роковое нарушение родительской воли, запрета: Лажечников в 1812 году вступает в ополчение, не получив благословения отца и матери. Дальше начинается линия героическая – он участвует в крупных сражениях и взятии Парижа, будучи адъютантом принца Мекленбург-Шверинского, прикомандировавшего Лажечникова к своему штабу в Вильне, где тот вкусил прелести придворной жизни. В конце концов все житейские обстоятельства закрыли его военную карьеру. В романах Лажечников работает с крупными историческими фигурами; литераторы и государственные деятели составляют портретную галерею его героев. Среди описаний героев 1812 года А.И. Остерман-Толстой занимает особое место. В каком-то смысле его можно считать вольным и невольным «крестным отцом» Лажечникова не только на служебном, но и на литературном поприще. Доступ к архивам и богатой библиотеке Остермана-Толстого Лажечников использовал для изучения источников и подготовки материалов к историческим романам, задуманным во второй половине 1820-х.
Особый склад ума Лажечникова повлиял на то, что он, подобно Загоскину, и одновременно совсем иначе, чем автор «Юрия Милославского», сумел превратить живое и теплое чувство любви к Отечеству в чрезвычайно занимательный художественный текст, воспитавший несколько поколений (все три романа Лажечникова сильно действовали на воображение и нравственные чувства читателей). Обаяние романов Лажечникова пережило и срок, отпущенный жанру 1830-х годов, и славу самого сочинителя. Лажечников, таким образом, создал другой вариант, вторую версию (вместе с загоскинской, параллельной ему) патриотического мифа. Собственно пути конструирования этих мифов в рассматриваемый период важны для понимания как первые пробы, начальные шаги, поскольку в дальнейшем примерно те же мифологические траектории используются каждый раз на очередном витке возвращения к жизни исторической романистики[1349].
Структурная основа лажечниковского исторического повествования – не просто монтажность, а «сверхмонтажность», сложность и запутанность, превосходящая все пределы, допустимые тогдашней литературной традицией. В своей отрицательной рецензии на роман «Ледяной дом» Греч писал, например:
Роман этот – страшнее романов Евгения Сю, замысловатее романов Бальзака, и разве только с романами Сулье можно сравнить его. Чего вы хотите? Страстей? Каких же вам страстей, сильнее страстей Волынского, Мариорицы, цыганки-матери ее, Бирона? Происшествий? Чего вам еще, начиная с «Ледяной статуи» до последней сцены в «Ледяном доме» и с погребения замороженного малороссиянина до пытки Волконского![1350]
Действительно, в романе можно насчитать без малого четыре самостоятельных замысловатых сюжетных линии, каждая из которых «тянет» на отдельный роман, полноценную книгу. В каждой – своя завязка, интрига, кульминация, развязка; для того чтобы отследить взаимные пересечения, необходимо недюжинное воображение и читательская сноровка. Рисунок романа чрезвычайно запутан. Эта «клиповость», «разъемность», разночтения бросились в глаза сразу же, как только роман стал доступен публике:
Самый невнимательный читатель заметит, что Фуренгоф и Траутфеттеры, со всеми своими приключениями, не принадлежат собственно к роману Лажечникова: так резко отделены они от главного узла происшествий[1351].
Что же не позволяет распасться этой «библиотеке» на отдельные самостоятельные книги, вроде бы механически соединенные под одной обложкой? Прежде всего – авторский сверхзамысел, сверхзадача: на уровне художественной идеи ему удалось представить живое и теплое чувство любви и преданности России, на уровне системы персонажей такой скрепой становится мифический образ Петра Первого – сначала «за кадром», а потом постепенно выходящий на передний план, милосердный правитель, вершитель судеб. «Черты его смуглого лица отлиты грозным величием; темно-карие глаза… горят восторгом: так мог только смотреть бог на море, усмиренное его державным трезубцем»[1352]. Алгоритм своего текста недвусмысленно расшифровывает сам Лажечников:
Чувство, господствующее в моем романе, есть любовь к отчизне… В краю чужом оно отсвечивается сильнее; между иностранцами, в толпе их, под сильным влиянием немецких обычаев, виднее русская физиономия. Даже главнейшие лица из иностранцев, выведенные в моем романе, сердцем или судьбой влекутся необоримо к России. Везде имя родное торжествует…[1353]
Это высказывание связано с романом «Последний Новик», но так или иначе авторскую мысль можно транспонировать и на другие лажечниковские романы. «Ледяной дом» – политический календарь, в котором автор стремительно и напряженно описал смертельную схватку двух систем, двух партий в последний год правления императрицы Анны Иоанновны (с декабря 1739 до апреля 1740 года) – Артемия Волынского и немца Бирона. «Басурман», внезапно, как и в случае Загоскина, в условной триаде романов сюжетно разрушает хронологическую линию (первый роман – начало XVIII века, второй – почти его середина, третий – неожиданный скачок в XV век, когда правит Иван Третий, пригласивший молодого врача из Падуи в Московию). Этот скачок от божественного Петра Первого через больную и безвольную Анну Иоанновну к Ивану Третьему, сложному, противоречивому, яркому, но все равно эталонному правителю, закольцовывает мифологическую траекторию национальной идеи, в которой понимание власти и отчизны тождественны.
Полет фантазии, выдумка, вымысел еще прочнее цементирует концепцию Лажечникова-романиста:
Сказочникам не в первый раз достается за обманы. Кажется, было кем-то говорено: лишь бы обман был похож на истину и нравился, так и повесть хороша; а розыски исторической полиции здесь не у места <…> Он [автор] должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии ее. Его дело не быть рабом чисел: он должен быть только верен характеру эпохи и двигателя ее, которых взялся изобразить. Не его дело перебирать всю меледу, пересчитывать труженически все звенья в цепи этой эпохи и жизни этого двигателя: на это есть историки и биографы. Миссия исторического романиста – выбрать из них самые блестящие, самые занимательные события, которые вяжутся с главным лицом его рассказа, и совокупить их в один поэтический момент своего романа. Нужно ли говорить, что этот момент должен быть проникнут идеей?.. Так понимаю я обязанности исторического романиста. Исполнил ли я их – это дело другое[1354].
Получается, что все центробежные силы в романе стремятся к одному ядру, все потоки стягиваются в одном фокусе, в одной точке, создавая россиецентричную картину мира. Именно с таким законом исторического романа Загоскина – Лажечникова соотносились остальные тексты, написанные в этом жанре на протяжении 1830–1840-х годов.
Промежуточные итоги
• Русский исторический роман в том изводе, как он складывался в 1830-х годах, был жанром не только русскоцентричным – «столичным»; в содержании нередко сами беллетристы акцентируют аллюзии на памятную для читателя московскую (или петербургскую) топографию, «освященную» литературой. «Ледяной дом» Лажечникова – это «петербургский» вариант «московской» «Бедной Лизы», он произвел действие на публику, сопоставимое с карамзинской повестью:
…В Петербурге мой «Ледяной дом» имел успех, которого не имел на Руси ни один роман: у Самсоньевского кладбища, где похоронен Волынский, был постоянный съезд карет; памятник над могилой Волынского весь исписан стихами – к счастью, как пишут, не пошлыми, и молодые люди, разбив мраморную вазу (из этого памятника), уносят кусочки, как святыню. Вообразите изумление кладбищенского сторожа, с тех пор, как существует кладбище, не бывало на нем такой тревоги!.. Письмами, исполненными похвал, я завален[1355].
• «Единый текст» исторического романа вошел в глубинный культурный слой отечественного сознания как богатый ресурс, сквозь призму положений которого выросшие воспитанники этой школы чтения учились воспринимать реальность. Он давал ключ к пониманию прошлого, организовывал пространство, играл роль своеобразного житейского путеводителя. Как писал в своих позднейших заметках Лесков:
Самая Москва потеряла для нас свою цену: все наши обозрения ограничились побегушками первого дня, и затем мы не осмотрели великого множества мест, к которым влекли нас прочитанные в корпусе романы Лажечникова, Масальского и Загоскина[1356].
• Русский исторический роман, создав высокое поле рефлексии, сопутствующей его рождению и функционированию, сам в свою очередь породил целое мифологическое пространство авторских биографий, где важная роль отводилась активному взаимодействую с читателем. Воспоминание о романе стало своего рода культурным паролем, на который отзывалось несколько поколений.
• Исторический роман 1830-х – жанр-«пионер», осуществивший прорыв сразу на нескольких направлениях. Достигнув апогея своего развития в таких произведениях, как «Капитанская дочка», «Тарас Бульба», историческая беллетристика в 1840-е годы уступает место другим литературным формам; но главное, она открывает первую страницу в насыщенной истории романного жанра – для романа биографического, семейного, психологического, философского[1357]. Может быть, не в последнюю очередь благодаря «прорывным» качествам жанра, блистательному и слишком быстрому усвоению европейских уроков, кульминации и спаду (в течение одного лишь десятилетия) и возник миф о романе, миф о его «золотом» веке. С этим преданием будут потом соотноситься герои второго «золотого» века русского романа, пережитого обществом в последней трети XIX века.
• 1870–1880-е поэтому – непростая эпоха, поскольку легенда о былом торжестве жанра была еще слишком живой (каких-нибудь тридцать-сорок лет отделяли две волны друг от друга); и авторы новой волны оглядывались на предшественников как на старших учителей, с которым принято считаться, но по возможности отступали и заявляли свою самостоятельность.
• Показательно, что один из главных атрибутов салонной культуры, материнского лона исторического сочинительства – домашний альбом как собрание текстов, записей, рисунков, безделок – со второй половины XIX века начинает на равных сосуществовать, а порой и уступать место по занимательности другому типу домашней коллекции (деловой, рабочей или любительской) – альбомам или папкам «животрепещущих», по слову Пушкина, газетных вырезок. Нам приходилось писать о том, как эти вчерашние, позавчерашние и давние вырезки в руках владельцев складывались в прихотливые исторические мозаики и сколь отчетливо проступали в них потенциальные сюжетные линии, когда их использовали в качестве черновиков и сырья для будущих романистов[1358]. История в виде газетного материала заявляла авторам и читателям свои новые права.
Новая вспышка исторической романистики
Возвращение исторического романа совпало со временем, прошедшим «под знаком катастрофы».
Когда в феврале 1855 года умер Николай Павлович, передав сыну «команду не в добром порядке»… положение России было ужасно. Если почитать мемуары и письма того времени, – они все исполнены мучительной тревоги, возмущения и смятения… вся Европа, вооруженная и озлобленная, была против России… внутри страны… не было никакого доверия к правительству…[1359]
Действительно, Россия пережила поражение в Крымской войне и мучительные попытки реформирования государственного и общественного устройства страны.
«Богатыри – не вы», измельчание «нынешних» – вот штамп, клише, идеологический лейтмотив сравнения настоящего с ушедшими героическими эпохами, в которых действовали крупные личности. Василий Розанов уже в ХХ веке так будет вспоминать об эпохе Александра III:
…Россия через двести лет после Петра, растерявшая столько надежд… Огромно, могуче, некрасиво, безобразно даже… Конь уперся… Голова упрямая и глупая… Конь не понимает, куда его понукают. Да и не хочет никуда идти. Конь – ужасный либерал: головой ни взад, ни вперед, ни в бок. «Дайте реформу, без этого не шевельнусь». – «Будет тебе реформа!»… Хвоста нет, хвост отъеден у этой умницы… Громадное туловище с бочищами, с брюшищем, каких решительно ни у одной лошади нет… Бог знает что… Помесь из осла, лошади и с примесью коровы… «Не затанцует». Да, такая не затанцует; и, как мундштук ни давит в небо, «матушка Русь» решительно не умеет танцевать ни по чьей указке, и ни под какую музыку… Конь, очевидно, не понимает Всадника… предполагая в нем «злой умысел» всадить его в яму, уронить в пропасть… Так все это и остановилось, уперлось…[1360]
Новые, стремительно развивавшиеся в жизни империи процессы все настоятельней требовали постоянного осмысления, вызывали интенсивный взаимообмен идеями, текстами, полемическими откликами в литературе, публицистике, науке, образовательной сфере, журналистике. И уже 1870–1880-е годы отмечены небывалым расцветом прессы.
В нижеприведенной таблице показано, как выглядела динамика суммарных разовых тиражей разных типов периодических изданий (в тысячах экземпляров)[1361]:
В 1870–1880-х годах начинается активное «поглощение» романной продукции прессой, взаимная ассимиляция романа и периодики; в новых обстоятельствах доминируют тенденции, лишь намеченные в 1830-х: а именно, уход исторического романа в журнал, приспособление журнальной формы к периодическому контексту, объему, ритму и структуре. Исторический роман оказался заново востребованным в эпоху «развитого журнализма», его жанровая шлифовка, количественные и качественные показатели нередко напрямую зависели от жестких условий литературной конкуренции и потребностей журналистики.
«Фабрика романов»: запуск новых линий
«Фабрика романов», недолго простаивавшая, заработала с новой силой. О темпах выпуска романной продукции в этот период говорят, к примеру, следующие данные: за полтора десятка лет (1870–1884 годы) усилиями примерно полутора сотен авторов издано больше тысячи романов – против сотни в 1830-е[1362].
Мы можем наблюдать почти ровную и стабильную работу «романной машины» (см. рис. 2); ее незначительные колебания лишь подчеркивают постоянный «голод» аудитории по отношению к этому сорту литературы. Понятное отличие новой волны от прежней заключается в том, что «разогрев» начинался не с нуля, как было раньше, – происходили реанимация, размораживание и концентрация навыков, либо застывших, либо рассеянных по другим «полям» – в драме, психологическом и философском романе, даже в романе-фельетоне; концентрация методов и приемов шла по готовой канве, и она приносила весьма ощутимую коммерческую отдачу.
При всех модификациях жанр сохранил память о своей сборной, промежуточной, монтажной сути, равно как и память о собственной смерти, о штучном, фрагментарном возрождении в других близких формах, память о рождении из «исторического» семени крупной романной эпической формы и последовавшем ее доминировании в русской литературе XIX века. Если вспомнить злую метафору Осипа Сенковского о незаконном, побочном происхождении исторической беллетристики, олицетворившей в России акт прелюбодеяния истории и фантазии, то в новом своем облике роман выступал в разных ролях – нередко в роли приживала, бедного родственника законных обитателей литературного мейнстрима, в родословной этого жанра легко узнается смесь всех кровей. Тройственный союз, «совокупление» истории, литературы и журналистики соединили элементы философско-психологического письма, биографического повествования, романа воспитания, фрагменты криминальной хроники, черты любовных романов и бульварной словесности – словом, все, что так охотно потреблялось журналистикой, особенно еженедельными иллюстрированными изданиями, в которых тоже нередко публиковались сочинения на исторические сюжеты. В последней трети XIX века исторический роман прочно переселяется в журнал.
Чрезвычайная, почти «агрессивная» плодовитость исторических беллетристов, как мы можем наблюдать, способствовала их личному коммерческому успеху и была связана с тем, что в этом секторе книжного рынка в 1870–1900-х годах вращались немалые средства. Если романы Е. Салиаса или Вс. Соловьёва, стабильно поглощаемые публикой, печатались из номера в номер в популярнейшей «Ниве» в течение трех, пяти, семи месяцев подряд – в среднем не менее полугода, – то доходы от одной только розничной продажи каждого номера журнала составляли примерно 20 000 рублей (с учетом того, что распродавалось почти 50 % тиража), а выручка от подписки – примерно 500 000 рублей. Таким образом, журнал приносил издателю около 600 000 рублей ежегодно. Авторские гонорары были высоки и составляли примерно 2,5–3 % от общей прибыли[1363]. Стоимость одного экземпляра отдельного издания романа средним объемом 300–400 страниц равнялась 12–15 рублям.
Исторический роман как инструмент формирования журнальной «повестки дня»
На рубеже 1870–1880-х годов история как тема и предмет снова становится частью политики и участвует в формировании реальной «повестки дня». А жанр исторического романа выходит за рамки литературного процесса и становится злободневным комментарием происходящих событий.
Романно-историческое «обострение» 1870–1880-х годов и повторяло опыт 1830-х, и создавало новый. Стремительно возникала новая культурная среда, в которой университетская кафедра и специальная историческая периодика, в иные моменты действовавшие как общественная трибуна, дискуссионная площадка, подкрепляли, а порой и прямо стимулировали этот литературный рецидив. И наконец, расцвет исторической публицистики, специальных изданий, публикующих документы, мемуары живых свидетелей, разыскания – это еще один ответ на запросы и ожидания общества. Первостепенную роль в данном контексте играл журнал «Исторический вестник», представлявший наиболее удачную попытку соединения научного и художественного начал. Политика журнала прямо и косвенно способствовала созданию благоприятной почвы и контекста для развития исторической беллетристики. Главный редактор журнала С.Н. Шубинский, историк и публицист, задолго до появления издания выбрал для себя наиболее предпочтительное амплуа популяризатора истории.
В этой связи, занимательное и интересное изложение стало одной из основных характеристик редакторского стиля, а следовательно, и всего «Исторического вестника». Редактор отказывался печатать необработанные архивные материалы, какой бы ценности они не представляли, отсылая авторов в «Русскую Старину». Шубинский предъявлял следующие жесткие требования: литературная обработка, согласованность всех моментов, завершенность характеристик лиц… С.Н. Шубинский был большим поклонником исторической беллетристики. Видя в ней «могущественное орудие популяризации», он постоянно расширял ее место в журнале. Здесь критерием качественности он ставил умение автора концентрировать многочисленные знания об эпохе в образы – немногие, но характерные и яркие[1364].
Архив, архивный документ, архивная работа в эпоху 1880-х годов получают исключительную важность: публика внимательно следит за тем, как входят в научный оборот, включаются в процесс художественной переработки и публикации исторические документы, материалы, письма, мемуары, как проясняются многие тайны прошлого.
Неслучайно, что именно в «Историческом вестнике» шла острая дискуссия о современной социокультурной функции исторического романа[1365]. В этом обсуждении в отличие от литературных споров прошлых лет преобладал конкретный, прикладной аспект; участники его сосредоточились на «утилитарной» – идеологической, воспитательной стороне исторического романа, его месте в системе народного образования, способности «влиять на умы», его дидактическом, нравственном потенциале и возможности «упорядочить хаос современности».
Интенсивность пополнения романной библиотеки к середине XIX века настолько высока, что уяснение ее устройства облегчило бы процесс каталогизации. Поэтому понятен соблазн исследователей как-то классифицировать большую массу текстов[1366]. При составлении путеводителя по именным библиотекам и авторским книжным полкам обязательно следует иметь в виду и журнальную «авантюрность» самого жанра, его «суетливость», занимательную энциклопедичность, глобальность, просветительство и одновременно назидательную развлекательность.
Если попытаться нарисовать «портрет» главных «фондообразователей» этих библиотек, исторических беллетристов «второй волны», то среди прочих мелких и крупных, случайных и преходящих черт остается все же несколько объединяющих положений. К ним можно отнести прежде всего три линии:
• судьба, биография как роман;
• сотрудничество с журналистикой;
• контакты с литературными мэтрами, прежде всего Толстым и Достоевским.
Рассматриваемое литературное поколение 1870–1880-х – литераторы, в основном «дети из хороших семей», отпрыски «литературно-журнального закулисья», «птенцы салонных гнезд», журналисты, ученые. «Обреченность на литераторство», историческую беллетристику нередко была общим, «родовым» свойством авторов этой когорты. Е. Салиас и Вс. Соловьёв, наверное, полнее прочих воплотили эти качества и максимально использовали литературно-академическое наследство, «нематериальные» родовые активы.
Русский Дюма, русский Купер, русский Жюль Верн и русский Вальтер Скотт (Е.А. Салиас)
На примере Евгения Андреевича Салиаса (1840–1908) особенно хорошо видна взаимозависимость литературных и биографических обстоятельств. В его текстах реальность пережитых им приключений: путешествуя по Италии и Испании, Салиас оказывался участником авантюр, описанных впоследствии в романах[1367]. Такие случаи происходили с ним на каждом шагу и немедленно становились материалом для очередного произведения: в 1865 году он был задержан по подозрению в изготовлении фальшивых денег, в грабеже, убийстве и даже… в покушении на жизнь Наполеона III[1368]. Салиас получил хорошее, но не систематическое образование, не закончил университета, и в России, и за границей попадал в скандальные истории, но всегда выходил сухим из воды, избегая серьезных последствий. Салиас трижды пробовал себя в журналистике; всякий раз с одним и тем же неудачным и быстрым финалом. В феврале 1885 года специально для него высочайшим повелением была учреждена должность заведующего Московским отделением Общего архива министерства императорского двора. Назначение это Александр III сопроводил пояснением: от Салиаса «ничего не требуется, кроме романов»[1369]. Салиас стал обладателем пожизненной синекуры и с лихвой оправдал августейшее доверие.
Чтобы ежегодно выдавать очередной объемный роман, требовалась сноровка, натренированная рука, неистощимая фантазия. Всеми этими качествами «универсального романиста» Салиас обладал, оставляя позади в литературной гонке многих соперников. Лучший текст, «визитная карточка» салиасовских серий – роман «Пугачевцы» (1874), пользовавшийся в свое время огромной популярностью. Его устройство, а главное, причины громкого успеха и логика обсуждения в критике способны многое прояснить в беллетристике той поры. Работая над романом, Салиас провел «полевые исследования» в районе дислокации пугачевских войск. В итоге получилась обширная, лоскутная, географически масштабная картина, а сам роман оказался стилистически разрозненным, с фольклорными вставками, с пространными отступлениями, символическими зарисовками, пестрым по составу действующих лиц. История восстания прослеживается от истоков до финального кровавого подавления. Салиасу удалось создать сложный образ Пугачёва – бунтаря и бродяги, показать, как бунт, поначалу романтический, превращается в разгул мародерства, грабежей и убийств.
«Пугачевцы» задумывались автором как начало тетралогии. По его словам,
вторая часть должна была называться «Вольнодумцы», и там намечались Новиков и Радищев для России и Людовик XVI для Франции… [было опубликовано только начало – в 1881 году в «Полярной Звезде»] Третью часть я предполагал назвать «Супостат». Тут надо было дать 12-й год. Четвертая и последняя часть – «Декабристы» – явилась бы апогеем первых русских «освобожденцев», перед которыми я благоговею[1370].
«Пугачевцы» буквально раскололи общество на два лагеря. Одни читали взахлеб, с упоением, другие ехидствовали или громили, видя в романе рабское подражание «Войне и миру» Толстого. Роман стал притчей во языцех критики и значительно повысил ставки всей исторической романистики. Удача Салиаса столь сенсационна еще и потому, что все, им написанное, попадало в жернова борьбы литературных партий – левой, демократической и консервативной; автор волею судеб оказался в центре самых актуальных вопросов времени. Правые критики защищали «своего», т. е. связанного с московской литературой, в противовес петербургской словесности. Напротив, левые «уничтожали» произведения Салиаса, относя его к московскому направлению, которое якобы «целиком составляет нарост самого гангренозного свойства»[1371].
Излюбленный Салиасом XVIII век у него осовременен и офельетонен. В прочих его сочинениях полые формы стилистически и образно заполняются авантюрами, бытовыми реалиями и политическими аллюзиями 1870–1880-х годов.
Романист-ремесленник, автор более тридцати оригинальных сочинений, в течение нескольких десятилетий неизменный фаворит публики, разработавший целую систему литературных стереотипов, ходовых ситуаций, галерею увлекательных персонажей – талантливых и обаятельных авантюристов, чудных патриотов, найденышей и подкидышей, чье прошлое окутано нераскрываемой тайной, – Салиас создал модель авантюрной интриги русского исторического романа, эксплуатируя материал истории как подлинной, так и придуманной. Но среднестатистическому читателю была не так уж важна достоверность, он ждал развлечения, и Салиас полностью удовлетворял ожидания публики. «Русский Вальтер Скотт», «русский Купер», но чаще «русский Жюль Верн», а еще чаще «русский Дюма» – как называли его благожелательные критики и мемуаристы, – он четверть века удерживал первые позиции среди королей исторической прозы.
Сочинитель «текущей истории» (Вс. С. Соловьёв)
«Салонная» юность Всеволода Сергеевича Соловьёва (1849–1903), отпрыска историка С.М. Соловьёва («литературного сына», подобно Салиасу), тоже прошла под знаком общения с «великими» – Т.Н. Грановским, П.Н. Кудрявцевым, братьями К.С. и И.С. Аксаковыми и др. А.Ф. Писемский «благословлял» первые шаги Всеволода на литературном поприще. Оба – и Салиас, и Соловьёв, так же, впрочем, как и другие романисты этой когорты – Карнович, Мордовцев, Данилевский, наряду с архивными источниками, обращались и к «личным историческим ресурсам». Вс. Соловьёв по линии матери был родом из старинной малорусской семьи, одним из предков в которой был богослов и философ Г. Сковорода. Сюжеты и характеры этой «микроистории» широко использовались Соловьёвым в беллетристике. Вообще малорусская почва романистов этой волны – Данилевского, Мордовцева и др. – оказалась особенно важной и продуктивной.
«Роман» с Достоевским направлял поведение Соловьёва в литературе, подсказывал интонацию, выбор тем. «Влюбленность» началась в 1873 году тоже по всем правилам романного жанра – с «горячего», восторженного, исповедального письма молодого Всеволода Соловьёва[1372]. Журналистская работа разбудила писательский азарт, и как вдохновляемый зрителями актер на сцене, так и романист проснулся и оформился в нем при постоянном контакте с читателями. Читательский интерес, настроения, конъюнктуру он различал безошибочно и в чужих успехах – Н. Лескова, Е. Салиаса, П. Мельникова-Печерского, К. Леонтьева, и в своих собственных. Всеволод Соловьёв оставался на литературном Клондайке исторической романистики десять лет, с 1876 года регулярно поставляя продукцию для разных изданий, но в основном для иллюстрированного еженедельника «Нива» – по одному роману в год. Романы Соловьёва обеспечили журналу небывалый коммерческий успех. «Многосерийная» семейная сага – «Хроника четырех поколений»: «Сергей Горбатов», «Вольтерьянец», «Старый дом», «Изгнанник», «Последние Горбатовы» – удерживала внимание публики в течение пяти лет. Событийная панорама русской истории с конца XVIII века по 1870-е годы, галерея исторических персонажей от Екатерины II, Павла I, Г.Г. Орлова, Г.А. Потёмкина, П.А. Зубова, А.А. Безбородко и Г.Р. Державина до Марии-Антуанетты, К.Ф. Рылеева, членов масонского общества, хлыстовской секты, архимандрита Фотия и других – все это полотно служило фоном, богатыми декорациями для увлекательной, полной интриг, мистики, предательств, политических кульбитов биографии аристократов Горбатовых. Внушительные списки реальных и вымышленных действующих лиц, примерно одна и та же тасуемая «колода карт» – ключ к тому беллетристическому полотну, в котором перемешаны история и современность. Структура этой смеси была полностью задана принципом порционной публикации в еженедельном иллюстрированном издании.
Стойкая привычка пребывания в журнальной среде с 1860-х годов, независимость и самостоятельность («В течение всей моей литературной деятельности я стоял вне… журнальных партий и лагерей и печатал свои вещи в тех журналах, которые меня звали, заботясь лишь о том, чтобы это были издания безупречные в литературном отношении»[1373]), нарастающая назидательность и патриотическая подоплека романных сюжетов, – все эти причины привели к мысли о создании своего журнала, способного конкурировать с «Нивой». В 1887 году вместе с опытным журналистом и писателем П.П. Гнедичем Соловьёв основал «Север», иллюстрированный «чисто русский» журнал для семейного чтения. По замыслу создателей, он должен был заполнить пустующую национальную нишу и будить патриотические чувства:
Мы [русские] до сих пор как-то жалко принижаемся перед Европой, стыдимся своей мнимой неприглядности и не замечаем своего действительного богатства, не чуем своей силы. Мы подшучиваем и подсмеиваемся над собою и своим, представляем чужим и себя и свой дом в неумытом виде… только русские стыдятся быть русскими[1374].
Согласно концепции журнала, Соловьёв стремился создать журнал-энциклопедию – информирующую, воспитывающую, просветительскую[1375]. Программа журнала «Север», по сути, должна была стать эквивалентом беллетристической программы Соловьёва – «текущей историей», обучающей пользованию прошлым и грамотному поведению в настоящем. Но идея обернулась утопией, охлаждение публики и критики к концу 1890-х – началу 1900-х годов стало очевидным и неизбежным. Соловьёв, «лубочный Вальтер Скотт», как и Салиас, пережил собственную славу.
Исторический очеркист и фактограф (Е.П. Карнович)
Прежде чем полностью сосредоточиться на исторических разысканиях, Евгений Петрович Карнович (1823–1885) служил в Калуге и Вильне, хорошо знал провинциальную жизнь и печать, немало времени посвятил изучению статистики, работал в архивах, выйдя в отставку, занимался благотворительностью. Чудаковатая сверхпорядочность, «нейтралитет», политическая неангажированность вызывали в литературно-журнальном окружении и сочувствие, и отстраненность, что не препятствовало Карновичу сотрудничать со многими ведущими изданиями 1860–1870-х годов. На него как на удобную кандидатуру потенциального редактора журнала «Отечественные записки», «не имеющего имени резко обозначенного», указывал А.А. Краевскому в 1867 году Н.А. Некрасов[1376]. О сохранении за Карновичем репутации удобного политического прикрытия свидетельствует повторная рекомендация его Салтыковым-Щедриным на тот же пост в 1885 году[1377], когда «Отечественные записки» переживали тяжелые времена. Однако планы использования Карновича в благих целях не осуществились. По натуре он был не лидером, а скорее кропотливым работником, чрезмерная щепетильность заставляла его держаться в стороне от коалиций и журнальных дрязг; своей независимостью он дорожил чрезвычайно. Карнович постоянно и долго сотрудничал с газетой «Голос» в 1865–1875 годах, в 1875–1876-м редактировал газету «Биржевые ведомости», а в 1879–1881-м издавал еженедельник «Отголоски». При этом он всегда старался сохранять свое лицо в журналистике; и почерк его работы в периодике, журнальная стилистика, ориентированная на факт, эмпирическое исследование, очерковую увлекательность, добросовестность проверки, прочитывается и в его исторических сочинениях («Самозваные дети» (1878), «Любовь и корона» (1879), «Придворное кружево» (1884)).
Литературный «фабрикант» и монополист (Г.П. Данилевский)
Случай Данилевского являл собой противоположность житейскому, романическому и журнальному бескорыстию Карновича. Его отношения с журналистским и литературным миром завязались рано и беспорядочно, а в дальнейшем приобрели устойчивую форму: он всегда знал свою выгоду, умел присваивать первенство, оказываться в нужное время в нужном месте, был связан с влиятельными людьми и умел добиваться своей цели, подчиняя ей окружающих.
Григорий Петрович Данилевский (1829–1890), будучи членом совета Главного управления по делам печати, двадцать лет (с 1870 по 1890 год) оставался тесно связан с газетой «Правительственный вестник», официальным органом всех министерств, а с 1881 года до самой смерти был ее главным редактором. За этот срок он сумел сделать немало полезного для словесности, расширив раздел, посвященный книгам и литературе, но вместе с тем ему удалось «приватизировать» издание, максимально используя его в личных интересах. Пресса зависела от Данилевского, а Данилевский от прессы. Состояние взаимной «подпитки» сказалось и в особом устройстве «ткани» его исторических романов: они буквально «прошиты» газетными реалиями – сюжетами, упоминаниями; лихорадка истории сродни лихорадке журнальной жизни. В романах «Княжна Тараканова» (1883), «Сожженная Москва» (1886) и «Черный год» (1888) газетно-журнальный мир постоянно словно бы суфлирует историческим событиям, снимая дистанцию между временем прошедшим и настоящим. Газетное сознание Данилевского превращает историческое повествование в современный текст.
«Беззакония» исторической беллетристики (Д.Л. Мордовцев)
Исторические романисты 1870–1880-х годов словно бы соревновались в масштабности создаваемых ими энциклопедий сюжетов. Корпус романов Даниила Лукича Мордовцева (1830–1905) примечателен по своему количественному и содержательному составу, по интенсивности наполнения: его сочинения могли бы составить 129 объемистых томов. Продукции этого литературного «производства», на котором трудился только один автор, с лихвой хватило бы «на известность и славу целой дюжины писателей»[1378]. Есть свидетельства, что и на рубеже XIX–XX веков Мордовцев стабильно сохранял позиции одного из самых популярных авторов.
В чем заключалась уникальность и своего рода «беззаконность» успеха Мордовцева на фоне литературных карьер ближайших его собратьев по цеху? Мордовцев работал на сложной территории, где пересекались разные типы деятельности, требующие разных практических навыков, нередко разных установок. Он – архивист, исследователь, с удовольствием работающий с эмпирикой, подлинным историческим документом и фактом, и он же беллетрист, популяризатор и азартный журналист. Сначала он отыскивал архивные документы, опробовал версию в публицистике и журнальных статьях, а потом в романах это зерно обрастало плотью[1379]. К примеру, он целенаправленно изучал саратовские архивы, собирая свидетельства о народных бунтах, дореформенном положении крестьян. Острые тексты Мордовцева выходили в журналах «Русское слово», «Дело», «Вестник Европы», в сборнике «Исторические пропилеи» (т. 1–2. СПб., 1889). Фрагменты этих исследований затем обнаруживались в романах – в авторских отступлениях, столь любимых Мордовцевым, в тех или иных деталях и описаниях. Эта тройная «сцепка» – исследований, литературы, журналистики – обеспечивала устойчивость мордовцевской общей системы. Он сам себе «создавал университет», и, может быть, его упорные отказы от настоятельных и неоднократных предложений возглавить кафедру русской истории в Санкт-Петербургском университете объясняются не только бытовыми и психологическими причинами, а еще и вполне осознанной самодостаточностью Мордовцева[1380]. Университет как таковой ему был не нужен, потому что правила академической жизни, ее регламентированная ритуальность были чужды «беззаконию» Мордовцева, проявлявшемуся порой и во вкусовой, стилистической неразборчивости, падкости на эффекты и романную экзотику, не противопоказанную журнальной беллетристике.
Правы те, кто считает визитной карточкой этого автора роман «Великий раскол» (1881)[1381]. В самом деле, «раскольные» сюжеты со второй половины XIX века прочно обосновываются в русском культурном сознании как тема универсальная. Как известно, с 1860-х годов тема раскола быстро «поднимается в цене» и становится картой шестидесятников в их оппозиции государству и власти, а литература о расколе и сектантстве находит масштабный спрос. Старообрядчество и сектантство (кстати, и самозванство) воспринималось как идеальный, беспримесный феномен «народной истории»[1382] – в том числе и Д.Л. Мордовцевым, разделявшим идеи Н.И. Костомарова и А.П. Щапова[1383]. Еще в 1846 году М.Н. Загоскин издает роман «Брынский лес. Эпизод из первых годов царствования Петра Великого». На фоне бес цветных главных героев в нем замечательно ярки, между прочим, характеры раскольников. Но в 1840-х годах время раскольничьих сюжетов еще не настало, а жанр исторического романа уже считался архаикой, поэтому лишь два десятилетия спустя тема «последователей и последствий старой веры» завоюет пространство беллетристики. Отдали дань этой теме, например, А.Ф. Писемский («Масоны», 1880; «Взбаламученное море», 1863), Г.П. Данилевский («Беглые в Новороссии», 1862; «Воля», 1863). Вдобавок первое издание текста «Жития протопопа Аввакума», появившееся в 1861 году, стало крупным историко-культурным событием[1384] и сфокусировало внимание к теме. Тургенев немало думал о старообрядцах, перечитывал «Житие», находясь за границей, выписывал новейшие исследования о староверах. В его прозе то выходят на авансцену, то прячутся в тень образы тех, кто привержен «древлему благочестию». Напомним, что тургеневская полемика с Герценом по поводу русского религиозного диссидентства сводилась к объяснению пагубности романтического, художнического отношения. В переписке Анненкова и Тургенева нередко возникает «раскольная» тема как ключевая в описании пореформенной русской жизни:
…С народом, который благодарно пьет вашу водку, а в тишине думает, что Вы обокрали его, и уходит помаленьку в раскол, чтобы еще более утвердиться в этой вере ― несколько жутко, хотя очень занятно и даже поэтично… Мы потянемся… через раскол, штунду, аграрные потрясения etc…Письмо Ваше до сих прелестных мест шло 10 дней, а сии прелестные места погружены в безысходную темь, а по другим сказаниям изживают самую высшую степень культуры и цивилизации ― то есть созидают расколы ежечасно и мысленно делят всю русскую землю (в буквальном смысле) между собою ежеминутно[1385].
Среди самых заметных произведений о старообрядчестве «Письма о расколе» (1862), «В лесах» (1871–1874) и «На горах» (1875–1881) Мельникова-Печерского подкупали основательным профессиональным знанием предмета[1386]. Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) – исследователь «раскольной темы» с большим стажем: как член-корреспондент Археографической комиссии он писал о расколе с начала 1840-х годов, а с 1847 года занимался раскольниками в должности чиновника по особым поручениям при нижегородском генерал-губернаторе. Он был убежден, что старообрядство следует рассматривать только как религиозный, внутрицерковный феномен. Мельников-Печерский и Щапов составляли два полюса в жестокой полемике о расколе пореформенных лет, и у каждого были сторонники и непримиримые враги.
Итак, исторические романисты и, в частности, Мордовцев, публикуя свои произведения, попадали в горячий полемический контекст. Дискуссии о расколе выстроили список актуальных исторических имен, и Мордовцев своим влечением к раскольным сюжетам тоже объяснял происхождение собственного «списка» лиц, вокруг которых фокусировался его личный интерес как историка. На этом «списке» базировалась его концепция исторического романа:
Один из таких вопросов меня занимал постоянно – это на стороне какого исторического процесса развития человеческого общества лежит залог будущего, успехи знаний, добра и правды, какой исторический рост человеческих групп действительно двигает вперед человечество – свободный или насильственный? Мне всегда казалось, что последний не имеет будущего, а если и имеет, то очень мрачное. С таким пониманием истории и ее законов я и приступал всегда к моим историческим работам. Так, с точки зрения моих исторических тезисов, я относился и к Петру, и к Мазепе, и к Никону, и к Аввакуму, и к Алексею Михайловичу, и ко всем прочим историческим деятелям, выводимым в моих романах и повестях[1387].
Протопоп Аввакум в этой конструкции вызывает главный интерес. Героизация Аввакума, произошедшая тогда, имела свои последствия, и их называет Лесков, увязывая диагноз с идеологическими «вирусами» щаповщины.
Мордовцева приветствовали многие, он вызывал сочувствие представителей разных, порой альтернативных исторических школ – Погодина, Костомарова, Пыпина. Но все равно его противоречивость – чутье, умение сосредоточиться и одновременно легкость, граничащая с легковесностью, легкомыслие, как у Салиаса, «необыкновенная юркость ума», мешающая ему целиком «погрузиться в исследование “действ и причин” исторических вещей»[1388], – свойства, отмечаемые даже дружественными критиками, позволяли самому Мордовцеву устойчиво обосноваться в журналистике и прописать в ней свои романы.
Журналистика для Мордовцева-романиста – лаборатория, почва. Он вбрасывает сюжеты, имена, темы, испытывает их в публицистическом пространстве, а затем переводит в крупный романный формат. Его журналистская жилка, отмеченная А. Краевским[1389] и Е. Благосветловым[1390], позволившая изданиям, с которыми Мордовцев активно сотрудничал, заметно расширить аудиторию, его очеркистский азарт угадываются в романах – в их структуре, пружинящей интриге, стремительной динамике повествования, да и нередко публицистическом стиле. Явно чрезмерная фельетонность текстов сближала публицистику Мордовцева и его романы. Похоже, фельетонизация происходила бессознательно, стихийно, без специального расчета и привычно проступала в исторических сочинениях как «вторая журналистская натура».
Получалось так, что на основе опыта и знаний, накопленных за время архивной работы, Мордовцев писал свои романы, но сочинения эти – несмотря на попытки реконструкции реалий и опору на документы – все равно обретали вид «переводов» на язык журналистской среды, в которой он чувствовал себя естественно. Органичность присутствия в этой сфере обозначалась не только частыми и заметными публикациями, но и тем, что Даниил Лукич Мордовцев был признан «своим» в журнально-писательских кругах. Стоит вспомнить регулярные «беллетристические обеды», придуманные Мордовцевым для пишущей братии Петербурга в ресторане До нона. Быт и нравы этой «беллетристической академии»[1391] описаны Т.П. Гнедичем в «Историческом вестнике» за 1911 год; сохранились рисунки, шаржи, сделанные по заказу Мордовцева «одним молодым даровитым художником», хорошо передающие «физиологию» клубной жизни.
Темпы пополнения корпуса своих романов, несопоставимый по качеству количественный рост произведений, «фабричность» мордовцевских сочинений – все это казалось привлекательным для читателя, но вызывало раздражение литераторов. Так, в «Истории одного города» Салтыков-Щедрин, пожалуй, еще злее Достоевского иронизирует над когортой исторических романистов: С.Н. Шубинский, Д.Л. Мордовцев, П.И. Мельников – по определению самого Салтыкова – русские «фельетонисты-историки», роющиеся в историческом «навозе» и всерьез принимающие его «за золото»[1392]. Вдобавок комментаторы справедливо отмечали, что «Картина глуповского междоусобия» пародийно перекликается с «полубеллетристическим трудом» Мельникова «Княжна Тараканова и принцесса Владимирская», отнесенным «Отечественными записками» к той «якобы исторической литературе, в которой история граничит с фельетонами и скандальными изобличениями мелких газет»[1393].
К вопросу об иерархии в исторической романистике (случай П.П. Сухонина)
Существовала ли иерархия в этой писательской массе? Безусловно, да. Одни имена вошли в мейнстрим, другие канули в неизвестность. Думается, что количественный, «весовой» фактор, почти что физиологическая «способность к размножению и умножению» беллетристического товара играли нередко решающую роль в этом естественном отборе. Читали не просто очередную «Княжну Тараканову», а «Княжну Тараканову» Салиаса, Мельникова, Соловьёва, Данилевского, Карновича. Возрастающее количество «Княжон Таракановых» оправдывалось увеличением авторских имен. Имена узнавались, фавориты публики получали преференции и оттесняли рядовых любимцев, известных в узких кругах, диктовали свои правила на рынке. По прихоти обстоятельств Пётр Петрович Сухонин (1821–1884) попал в более скромный разряд, хотя по ряду качественных признаков он, пожалуй, обходит авторов мейнстрима. Тридцатилетнее служение литературе Сухонина, публиковавшегося под псевдонимом А. Шардин, начиналось в 1850-х годах. Писательство долгое время уживалось со службой. В конце 1840-х – начале 1850-х годов он был чиновником особых поручений при товарище министра просвещения А.С. Норове. История успеха Сухонина, особенно пьесы «Русская свадьба в исходе XVI века (драматическое представление из частной жизни наших предков)» (1854), его литературно-художественные и, можно сказать, философские принципы проясняются из переписки с А.Н. Верстовским, А.Ф. Акимовым и другими театральными деятелями, кто участвовал в постановках и «сочувствовал» автору-чиновнику. Для него «свадебное действо – сложный ритуал, красота и трагедия, и целая драма, и зерно, по которому узнается большая история, уклад быта глубоких пластов русской жизни»[1394]. Пьеса долгие годы шла на провинциальных сценах и сохраняла репертуарность больше полувека[1395]. Трудно сказать, чем объясняется такая устойчивая «фурорность» пьесы. Не исключено, что «обстановочный» стиль безотказно сработал в изображении истории как пышного ритуала, участие и созерцание которого доставляло зрителю удовольствие во все времена.
Ни до «Русской свадьбы», ни после Сухонин не знал побед, сопоставимых с этой. Но интересна не столько литературная карьера автора, сколько выбор тем, способ их воплощения и реакция аудитории. «Русская свадьба» стала лишь триумфом дебютанта; пьесы, написанные позже, попадали в разряд однодневок. Но все, что писал в те годы Сухонин, укладывалось в две колеи: первая – историческая картина сквозь прелестную рамку этнографических подробностей, а вторая – история как коммерция, сделка, предмет торговли. Как профессионал, знающий дело, он пишет историко-экономические очерки, выпуская их отдельными небольшими изданиями: «О золотой и серебряной монете» (1866), «Нечто о питейном деле в России» (1881). Эта вторая линия вобрала еще раньше те наблюдения над реальностью, с которыми автор сталкивался в чиновной и околочиновной среде. В исторических романах сконцентрировались все его конкретные знания, а «обстановочный» стиль его пьес сохранялся в беллетристике 1880-х в обилии «музейных» подробностей, в любовной «реставрации» вещей, заполняющих пространство, в словесных «хороводах», в виньеточной вязи реплик. Стиль этот, при всей его узнаваемости, постоянно нарушался и разрывался анахронизмами, современным читателю газетно-журнальным жаргоном.
Романы Сухонина, как и других литераторов, попадали в плотный многонаселенный беллетристический «трафик», в котором надо было соответствовать общей «скорости» движения, подчиняться правилам оформления и подачи темы. Деклассированные персонажи, оторвавшиеся от своих корней и выброшенные за пределы истории из своих социальных, политических луз, стали маркировкой, формулой романного жанра 1880-х годов. Каждый романист раскрывал, как мог, с той или иной степенью тщательности, генеалогию этого явления. За что бы ни брался Шардин-Сухонин, у него получались «Спекуляторы», «Зацепинские капиталы» (подзаголовок романа о княжне Таракановой) или истории вроде «Польского проходимца». Мельтешение денег независимо от обстоятельств, декораций, длительности повествования. Все это «прошивало» «обстановочность» его романов, а история в них оборачивалась ничем иным, как «денежным смерчем», сбивающим в грандиозную аферу любовь, приключения, предательство и верность, войны, политику, обыкновенную жизнь.
М.М. Филиппов – «Ломоносов» последней трети XIX века
То немногое, что написано о М.М. Филиппове, без труда может стать сюжетом историко-биографического романа, посвященного интеллектуальной истории России последней трети XIX века, истории научной мысли в контексте истории политической. В центре – главный персонаж, Михаил Михайлович Филиппов: ученый, публицист, талантливый популяризатор, литературный критик, беллетрист, потомственный журналист (он был сыном М.А. Филиппова, сотрудничавшего в некрасовском «Современнике»), издатель. Филиппов – это своего рода реинкарнация Ломоносова в 1870–1880-х годах: масштаб личности, прорывные открытия в естествознании, математике, химии, дар междисциплинарного мышления, свободное владение новыми и древними европейскими языками, возможность работать с первоисточниками – все это способствовало «стиранию границ» между науками в его деятельности. Филиппов по своей природе – энциклопедист, универсал. Его вкус к истории, исторический принцип мышления – стержень, позволявший связывать в единый узел многие ипостаси – литературную критику, сочинительство, журналистику, преподавание и те сферы науки, где он был первопроходцем.
Несмотря на то, что интеллектуальное взросление М.М. Филиппова пришлось на поздние 1870-е, он оставался до конца стойким шестидесятником в своих оценках, симпатиях, кумирах, поведении, выборе ориентиров. Его мировоззрение сформировалось под воздействием двух учений – Маркса и Дарвина. Между первой публикацией статьи «Борьба за существование и кооперация в органическом мире» в журнале «Мысль» в 1881 году и подробным анализом второго тома Марксова «Капитала»[1396] прошло четыре года. Детальный разбор концепции Маркса, фундаментальные статьи о нем, а также одни из первых тщательных переводов сочинений Дарвина на русский язык – абсолютно пионерные проекты для русской культуры 1880-х годов. Принципы работы Филиппова объединяли три составляющие – строгие научные исследования, соответствовавшие канонам академической корпорации, обосновывались философски, а затем их апробация продолжалась в открытой журналистской среде, в очень качественной популяризаторской эссеистике и в литераторстве. Его фундаментальный свод – двухтомник «Философия действительности (История и критический анализ научно-философских миросозерцаний от древности до наших дней)». В нем представлена масштабная картина развития научной мысли от Средневековья к Новому времени, обсуждаются пересечения и взаимовлияния таких областей, как эволюция органического мира, космогония, палеонтология и философские системы.
В конце 1880 – начале 1890-х годов Филиппов много публиковался[1397]. Его интересовала политическая история современности, в частности подоплека взаимоотношений России и Германии[1398] в предшествующие десятилетия. Но желание иметь свой журнал к этому времени становилось все острее. «Научное обозрение», замысленное давно, но вышедшее только в 1894 году, собрало и воплотило его издательские проекты. Показательна эволюция любимого детища. Сначала это был закрытый физико-математический журнал, но со временем он превратился в интеллектуальную площадку, на которой вели дискуссии социологи, экономисты, литературные критики, философы. В журнале публиковались Ленин, Циолковский, Эрисман, Хвольсон, Вагнер, Бехтерев, Менделеев. Сотрудничество Филиппова и Плеханова началось в этом журнале. Филиппова считали правоверным марксистом, и поэтому журнал подвергался цензурным репрессиям, а редактор находился под постоянным надзором полиции.
Смерть Филиппова наступила во время проведения опытов ночью 11 или 12 июня 1903 года в Петербурге, в лаборатории, где была его квартира, служившая одновременно редакцией журнала «Научное обозрение». На следующий день ученый должен был ехать в Париж, чтобы консультироваться с химиком Пьером Бертело по поводу своих гипотез. Агенты охранного отделения немедленно прибыли на место катастрофы и изъяли все документы, погибшие позднее во время пожара. До сих пор эта гибель остается нераскрытой тайной.
В рукописном отделе Института русской литературы хранится список его сочинений в духе исторической беллетристики, сопровожденный авторскими комментариями, по которым становится понятно, что обращение к этим жанрам и темам вызвано у Филиппова желанием «исправить ситуацию» в романных трактовках истории другими писателями[1399]. Так, историческая повесть «Остап» возникает как корректирующий ответ на искажения Сенкевича, очернившего казаков и Хмельницкого. В систематизации всех видов современного исторического романа, в «выявлении его химии, физики, органических соединений», в составлении «таблицы Менделеева» для жанра, в классификации его элементов отчетливо прослеживается почерк Филиппова-ученого.
Центральное место в этой системе занимает исторический роман «Осажденный Севастополь» (1889). В нем не совсем мирно уживаются три слоя. Первый слой – мемуарный, живой и естественный, основанный на реальном общении автора и рассказах очевидцев осады, участников кампании 1853–1856 годов. Второй слой основан на скрупулезном изучении документов. Сплав свидетельств и источников получился органичным, «бесшовным», подкупающим подлинностью знания, добротной деловитостью изложения фактов. А вот третий пласт – любовный, сентиментальный с явным налетом литературщины – не то чтобы нарушал, но расшатывал фактурную плотность текста. Повествование «прорубается» репликами, диалогами, авторскими репортажами, дробится пошловатой и безвкусной линией любви, «большую» историю сворачивая к заурядному мелодраматическому концу в духе счастливых развязок бульварных романов. Однако этот дух, очевидно, защитил и отвлек от опасной темы, Крымской кампании, травма скандального поражения в которой к 1880-м годам еще была не изжита. Поэтому цензура пропустила роман, который был благосклонно встречен критикой, вызвал читательские симпатии и довольно продолжительные, хотя и фрагментарные связи с Львом Толстым, – сюжет, также вошедший в историю.
Этот толстовский «след» в биографии Филиппова достаточно глубок[1400]. Два года на стадии подготовки романа «Осажденный Севастополь» он переписывался с Толстым, и понятно, что текст складывался в диалоге и с учетом «Севастопольских рассказов» и в особенности романа «Война и мир». Однако Толстой не принимал «утилитарное», прикладное, отчасти «национальное» отношение Филиппова к войне. Может быть, это неприятие и послужило причиной отказа вдове Л.И. Филипповой, обратившейся к Толстому через год после смерти мужа за содействием в повторной публикации романа.
Я прочел роман вашего покойного мужа «Осажденный Севастополь» и был поражен богатством исторических подробностей. Человек, прочитавший этот роман, получит совершенно ясное и полное представление не только о Севастопольской осаде, но о всей войне и причинах ее. И с этой стороны его вполне можно рекомендовать издателям. Я же не могу взять на себя рекомендовать его, так как воинственный и патриотический дух, которым проникнут роман, находится в полном противоречии с моими много раз выраженными взглядами[1401].
Итак, в завершении ряда оказался роман-симптом, внешне цельный, встроенный в общий поток, но внутри распавшийся на несколько составляющих, принадлежащих разным, плохо совместимым сферам: научной публицистике, исторической беллетристике и бульварной литературе.
Заключение
Исторический роман 1870–1880-х годов – вторая массовая «умственная эпидемия», охватившая многие слои русского общества на исходе века. Число ее «жертв» многократно превышало количество затронутых прежним историческим бумом участков русской культуры в 1830-е годы. Трансляция через прессу, усвоение журналистского стиля и риторических приемов стало тем резонатором, что позволил жанру разрастись до универсальных размеров, мимикрировать, стать универсальной рубрикой, «журналом в журнале», одним из основных способов описания современности. Не случайна поэтому, с одной стороны, увлеченность публики, а с другой – настороженность в писательской среде, брезгливость к неразборчивости в обращении с историческими фактами, к «юркости ума», вездесущей «пронырливости» авторов, к гуттаперчевости жанра, сползающего к графомании и автопародии.
Историческая романистика как «сбой в культуре», как широкий беллетристический «разгул чувств» читающей аудитории обладала не только привлекательностью, но и вызывала раздражение. Известно, что щедринская «История одного города» в целом и отдельные главы в ней имеют острый полемический смысл и оспаривают главные идеи этого беллетристического поветрия. Несмотря на то, что Достоевский симпатизировал отдельным авторам, в заполнении литературного пространства историческими романами Достоевский видел небезобидный курьез, культурный «конфуз», а в конечном счете глумливое недоразумение:
Много чего не затронула еще наша художественная литература из современного и текущего, много совсем проглядела и страшно отстала… Даже и в исторический-то роман, может, потому ударилась, что смысл текущего потеряла[1402].
«Помрачение», «околдовывание» публики пореформенного времени исторической романистикой отмечали и другие. Так, в обзоре «Русские исторические романы и повести нашего времени» А.И. Введенский ставил диагноз:
«Исторический роман», «историческая повесть», «исторический рассказ», «историческая хроника»… Вот вещи, которыми уснащается торжественное шествие современной русской литературы. Исторические романы пишутся теперь и историками, и публицистами, и художниками-романистами, печатаются всюду, начиная с газет и кончая большими журналами, читаются всеми. И при всем том едва ли какой-нибудь род литературы когда-либо и где-либо был в более неприглядном состоянии. В массе «исторической» беллетристики, завладевшей даже иллюстрированными журналами, немногое найдется, что выделялось бы из самой посредственной посредственности[1403].
Чем больше возрастала жанровая агрессия, стремление отвоевать место в журнале, на библиотечной полке и на книжном рынке, тем слышнее становился ропот недовольных[1404]. Столь активное массовое вторжение в культуру исторической беллетристики с необходимостью вызывало обратную реакцию, сопротивление этой беллетристической буре, на раннем этапе расчистившей дорогу русской классике. В конце XIX века, как в шекспировском «Короле Лире», буря эта оказалась своеобразным финалом, занавесом, ознаменовавшим закат, исчерпанность, завершение классического пласта культуры.
Исторический роман подготовил классику, а затем, разобрав ее на отдельные составляющие, адаптировал для массового употребления, став одновременно и образовательным курсом, иллюстрацией к учебнику, научному исследованию (исторические романисты черпают готовые сюжеты из сочинений С. Соловьёва и Ключевского, сменивших Карамзина), и обязательным развлечением, и, наконец, входом в новую культурную эпоху. Исторический роман выполнил и важную «санитарную» функцию, впитывая, перерабатывая устаревшие, отжившие формы, при этом олитературивая историю и журналистику, адаптируя их для домашнего, «комнатного», индивидуального потребления. Может быть, за счет своей универсальности данный жанр обречен умирать и возвращаться каждый раз на сломе времен.
К.Н. Цимбаев Реконструкция прошлого и конструирование будущего в России XIX века: опыт использования исторических юбилеев в политических целях
Во все времена правители охотно следовали принципу, афористично сформулированному Ж.-Ж. Руссо в «Общественном договоре»: показывать народу вещи иногда «такими, какие они есть», но чаще – «такими, какими они должны ему представляться». Однако в определенные периоды истории стремление увлечь массы той или иной идеей овладевает умами политиков с особой силой: это случается тогда, когда при помощи идеологической мобилизации власть пытается найти пути решения актуальных политических, социальных или национальных проблем.
Одним из важных средств воздействия на сознание общества, пропаганды исторической легитимности верховной власти в России рубежа веков стали исторические юбилеи, – причем юбилеи, организуемые и целиком «режиссируемые» государством. Они получают особую функциональную нагрузку, оказываясь наиболее удобным инструментом насаждения необходимой идеологии и распространения тех или иных идей в широких массах.
Именно юбилеи, в отличие от обычных ежегодных праздников и других общественных актов, позволяли сформировать новые представления об историческом прошлом и перспективах развития в будущем. Их организаторы, опираясь на великие достижения и славные даты прошлого, стремились демонстрировать – особенно с начала ХХ века – картины идеализированного общественного устройства, казалось бы, не нуждающегося ни в каких переменах. В отличие от традиционных народных праздников, так же как и придворных, новых буржуазных, этнических или религиозных, торжеств, эти широко отмечаемые юбилеи захватывали политическую, общественную, идейную сферы жизни, причем на уровне крупных социальных слоев, сословий, профессиональных, политических, религиозных групп. Затронуты были правящая элита страны, политические партии и течения, армия, все религиозные конфессии империи, периодическая печать, сфера образования, культуры, науки. Именно с помощью юбилейных празднеств их устроители с полным основанием рассчитывали охватить наибольшую аудиторию.
Юбилеи великих событий прошлого порой праздновались в России задолго до рубежа XIX–XX веков, пусть это и не превратилось в устоявшуюся политическую традицию. Точно так же, хотя реже, с меньшим размахом и меньшим идейно-политическим подтекстом, чем в более поздний период, отмечались круглые даты различных событий, прежде всего основания городов, известных гвардейских полков и отдельных значительных учреждений, великих сражений и войн, некоторых крупных событий политической жизни России. До 1899 года – столетнего юбилея Пушкина – рубежной даты, условного начала периода «юбилеемании»[1405], можно выделить около двух дюжин юбилеев, получивших достаточно заметный общественный резонанс. Мы остановимся именно на долгой предыстории будущей «юбилейной лихорадки», чтобы показать, как долго и не всегда «однолинейно» эта традиция складывалась и оформлялась на протяжении XIX столетия, какие политические и общественные круги были с нею связаны (или, напротив, из нее исключены).
В качестве яркого и характерного примера, вдвойне интересного благодаря своему аналогу – «продолжению» век спустя, можно назвать столетие основания Санкт-Петербурга, торжественно отмечавшееся в 1803 году[1406]. Празднование векового юбилея столицы являлось, кроме того, первым подобным событием в длинной череде юбилеев новой российской истории и знаменовало собой наступление XIX века не только в политике и общественной жизни, но и в праздничной культуре. Поэтому мы расскажем об этом «пионерном» мероприятии наиболее подробно.
Столетие города отмечалось 16 мая 1803 года, в тот же самый день, когда Петром I была заложена крепость Санкт-Петербург[1407]. Согласно официальной трактовке потомков, сто лет спустя инициатором юбилея выступил сам император Александр I[1408]. О предстоящем праздновании было заранее объявлено по городу – специальные афишки были напечатаны и разосланы по всем одиннадцати частям столицы. В качестве «предвестника» грядущего праздника рядом с памятником Петру I на линейном корабле на Неве был выставлен голландский ботик – один из кораблей, претендующих на звание «дедушки русского флота»[1409]. По принятой в 1803 году версии, ботик «Орёл» был построен по приказу царя Алексея Михайловича в 1668 году в Москве и вдохновил юного Петра на создание собственного флота. В 1723 году ботик был торжественно переведен в Петербург и встречен уже состоявшейся флотилией русских кораблей из 22 судов, причем его приветствовал, в числе прочих, и сам император.
Другой объект более ранней истории, использовавшийся и в 1803 году, – балкон здания Сената, на котором Екатерина II присутствовала 7 августа 1782 года при открытии памятника Петру I и который в ходе юбилея был специально оборудован для высочайшей фамилии и украшен алым бархатным покрывалом с золотой бахромой.
Главным действием юбилейного торжества являлась церковная служба. Для ее проведения была назначена[1410] церковь святого Исаакия[1411]. Неразрывность церковной и военной составляющих праздника символизировала вовлеченность военных в религиозный церемониал. Церковь была окружена кадетами морского и инженерного корпусов, кадеты 1-го корпуса стояли вдоль набережной между центральными мостами, Невским и Исаакиевским. Три полка лейб-гвардии были построены в три шеренги по всему пути следования основного праздничного шествия от Дворцовой до Исаакиевской площади. Главная процессия первой половины дня состояла из пятнадцати золоченых карет, влекомых сотней лошадей, в которых следовала в церковь императорская фамилия в сопровождении камергеров, статс-дам и фрейлин. Другую процессию составляли сенаторы, шедшие из здания Сената вместе с военным и статским генералитетом и министрами многих европейских государств.
На главной церковной службе юбилея – торжественной литургии в Исаакиевской церкви – присутствовали помимо царской семьи и высших сановников только приглашенные зрители: знатное дворянство, духовенство и купечество. Специальный отряд сухопутного Шляхетского Кадетского корпуса сдерживал в парадных церковных дверях натиск прочих не допущенных желающих. К девяти часам утра в церкви должны были собраться члены Святейшего синода, персоны первых четырех классов, иностранные министры и именитое купечество. К одиннадцати часам из Эрмитажа прибыли с музыкой и барабанным боем высочайшие особы и придворный штат. Служба протекала параллельно с военными церемониями: перед окончанием молебна, при возглашении многолетия были произведены многократные выстрелы из крепостных и корабельных орудий, а также ружейные и пистолетные залпы, которые, по отзыву очевидцев, были слышны по всей Ингерманландии.
После окончания службы состоялся военный парад. Императорская фамилия и генералитет лицезрели его с сенатского балкона. Для прочих почетных зрителей, в том числе и дам, были построены отдельные трибуны на валу Адмиралтейства, с видом на площадь, памятник Петру I и Сенат. Этими зрителями были те же персоны и иностранные министры, что присутствовали на церковной службе, приглашенные особыми повестками занять заранее назначенные места. Простой народ также имел возможность наблюдать за праздником – окрестные улицы, площади и мосты были заполонены как горожанами среднего достатка, так и «чернью»[1412].
Принимал парад сам император. Александр, проехав мимо выстроившихся полков, остановился возле памятника своему великому предку, отсалютовал ему шпагой и оставался возле него, принимая почести от проходивших войск. В это же время вокруг памятника Петру I ездил на лошади седовласый старец, лично знавший первого российского императора[1413]. Военный парад, включавший в себя и пеший, и конный строй, продолжался 80 минут. Во главе его ехали Константин Павлович, герцог Ольденбургский и высший генералитет. За ними следовали наиболее известные лейб-гвардейские полки – Преображенский и Семёновский; далее, по неписаному ранжиру, Измайловский и Гренадерский, а затем Павловский, Литовский и Тенгинский полки. После пеших полков ехали самые почетные кавалерийские полки – Кавалергардский и Лейб-конный, и замыкали процессию лейб-гусары и лейб-казаки. Парад официально был дан не в честь города, а в «почесть покойного императора Петра Великого», именно поэтому войска проходили мимо его памятника, с музыкой, барабанным боем, преклоняя перед ним знамена и штандарты.
По завершении парада на так называемой градской башне высотой свыше 40 метров был зажжен огромный факел, свет которого вкупе с иллюминацией вокруг памятника Петру I позволил продолжать празднество и в ночное время. Ботик Петра I, по возрасту превосходивший самого виновника торжества и стоявший на недавно построенном стопушечном корабле, также был богато украшен и иллюминирован. На его фоне был дан и военно-морской парад: многочисленные корабли и шлюпки совершали продолжительные маневры по Неве в виду городского центра.
После окончания церемоний в Зимнем дворце Александра I ждали представители петербургского купечества. На серебряном с позолотою блюде они преподнесли императору и императрице выбитые по случаю торжества золотые медали с изображением Петра Великого, различными другими символическими знаками, надписью «от благодарного потомства» и с юбилейными датами Санкт-Петербурга.
Отдельной составляющей праздника была иллюминация. Ее инициатором, так же как и всего юбилея в целом, был сам Александр I. Император предписал иллюминировать к празднествам сады, дворцы и казенные дома, потребовав от подрядчиков, чтобы «плошки были налиты хорошим салом и горели более четырех часов». Император пожелал также, чтобы к праздничному освещению города были привлечены и сами жители, при условии, что при этом не будет делаться «никакого принуждения». Насколько точно было исполнено именно это пожелание прекрасно знавшего российские реалии императора, установить доподлинно уже едва ли возможно. Однако прочие его указания были выполнены безукоризненно. Иллюминация была устроена в заключение всех торжеств, начиная с вечера и далеко за полночь. Корабли на реке, Петропавловская и Адмиралтейская крепости, Летний дворец Петра I и его Путевой дворец на Петербургской стороне, памятник Фальконе были освещены разноцветными огнями; на главных водных воротах Адмиралтейства, выходящих на Неву, сверкали горящие венки, а на окружавших его валах – полумесяцы и квадраты. Во многих местах города были установлены огромные иллюминационные щиты с горящим вензелем Петра Великого. На каменных столбах решетки Летнего сада горели факелы, сама решетка и аллеи сада также были богато иллюминированы. При многих казенных и частных домах светились живописные аллегорические картины.
Одновременно с этим в Летнем саду играл императорский оркестр, и сад, в который во множестве стекалась избранная публика, был центром своего рода «народных гуляний» – но для высших слоев общества. Формально в Летний сад допускались лица всех сословий, однако народ «разного состояния» наполнял в большей мере набережную Невы, от Зимнего дворца до Литейного двора. Увеселений для низших слоев, кроме возможности поглазеть на дневные парадные процессии, предусмотрено не было.
Помимо собственно юбилейных торжеств к столетию Петербурга были совершены и различные действия, выходившие за непосредственные рамки церемониала. Так, ради народных гуляний по указу Александра I к Летнему саду был перенесен для удобства публики наплавной мост, стоявший ранее на окраине центра, напротив Воскресенского проспекта. Как в сам юбилейный день, так и в следующие два дня, во всех церквях города производился колокольный звон. По предложению вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, матери Александра I, и по его высочайшему указу в ознаменование столетия Санкт-Петербурга была учреждена больница для бедных (Мариинская больница) – первая общегражданская больница столицы. Будущий сенатор и действительный член Российской Академии Д.О. Баранов, которого декабристы прочили в министры Временного правительства, выпустил к юбилею отдельным изданием «Стихи на истекшее столетие от построения Санкт-Петербурга 1803 года мая 16 дня»[1414]. Немало было и других событий, явлений и деяний, совершенных частными лицами, государственными или общественными институтами и приуроченных к юбилею.
* * *
Таким образом, уже в самом начале новой истории российских юбилеев явственно проступали характерные черты, общие для большинства будущих официальных государственных юбилеев.
Инициатором самого факта празднования выступала верховная власть; она же выбирала события, подлежавшие быть отпразднованными. В 1803 году инициатива исходила, возможно, от самого императора; в таком случае это объясняется очевидной недостаточностью институционализированности интеллектуальной бюрократии. Однако последняя по мере своего развития все в большей степени брала на себя роль инспиратора; так или иначе, коммеморативная функция оставалась в руках политической и бюрократической элиты.
Подготовка и проведение юбилея возлагались властью на государственные инстанции. Неправительственные, общественные, научные, художественные, профессиональные организации, как и общество в целом, к устроению мероприятия не допускались и привлекались лишь в качестве исполнителей расписанных государством распоряжений, а также в качестве зрителей – в строго установленных сверху пределах. В 1803 году эта тенденция была еще в зачаточном состоянии, в дальнейшем она становилась все отчетливее, к концу XIX века достигла своего логического завершения и превратилась в начале века XXI в почти гротескную самопародию, когда власть устраивает юбилей исключительно для себя (и практически внутри себя), не позволяя обществу и народу стать полноправными зрителями и свидетелями происходящего и допуская лишь рассказ в средствах массовой информации о праздниках в честь «самых значимых событий» российской истории.
Непосредственные участники юбилейных торжеств и те зрители, что были действительно приближены к событию, заранее отбирались организаторами, списки утверждались, роли директивно расписывались. Ни о каком добровольном участии в празднике не было и речи. Вместе с тем, отнюдь не все желающие могли получить доступ к юбилейным церемониям. Чем дальше развивалась традиция юбилеемании, тем резче становился совершенно не воспринимавшийся организаторами контраст между обязательностью присутствия и участия на юбилеях для «избранных» и невозможностью этого для всех остальных[1415]. Основными и обычно практически единственными видами праздничных мероприятий являлись церковные и военные церемонии: различные религиозные службы, церковные процессии и военные парады. Сплошь и рядом они шли фактически рука об руку, перетекали друг в друга, и в любом случае были согласованы по времени, составу участников и церемониалу. Несколько в стороне от основных торжеств организуются (если организуются) увеселения для простого народа, в форме отдельных развлекательных мероприятий или же просто народных гуляний, причем порой проводятся они с достаточно широким размахом (это характерно для более позднего периода). Но в любом случае устройство специального празднества для народа является для властей задачей второго плана, которой придается наименьшее значение[1416].
Юбилейный церемониал активно эксплуатирует самые различные «места памяти», как реальные, так и сомнительной достоверности или даже выдуманные. Предметы, картины, здания и любого рода сооружения, оружие, корабли – подлинные или мнимые участники событий (много) – вековой давности – становятся непременными участниками юбилейного празднования. Особое предпочтение отдается иконам и воинским знаменам. В обязательном порядке в церемониал включаются церкви и часовни, причем и старые, и новые, построенные специально к юбилею, а также памятники участникам и героям празднуемого события. Кроме того, организаторы стремятся привлечь к числу участвующих в торжествах свидетелей отмечаемых событий и лиц, имеющих к этим событиям непосредственное отношение, даже если речь идет о юбилее полувековом или вековом.
В центре церемониала находится глава государства. Вокруг его фигуры строится основная церковная служба юбилея. Он принимает главный военный парад. Случается, что он встречается с «народом»: например, принимает его представителей, отобранных по сословному, профессиональному, религиозному принципу, и получает от них подарки.
Важное место отводится репрезентации вовне. Иностранные представители – не только желанные, но и обязательные гости торжеств. Коммерческие круги вынуждены принимать участие в празднике, однако при этом они получают возможность довольно широко использовать его в собственных целях[1417]. Способы, которыми власть привлекает коммерсантов – подрядчиков или частные фирмы – варьируются в самом широком диапазоне от финансовых до политико-административных рычагов, но чаще всего они сочетаются. В случае столетнего юбилея Санкт-Петербурга доминировали, очевидно, финансовые соображения. Позднее административные методы вовлечения коммерсантов в орбиту официальных юбилеев начнут превалировать над экономическими, что, разумеется, не отменит получение бизнесом прямой и косвенной выгоды от участия в торжествах. Организаторы юбилея тоже имеют возможность учитывать свой интерес в этом деле. Судить о том, насколько она могла быть использована в 1803 году, сложно из-за сравнительно скромного размаха юбилейных торжеств, а также из-за нехватки соответствующих архивных материалов. В дальнейшем ситуация с финансовым вознаграждением лиц, непосредственно причастных к торжествам, кардинально меняется[1418].
* * *
На протяжении XIX века юбилеи в Российской империи отмечались неоднократно. Анализ наиболее важных из них позволит проследить эволюцию российской юбилейной культуры, постепенное нарастание количества соответствующих торжеств и размаха каждого из них, пути и причины перехода к качественно новому этапу юбилейной истории, начавшемуся в конце века, а также общие закономерности функционирования процессов инструментализации истории в политических целях. В отличие от юбилеев в других странах – например, столетия «Битвы народов» в Германии, которое было инициировано, организовано и проведено широкими кругами буржуазной общественности в 1913 году, – в России важные исторические круглые даты, как правило, назначались (и назначаются), способы и места проведения утверждались, речи визировались, зрители набирались по составленным спискам и приглашались повестками и т. д.
В 1809 году состоялось празднование 100-летия Полтавской битвы, крупнейшего юбилея всей первой половины XIX века. При этом празднество было сравнительно скромным; проходило оно прежде всего в самой Полтаве. Его апофеозом стала установка памятника коменданту Полтавы полковнику Келину, возглавлявшему гарнизон, оборонявший в ходе Северной войны город от шведов[1419]. Различные мероприятия были организованы и в других городах, особенно на тогдашней Украине. Так, в Киеве еще в 1808 году в честь приближающегося столетия Полтавской баталии в центре горда был сооружен новый помпезный фонтан – в виде Самсона, раздирающего пасть могучего льва; из пасти укрощенного царя зверей лилась вода. Скульптурная группа «Самсон» была аллегорией знаменитой битвы, а также местной интерпретацией знаменитого «Самсона» в Петергофе, призванной подчеркнуть связь главного города Малороссии с имперской столицей.
Примечательно, что в 1809 году проявилась очередная черта юбилейных празднований, которая затем красной нитью пройдет сквозь века и сохранится до наших дней, – стремление организаторов юбилея что-либо соорудить, основать, отремонтировать именно к самой славной дате и при этом неспособность сделать это вовремя. В результате сплошь и рядом торжественное открытие или освящение юбилейных сооружений или учреждений вынужденно устраивается не в ходе главной праздничной церемонии, а через некоторое время; основная юбилейная дата утрачивает дополнительный блеск; процедура выхолащивается; само сооружение становится для местных властей ненужной обузой. Подобным же образом и процесс отмечания столетия Полтавской битвы растянулся на многие годы.
В 1804 году было начато строительство еще одного монумента – памятника «Слава». В его создании принимало участие сразу несколько великих российских творцов: сооружен он был по проекту Тома де Томона, барельефы созданы профессором, будущим ректором Академии художеств Ф.Ф. Щедриным; творческими консультантами при этом были Ф.Г. Гордеев и И.П. Мартос. Хотя строительство монумента было начато в 1804 году, а на его тыльной стороне в итоге была сделана надпись «Закончено в 1809 году», фактически сооружен и открыт памятник был лишь 27 июня 1811 года, в очередную полтавскую годовщину, спустя два года после векового юбилея. Наконец, в 1817 году на месте дома, где после битвы на квартире у А.С. Келина отдыхал Петр I, появился кирпичный обелиск.
Первый существенный юбилей нового царствования, 25-летие Отечественной войны 1812 года, был отмечен в 1837–1839 годах: так возникала новая традиция – растянутое во времени празднование одного юбилея. В 1837 году праздничные мероприятия проходили в основном в Петербурге и на Бородинском поле[1420]. Еще в 1835 году последовало высочайшее повеление «воздвигнуть монументы на главнейших полях сражения вечно достопамятного 1812 года», самым главным из которых было названо Бородинское ратное поле. В августе 1836 года Генеральным штабом и лично императором были определены места будущих памятников. Юбилейное торжество на Бородинском поле состоялось 9 мая 1837 года. В этот день на Курганной батарее (батарее Раевского) был заложен будущий главный Бородинский монумент. В саму 25-летнюю годовщину Бородинской битвы (26 августа) в Петербурге были торжественно заложены Нарвские триумфальные ворота в память Отечественной войны 1812 года, а император Николай I откупил в этот день у частных владельцев за 150 тысяч рублей село Бородино и его земли, включавшие в себя большую часть Бородинского поля вместе с батареей Раевского и подарил сыну, будущему императору Александру II. Еще раньше цесаревич Александр заложил первый камень в фундамент Бородинского монумента. Неподалеку от монумента соорудили жилище для солдат-ветеранов. Им вменялось в обязанность ухаживать за памятником и могилами похороненных на поле, встречать посетителей и отвечать на их вопросы. Так в Бородине появился военный музей, существующий по сей день.
В Москве также имело место действо, непосредственно связанное с юбилеем победы над армией Наполеона. Николай I в ходе своего пребывания в древней столице посетил село Измайлово, давнюю вотчину Романовых, и принял решение о строительстве там военной богадельни для инвалидов Отечественной войны. Строительство было поручено известному архитектору К.А. Тону. По его плану к Покровскому собору 1671–1679 годов были вплотную пристроены с трех сторон главные трехэтажные корпуса богадельни. Таким образом он был превращен в домовый храм, и немощные ветераны могли легко посещать богослужения. Реставрация Покровского собора и строительство корпусов начались в 1839 году, во время празднования «пролонгированного» четвертьвекового юбилея Отечественной войны; это была также 25-я годовщина вступления русских войск в Париж (1814) и окончания всей войны с Наполеоном[1421].
1839 год, по прихоти организаторов соединивший в себе два разных юбилея, стал главным годом празднования 25-летия побед над Наполеоном[1422]. Основное торжество проходило на Бородинском поле. 26 августа состоялись божественная литургия и крестный ход, а также торжественное открытие и освящение заложенного два года назад памятника. В открытии монумента принимала участие вся царская семья, министры, генералитет, 400 человек духовенства и 120 тысяч солдат, иностранные гости, а также более двухсот участников самой Бородинской битвы. Среди особ, стоявших на самом почетном месте у подножия монумента, находилась и вдова генерала Тучкова-четвертого, основательница и будущая настоятельница Спасо-Бородинского монастыря.
К открытию бородинского памятника были приурочены маневры, проходившие на поле 29 августа и повторявшие знаменитое сражение; в них приняли участие свыше 130 тысяч солдат. Бородинская битва была в точности воспроизведена. Войска были расставлены на тех же местах; по воспоминаниям очевидцев даже погода стояла, как и тогда, холодная. Сражение, начатое атакой селения Бородино, с полной точностью воспроизвело все фазы того памятного дня. По всей линии поддерживался сильный огонь, напоминавший убийственный огонь битвы 1812 года. Единственное отличие «сражения» 1839 года состояло в том, что император, с драгунским корпусом повторявший передвижения кавалерии Уварова на правом фланге, повел его настолько решительно, что зашел в тыл неприятельской армии – движение, которое, будь оно исполнено тогда, быть может, и привело бы к иному историческому результату[1423]. Разумеется, для Николая I, не участвовавшего до того ни в одной войне, было важно одержать символическую победу над воображаемым врагом. Такая победа, как и весь юбилей длиною в два года, хорошо вписывалась в целый ряд мероприятий этого периода. История войны начала мифологизироваться; сложилось так называемое национально-патриотическое направление в изучении событий 1812 года, «и отношение к этой войне в духе национализма и специфического патриотизма сделалось традиционным»[1424]. Организованные государством празднования юбилея Отечественной войны и наполеоновских войн полностью лежали в русле общей политики верховной власти по формированию новой идеологии и стали одним из многих официальных политических и идеологических шагов, которые должны были эту систему идей закрепить[1425].
Этой же цели должны были служить и печатные издания, приуроченные к памятной дате. Именно 25-летие Отечественной войны положило начало традиции публикации юбилейных изданий, в том числе и тех, что должны создавать ту или иную картину юбилейного события в зависимости от вкуса, политических или исторических воззрений автора или заказчика. Так, А.И. Михайловский-Данилевский составил по высочайшему повелению «Описание Отечественной войны в 1812 году». Рескрипт Николая I о необходимости подобного труда датирован 24 февраля 1836 года. А уже 29 января 1838 года Михайловский-Данилевский представил готовую рукопись. Это сочинение было весьма критически встречено многими современниками, настроенными менее проправительственно; так же воспринималось оно и либеральной частью потомков, в частности, во время празднования 100-летия Отечественной войны. В то же время выходили не только апологетические идеологизированные сочинения, но и труды, вызванные к жизни интересом общественности к очередной круглой дате и, в свою очередь, подогревающие этот интерес. Так, в 1839 году были изданы известные «Очерки Бородинского сражения» Ф.Н. Глинки. Завершением торжеств «вечной памяти двенадцатого года» стала закладка в том же 1839 году храма Христа Спасителя в Москве, в 25-ю годовщину взятия русскими войсками Парижа.
Следующий крупный юбилей праздновался десять лет спустя. Осенью 1847 года отмечалось 700-летие Москвы. Юбилей протекал не под эгидой властей. Напротив, Николай I не одобрял подобной затеи и лишь под давлением общественности разрешил устроить его, причем государство в его организации не участвовало. Тем самым московское празднование явилось редким и на долгие годы единственным крупным российским юбилеем, который был задуман, организован и проведен общественными силами, без влияния и руководства правительства и официальных инстанций. Сама идея празднования возникла в среде славянофилов, первым ее в 1846 году сформулировал К.С. Аксаков в статье «Семисотлетие Москвы». Старая Москва, ставшая символом славянофилов и идеалом общественной нравственности, противопоставлялась Петербургу. И хотя Николай I, побывав в Москве летом 1846 года, дал свое формальное согласие на празднование юбилея, центральная власть фактически сознательно сорвала московские торжества. 31 декабря 1846 года появилось официальное распоряжение отпраздновать юбилей 1 января 1847 года, т. е. уже на следующий день. Тем самым не оставалось времени на подготовку и организацию праздника, но перенести дату было невозможно, поскольку она была назначена высочайшим повелением. В итоге из всех планировавшихся мероприятий – с церковными и учеными торжествами, балами у генерал-губернатора и в Благородном собрании, иллюминацией и т. д. – состоялось лишь одно торжественное молебствие и иллюминация[1426]. Участие властей в праздновании свелось к подготовке вечерней иллюминации[1427]. На кремлевской стене и по всему городу были расставлены горящие сальные плошки. Они должны были составлять юбилейные вензели, узоры и соответствующие надписи; однако прочесть их зачастую было весьма трудно, так как многие плошки не зажглись или, зажегшись, погасли: в отличие от столетнего юбилея Петербурга, когда за подрядчиками следил едва ли не сам император, в Москве качество соответствующих поставок оказалось вполне обычным.
Несмотря на общественный характер юбилея, обычной оказалась и степень информированности и участия в нем простого народа. Большинство горожан ничего не знало об идущих юбилейных мероприятиях и лишь гадало, что же, собственно, происходит. Для большинства даже живущих в центре Москвы реальной возможности участвовать в празднике практически не было.
Шагом в сторону большей официальности и огосударствления юбилейных кампаний стало 100-летие Московского университета[1428]. Юбилей планировался государственными инстанциями и был призван утвердить правительственную точку зрения на университеты как опору самодержавия. Кроме того, торжества проходили в разгар Крымской войны и тем более должны были носить патриотический характер.
Высочайшее соизволение провести торжества последовало в 1849 году, а 8 марта 1851 года Николай I одобрил юбилейную программу, представленную министром народного просвещения князем П.А. Ширинским-Шихматовым. Она включала в себя подготовку к печати ряда юбилейных изданий, торжественный молебен в университетской домовой церкви, торжественный акт Московского университета и торжественный банкет. Для ее реализации Совет университета учредил Особенный комитет под председательством ректора А.А. Альфонского в составе С.М. Соловьёва, С.П. Шевырёва, Т.Н. Грановского и других известных профессоров. К юбилею была составлена «История» и «Биографический словарь» Московского университета[1429], изданы сборник статей профессоров «В воспоминание 12 января 1855 года»[1430] и ряд других материалов. Высочайше одобренная программа, специальный организационный комитет, юбилейные издания и т. д. стали с этого времени непременными атрибутами любого крупного юбилея[1431]. Кроме того, была введена практика юбилейных орденов (их получали профессора за сам факт принадлежности к университету), памятных медалей, а также музыкальных произведений[1432].
Следующим важнейшим юбилеем стало празднование тысячелетия России в сентябре 1862 года. В основном торжества проходили в Великом Нов городе, но также и в Петербурге, Москве, Киеве и других городах[1433]. Юбилей России отмечала именно центральная власть. Однако его идея, организация, идеологическое наполнение заметно выделяют это мероприятие из общего ряда юбилеев, проведенных государственными инстанциями за многие десятилетия.
Юбилею предшествовала длительная научная и журнальная полемика вокруг темы призвания варягов и даты празднуемого события. В итоге по докладу министра народного просвещения П.А. Ширинского-Шихматова, опиравшегося на статьи М.П. Погодина и других историков, Николай I в 1852 году официально провозгласил 862 год «началом Российского государства»[1434]. К началу 1860-х годов, в царствование Александра II, стремившегося дистанцироваться от Николаевской эпохи, юбилей оказался на периферии интересов властей. Однако сложные социально-политические коллизии, вызванные Манифестом 19 февраля 1861 года, недовольство политикой правительства в самых различных слоях общества резко изменили ситуацию: императору потребовался масштабный спектакль, призванный укрепить и по-новому легитимировать связь между монархом и подданными[1435].
Сообщениями о всеобщем одушевлении, восторженных толпах и безмерном ликовании народа при встрече государя были заполнены все газеты и официальные отчеты. Очевидно, однако, учитывая сложную обстановку в стране, эти реляции не столько свидетельствовали о реалиях празднества, сколько отвечали изначально задуманному сценарию. Сама привычка выдавать желаемую картину за действительность стала впоследствии непременным атрибутом репортажей и более поздних отчетов о всех крупных юбилеях рубежа веков.
И все же несмотря на «державный» характер новгородского празднования тысячелетия Руси, на официозность всего юбилея в целом, на то, что он, как и его предшественники и те, что за ним последовали, были инспирированы и организованы верховной властью под строжайшим контролем государственных инстанций, на то, что он, как и все официальные юбилеи России последних веков, был построен на откровенной инсценировке, на заранее расписанных церемониях, включавших в себя имитацию чувств и эмоций, в том числе – самых главных, тех, ради которых юбилеи и проводились – чувства взаимной симпатии, уважения и любви между властителем и подданными, несмотря на привычное недопущение общественности к собственно празднику, на предписанные отчеты и контролируемые репортажи, – несмотря на все это самый «круглый» российский юбилей кардинально отличался от всех прочих официальных юбилеев императорской России.
Российская общественность того времени в целом не приняла новгородских торжеств, а либеральные круги так и вовсе отнеслись к ним скептически или иронически[1436]. Однако главную свою задачу – поддержать престиж императорской власти в очень непростой момент, создать привлекательный образ правителя и положительный имидж самодержавия в целом – они, в отличие от иных юбилеев, выполнили. Юбилей 1862 года был, пожалуй, единственным, в процессе организации и проведения которого устроители сформулировали четкую идеологическую концепцию праздника и смогли последовательно и успешно воплотить ее в жизнь. Главным отличием юбилея тысячелетия Руси была его идейная наполненность.
В ходе торжеств, равно как и в символике памятника тысячелетию России, настойчиво проводилась параллель между реформаторским почином Александра II и началом русской государственности, а также между самим императором и Рюриком. Фигура русского царя выводилась в образе реформатора, который определяет развитие державы и направляет его во благо подданных. Юбилей 1862 года стал не просто праздником Древней Руси, воспоминанием об истоках славного пути российской государственности, но, прежде всего, мощным пропагандистским актом во славу Великой России, ведомой могучим и просвещенным самодержцем к новым блистательным достижениям.
Именно это продуманное идейно-политическое содержание праздника, настойчивость в воплощении идеологии в церемонии и обусловили явный успех пропагандистской кампании, проведенной под эгидой великого исторического события, что решительно отличает рассматриваемый юбилей от аналогичных ему более поздних торжеств. Празднование тысячелетия Руси остается уникальным примером удачного официального юбилея, так и не ставшего уроком для будущих устроителей государственных торжеств (и в дальнейшей истории российской юбилейной культуры так ни разу и не повторенным).
На 1862 год выпал и другой крупный юбилей еще одного великого события российской истории – 50-летие Отечественной войны. Однако правительство не просто отдало предпочтение юбилею более древнему, но и фактически саботировало военный юбилей (что само по себе является весьма редким случаем). После окончания Крымской войны интерес к войне 1812 года существенно возрос, будучи обусловлен стремлением компенсировать горечь поражения совсем иными, положительными воспоминаниями[1437]. Потребность в этом испытывало как общество, так и правительство[1438]. Со стороны правительства именно стремлением протянуть нить к славному прошлому объясняются и назначение на годовщину Бородинской битвы коронации Александра II в 1856 году, и приуроченное к этой же дате открытие памятника тысячелетию России в Новгороде в 1862 году. В коллективном сознании память об итогах Крымской войны останется жить долгие годы; как раз к 1862 году национальные чувства вспыхнули с новой силой в связи с 50-летним юбилеем победы над Наполеоном[1439].
Кроме того, слишком очевидными были параллели между реалиями российской действительности первой четверти и последней трети XIX века. И Отечественная, и Крымская войны обострили целый ряд военных, социальных и политических проблем в стране, поставили новые общественные вопросы, в частности, касающиеся взаимоотношений народа и власти. В 1860-е годы возникают и попытки получить на них принципиально новые ответы. Причины победы над Наполеоном, роль народа в войне, идея объединения всех сословий вокруг трона для борьбы с внешним врагом, соотношение чисто военного и патриотически-героического факторов как слагаемых успеха – уже сам факт обсуждения подобных тем был ранее немыслим и крайне болезненно воспринимался официальными инстанциями. Весьма актуальный в эпоху падения крепостного права вопрос о роли народа в исторических событиях вовсе не мог воодушевить правящие круги, и правительство эту бородинскую годовщину, по сути, игнорировало.
В свою очередь, либеральные и радикальные круги использовали юбилей в своих целях. Новые трактовки прошлого превращали оппозиционеров от истории в критиков современной политики. Выдвижение на первый план роли народа в великой победе, так же как и версия о том, что события 1812 года следует рассматривать как исключительно военную победу силами армии (без привлечения сословно-самодержавной риторики), противоречили взгляду верховной власти на прежние времена.
Оппозиционная правительству печать была полна материалами о 50-летии Отечественной войны и Бородинской битвы; юбилей тысячелетия Руси в Великом Новгороде старательно игнорировался. Точно так же и правительственные круги фактически замалчивали юбилей 1812-го года, а официальные лица не посещали соответствующие мероприятия. В целом 50-летие Отечественной войны 1812 года принесло правительству столько неприятных осложнений, что на протяжении последующих тридцати с лишним лет власть не допускала и мысли о каких-либо юбилейных торжествах. С 1862 по 1897 год газеты ничего не писали ни о каких юбилейных мероприятиях. Приказ цензуры был, по-видимому, настолько строг, что они не вспоминали о юбилее даже тогда, когда текст помещаемых ими корреспонденций прямо упирался во что-либо, связанное с 1812 годом[1440].
На 1860-е годы выпало еще несколько, более мелких, юбилеев, отмечавшихся на локальном уровне. В 1866 году праздновалось 100-летие со дня рождения великого историка Н.М. Карамзина. По этому поводу Симбирской губернской библиотеке, носившей имя Карамзина, своего земляка, было разрешено провести всероссийскую подписку в свою пользу. Это разрешение стало первым примером широкого жеста правительства – когда по случаю юбилея власти милостиво разрешали частным лицам или инстанциям проявить инициативу за собственный счет. В дальнейшем объявления дозволения провести подписку, основать стипендию, построить церковь, больницу и т. д. стали неотъемлемой принадлежностью любого крупного юбилея.
Еще меньший резонанс в обществе вызвало празднование в 1869 году 50-летия освобождения крестьян в Прибалтике[1441]. В пореформенной России, в которой полным ходом шли соответствующие преобразования, былые события в остзейских губерниях не вызывали такого интереса, какой мог бы возникнуть еще за десять лет до того. И в целом в стране, где осуществлялись реальные перемены, так же, как и в другие подобные периоды – например, в первой трети XIX века, – ни у правительства, ни у «шестидесятников» не было потребности в инициировании и проведении серьезных юбилейных празднований. Поэтому лишь с самого конца 1860-х годов вновь возрождается практика юбилеев, причем по преимуществу юбилеев военных – самого распространенного и неизбежного вида юбилейных торжеств в империи, гордящейся и лелеющей свое прошлое (прежде всего, военное), опору власти и государству в которой составляет служащее в армии дворянство.
В 1870-е годы количество юбилеев несколько увеличивается. Реальные изменения в стране, реформы, требовавшие напряжения всех государственных и общественных сил, постепенно завершаются и сменяются внутриполитическими трениями, борьбой различных партий и элит. В этой ситуации использование великого прошлого для решения актуальных политических задач, подведения идеологического исторического фундамента под современные призывы снова становится желательным методом действий. Однако эта тенденция пока только намечается; реальностью она становится лишь в следующее десятилетие. Русско-турецкая война, бурная деятельность радикалов, в том числе революционеров и сторонников террора, не просто дают выход политической энергии внутри государства, но и фактически не оставляют места в российском политическом календаре для воспоминаний о прошлом.
С 1880-х и в еще большей степени с 1890-х годов произошел резкий всплеск юбилейной активности. На протяжении долгого ряда лет политическая и общественная жизнь страны проходила под знаком постоянных юбилейных празднований, именно тогда была предпринята неудавшаяся, впрочем, попытка найти с их помощью пути решения актуальных государственных проблем[1442]. Заметные и самые известные юбилеи – столетие Бородинской битвы в 1912 году и трехсотлетие царствования династии Романовых в 1913 году – были призваны оказать непосредственное влияние на политическую ситуацию и общественные настроения, продемонстрировать единение всех слоев народа вокруг трона, непоколебимость самодержавия и возможность забвения классовых, политических и религиозных разногласий.
* * *
Вместе с тем история выступала отнюдь не в виде застывшей константы, но в качестве меняющейся действительности, подчас столь же жизненной, как и существующая реальность. Взаимодействие и взаимовлияние прошлого – в различных интерпретациях, настоящего – в том виде, в каком оно воспринималось действующими лицами политического процесса, и будущего – в тех формах, какие виделись участникам юбилея желательными и необходимыми, – являлось важнейшей составляющей всего юбилейного дискурса. Стратегия государственной власти, организовывавшей большинство значимых юбилеев, заключалась в тщательном отборе, а при необходимости – в замалчивании или мемориальном «производстве» фрагментов общественной памяти. Таким образом, история в ходе юбилеев, являясь объектом активного восприятия и фильтрации, становилась моделью трактовки будущего.
Однако идея формирования и дальнейшего регулирования коллективной памяти организаторами юбилейных кампаний рубежа XIX–XX веков не была должным образом продумана и воплощена в жизнь. Основной причиной этому стала неспособность осознать необходимость внутреннего, идеологического наполнения юбилейных празднеств. Единственный внятный лозунг – к сплочению вокруг трона – не мог быть воспринят радикализирующимся обществом и даже его потенциальным реципиентам не давал ответа на главный вопрос – ради какой цели?
При попытке опереться на славные традиции государства для улучшения своего актуального положения власти выбрали самый неудачный из всех возможных поводов, сконцентрировав внимание на юбилеях военных побед, а также правящей династии. Однако победы российской армии многовековой давности не имели отношения к политической реальности начала ХХ века, деяния великих императоров прошлого – к фигуре Николая II. Ни события, ни форма их подачи (прежде всего, церковные и военные процессии) не могли увлечь сколько-нибудь значительные круги населения и заставить их воспринять правительственную пропаганду. Попытка противопоставить росту антимонархических настроений мифологизированную конструкцию десекуляризированного общественного устройства и сакральной власти не была ни идеологически обоснована, ни детально разработана, ни подкреплена чем-либо, кроме пышных церемониалов.
В эпоху, когда легитимность власти все более ставилась под сомнение, стремление правительства продемонстрировать единение всех слоев общества, верность их престолу заставляло прибегать к инсценировкам. Практически все юбилеи были идеально организованы – многолетняя подготовительная работа десятков ведомств и сотен людей не проходила даром. Но внешняя безупречность проведения юбилеев не могла компенсировать их внутреннюю пустоту. Их единственная идея – имперская – не подразумевала возможности альтернативных трактовок исторического прошлого или возможного будущего. Власти не были способны проявить гибкость в вопросе о роли самодержавия, явно изживавшего себя в новых социально-политических условиях начала XX столетия – радикально изменившихся по сравнению с временами двух-, трехвековой давности, к которым постоянно отсылали юбилеи как к образцу для подражания.
Таким образом, стратегический выбор российского правительства в пользу многочисленных, тщательно организованных и срежиссированных в высших государственных инстанциях, а затем помпезно и пышно отмечавшихся юбилейных торжеств в качестве инструмента внедрения в общественное сознание нужных на данный момент идей и идеологий оказался недееспособным. Вербальные, визуальные и иные медийные послания, исходившие от властей, в конечном счете не были восприняты общественным мнением. Слишком многое изменилось по сравнению с празднованием тысячелетия России, да и идеологическая программа новых юбилеев была куда менее цельной и внятной. Разработанная технология общения с массами, подразумевавшая односторонний коммуникативный процесс, вскоре окончательно доказала свою бесполезность, когда общественное развитие стремительно актуализировало не надуманные теории исконного и исторически незыблемого единения всего народа вокруг монарха, но социальную практику революции.
С.А. Еремеева Каменные гости: монументальные памятники коммеморации
В секуляризированном обществе, выдвигающем свою иерархию ценностей, начинается поиск знаковых фигур, которые смогут в той или иной степени воплощать в себе некие общезначимые ориентиры. Наделение ценностью происходит через формирование и перекомпоновку памяти – общество выбирает, кого оно готово помнить. Память как связующая (коннективная) структура общества, обеспечивает целостность «цепи времен», утверждая и подтверждая системы ценностей, и одновременно представляет возможности и репертуар для выработки новых образцов и примеров для подражания. Однако стабильность самой этой структуры все время подвергается испытанию, поскольку происходит постоянное переопределение поля памяти за счет ввода или исключения из нее тех или иных элементов. Этот процесс обеспечивается определенными культурными практиками памяти, которые меняются со временем.
В России XIX века происходит одновременный процесс поиска новых образцов и становление целого ряда практик, вводящих эти образцы в пространство культурной памяти. Одной из таких практик является возведение общественных монументов. При этом сам факт монументальной коммеморации вовсе не гарантирует превращения объекта в место памяти, он представляет собой лишь материализацию и визуализацию памяти отдельных социальных групп, предлагающих новый элемент общей памяти. Отчего зависит, происходит ли в итоге включение или «игнорирование» такого элемента в копилку коллективного наследия?
Болваны, идолы, герои
Краткую историю и философию скульптурных памятников в европейской культуре внятно изложил М. Дворжак[1443]. В европейской культуре история скульптуры начиналась дважды – во времена Античности и Возрождения. Сложный для восприятия способ выражения («задача скульптора не есть имитация действительности… скульптура прежде всего обращается к воле и интеллекту зрителя и гораздо меньше к его чувствам и эмоциям. Скульптура должна быть “реальней”, чем действительность, и вместе с тем “вне” действительности»[1444]) не всегда был понятен и, соответственно, необходим и популярен даже там, где существовала традиция восприятия (понимающий зритель формировался одновременно с художественной практикой).
Для русской культуры скульптура не являлась органическим способом выражения (традиции замечательной деревянной скульптуры оставались все же маргинальными и локальными), что определяло, с одной стороны, невосприимчивость к символической стороне такого способа воплощения идеалов и идей, с другой – повышенную значимость самого факта существования скульптурных композиций, когда они появлялись в местном ландшафте.
Условность аллегорических изображений оказывалась поначалу вовсе за порогом понимания; самый яркий пример – поставленные в 20-х годах XVII века англичанином Христофором Галловеем в нишах Спасской башни «болваны», которых царским указом одели в однорядки «англицкого сукна разного цвета». Неважно, было ли это сделано для прикрытия наготы или чтобы придать им вид живых людей – важно то, что таким образом, по тем или иным соображениям, им пытались придать конвенциональный вид, делающий возможным их восприятие, и тем самым нивелировали их «скульптурную природу». Об этом мы знаем мало, все статуи погибли в пожаре 1654 года, но вся история уже следующего, XVIII века, свидетельствует, что импортированная скульптура приживалась плохо, несмотря на то, что сама новая художественная традиция прививалась энергией и волей Петра I.
Скульптура ввозилась из Западной Европы, но вместе с конкретными изображениями импортировалась и сама «память жанра» – ведь принцип репрезетации идеала и поминания имплицитно содержались в любом монументе. Но поскольку это была «чужая память», то воспринята могла быть лишь сама эта идея показа, трехмерного воплощения идеала.
Основным предметом ввоза (фактического, «вещного» или через приглашенных мастеров) была декоративная скульптура, заполонившая Летний сад и Петергоф. Заметим, что к статуе Венеры в Летнем саду пришлось приставить охрану, а после смерти Петра ее, от греха подальше, убрали сначала в грот, а потом в Таврический дворец. Статуи Петергофа были в гораздо большей степени ориентированы на декоративность, нежели на монументальность (и долгую память) – сделанные из свинца, через семьдесят лет они деформировались настолько, что все их пришлось заменить.
Бартоломео Карло Растрелли, приглашенный лично императором, первый и единственный на тот момент профессиональный скульптор в России, не мог прокормить себя своей основной специальностью. Ему приходилось быть архитектором, фонтанным мастером, декоратором… Он создал первый в русском искусстве конный монумент – статую Петра (заказ 1716 года), для которой искали деньги и место почти сто лет – отлили ее уже после смерти мастера, а установили перед Инженерным замком в Петербурге и вовсе в 1800 году.
К концу XVIII века появился частный заказ на декоративную пластику (она украшает теперь крупные усадьбы) и надгробия, изобилующие аллегорическими фигурами в туниках и тогах: классицизм в российской скульптуре оказался живучим, хотя уже с 1770-х годов была явлена альтернатива – портретные бюсты Фёдора Шубина. Впрочем, публичное пространство российских городов только в XIX веке оказалось потенциально готово к «приему» памятников – в городах стали формироваться площади. Указ Екатерины «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии особо», который предусматривал обязательные площади в новой планировке старых городов, был издан в 1763 году, но разработанные Комиссией строений генпланы для провинции были реализованы в основном (и то не полностью) только после Отечественной войны 1812 года. Исключением была Тверь, перестроенная после пожара 1763 года – там, кстати, и появился первый городской памятник-обелиск в честь посещения города Екатериной. Отдельная история – Петербург, где площади – как свободное пространство, которое должно связывать между собой улицы – образовались ранее самих домов. Это были еще протоплощади с аморфными границами и отсутствующим окончательным архитектурным оформлением (формирование Дворцовой площади шло с 1753 по 1834 год). Правда, и в этом городе долго не знали, куда пристроить растреллиевский памятник Петру, но по «насыщенности» скульптурой в XIX веке его нельзя сопоставить ни с каким из других русских городов (один из аргументов 1880 года при выборе места для памятника Пушкину именно в Москве).
Для финансирования немногочисленной монументальной скульптуры, оказавшейся в общественном пространстве, долгое время не существовало никаких других источников, кроме государственного заказа. Создавались только редкие шедевры, все классицистические, с аллюзиями на Античность. Таков памятник Петру I Э. Фальконе (1782)[1445] – царь в свободном плаще и лавровом венке, на коне, попирающем змею. Памятник Петру перед Инженерным замком работы Б. Растрелли ориентирован на памятник Марку Аврелию, со всеми соответствующими атрибутами (1800). Памятник Суворову на Марсовом поле М. Козловского (1801) представляет полководца в латах и шлеме, прикрывающим жертвенник.
Скульптурные монументы в России и в начале XIX века появлялись редко, практика их возведения не была распространенной. Следующие герои – Минин и Пожарский – были увековечены в 1818 году. Легенда об этом памятнике как созданном на народные деньги представляется сомнительной. Инициатива исходила от императора. Описывая процесс формирования мифа Смутного времени как момента возникновения российской государственности[1446] (в рамках которого если не родился, то приобрел жизнеспособность проект памятника Минину и Пожарскому), А. Зорин замечает: «Необходимость в патетических жестах ощущалась тем острее, что чаемое народное единство выглядело менее всего гарантированным»[1447]. Поэтому сбор средств на такое непонятное начинание, как создание общественного символа сконструированной идеи, было скорее не столько реальным делом, сколько именно «жестом». Но этот памятник (в соответствии со всем вышесказанным) был первым монументом, который с помощью слов, ритуалов и образов попытались ввести в пространство общей памяти. Чтобы сделать его если не понятным, то имеющим отношение к российской жизни, героев слегка переодели. Первоначально они представлялись, как водится, в античных одеждах, но в последнем варианте античность нарядов умерили: хитон Минина представляет собой компромисс с народной рубахой, на барельефе античные одежды женщин дополнены кокошниками, а шлем и щит Пожарского отмечены национальными чертами.
Постепенно нечастые, как и прежде, памятники устанавливаются уже в соответствии с более широким репертуаром. Каждый памятник представлял собой отдельный случай. И, с определенной точки зрения, случайность. Следующий прецедент, казалось бы, мог стать точкой отсчета новой истории в практике коммеморации. В 1828 году был открыт памятник Ришелье в Одессе – первый монумент, посвященный гражданскому лицу, а не императорской особе или военачальнику[1448]. Похоже, это было впервые в России, когда средства на памятник действительно были собраны по местной инициативе и на общественных началах. Однако практика эта не получила дальнейшего развития – она осталась событием местного значения.
Памятники не слишком понимали. Уникальный материал для реконструкции рецепции первого скульптурного памятника России дает «Медный всадник» Пушкина. Для поэта связь между историческим Петром и монументом – проблематична и неоднозначна, оценка этих двух фигур строится по-разному[1449]. Можно спорить о том, что думал поэт о самом Петре, но его отношение к монументу выражено вполне явно. Памятник появляется в окружении пустоты, немоты, ревущей стихии, отделенный непроходимой границей от всего человеческого. Намертво прикрепившееся к памятнику после выхода поэмы название «Медный всадник» показывает, что весь этот круг коннотаций отвечал общим представлениям[1450]. Иконография, обусловленная канонами классицизма, иногда «поддается» под влиянием требований «общественного» характера монумента; но в целом она не способствует продуктивному восприятию памятника: античные фигуры на площадях русских городов могли вызывать тогда противоречивые чувства, но все же вряд ли отсылали к исторической памяти в условно «чистом» ее виде.
В XIX веке скульптура в России существует все же скорее как декоративная, а не социальная практика: насыщены скульптурой парки, в городском пространстве создаются монументальные ансамбли – Исаакиевский собор в Петербурге или храм Христа Спасителя в Москве. Список общественных монументов постепенно расширяется. Россия покрывалась памятниками своим военным победам (триумфальные арки, колонны, обелиски и т. д.). Параллельно такому ряду памятников начала выстраиваться и череда других монументов, также определяемая через типологическое подобие их героев и общие черты истории создания. Это сходство ощущалось и современниками – при каждом следующем факте открытия того или иного памятника ссылки делались на прецеденты этого ряда, т. е. традицией эта аналогия кажется не только в исследовательской ретроспективе. Речь идет о памятниках гражданским лицам, условно говоря, «учителям». В России XIX века ими оказываются писатели – даже те фигуры, которые нам представляются не совсем подходящими под это определение, в момент создания памятника декларировались именно как писатели, точнее, как люди Слова и Языка. Этих памятников немного, но, похоже, продуктивную культурную практику порождают именно они: Ломоносов в Архангельске (1832), Карамзин в Симбирске (1845), Державин в Казани (1847), Жуковский в Поречье (1853), Крылов в Петербурге (1855), Кольцов в Воронеже (1868), Пушкин в Москве (1880).
Именно памятники писателям не только выстроили подобную практику коммеморации как традицию, но и превратили скульптурный монумент в место памяти, что явили собой Пушкинские торжества 1880 года.
Россия, XIX век: культурные герои
Первым опытом был памятник М.В. Ломоносову в Архангельске, сооруженный в 1829 году И. Мартосом на собранные по подписке деньги. Движение за сооружение памятника началось в 1825 году. По всей стране был предпринят сбор средств, поддержанный прессой, помещавшей, однако, заметки, как правило, в информационной части, в конце журнальной книжки (в рубрики «Смесь», «Современные летописи»). В конце концов, «ревнуя славе Ломоносова», в деле поучаствовала и Императорская Российская Академия (1000 рублей), и сам император Николай Павлович (5000 рублей). 3345 рублей пожертвовал граф Д.И. Хвостов, 2000 рублей дал граф С.Р. Воронцов, дядя которого поставил мраморный памятник над могилой Ломоносова, 1000 рублей – С.А. Раевская. Судя по сообщениям о пожертвованиях, в сборе средств принимали участие и купцы, и Архангельское мещанское общество (правда, как всегда в российском контексте, нельзя понять, связано это с гражданским или с общинным сознанием и привычкой жертвовать на дело, объявленное богоугодным). Во всяком случае, мероприятие позиционировалось как общественное – модель памятника обсуждалась в столице и вызывала всеобщее одобрение, а рисунок с алебастровой модели был выпущен в продажу. В конце концов собрано было более 53 000 рублей.
Памятник должны были поставить на обширной городской площади, но в это дело неожиданно вмешалась монаршая воля. Лично изучив карту Архангельска, император указал место памятнику – место неудобное во всех отношениях: низкое, топкое и малозаметное – памятник был плохо виден и трудно достигаем с центрального Троицкого проспекта. Известно, что на этом болоте монумент сильно осел за первые четыре года, и возможно поэтому пришлось надстраивать гранитную колонну пьедестала в 1838 году. В 1867 году памятник был перенесен на первоначально предназначавшееся ему место.
Анализ риторики, сопутствующей процессу создания и открытия памятника, показывает, что Ломоносов тогда представлялся писателем, стоявшим у истоков просвещения России, а необходимость сооружения памятника аргументировалась необходимостью отвечать на вызов чужеземцев и апелляцией к потомству (к будущему). Появившаяся спустя более полувека (и после открытия памятника Пушкину в Москве) публикация в «Историческом вестнике» свидетельствовала о том, что понимание происшедшего изменилось, хотя рассказывалась фактически та же история. В статье 1889 года эпопея сооружения памятника в Архангельске будет рассматриваться как «патриотическое мероприятие» – таким переносом акцентов констатируется иная оптика восприятия, возможная лишь после пушкинских торжеств 1880 года и немыслимая в начале процесса, в 1820-х годах. Для позитивного патриотизма, не исходящего из посыла «утереть нос иностранцам», нужен другой уровень гражданского самосознания. Ориентация на иностранцев в конце 1880-х не просто исчезла – сама традиция возведения памятников поэтам уже преподносится как отечественная. На первый план выдвигается идея обращения к потомству (оно объявляется основным адресатом монументосозидания). Рядом с аргументом от просвещения вообще появляется и более частная и техническая отсылка к собственно образованию вообще. Довод о частной инициативе сомнению не подвергается.
Сценарий праздника принадлежал архангельскому преосвященному – епископу Георгию (Ящуржинскому). Разработанного церемониала за отсутствием прецедентов не было, и нужно было примирить возведение бронзовой статуи-«истукана» (Ломоносов представлен полуголым мускулистым мужем, задрапированным в плащ, с крылатым голым гением у ног) с церковными представлениями. Предполагалось, что праздник начнется соборным архиерейским служением в кафедральном соборе, выход к памятнику будет сопровождаться исполнением певчими оды Ломоносова «Хвала Всевышнему Владыке», а речи у памятника будут произноситься на устроенном амвоне. Дальше искались компромиссы:
На руке Ломоносова, которою держит арфу, привесить икону Михаила Архангела такой величины, чтобы гений, подающий лиру, был прикрыт оною, или прежде привесить пелену прилично, которая бы прикрыла гения, а на ней икону… Амвон можно на сей случай позаимствовать из которой либо церкви; на нем или столик поставлен будет, на котором должны лежать все сочинения Ломоносова, физические и химические инструменты; или, буде сего учинить не можно, то налой церковный, или и то, и другое совместить[1451].
Епископ сочинил и торжественное завершение действа, когда всем сестрам раздавалось по серьгам.
По окончании произнесения всех сочинений, певчие запоют: «Тебе, Бога, хвалим» и музыка с певчими: «Боже, храни царя». Затем лития за упокой Михаила и вечная память, и, наконец, многолетствие: благоверному правительствующему синклиту, военноначальникам, усердствовавшим к сооружению памятника, статскому советнику Михаилу Васильевичу Ломоносову, живущему в памяти ученых соотчичей, и всем участвующим в торжестве сооружения, водружения и открытия оного памятника многая лета. Во время пения многая лета, архиерей и монашествующие разоблачаются из мантий и с миром и радостию расходятся восвояси.
Автор даже позволил себе помечтать:
Хорошо было бы, если бы сие торжество можно было отсрочить к темной ночи; тогда бы сословия города Архангельска могли бы ознаменовать торжество сие, которое им делает честь, иллюминациею; тогда икону с пеленою снять, а к простертой руке прикрепить портрет государя и покрыть сзади пеленою прилично с бантами и пуклями, в роде балдахины[1452].
Это был идеальный план, фактическая церемония была более сдержанной, но выдержанной в том же духе.
Сохранилось описание города, увиденного иностранцем в конце 1830-х годов:
Прекрасный город с населением около 20 000, очень благоприятно расположенный, но несколько растянутый, обещает стать еще более значительным. По праву, думается мне, он назван царем Александром, во время поездки 1819 года, маленьким Петербургом. Помимо адмиралтейства, губернского собрания, многочисленных церквей, суда и базара замечателен превосходный старый замок, возведенный, как сообщает надпись у подножия одной из башен, в 1699 году. Еще видна комната, в которой жил Пётр Великий, в ужасающем здании из оштукатуренного камня, превратившегося, к несчастью, ныне в руины. В соборе хранится деревянный крест, с большим искусством собственноручно изготовленный великим человеком в память о чудесном спасении в кораблекрушении на Белом море. Главную площадь города украшает бронзовая статуя Ломоносова, известного русского поэта, родившегося в крестьянской семье в Холмогорах близ Архангельска[1453].
Памятник не потряс воображения привычного к монументам француза, он отмечен последним в ряду достопримечательностей, но при этом площадь, на которой он стоит, традиционно определяется как главная. Спустя 70 лет и русский путешественник видит лишь привычную и малосимпатичную картину:
Здесь же… стоит памятник, воздвигнутый одному из замечательнейших личностей не только Архангельского края, но и всей России – Михаилу Васильевичу Ломоносову, преобразователю нашего родного языка, замечательному ученому и поэту своего времени. <…> Стоящая в тоге фигура Ломоносова, величиной в три аршина и два вершка, мало внушительна, фигура же гения, подносящего лиру, значительно меньше и вышла вовсе неудачной… [Решетка] мала и неизящна, без нее памятник, пожалуй, выглядел бы лучше[1454].
Собственно, перед нами описание провинциального памятника в провинциальном же городе – картинка для начала ХХ века уже привычная.
* * *
Инициатива сохранения памяти о Н.М. Карамзине в Симбирске исходила от местного дворянства. Процедура создания памятников еще не была разработана – инициаторы собрали в первые два дня более 6000 рублей, образовали комитет и стали строить планы, каким должен быть памятник. Решили: будет публичная библиотека с бюстом Карамзина. Поддерживающему идею губернатору удалось направить энергию в законное русло – 38 симбирских дворян подписали бумагу, которую и пустили по инстанциям. Разрешение было получено быстро, объявлена подписка по всей России, и у симбирского дворянства, казалось бы, было все больше и больше оснований продолжать мечтать о свой библиотеке – и участок отвели, и комплекс зданий спроектировали. Но возникшие разногласия среди самого дворянства (похоже, совсем по другому поводу, памятник Карамзину был лишь аргументом в споре) привели к тому, что две местные партии стали отстаивать два различных проекта в Петербурге: первоначальный – общественной библиотеки, и альтернативный – «учебного заведения для воспитания и образования юношества». У центральной же власти появился свой ответ – будет монумент.
Энергия архангелогородцев теперь была направлена на решение задачи достойного размещения памятника. После обсуждения нескольких вариантов остановились на лучшем. 22 августа 1836 года Николай I побывал в Симбирске и дал свои указания относительно того, где должен стоять памятник (место это прежде уже было отвергнуто по причине его неустройства). Для этого предстояло разбить новую площадь на границе центрального района города.
Среди пожертвованных на памятник сумм не было таких крупных вкладов, какие встречались при сборе денег на памятник Ломоносову, но было гораздо больше дворянских пожертвований в несколько сот рублей. Царь и его семья деньгами в деле на сей раз не поучаствовали, но Николай I отдал распоряжение об отпуске из казны 550 пудов меди, потребной на отливку монумента. Каким будет памятник, местные жители узнали тогда, когда он был уже доставлен в город – вопрос о внешнем облике решался на самом высоком уровне. Композиция оказалась нетривиальной: муза истории Клио на высоком постаменте (правой рукой оперлась на скрижаль, в левой держит опущенную трубу), под ее ногами в нише бюст Карамзина в римской тоге, по бокам пьедестала аллегорические барельефы с Карамзиным и членами царской фамилии, опять-таки одетыми на античный манер. Надпись на постаменте отличалась от той, что была на модели скульптора. Там было начертано: «Н.М. Карамзину, словесности и истории великие услуги оказавшему». На завершенном же памятнике значилось следующее: «Н.М. Карамзину, историку Российского государства повелением императора Николая I-го 1844 года». Спустя несколько десятков лет про инициаторов этой истории уже никто и не вспоминал, а журналисты и путеводители указывали на царя как на единственного и естественного вдохновителя этой истории. Участник журналистского десанта «Казанского биржевого листка», впервые в 1888 году посетивший город, возмущался:
Но вот украшение Симбирска! Памятник историку Карамзину, с надписью, извещающей, что монумент воздвигнут по приказанию Императора Николая I… Памятник величайшему историку России, воздвигнутый в родном его городе только по приказанию! Поверят ли этому за границей! И уж нет ли тут аллегории? Памятник представляет музу Клио, горестно склонившуюся над бюстом историка и поэта!.. [1455]
Отметим здесь невольную апелляцию к авторитету иностранного мнения, которую к этому времени из риторики открытия памятников уже старались изгонять.
23 августа 1845 года торжества начались службой в кафедральном соборе. Последовала заупокойная литургия, потом панихида, а затем все отправились к памятнику, где преосвященный произнес краткую молитву и окропил постамент кругом святою водою. Было провозглашено многолетие государю императору и всему августейшему дому, затем – «вечная память Историографу Николаю Михайловичу Карамзину» и многие лета симбирскому дворянству и всем почитающим память великого писателя. Обратившись к бюсту Карамзина, архиепископ Феодотий произнес заключительное слово, а местный поэт Д.П. Ознобишин прочел свое стихотворение по поводу всего происходящего. Затем в зале гимназии перед избранным обществом М.П. Погодин в течение двух часов читал свое «Историческое похвальное слово», закончив речь при овациях. Ознобишин повторил свое стихотворение; после чего состоялся обед в доме Дворянского собрания, с подходящими случаю тостами. Как видим, ритуал стал гораздо более подробно прописанным (чем в случае с Ломоносовым).
Энтузиазм был всеобщим. На какие слова публика реагировала столь бурно? Еще в 1833 году в прошении к государю симбирские дворяне определяли свой собственный импульс:
Желая ознаменовать и увековечить высокое уважение наше к памяти уроженца Симбирской губернии великого бытописателя Николая Михайловича Карамзина, творениями своими имевшего столь решительное, прочное и благодетельное влияние на просвещение любезного Отечества нашего, вознамерились мы воздвигнуть ему в городе Симбирске памятник[1456].
Ключевые слова этого текста: «увековечить… уважение к памяти» и «просвещение любезного Отечества». Первое связано с идеей запечатленного прошлого (кенотаф), второе отражает причастность героя к идеалу, указывает на то, что он сделал «для вечности». Высшей ценностью объявляется, таким образом, просвещение.
Как формулируется суть происходящего в речи Погодина, прозвучавшей 12 лет спустя? Определяя роль Карамзина в общественной жизни, М. Погодин (историк!) упорно на первое место ставит его писательство: «Заслуги Карамзина относятся к Языку, Словесности и Истории»[1457]. Ряд имен, в которые вписывается герой, знаменателен. Дважды он упоминается рядом с Ломоносовым – и как самим провидением связанный с ним, и как достойный продолжатель его дела. В преодолении же трудностей при изучении истории он сравнивается с Петром и Суворовым, причем особо отмечается мужество Карамзина на этом поприще – идея преобладающей легитимности «главных» памятников воинам и борцам явно присутствует где-то на заднем плане. Погодин акцентирует эту связь:
Счастливым себя почту, если успею сколько-нибудь оправдать Вашу столь лестную для меня доверенность, исполнить хоть отчасти долг, лежащий уже давно на всех служителях Русского слова, и представить в ясном по возможности свете пред взорами соотечественников высокое значение тех мирных подвигов, за которые ныне скромный писатель удостаивается высочайшей гражданской почести[1458].
Гражданский пафос принадлежит скорее не событию, а времени; однако важно, что открытие памятника представляется подходящим случаем для использования его. Тем не менее заслуги в сфере словесности всегда оказываются первыми в ряду, и лишь вслед за «русским писателем» появляется «русский гражданин».
Пусть памятник, теперь ему, соизволением Императора Николая, здесь поставленный, одушевляет ваших детей и все следующие поколения в благородном стремлении к высокой цели Карамзина! Пусть дух его носится всегда в России! Пусть он останется навсегда идеалом Русского писателя, Русского гражданина, Русского человека, – по крайне мере долго, долго, заключу его же выражением, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой[1459].
В письме к М.А. Дмитриеву М. Погодин, рассказывая об открытии памятника, переходит от эйфории к рефлексии:
Вот как отпраздновали мы открытие памятника Карамзину. Кажется – это было первое торжество в таком роде. Первые опыты не могут быть полны, Державин в Казани может быть открыт теперь, разумеется, еще с большим блеском. Всего нужнее гласность, которая у нас вообще находится в самом несчастном положении. <…> Надобно по всей России заранее распространить известие о дне открытия; надобно, чтобы все Университеты и Академии могли прислать своих представителей; чтобы произнесено было несколько торжественных речей, чтобы заранее напечатана была книга, хоть в роде альманаха, в честь Державину, с его биографией, письмами, известиями, разборами его сочинений, описанием памятника, портретами, снимками, в молодости, в старости, с его руки, и тому под. – Все это будет, будет, когда мы сделаемся опытнее, своенароднее на деле, а не на словах только![1460]
Здесь важно, во-первых, понимание того, что открытие памятника должно сопровождаться особой церемонией, и, во-вторых, ощущение недостаточности существующего ритуала. Вероятно, именно в этом контексте и не берутся в расчет предыдущие памятники (в том числе и памятник Ломоносову в Архангельске) – события не было. Только сопутствующие ритуалы могут ввести бездушный, в сущности, монумент в поле культуры, подчеркнутая значимость события придает значимости самому памятнику, объясняет его окружающим, делает частью общественной жизни. Об этом же писал Николай Языков своему брату Александру:
По случаю объявления (так называется в нашей Библии инаугурация монументов) памятника Карамзину должно издать альбом, в котором должны участвовать все русские поэты и прозаики: каждый пусть напишет об нем стихи или статью! Так делали немцы в честь Шиллера и Гёте. Похвально перенимать похвальное[1461].
Создание памятников уже не декларируется как практика, ориентированная на иностранцев или копирующая иностранный церемониал. Однако, как только возникает желание эту практику как-то оживить и развить, приходится обращаться к зарубежному опыту. Он плохо приспособлен к русской действительности – цензура далеко не сразу позволила напечать погодинское «Историческое похвальное слово…», а потом и языковское стихотворение, посвященное открытию памятника в Симбирске. Разрешение было получено только в январе 1846 года.
К кому был обращен памятник, для кого и кем он создавался? С одной стороны, адресат, безусловно, помещен в будущее. О памяти почти не говорилось, речь шла о потомках и о воспитательном значении монумента. То есть вся эта история как бы сообщала культурным наследникам: вот эта фигура для вас важна, вы должны особо чтить ее существование (правда, тут же возникает ощущение, что нужно еще и объяснять, чем же именно важна). Выступающие видят свою публику воочию и обращаются прямо к ней. «Слава вам, мужи именитые (выделено мною. – С.Е.), коим первым пришла на сердце, сродная вашему сердцу, благородная мысль, почтить премудрость!» (Епископ Симбирский и Сызранский Феодотий)[1462]. Мучаясь составлением речи, Погодин описывает ситуацию произнесения ее:
Перед кем? Не перед толпой необразованной, легко приходящей в соблазн, способной к кривым толкованиям, а перед дворянами, его согражданами, людьми просвещенными![1463]
Иллюзий относительно народного характера торжества нет.
Вся эта красивая история отравлялась только одним, а именно: памятником. Это стало ясно еще до открытия – Н. Языков писал к Н. Гоголю еще в 1844 году:
Памятник, воздвигаемый в Симбирске Карамзину, уже привезен на место. Народ смотрит на статую Клии и толкует, кто это: дочь ли Карамзина или жена его? Несчастный вовсе не понимает, что это богиня истории!! Не нахожу слов выразить тебе мою досаду, что в честь такого великого человека воздвигают эту вековечную бессмыслицу!![1464]
Прогнозы оправдались. Венчающую постамент женскую фигуру принимали и за Варвару-великомученицу, и за покаявшуюся волжскую разбойницу, которую называли чугунной бабой.
* * *
Опыты продолжались. В Казани в 1847 году был установлен памятник Г.Р. Державину, над которым работала та же команда, что и в Симбирске, – скульптор С.И. Гальберг, архитектор К.А. Тон. Открытый чуть позже симбирского, державинский монумент имеет более долгую предысторию. Наиболее подробная версия событий принадлежит профессору Я.К. Гроту; она изложена в его книге «Жизнь Державина». Стоит обратить внимание и на то, что 1880 год, когда этот труд был опубликован в качестве заключительного тома державинского собрания сочинений (на долгие годы ставшего образцом изданий подобного рода), отмечен открытием памятника Пушкину и пушкинскими торжествами. Грот был одним из самых активных участников этого события. Мысль о постановке памятника Державину казалась ему к 1880 году уже вполне сама собой разумеющейся, и он не замечает анахронизма, когда пишет:
Естественная мысль воздвигнуть в Казани памятник по примеру поставленного в Архангельске Ломоносову, была, уже в первые годы по смерти поэта, высказываема несколько раз[1465].
Державин умер в 1816 году, и памятника Ломоносову тогда еще не существовало даже в проекте.
Дальнейшая хронология событий по Гроту выглядит так: 1830 год – казанское Общество любителей отечественной словесности составило проект памятника и препроводило его к министру народного просвещения, Академия художеств его не одобрила, был разработан новый проект академика Мельникова и открыта подписка по всей империи. Сбор пожертвований был так успешен, что решили возвести более монументальный памятник и объявили конкурс, победителями которого стали архитектор К. Тон и скульптор С. Гальберг. После долгих обсуждений городская общественность предполагала поставить монумент на городской площади, но в дело опять вмешался император (очевидно, самый главный авторитет в деле установки памятников в России). При посещении Казани Николаем I в 1836 году для высоких гостей устраивается подробная экскурсия по университету, по окончании которой «Государь Император приказать изволил, среди этого двора, поставить предполагаемый памятник в честь Державина»[1466].
Весь процесс освещается в «Прибавлениях к “Казанскому вестнику”», издаваемому университетом, – здесь публикуются сообщения об утверждении проекта, открытии подписки, списки чиновников «и другого звания лиц», сделавших пожертвования на сооружение в Казани памятника Г.Р. Державину в 1832–1833 годах.
Эти списки свидетельствуют, что подписка приняла широчайший размах и действительно шла «по всему государству»… Пожертвования поступали от самых различных сословий: в г. Саратове «купец Образцов внес 10 рублей 25 копеек», в г. Лукоянове «крестьянин Павел Кохин – серебром 10 копеек», в г. Оханске «генерал губернатор Западной Сибири генерал от инфантерии Иван Александрович Вельяминов – ассигнациями 50 рублей», в г. Онеге «подканцелярист Петр Яковлев Петров – серебром 5 копеек»[1467].
В 1847 году в местной хронике помещаются «подробные сообщения о ходе подготовки к открытию памятника. Все лето вокруг памятника безостановочно шли работы. Люди толпами приходили посмотреть на “Богатыря”, как простой народ назвал статую»[1468]. По замыслу автора, передаваемому Гротом,
поэт сидит на камне, на скалистой почве; углубленный в размышление, он вдруг почувствовал себя вдохновенным; голова его поднялась, чтобы уловить мысль, в ней сверкнувшую; правая рука осталась в том же положении, как он поддерживал голову; левая берется за лиру.
Одет он лаконично – в тогу и сандалии. На рельефах Гальберга – богатый набор мифологических и аллегорических фигур: Минерва, Аполлон, Фемида, грации, Фелица, Ночь и День.
Открытие памятника в 1847 году сопровождалось обязательной в таких случаях панихидой, амвоном перед памятником, откуда произносились речи, провозглашением «вечной памяти», окроплением святой водою, а также специальным выступлением архимандрита Гавриила. По окончании этой церемонии действие перенеслось в университетскую актовую залу, украшенную соответственно случаю мемориальным столом с письменным прибором писателя, а также бюстом чествуемого.
Казань – университетский город, и вполне логично, что задача риторического оформления праздника в основном ложилась на университетских профессоров. Торжества открывались ритуальной частью – эту роль с честью выполнил архимандрит Гавриил, слово которого напоминало заклинание: он говорил о народных учителях (в число которых входили Ломоносов и Карамзин) и певцах (здесь он переходил к Державину). Главными словами в его речи были – «Отечество», «Бог», «герои». Церковь постепенно вырабатывает свое отношение к секулярному «воздвижению кумиров», оформляя его концептами мудрости, учительства и народного просвещения. Содержательная часть мероприятия была богатой на слова и идеи и включала в себя попытку рефлексии происходящего: начинает осознаваться общая перспектива и преемственность коммеморации культурных героев[1469]. И памятник Державину как бы выводится за пределы казанского локуса, он оказывается не случаем региональной инициативы, но сознательным вкладом местных кругов в общероссийскую традицию, участием ее в общей (прошлой, настоящей, будущей) жизни всей России.
В речах создается параллельный визуальному словесный образ поэта: оба они должны подкреплять друг друга. И тот и другой обращены к будущему. И опять возникает рефлексия традиции, которая уже осознается как традиция, и выстраивается некая типология. Фойгт формулирует оправдание данной практики:
Я сказал: у подножия памятника. Да! Значение памятников (здесь и далее полужирным выделено мною. – С.Е.) неизмеримо-важное, поучительное. Не они ли пробуждают горячее благоговение к мировым заслугам; и не они ли в то же время, красноречивее, чем мертвые хартии [вновь подчеркнут приоритет визуального образа перед словесным. – С.Е.], свидетельствуют о постепенном проявлении народных сочувствий к высшим интересам человечества? [Замечательна констатация разрыва между «высшими интересами человечества», материализующимися в памятниках, и медленным движением к ним «народных сочувствий». – С.Е.] Смотрите: вот, под кроткою дланью Августейшего Монарха, три преимущественно великолепные памятника воздвиглись на обширном пространстве нашей отчизны: они – воплощенная история нашего духовного прогресса. Там, на роскошной площади северной столицы, взвивается исполинская колонна, сооруженная Великому Брату равно Великим Братом: она – символ воинской доблести и государственной мудрости. Вот ближе, на крутом берегу Волги, стоит грустная муза над бюстом незабвенного историографа: дань общественного уважения к науке. Здесь теперь, в наших глазах, среди мирных святилищ науки, предстал вдохновенный образ великого поэта, нашего соотечественника, и просветленный взор его обращен к небу, его истинной родине: это – живое свидетельство нашего благоговения к искусству, к его высокому, святому значению[1470].
Памятник должен был стать неким значимым местом не только в истории, но в топографии города. В 1870 году памятник из тесного университетского двора все же перенесли, ибо он оказался
мало доступен для публики, многим и совершенно неизвестен, не может способствовать ни украшению города, ни поддержанию в обществе воспоминания о трудах покойного поэта, и получает от местоположения своего значение какого-то частного монумента, почти излишнего[1471].
Но даже Грот, нарушая общий тон повествования в рамках жизнеописания Державина, вынужден заметить:
…по местному народному рассказу, чугунный генерал из наверститута, где студентов обучают, поехал к театру, и поставили его тут на площади потому-де, что монументу эдакого человека, вельможного и генерала, стоять на дворе наверститута не пригоже[1472].
По другому наблюдению, стоявшие у памятника казанские извозчики, бранясь между собою, говорили друг другу: «Эх ты, идол! Державин ты эдакий!» Автор этой заметки не преминул тут же отметить: «От великого до смешного только один шаг»[1473].
По свидетельству путеводителей, расхожих имен у этого монумента было много – называли его и «татарским богатырем, воевавшим с царем Иваном Васильевичем», и просто «богатырем», и каким-то неведомым «генералом Державиным», и т. п. Три грации, внимающие на одном из барельефов стихам Державина, представлялись народу тремя дочерьми, «которых богатырь Державин к матушке царице приводит». Постепенно в городском пространстве он превращается, по татарскому прозванию, в «бакыр бабай» – «бронзового деда».
* * *
То, что традиция гражданско-литературного памятникостроительства начинает складываться и осознаваться как таковая, подтверждает история следующего монумента. Вещный результат (т. е. скульптурное изображение писателя в доступном пространстве), казалось бы, свидетельствовал о типологической общности случаев. Однако история возникновения, поведение причастных к этому лиц и восприятие окружающих заставляет сомневаться в этом. Речь идет о памятнике И.А. Крылову. Через год после смерти баснописца в «Петербургских ведомостях» была объявлена подписка на памятник, за три года собрали более 30 тысяч рублей и в 1848 году провели конкурс в Академии художеств. Выиграл П.К. Клодт[1474] (первый вариант памятника – Крылов в римской тоге, сидящий на скале с книгой в руках). Следом начался процесс поиска места.
Инициатором на этот раз выступила власть. Призыв к подписке был опубликован в официальном органе – «Журнале министерства народного просвещения», под ним стояли имена весьма влиятельных лиц: президента Академии наук (и действующего министра народного просвещения, о чем скромно не стали упоминать) С. Уварова, почетного члена Академии наук графа Д. Блудова и др. Деньги собирало казначейство этого министерства[1475]. И технология создания, и сопроводительная риторика вполне соответствовали канону. Крылов оказывается в том ряду «знаменитых соотечественников», память о которых «благодарность народная» сохраняет для «грядущих поколений». Правда, эту память в данном случае олицетворяет «правительство, в семейном сочувствии с народом», которое
объемля просвещенным вниманием и гордою любовию все заслуги, все отличия, все подвиги знаменитых мужей, прославившихся в отечестве, усыновляет их и за пределом жизни, и возносит незыблемую память их над тленными могилами сменяющихся поколений.
Помимо победителей в военных сражениях памяти заслуживают и другие герои:
Но и другие деяния и другие мирные подвиги не остались также без внимания и без народного сочувствия. Памятники Ломоносова, Державина, Карамзина красноречиво о том свидетельствуют. Сии памятники, сии олицетворения народной славы, разбросанные от берегов Ледовитого моря до Восточной грани Европы, знамениями умственной жизни и духовной силы населяют пространство нашего необозримого Отечества. Подобно Мемноновой статуе, сии памятники издают, в обширных и холодных степях наших, красноречивые и законодательные голоса под солнцем любви к Отечеству и нераздельной с нею любви к просвещению[1476].
Здесь декларируется новый способ проявления любви к Отечеству – не с оружием в руках, а служа просвещению оного. Причем традицию пытаются представить гораздо более репрезентативной, чем она есть на самом деле (три памятника на бескрайние просторы). Дальше следует оправдание выбора героя – и как всегда оно мотивируется заслугами героя в области словесности. «Подобно трем поименованным писателям, и Крылов неизгладимо врезал имя свое на скрижалях Русского языка».
Прежние памятники, возводимые по инициативе местного дворянского общества, ставились в городах, связанных с происхождением героев. Постановка нового памятника в центре империи требовала некоторых объяснений – Петербург объявляется местом славы. Заканчивается обращение формулировкой эстетической задачи памятника. Крылов в итоге был изображен в реалистичном виде – в компании не аллегорических персонажей, а героев из его басен (хотя именно они-то и были аллегориями). Однако всенародного праздника тогда не получилось, он вышел скорее семейным. Народность Крылова не подвергалась сомнению, заслуги перед русским языком – тоже; возможно дело было в том, что
распространить… народность на всю словесность не позволила ограниченность такого рода поэзии, как басня: это впоследствии совершил А.С. Пушкин. Итак, за Крыловым остается слава русского народного поэта[1477].
Власть конструирует предмет, который должен вписаться в традицию, таким образом проявляя заинтересованность в этой традиции и как бы «примеряясь» к тому, как можно ее использовать. Отрицательный результат тоже дает повод для анализа. Из народного поэта Крылова национального героя не получилось. «Одомашнивание» увековечения поэтов продолжалось. Появление памятника переставало быть событием, переводилось в бытовую практику, словесное и ритуальное оформление редуцировалось, символическая составляющая нивелировалась. Так, еще два памятника поэтам – Жуковскому в Поречье (1853) и Кольцову в Воронеже (1868) – были установлены без особых затей, в рамках «семейных» торжеств.
Пушкин – наше всё
В исследованиях, посвященных памятнику Пушкину, неизменно указывается, что мысль о его создании появилась непосредственно после смерти поэта. Однако все ранние свидетельства говорят о надгробном памятнике, а вовсе не об общественном монументе. История создания общественного памятника Пушкину запечатлела попытку 1855 года. Докладная записка была составлена в министерстве иностранных дел (по ведомству которого когда-то числился Пушкин) и подписана коллежским асессором Василием Познанским и еще 82 чиновниками.
…Памятники, воздвигнутые уже Ломоносову, Карамзину и Крылову, свидетельствуют, что мы, Русские, подобно всем просвещенным народам, признательны к плодотворным заслугам наших великих писателей; в отношении, однако, гениальнейшего из наших поэтов, пробудившего дивными песнями столько прекрасных чувств и стремлений в соотечественниках, столько сделавшего для Русского слова, эта признательность не имеет пока внешнего выражения: Пушкину не поставлено еще памятника![1478]
Результатом инициатива не увенчалась, но важно отметить уже сложившиеся элементы соответствующей риторики: русские, вписанные в семью просвещенных народов; присущая этим народам традиция выражать память именно подобным образом; заслуги героя в области словесности, предполагающие общественную благодарность; ряд прецедентов, которые дают основания для возведения монумента.
Памятник и склеп в Святогорском монастыре ветшали, что вызывало возгласы отчаяния. В «Русской беседе» в 1859 году появляется очерк писательницы Н.С. Соханской (Надежды Кохановской) «Степной цветок на могилу Пушкина».
У Пушкина нет памятника! <…> Двадцать первый год наступил со дня роковой кончины нашего первого великого поэта, и что же мы сделали в память его? Ничего. И неужели пройдет и двадцатипятилетие, этот условленный срок времени, когда правительство и общественная жизнь привыкли признавать и запечатлевать наградами услуги людей, заявивших себя на поприще государственной деятельности и общественного блага, – неужели пройдет это двадцатипятилетие со дня смерти Пушкина, и, в стыд себе, наша общественная благодарность ничем не поклонится на могилу родного великого поэта?[1479]
Год спустя другой автор, полемизируя с оценками Пушкина в духе реальной критики, не менее патетически восклицал:
Нет, Пушкина у нас любят, как только можно любить отжившего деятеля почти через четверть века после его смерти! <…> Где же тут холодность? Неужели наша публика холоднее к Пушкину, чем немецкая к Гёте или английская к Байрону? Да и какими же путями может у нас выражаться любовь к поэту? – памятниками, юбилеями что ли? Но ведь и Мольеру памятник поставлен не сейчас же после смерти, и Шиллеру юбилей праздновался только в сотую годовщину его рождения[1480].
Эта необходимость временной дистанции от личной смерти до общественного поминания – фиксация очень важного момента в работе механизма культурной памяти. Буквальным ответом на этот риторический вопрос в том же 1860 году оказались действия выпускников Царскосельского лицея, решивших на своем ежегодном собрании инициировать постановку памятника Пушкину. Была получена на то благосклонность государя, распорядившегося поставить памятник в уединенном Лицейском саду – придав ему таким образом невнятный то ли общественный, то ли частный статус. Подписка на сооружение памятника была открыта по всей России. Всего за десять лет было собрано 17 114 рублей, и дело как-то само собой прекратилось.
Следующая попытка опять исходила из лицейской среды. На встрече 19 октября 1869 года К.К. Грот предложил возобновить вопрос о памятнике, для чего назначить специальный комитет, который весной 1871 года и был утвержден. Комитет не столько продолжал начатый прежде процесс, сколько запускал его заново. На самотек в этот раз дело пущено не было, действовать начали технологично, широко разрекламировав мероприятие и используя (частным образом) административный ресурс: были напечатаны специальные книжки для регистрации пожертвований и организована система рассылки их по ведомствам и регионам. Изменение предполагаемого места постановки памятника, по мысли комитета, также должно было активизировать подписку. Памятник перемещался в Москву. Новое место давало памятнику право претендовать на общенародный, а не «полусемейный» лицейский статус. Вопрос о постановке памятника дебатировался и в комитете, и в обществе, но решено все было на высочайшем уровне.
Активное участие в подготовке к открытию памятника в Москве приняло Общество любителей российской словесности (ОЛРС), имевшее богатый опыт организации юбилейных литературных праздников. Из-за смерти императрицы Марии Александровны церемония открытия была перенесена, но остановить процесс уже было нельзя. На мероприятие к 6 июня 1880 года в Москву прибыл принц П.Г. Ольденбургский, министр народного просвещения А.А. Сабуров и дети Пушкина. По всей Российской империи день празднования был объявлен неучебным днем. Накануне в Москве прошел торжественный акт в присутствии всех официальных лиц, на котором были представлены более сотни делегаций от разных городов и учреждений с приветственными адресами.
Торжества 6 июня начались в Страстном монастыре заупокойной литургией по усопшему Александру – служба, молебствие и панихида продолжалась около двух часов. Затем все перешли площадь, к памятнику, окруженному депутациями, – над толпой были подняты медальоны на высоких шестах с названиями произведений Пушкина. Зрелище, надо полагать, напоминало о хоругвях, сопровождающих крестный ход. Это была не единственная примета, вызывавшая у современников мысль о церковном празднике. Торговые заведения, магазины и лавки в Москве были в этот день закрыты, как на Пасху. Памятник торжественно передали в ведение московского городского управления и под звон колоколов и звуки четырех военных оркестров с хором певчих освободили от покрывала. Первыми венки возложили дети Пушкина, и вскоре уже пьедестал утопал в зелени и цветах. Толпу держали на расстоянии, но едва заграждения были сняты, произошло
зрелище, показавшееся некоторым верхом безобразия и беспорядка, но которое, на взгляд всех здравомыслящих и чувствующих людей, явилось, напротив, умилительным и отрадным зрелищем. Люди бросились к подножию и стали отщипывать и отрывать от венков кто веточку, кто несколько листьев на память. Около десятка венков погибло, но большинство осталось нетронутыми народом, который при этом не останавливала никакая полицейская команда[1481].
Такое стремление быть причастным благодати также напоминает о народной религиозности, неожиданно проявившейся в этом событии. Эмоциональное восприятие происходящего, доходившее порой до степени не только эйфории, но и истерики, содержало в себе неявный религиозный подтекст. Это могло вызывать раздражение: анонимный автор, иронизируя, писал о
празднике русской литературы в Москве, который почему-то некоторые газеты считают «народным» (не потому ли, что он тянулся три дня – на манер «храмовых праздников» нашего народа?)[1482]
Или недоумение:
Все очевидцы этого события отмечали огромное стечение народа, в том числе многих крестьян и торговцев, привлеченных праздничными приготовлениями, которые Василевский сравнивал с приготовлениями к Пасхе и Рождеству[1483].
Этот энтузиазм сфокусировался в неожиданном определении происходящего как «“святой недели” российской интеллигенции»[1484].
Правда, сама Церковь при открытии памятника в этот раз изменила обряд, который уже казался сложившимся. Это отметил Л. Леже – крупный славист, доктор литературы, академик, преподававший русский язык в Школе восточных языков, единственный из приглашенных зарубежных гостей, лично посетивший торжества.
Некоторые набожные удивлялись, что памятник не был освящен духовенством; обыкновенно оно участвует в такого рода торжествах. Но свой долг духовенство только что выполнило в монастырской часовне, где отправлявший службу священник сказал похоронную речь о великом поэте, напомнив, что он умер христианином[1485].
Хотя и было объявлено, что митрополит Макарий по окончании молебна освятит статую, но священнослужители не вышли на площадь.
Полуофициальная церковная газета «Восток» впоследствии объясняла: «Святой Синод не нашел возможным одобрить кропление статуи святою водою, что, как известно, воспрещено уставами православной церкви». И хотя этот отказ огорчил немногих («Петербургская газета» написала, что это, наоборот, придало церемонии на площади нужный «гражданский характер»), не все согласились с доводами «Востока». «Невольно рождается вопрос: как же до этого времени все памятники освящались нашим высшим духовенством?» – написал «Русский курьер». Барсуков подтверждает, что памятник Карамзину в Симбирске освящен; и, как отмечал «Русский курьер», так же обстояло дело с памятниками в Кронштадте и Петербурге адмиралам Беллинсгаузену и Крузенштерну, которые к тому же были не православными, а лютеранами. «Берег» сообщал 4 июня, что «некоторые кружки, не желавшие, чтобы “празднество литературное имело церковную санкцию”, пускали под рукою слухи, что народ простой находит странным, что будут освящать в церкви “истукана” и поминать в церкви человека, убитого на поединке». <…> Тем не менее вопрос об отношении церкви к Пушкину не привлек в 1880 году большого внимания[1486].
Торжества сопровождались обильными славословиями, что давало повод поиронизировать:
Все, что читалось и говорилось на празднике русской литературы в Москве… может быть подразделено на три вида публичного выражения мыслей: декламация, пустозвоние и обыкновенная речь[1487].
Риторика, сопровождавшая празднество, была представлена двумя потоками, иногда пересекавшимися между собой. Один поток был связан, прежде всего, с репортажными публикациями газет, где главным героем было общественное мнение[1488]. Другой – был заметен на заседаниях ОЛРС и в журнальных публикациях, где Пушкин все-таки оставался если не центром события, то точкой отсчета.
Кульминацией и символом празднования стала речь Ф.М. Достоевского.
Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. <…> Пушкин как раз приходит в начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом[1489].
Левитт отмечает, что
сам тип «литературного праздника» был заимствован из-за границы и восходил, по меньшей мере, к знаменитому Шекспировскому юбилею, проведенному в 1769 году Дэвидом Гариком и впоследствии служившему образцом для других подобных празднеств, которые к 1880 году стали обычными на сцене европейской культуры[1490].
Однако перенесенный на русскую почву в специфической ситуации раскладки общественных сил и начинающегося проявляться национального самосознания праздник принял масштабы и значение, не укладывавшиеся в литературные рамки.
Пушкин оказался в центре острой полемики, в которой высказывались сомнения, существуют ли вообще на самом деле русское общество и русская культура. Имя Пушкина получило огромное символическое значение, далеко выходившее за пределы чисто литературной ценности его сочинений[1491].
Некая растерянность в поисках визуального образа, могущего соответствовать моменту, наблюдалась по мере развития событий.
Проекты, представленные нашими скульпторами на конкурс весною 1873 года, никого не удовлетворили. Это были, в большинстве случаев, неудачные измышления в самом ложном классическом стиле. Тут был Пушкин, драпированный шинелью наподобие римской тоги, Пушкин, сладко прижимающий к груди лавровый венок, Пушкин, беседующий с музой. Тут были гении лирики и драмы, были фигуры Евгения Онегина, Алеко, Татьяны… Это был какой-то хаос с отсутствием идеи. <…> Прошло время, когда на памятниках иначе не изображали поэтов, как в хламидах, сандалиях и с лавровым венком на голове; современная скульптура осознала, что только посредственность цепляется за классические атрибуты из боязни не совладать с предметом и желая прикрыть бедность замысла. Г. Опекушин изобразил поэта в обычном платье 20–30 годов нашего столетия, слегка сгладив уродливости тогдашней моды[1492].
Достаточно заурядный памятник с точки зрения историков искусств[1493] стал образцовым. Открытию памятника сопутствовали и другие мероприятия по мемориализации: присвоение имени поэта школам и стипендиям, устройство Пушкинской выставки и т. д.[1494] Но для нашей темы самым показательным была легитимация традиции монументального увековечивания. Достойным окончанием праздника было предложение А.А. Потехина на заседании ОЛРС 7 июня:
Мы думаем… что ничем лучше мы не можем завершить празднование чествования памятника Пушкину, как открывши подписку на памятник Гоголю. Пусть Москва сделается пантеоном русской литературы![1495]
Тотчас собрали 4 тысячи рублей и определили место на Никитском бульваре, где обыкновенно жил Гоголь. Новый повод для воодушевления был найден. Все это были лишь намерения, символические жесты – памятник Гоголю был открыт лишь в 1908 году, – но важен этот психологический прецедент перехода от локальных событий к осознанию протяженности традиции.
Ну а пока начали множиться пушкинские памятники. В Москве появилась мраморная доска на доме, в котором родился Пушкин. В Петербурге к концу века существовало уже четыре памятника Пушкину, при этом
памятники эти настолько незначительны, что их нельзя считать соответствующими великим заслугам и значению Пушкина. Вот почему Петербург, в котором так много пережил поэт и умер мученическою смертью, задумал создать более достойный Пушкина памятник: Высочайше утвержденная несколько лет тому назад при Академии наук Пушкинская комиссия предполагает поставить Пушкину всероссийский памятник-статую в С.-Петербурге и, кроме того, устроить музей-пантеон, посвященный художникам русского слова пушкинского и последующих периодов, с наименованием его «Пушкинский дом». Но так всем известно необыкновенное равнодушие нашего общества к памятникам и вообще ко всяким подобного рода национально-патриотическим начинаниям и учреждениям, то по поводу предложения названной комиссии справедливо будет сказать: «Улита едет – когда-то будет?»[1496]
Кроме того, памятники Пушкину через 30 лет имелись в Кишинёве, Тифлисе, Одессе, Киеве, Царском Селе, Вильно, Чернигове, Ашхабаде, Екатеринославе, Харькове, Владимире, Самаре, Пскове.
«Фигура гения в натуральную величину»
Благословенны времена, когда скульпторы знали посланников небес в лицо, – И. Мартосу, описывающему ваяемый им памятник М.В. Ломоносову, достаточно было указать только на естественность размеров крылатой фигуры («Высота стоящей фигуры Ломоносова 3 аршина 2 вершка; фигура гения в натуральную величину»). Традиционный спутник поэтов, однако, в первом же памятнике оказался лишним – во время ритуала все время искались способы сделать его невидимым, а позже раздражала глаз несоразмерность масштабов его и главного героя: стало понятно, что гений как-то мелковат. Позже гений из атрибута поэта стал его внутренней характеристикой, и памятник поэту стал, соответственно, памятником гению.
Постепенно происходит редукция церковного обряда, который дистанцируется от самого памятника во времени и пространстве: панихида и литургия, связанные с открытием памятников, предшествуют светской церемонии и локализуются в сакральной сфере церкви, не выходя за ее пределы. Происходит процесс переадресации святости, указывающая на это риторика все меньше нуждается в оправдании, а возрастающая массовая эйфория свидетельствует об освоении и присвоении ритуала. Память является и условием идентичности, и, одновременно, инструментом создания ее. Используемые при этом практики различны. Коллективная память в поисках путей свидетельствования себя может использовать визуальные ориентиры: она выносится вовне, в публичное пространство, материализуясь, например, в общественных монументах. Пространство памяти и физическое пространство пересекаются между собой: память визуализируется, а пространство семантизируется. Это не означает, что лишь сам факт появления визуального знака тут же обогащает коллективную память или механически же преобразует пространство, наделяя его новыми смыслами. Процедура трансформации того и другого в значимый факт определяется как раз культурной практикой памяти; она вырабатывается постепенно, нащупывая те или иные приемы, делающие ее эффективной.
На протяжении XIX века в России можно наблюдать процесс освоения новой практики: создания общественных скульптурных монументов и превращения их в места памяти. Ее заимствованный характер постепенно забывается, она присваивается и развивается адаптирующей культурой.
М.Ч. Левитт связывает ажиотаж пушкинских торжеств с той ролью, которую стала играть литература в культурной жизни России и национальной идентичности.
Именно в Пушкине русские обрели своего Данте, оправдание и мерило национального самоуважения, а Пушкинские торжества стали форумом, на котором совершилось признание этого самоуважения, кратким моментом опьянения, когда показалось, что длительный и болезненный конфликт между государством и народом найдет удовлетворительное решение, моментом, когда пути становления и укрепления современной русской национальной идентичности сошлись к литературе, а в центре их схождения оказался Пушкин[1497].
Памятник стал визуальным знаком идентичности: в ситуации с монументом Пушкину событие – случилось, и памятник действительно стал местом памяти.
Пушкин, конечно, в это время был наиболее подходящей фигурой для воплощения идеи национального самосознания (идентичности). К этому моменту неразрывная связь нации и языка проговаривалась в России полвека, материализуясь в памятниках лицам, с преобразованием русского слова неразрывно связанным. Но дело было не только в выборе «правильной» фигуры: памятник прошел правильный обряд инициации, который вырабатывался на протяжении предшествующих десятилетий.
К моменту открытия памятника Пушкину счет относительных удач и неудач при введении памятника писателю в общественное пространство был равным – 3:3. Но они не перемежались друг с другом. Первые три памятника – Ломоносову, Карамзину, Державину – демонстрируют преемственность и активное развитие практики. При подготовке каждого следующего события учитывается и упоминается предыдущий опыт, разрабатывается и уточняется ритуал и словесные формулировки, сопровождающие открытие. Следующие же три памятника (Крылову, Жуковскому, Кольцову) существуют как-то отдельно и носят в большей или меньшей степени приватный характер.
Три первых случая обладают некой общностью происхождения – они возводятся по местной инициативе (о чем свидетельствуют не только слова, но и факт пересылки денег непосредственно местным властям). Да и по времени проявления этой инициативы они недалеко отстоят друг от друга: история в Архангельске началась в 1825 году, в Казани – в 1828, в Симбирске – в 1833-м. Казалось, процесс начинает развиваться сразу и стремительно. Однако вдруг наступает очевидный перерыв.
Обязательный шаг в реализации проекта – обращение по инстанциям к высшей власти за разрешением: и тут формальный момент может оказаться содержательным. Доклад императору по подобным вопросам в это время обычно делал министр просвещения. Единственное исключение из этого – случай Симбирска (последняя инициатива в «удачной серии»). Было ли это случайностью или оптимизацией процесса в конкретных обстоятельствах?
Министерство просвещения в это время активизирует свою деятельность. Весной 1833 года его возглавляет С.С. Уваров – человек, который за год до этого, едва став товарищем министра, сформулировал в письме к императору свое видение ситуации во власти: «Или Министерство народного просвещения не представляет собой ничего, или оно составляет душу административного корпуса»[1498], выражая таким образом претензии на идейное лидерство во всем правительственном аппарате. С начала 1830-х годов Российская империя вступает в новую фазу идеологического строительства, и соответствующие взгляды, обозначившие контуры этой системы, сформулировал именно Уваров в своей знаменитой триаде «православие – самодержавие – народность»[1499]. Уваров становится авторитетным идеологом государства.
Речь шла о создании идеологической системы, которая сохранила бы за Россией возможность и принадлежать европейской цивилизации <…> и одновременно отгородиться от этой цивилизации непроходимым барьером[1500].
Решая эту нелегкую задачу, важно было четко наметить границы нужного и ненужного в системе духовных ценностей целого государства. Особенно трудно было найти нужное. А. Зорин пришел к выводу, что
поощрение штудий и исследований в области русской истории было, по существу, единственным предложением позитивного характера, которое сумел выдвинуть Уваров. Прошлое было призвано заменить для империи опасное и неопределенное будущее, а русская история с укорененными в ней институтами православия и самодержавия оказывалась единственным вместилищем народности и последней альтернативой европеизации[1501].
Практика постановки памятников не могла не попасть под контроль этого властного и амбициозного государственного деятеля, к тому же интересовавшегося вопросами конструкции прошлого. Не исключено, что именно исходя из учета данной ситуации, симбирские власти и решились действовать через министра внутренних дел Блудова, который до поры до времени контролировал положение дел. Однако к моменту сооружения памятника Карамзину министерство народного просвещения стало на этом празднике главным, в результате чего М.П. Погодин (главный докладчик) отправился на открытие этого памятника как частное лицо, поскольку отправить его туда официально, по его словам,
Министр Народного Просвещения нашел невозможным, не понимаю, по какой причине. Удивительное дело. Ни одно из высших ученых учреждений не думало принять участие. Правительство как будто бы хотело открыть памятник молча. Хорошее ободрение для автора[1502].
Современники видели в этом не личные счеты с Погодиным, а официальную позицию по отношению к событию. В записке М.П. Погодину от Н.М. Языкова содержится пересказ письма от его брата, А.М. Языкова:
…Уваров поступил очень невежественно: если он не желает Погодина, то мог бы предписать хоть Казанскому Университету послать хоть кого-нибудь из тамошних профессоров. И того нет. Все это холодно, пусто и глупо[1503].
Цензурное ведомство было частью министерства народного просвещения и предметом особого внимания Уварова – министр влиял на идеологию, политику и практику этого органа на протяжении всего своего срока службы. Не просто влиял – цензурные предписания говорили его языком. Разосланный по высочайшему повелению циркуляр министра народного просвещения от 30 мая 1847 года извещал попечителей учебных округов:
Русская словесность в чистоте своей должна выражать безусловную приверженность к Православию и Самодержавию… Словенству Русскому должна быть чужда всякая примесь политических идей[1504].
Не это ли послужило поводом к цензурным препятствиям при опубликовании Погодинского «Исторического похвального слова Карамзину» и стихотворения Н. Языкова «На объявление памятника историографу Н.М. Карамзину»? В 1847 году Главное управление цензуры рекомендовало редакторам, издателям и цензорам обратить особое внимание на «стремление некоторых авторов к возбуждению в читающей публике необузданных порывов патриотизма, общего и провинциального». А ведь 1847-й – это год открытия памятника Державину в Казани (на этом мероприятии никого из Петербурга или Москвы не было): кажется, подобные местные инициативы пока не вписывались в процесс государственного идеологического строительства своего времени.
Центральная власть ищет свою позицию по отношению к процессу создания подобных памятников – и, похоже, не находит ее. Она пытается присвоить намечающуюся традицию себе – именно Уваров инициирует постановку памятника Крылову, но в результате памятник остается незамеченным. Последний жест бывшего министра народного просвещения – открыто декларирующий инициативу как частную, сводящий на нет всю гражданскую составляющую события, – воздвижение памятника Жуковскому на собственные деньги в собственной усадьбе.
Император Николай I был далеко не безразличен к монументальному способу увековечения[1505]. И на словах – с болезненной тщательностью отслеживал он пушкинские определения Медного всадника в поэме. И на деле – в те же 1830–1840-е годы он формулирует свою коммеморативную программу: проект 1835 года предполагал целый комплекс мемориальных сооружений на местах боев 1812 года. Как отмечает современный исследователь,
ни один царь не сделал в этой области столько, сколько Николай Павлович. Именно при нем в стране сформировалась четкая система монументов, были увековечены наиболее выдающиеся события и лица русской истории. Из необычной диковинки памятник превратился в почитаемую и охраняемую святыню, украшавшую многие русские города и места сражений[1506].
Чуткость императора изобличает и воля к передвижке памятников. Место красит памятник: помещение в центр уже сформированного пространства повышает статус памятника, делает его если не понятней, то значительней: постепенно отсчет пространства начинает вестись от него. Памятники маркировали пространство идеалов и городов: дабы нивелировать их постоянное присутствие в поле идеальном (идейном), власть задвигала некоторые их них в реальном пространстве. Место для публичных памятников писателям, определенное императором, всякий раз одинаково отличалось от предложенного локальной инициативой: оно было менее «общественным» – более удаленным от центра и многолюдства.
Общественная активность вызывала подозрения. Социальный состав инициаторов был весьма определенным. Попытки расширить воспринимающую аудиторию оказывались несостоятельными. Это была инициатива просвещенного сословия, знакомого с западным опытом и стремящегося использовать его в России. Понятно, почему это саботировал хорошо знакомый с европейской жизнью Уваров: за подобной практикой стояли европейские ценности гражданского общества, с трудом, надо сказать, воспроизводимые в неграмотной России. Интеллектуалы как самостоятельный и влиятельный общественный слой появились в эпоху Просвещения, и Европа в XIX веке была зоной массовой грамотности – во Франции в 1895 году было 95 % грамотных. На родине Пушкина на рубеже 1860–1870-х годов грамотным было около 8 % населения, к концу века, по данным переписи, 21 %. И министерство народного просвещения беспокоилось не о росте грамотности – оно боролось против «разврата умов» непонятными, но возбуждающими действиями.
Так что наступивший в пореформенную эпоху перерыв в начавшей было формироваться практике не был, похоже, случайным. Но за счет этого практика не снижается, не переходит в бытовой регистр. А позднейшее осознание того, что реализация проектов шла как бы вопреки властным намерениям, приводит к формированию (как в случае с Державиным) фантомной памяти, приписывающей давнему событию большее значение.
Памятник Пушкину – уже иная история. В более широком контексте связанная с новой социальной ситуацией пореформенной России; в более узком – с наличием смежного опыта увековечивания имени и проведения юбилеев, давшем новые возможности оформления словесного мифа.
Вспоминая о давнем пушкинском празднике (и совмещая его с событиями 1887 года, когда начались массовые издания Пушкина), Лев Толстой в 1898 году, в статье «Что такое искусство?» использует Пушкинский праздник как главный пример неприемлемой для себя системы ценностей (и иного прошлого). Каждый искал свои святыни. Толстой пишет о недоумении крестьян по поводу того, «почему так возвеличили Пушкина?»:
В самом деле, надо только представить себе положение такого человека из народа, когда он по доходящим до него газетам и слухам узнает, что в России духовенство, начальство, все лучшие люди России с торжеством открывают памятник великому человеку, благодетелю, славе России – Пушкину, про которого он до сих пор ничего не слышал. Со всех сторон он читает и слышит об этом и полагает, что если воздаются такие почести человеку, то вероятно человек этот сделал что-нибудь необыкновенное, или сильное, или доброе. Он старается узнать, кто был Пушкин, и узнав, что Пушкин не был богатырь или полководец, но был частный человек и писатель, он делает заключение о том, что Пушкин должен был быть святой человек и учитель добра, и торопится прочесть или услыхать его жизнь и сочинения. Но каково же должно быть его недоумение, когда он узнает, что Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуэли, т. е. при покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные[1507].
Для Толстого очевидно, что сочинения Пушкина понятны только узкому кругу европеизированных русских – это был их праздник, они-то и есть общество. Итак, просвещенная часть населения предлагала свой вариант прошлого, в том числе и через визуализацию его. Изначально значим оказывался, может быть, не столько сам памятник, сколько его словесная и ритуальная поддержка, творящая миф. Миф и выводит монумент в поле общественной памяти – тем самым он становится символом мифа, напоминает о нем. Видимый образ прежде всего не должен противоречить мифологическому нарративу.
Левитт утверждает, что самым долговечным наследием Пушкинских торжеств было новое представление о русской национальной идентичности, которая с тех пор оказалась тесно связанной с именем Пушкина. Пушкин, а с ним и другие классики русской литературы XIX века принесли с собой новую, светскую,
культурную, а не политическую или религиозную национальную идентичность, независимую как от царя, так и от церкви – традиционных оснований, на которых формировались представления русских о самих себе[1508].
Хотелось бы переакцентировать: сформировавшаяся к этому времени новая идентичность визуализировалась в такой форме (постольку поскольку такая возможность предоставлялась современной культурой). Этот праздник национальной идентичности произошел не сразу. Его начинали готовить еще в 1820-х годах, когда в Архангельске был поставлен памятник Ломоносову. Для идентичности искался знак. С одной стороны, нематериальные символы доступны лишь немногим. С другой – памятник без стоящих за ним ценностей оказывался мертвым. Но через памятник ценности являли себя, они приписывались ему и усваивались окружающими в процессе открытия: открытие оказывалось инициальным актом, превращавшим факт в событие.
Что не получилось в первых трех случаях? Вынести событие за пределы места и времени, придать ему масштабность. Не получилось и потому, что не сразу была осознана приоритетность этой задачи, и потому, что такой процесс рецепции саботировала сама власть. Но правильное понимание проблемы: важна не только сама установка памятника, а введение его в поле общественного мифа – нарастает от прецедента к прецеденту.
В случае пушкинского памятника миф предшествовал событию. Результаты такой последовательности были ошеломляющи.
Я имею основание думать, что он [праздник] устроился сам собою, а вовсе не благодаря распорядителям. Его устроило одушевление, разом охватившее всех… В течение нескольких дней сотни тысяч народа перебывали у памятника и стояли около него толпами. Народ, конечно, недоумевал, за что такая честь штатскому человеку. Многие крестились на статую. Спустя две недели, кажется установилось мнение, что человек этот «что-то пописывал, но памятник ему за то поставлен, что он крестьян освободил». По крайней мере я слышал это от многих простых людей и разумеется не разуверял! Да, никто не ожидал, что так выйдет! Думали, что выйдет по старым образцам, что будет маленькое торжество, которому официальные лица придадут некоторую импозантность. А вышел «на нашей улице праздник»…[1509]
Свидетельства некоторого смятения тем, что получилось, приводятся во многих газетах. Итоговая формула звучала так: «осмыслившее себя общественное мнение». То есть перед лицом этого памятника Россия поняла себя. Восторг был не результатом, а условием: все время искался повод для воодушевления. Так было с энтузиазмом вокруг предложения о памятнике Гоголю. Собранная сумма вовсе не была огромной по сравнению с предыдущими чествованиями. Но теперь техническому моменту приписывалось символическое значение.
Для понимания культурных механизмов коллективной памяти эта история, однако, ключевая: до 1880 года существует не практика, а только возможность практики монументальной коммеморации. Пушкинский праздник выявил необходимые и достаточные условия ее эффективной реализации. Лев Толстой не хотел замечать, что Пушкин стал предписанным местом памяти и инструментом европеизации народа. Более того, он стал частью обязательного прошлого; именно этим можно объяснить ажиотаж в книжных магазинах в 1887 году, когда в газетах появились описания драк за разрекламированное дешевое издание Пушкина[1510], выпущенное по истечении 50-летнего срока авторского права.
Массовое празднование столетия Пушкина в 1899 году было проведено государством с использованием уже наработанных практик, в том числе переименования улиц, открытия именных библиотек и школ, назначения стипендий и премий. С конца XIX века процесс открытия памятников уже активно шел по всей стране.
Мы рассмотрели скорее только одну, неофициальную линию культурной коммеморации в России, посвященную покойным писателям как воплощениям национального гения (в слове). Наряду с монументами представителям династии и военачальникам эти скульптурные сооружения стали естественной (материальной) частью исторического сознания и исторического воображения дореволюционной России.
Список трудов Ирины Максимовны Савельевой
2011
Неклассическое наследие. Андрей Полетаев / Савельева И.М. (ред.) М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.
Савельева И.М. «Уроки Памяти» в академической корпорации // Мир историка. Вып. 7 / В.П. Корзун, С.П. Бычков (ред.). С. 63–80.
Савельева И.М. Что случилось с «Историей и теорией»? М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 44 с. (Серия WP6. «Гуманитарные исследования»).
Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальная организация знаний о прошлом: аналитическая схема // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 35. М.: ИВИ РАН, 2011. С. 7–18.
Савельева И.М. Классики в исторической науке: «свои» и «чужие» // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы / Л.П. Репина (ред.). М.: Изд-во ЛКИ, 2011. С. 491–515.
2010
Савельева И.М., Полетаев А.В. История в системе социального знания. Способы постижения прошлого // Методология и теория исторической науки / М.А. Кукарцева (ред.). М.: Канон-плюс, 2010. С. 50–84.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Классическое наследие. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 336 с.
Савельева И.М. Присутствие и отсутствие // Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши / Е. Аксер, И.М. Савельева (ред.). М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. С. 5–18.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Образы и структуры времени в архаических культурах // Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Л.П. Репина (ред.). М.: Кругъ, 2010. С. 79–97.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Российские историки в зарубежных журналах // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 32. М.: ЛЕНАНД, 2010. С. 5–21.
[Редактор]. Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши / Е. Аксер, И.М. Савельева (ред.). М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 368 с.
2009
Полетаев А.В., Савельева И.М. «Циклы Кондратьева» в исторической ретроспективе. М.: Юстицинформ, 2009. 272 с.
Савельева И.М., Полетаев А.В. История понятия «классика» // Cogito. Альманах истории идей. Вып. 4. Ростов-на-Дону: Логос, 2009. С. 9–26.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Зарубежные публикации российских гуманитариев: социометрический анализ // Вопросы образования. 2009. № 4. С. 199–217.
Савельева И.М. Присутствие и отсутствие России в мировой социальной и гуманитарной науке // Пути России. Т. XVI. Современное интеллектуальное пространство: школы, направления, поколения / М.Г. Пугачёва, В.С. Вахштайн (ред.). М.: Университетская книга, 2009. С. 105–118.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Историческая наука и ожидания общества // Общественные науки и современность. 2009. № 5. С. 134–149.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Публикации российских авторов в зарубежных журналах по общественным и гуманитарным дисциплинам в 1993–2008 гг.: количественные показатели и качественные характеристики: препринт WP6/2009/02. М.: ГУ ВШЭ, 2009. 52 с. (Серия WP6. Гуманитарные исследования).
Савельева И.М., Полетаев А.В. Введение: Должны ли ученые общаться с призраками? // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (ред.). М.: НЛО, 2009. С. 5–8.
Савельева И.М. Классика в историографии: формы присутствия // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (ред.). М.: НЛО, 2009. С. 294–331.
[Редактор] Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (ред.). М.: НЛО, 2009. 536 с.
Савельева И.М. Перспективы картографии: Институты снаружи и изнутри [интервью] // Русский журнал [Электронный ресурс]. URL: -kartografii (дата обращения: 27.10.2011 г.).
2008
Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом, или Знают ли американцы историю. М.: НЛО, 2008. 456 с.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания: учеб. пособие для вузов. СПб.; М.: Алетейя; Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. 523 с.
Savelieva I.M. The Role of Partnerships in Developing Social Sciences and Humanities at Russian Universities // Universities, Cultural Development and Regional Identity. Kazan: Ship Press Ltd., 2008. P. 48–56. Тж. на русск. яз.: Савельева И.М. Роль партнерства в развитии социально-гуманитарной науки в российских университетах // Университеты, культурное развитие и региональная самобытность. Казань: ШиП, 2008. С. 52–61.
Савельева И.М., Полетаев А.В. «Возведение истории в ранг науки» (к юбилею Иоганна Густава Дройзена) // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 25/1. М.: Книжный дом «Либроком», 2008. С. 26–54.
Savelyeva I.M., Poletayev A.V. History among Other Social Sciences // Social Sciences. 2008. Vol. 39. No. 3. P. 28–42.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Обыденные представления о прошлом: теоретические подходы // Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории / Л.П. Репина (ред.). М.: Кругъ, 2008. C. 50–76.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Обыденные представления о прошлом: эмпирический анализ // Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории / Л.П. Репина (ред.). М.: Кругъ, 2008. С. 77–99.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Источники формирования массовых представлений американцев о прошлом // Социальная история. Ежегодник, 2007. М.: РОССПЭН, 2008. С. 335–358.
2007
Савельева И.М., Полетаев А.В. Темпоральная картина мира в архаичных системах знания // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 21. М.: ЛКИ, 2007. С. 22–51.
Савельева И.М., Полетаев А.В. История в пространстве социальных наук // Новая и новейшая история. 2007. № 6. С. 3–15.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Современное общество и историческая наука: вызовы и ответы // Мир Клио. Сборник статей в честь Лорины Петровны Репиной: в 2 т. М.: ИВИ РАН, 2007. Т. 1. С. 157–186.
Савельева И.М. Концепция «исторической памяти»: истоки и итоги // Историческая память и общество в Российской империи и Советском Союзе (конец XIX – начало XX века). СПб.: Европейский дом, 2007. С. 246–255.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Становление исторического метода: Ранке, Маркс, Дройзен // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 18. М.: УРСС, 2007. С. 68–96.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Исторические знания американцев // Время – История – Память: Проблемы исторического сознания / Л.П. Репина (ред.). М.: ИВИ РАН, 2007. С. 289–318.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Опросы общественного мнения в США: что думают американцы о религии, политике, морали, правах и свободах, технических новшествах… // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2007. № 1 (81). С. 122–136.
Савельева И.М. «Не все понимают, что университет может существовать только на основе распространения гуманитарной традиции…» [интервью] // Русский журнал [Электронный ресурс]. URL: -povestka/Ne-vse-ponimayut-chto-universitet-mozhet-suschestvovattol-ko-na-osnove-rasprostraneniya-gumanitarnoj-tradicii (дата обращения: 27.10.2011).
2006
Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история: в 2 т. Т. 2: Образы прошлого. СПб.: Наука, 2006. 751 с.
Савелиева И.М., Полетаев А.В. История и време: в търсене на изгубеното: пер. Б. Пенчев, Х. Карастоянов. София: Стигмати, 2006. 716 с.
Савельева И.М. Концептуальные проблемы современного исторического образования в Европе и США // Вопросы образования. 2006. № 4. С. 114–123.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Вненаучные типы знания о прошлом: проблема различения // Cogito. Альманах истории идей. Вып. 1. Ростов-на-Дону: Логос, 2006. С. 23–42.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Ценности и установки в массовых представлениях американцев // Социологическое обозрение. 2006. Т. 5. № 1. С. 82–101.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Национальная история и национализм // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «История России». 2006. № 2 (6). С. 18–30.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Знают ли американцы историю? (Часть 2): препринт WP6/2006/06. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 56 с. (Серия WP6. Гуманитарные исследования).
Савельева И.М., Полетаев А.В. Знают ли американцы историю? (Часть 1): препринт WP6/2006/04. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 48 с. (Серия WP6. Гуманитарные исследования).
Савельева И.М. История в системе современного социогуманитарного знания // Историческое знание: теоретические основания и коммуникативные практики: материалы науч. конф. (Казань, 5–7 октября 2006 г.) / Л.П. Репина (ред.). М.: ИВИ РАН, 2006. С. 3–6.
2005
Савельева И.М., Полетаев А.В. Социология знания о прошлом: учеб. пособие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 344 с.
[Редактор] Феномен прошлого / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (отв. ред.). М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 476 с.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Предисловие // Феномен прошлого / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (отв. ред.). М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2005. С. 5–10.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Типы знания о прошлом // Феномен прошлого / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (отв. ред.). М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2005. С. 12–66.
Савельева И.М., Полетаев А.В. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия // Феномен прошлого / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (отв. ред.). М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2005. С. 170–220.
Савельева И.М., Полетаев А.В. «Там, за поворотом…»: о модусе сосуществования истории с другими социальными и гуманитарными науками // Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации / Л.П. Репина (ред.). М.: ИВИ РАН, 2005. С. 73–101.
Савельева И.М., Полетаев А.В. История и социальные науки: препринт WP6/2005/04. М.: ГУ ВШЭ, 2005. 32 с. (Серия WP6. Гуманитарные исследования).
Савельева И.М., Полетаев А.В. Историческая наука и знание о прошлом // Историческое знание в современной России: Дискуссии и поиски новых подходов / И. Эрманн, Г. Зверева, И. Чечель (ред.). М.: РГГУ, 2005. С. 21–32.
Савельева И.М., Полетаев А.В. О пользе и вреде презентизма в историографии // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания. Памяти профессора М.А. Барга / Л.П. Репина (ред.). М.: ИВИ РАН, 2005. С. 63–88.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом: источники и репрезентации: препринт WP6/2005/02. М.: ГУ ВШЭ, 2005. 52 с. (Серия WP6. Гуманитарные исследования).
Савельева И.М., Полетаев А.В. Там, за поворотом… // Междисциплинарные подходы к изучению прошлого: до и после постмодерна: материалы Всерос. науч. конф. (Ставрополь, 28–29 апреля 2005 г.) / Л.П. Репина (ред.). М.: ИВИ РАН, 2005. С. 7–9.
2004
Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом: типы и механизмы формирования: препринт WP6/2004/07. М.: ГУ ВШЭ, 2004. 56 с. (Серия WP6. Гуманитарные исследования).
Савельева И.М. Идеология и история // США: эволюция основных идейно-политических концепций. Памяти профессора Н.В. Сивачёва / А.С. Маныкин (ред.). М.: Изд-во Московского ун-та, 2004. С. 31–58.
Савельева И.М. Обретение метода // И.Г. Дройзен. Историка: пер. с нем. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 5–23.
Савельева И.М., Полетаев А.В. История как знание о социальном мире // Социальная история. Ежегодник, 2001/2002. М.: РОССПЭН, 2004. С. 7–34.
2003
Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история: в 2 т. Т. 1: Конструирование прошлого. СПб.: Наука, 2003. 632 с.
Савельева И.М., Полетаев А.В. История и интуиция: наследие романтиков: препринт WP6/2003/06. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 52 с. (Серия WP6. Гуманитарные исследования).
Савельева И.М., Полетаев А.В. Функции истории: препринт WP6/2003/01. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 40 с. (Серия WP6. Гуманитарные исследования).
Савельева И.М., Полетаев А.В. Значение и смысл «истории» // Homo Historicus. К 80-летию со дня рождения Ю.Л. Бессмертного / А.О. Чубарьян (ред.): в 2 ч. М.: Наука, 2003. Ч. 1. С. 312–360.
Савельева И.М. Перекрестки памяти // П. Хаттон. История как искусство памяти: пер. с англ. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 398–421.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Плоды романтизма // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 11. М.: УРСС, 2003. С. 40–83.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Прагматика истории // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 10. М.: УРСС, 2003. С. 7–35.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Формы знания о прошлом как социокультурные практики: проблемы демаркации и взаимодействия // Межкультурный диалог в историческом контексте: материалы Всерос. науч. конф. (Москва, 30–31 октября 2003 г.) / Л.П. Репина (ред.). М.: ИВИ РАН, 2003. С. 6–9.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Романтическая традиция в историографии // Межкультурный диалог в историческом контексте: материалы Всерос. науч. конф. (Москва, 30–31 октября 2003 г.) / Л.П. Репина (ред.). М.: ИВИ РАН, 2003. С. 171–174.
2002
Савельева И.М., Полетаев А.В. Концептуализация переходных эпох (взгляд историка) // Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох – типы пограничного сознания / В.Б. Земсков (ред.): в 2 ч. М.: ИМЛИ РАН, 2002. Ч. 2. С. 444–467.
Савельева И.М., Полетаев А.В. «Социальная реальность»: общество, культура, личность // Человек – Культура – История. В честь 70-летия Л.М. Баткина / М.Л. Андреев, А.Я. Гуревич, Е.П. Шумилова (ред.). М.: РГГУ, 2002. С. 107–155.
Poletayev A., Savelieva I. Trends in Professional Education in Russia. Part 2: Subjects of Demand // Russian Economic Trends. 2002. Vol. 11. No. 2. P. 37–47. Тж. на русск. яз.: Полетаев А., Савельева И. Спрос и предложение услуг в сфере среднего и высшего профессионального образования в России (статистический анализ) // Обзор экономики России. 2002. № 2 (34). С. 79–118.
2001
Poletayev A., Savelieva I. Trends in Professional Education in Russia. Part 1: Objects of Supply and Demand // Russian Economic Trends. 2001. Vol. 10. No. 3/4. P. 45–59.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом как проблема социологии знания // НЛО. 2001. № 6 (52). С. 5–28.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Историческая истина и историческое знание // Логос. 2001. № 2 (28). С. 4–24.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Историческая истина: эволюция представлений // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 4. М.: УРСС, 2001. С. 162–181.
Полетаев А.В., Савельева И.М. Сравнительный анализ двух системных кризисов в российской истории (1920-е и 1990-е годы) // Экономическая история. Ежегодник. 2000. М.: РОССПЭН, 2001. С. 98–134.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Прошлое Америки: дважды «другая» реальность // Воображаемое прошлое Америки: история как культурный конструкт / Т.Д. Венедиктова (ред.). М.: МАКС Пресс, 2001. С. 8–19.
Полетаев А.В., Савельева И.М. Высшая школа и рынок: спрос на образование в современной России // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2001. № 5 (19). С. 54–62.
Савельева И.М., Полетаев А.В. История как знание о социальной реальности // Историческое знание и интеллектуальная культура: материалы Всерос. науч. конф. (Москва, 4–6 декабря 2001 г.) / Л.П. Репина (ред.). М.: ИВИ РАН, 2001. С. 7–11.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Два времени // Знание – сила. 2001. № 12.
Savelieva I. The West Comes to Russia: The George Soros Translation Project // Intellectual News, 2001. No. 9. P. 80–84.
2000
Полетаев А.В., Савельева И.М. Кризис 90-х годов в исторической перспективе // Некоторые аспекты теории переходной экономики / В.А. Мартынов и др. (ред.). Т. 2. М.: ИМЭМО РАН, 2000. С. 44–64.
Савельева И.М., Полетаев А.В. История как теоретическое знание // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 3. М.: УРСС, 2000. С. 15–33.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Эмпирические основания исторической науки // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 2. М.: УРСС, 2000. С. 36–51.
Савельева И.М., Полетаев А.В. История как знание о прошлом // Логос. 2000. № 2 (23). С. 39–74.
Савельева И.М. Как обустроить гуманитарную науку: Интеллектуальный климат России на примере «Translation Project» // НГ Ex Libris. 2000. 20 июля.
1999
Савельева И.М., Полетаев А.В. Микроистория и микроанализ // Историк в поиске: микро– и макроподходы к изучению прошлого / Ю.Л. Бессмертный (ред.). М.: ИВИ РАН, 1999. С. 92–109.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Микроистория и опыт социальных наук // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М.: РОССПЭН, 1999. С. 101–119.
1998
Савельева И.М., Полетаев А.В. История, общественные науки и время // Российская американистика в поисках новых подходов / А.С. Маныкин и др. (ред.). М.: Изд-во Московского университета, 1998. С. 206–219.
Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время // Теоретические проблемы исторических исследований. Вып. 1. М.: Исторический ф-т МГУ, 1998. С. 123–146.
1997
Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: в поисках утраченного. М.: Языки русской культуры, 1997. 800 с.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Школа И. Валлерстайна, длинные циклы и рабочее движение // Осмысливая мировой капитализм / В.Г. Хорос, М.А. Чешков (ред.). М.: ИМЭМО РАН, 1997. С. 56–67.
1996
Савельева И.М. Fin de siècle как содержательная категория: итоги, проблемы, перспективы рубежа XX–XXI вв. для историков-американистов // Американское общество на пороге XXI века / А.С. Маныкин и др. (ред.). М.: Изд-во Московского ун-та, 1996. С. 17–22.
1994
[Редактор] THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Вып. 6. Женщина, мужчина, семья / А.В. Полетаев, И.М. Савельева (ред.). М.: ИНФАН, 1994. 296 с.
[Редактор] THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Вып. 5. Риск, неопределенность, случайность / А.В. Полетаев, И.М. Савельева (ред.). М.: ИНФАН, 1994. 288 с.
[Редактор] THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Вып. 4. Научный метод / А.В. Полетаев, И.М. Савельева (ред.). М.: ИНФАН, 1994. 248 с.
Савельева И.М. Предисловие // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Вып. 6. Женщина, мужчина, семья / А.В. Полетаев, И.М. Савельева (ред.). М.: ИНФАН, 1994. 296 с.
Савельева И.М. Предисловие // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Вып. 4. Научный метод / А.В. Полетаев, И.М. Савельева (ред.). М.: ИНФАН, 1994. 248 с.
1993
Полетаев А.В., Савельева И.М. Циклы Кондратьева и развитие капитализма (опыт междисциплинарного исследования). М.: Наука, 1993. 249 с.
[Редактор] THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Вып. 3. Мир человека / А.В. Полетаев, И.М. Савельева (ред.). М.: ИНФАН, 1993. 288 с.
[Редактор] THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Вып. 2. Структуры и институты / А.В. Полетаев, И.М. Савельева (ред.). М.: Начала-пресс, 1993. 256 с.
[Редактор] THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. Вып. 1. Предмет исследования / А.В. Полетаев, И.М. Савельева (ред.). М.: Начала-пресс, 1993. 256 с.
Полетаев А.В., Савельева И.М. Концепция длинных циклов и экономическая история // Экономическая история: проблемы, исследования, дискуссии / Ю.Н. Розалиев (ред.). М.: Наука, 1993. С. 111–132.
Перегудов С.П., Савельева И.М., Холодковский К.Г. Социально-классовая структура и политические отношения // Социальный облик современного западного общества / И.Е. Гурьев, С.Н. Надель (ред.). М.: Наука, 1993. С. 200–223.
1992
Савельева И.М. Новая Гармония? // Свободная мысль. 1992. № 2.
1991
Савельева И.М. Альтернативная Америка // Вызревает ли демократическая альтернатива? / И.Е. Гурьев (ред.). М.: ИМЭМО РАН, 1991. Ч. 1. С. 66–69.
Полетаев А.В., Савельева И.М. Исследования длинных циклов: от Н.Д. Кондратьева до наших дней // Научное наследие Н.Д. Кондратьева и современность / С.Л. Комлев, А.В. Полетаев (ред.). М.: ИМЭМО, 1991. Ч. II. С. 3–22.
Савельева И.М. Альтернативные подходы к изучению историко-социальных процессов // Научное наследие Н.Д. Кондратьева и современность / С.Л. Комлев, А.В. Полетаев (ред.). М.: ИМЭМО, 1991. Ч. II. С. 162–192.
1990
Савельева И.М. Альтернативный мир: модели и идеалы. М.: Наука, 1990. 208 с.
1989
Савельева И.М. США: конфликтная модель забастовочного движения (к критике одной схемы современной буржуазной историографии) // Стачки при капитализме / М.А. Заборов, Ю.П. Мадор (ред.). М.: Наука, 1989. С. 155–174.
Савельева И.М., Полетаев А.В. Две модели социального конфликта (забастовочное движение в США в конце XIX – начале XX вв.) // Компьютер открывает Америку / В.Л. Мальков (ред.). М.: ИВИ АН СССР, 1989. С. 99–113.
Савельева И.М. Концепция циклов Кондратьева в социальных исследованиях // Долговременные тенденции в капиталистическом воспроизводстве. Вып. 2 / Р.М. Энтов, Н.А. Макашева (ред.). М.: ИНИОН АН СССР, 1989. С. 128–144.
1988
Савельева И.М. Альтернативные модели общественно-политического развития // Современный капитализм: критический анализ буржуазных политологических концепций / И.Е. Гурьев (ред.). М.: Наука, 1988. С. 161–182.
Гаджиев К.С., Савельева И.М. Особенности эволюции общественно-политической мысли // Современный капитализм: критический анализ буржуазных политологических концепций / И.Е. Гурьев (ред.). М.: Наука, 1988. С. 20–32.
Савельева И.М., Трухан А.Б. Движение за альтернативный образ жизни // Массовые демократические движения: истоки и политическая роль / Г.Г. Дилигенский (ред.). М.: Наука, 1988. С. 74–96.
Савельева И.М. За пределами буржуазной идеологии? (Альтернативные модели общественного развития) // Проблемы американистики. Вып. 6. М.: Изд-во Московского ун-та, 1988. С. 252–275.
Полетаев А.В., Савельева И.М. Концепция длинных волн в историко-социальных исследованиях (историографический обзор) // Рабочий класс и современный мир. 1988. № 5. С. 219–227.
Полетаев А.В., Савельева И.М. Длинные волны в развитии капитализма // Мировая экономика и международные отношения. 1988. № 5. С. 71–86.
1987
Рогулёв Ю.Н., Савельева И.М. Использование методов количественного анализа забастовочного движения в современной американской литературе по трудовым отношениям // Проблемы американистики. Вып. 3. М.: Изд-во Московского ун-та, 1987.
Савельева И.М. Новое направление в американской историографии рабочего движения // Новая и новейшая история. 1987. № 3. С. 191–203.
Савельева И.М. Новая утопия? (Альтернативная концепция политической экологии) // Коммунист советской Грузии. 1987. № 12.
1986
Савельева И.М. Концепция «новой научной истории» // История и историки. М.: Наука, 1986.
Савельева И.М. Зеленые // Что есть что в мировой политике / А.Н. Яковлев (ред.). М.: Прогресс, 1986. С. 149–150.
Савельева И.М. Качество жизни // Что есть что в мировой политике / А.Н. Яковлев (ред.). М.: Прогресс, 1986. С. 174–175.
Савельева И.М. Либерализм // Что есть что в мировой политике / А.Н. Яковлев (ред.). М.: Прогресс, 1986. С. 207–208.
Савельева И.М. Футурология // Что есть что в мировой политике / А.Н. Яковлев (ред.). М.: Прогресс, 1986. С. 414–415.
1985
Savelieva I. Recent Soviet Studies of American History // Technological Change and Workers’ Movement / M. Dubofsky (ed.). Beverly Hills, etc.: Sage Publications, 1985. P. 245–271.
Рогулёв Ю.Н., Савельева И.М. Забастовки в США: опыт количественного анализа в американской литературе по трудовым отношениям // Рабочий класс и современный мир. 1985. № 3. С. 155–162.
Савельева И.М. «Новая рабочая история» о проблемах формирования пролетариата // Проблемы американистики. Вып. 3. М.: Изд-во Московского ун-та, 1985. С. 76–95.
Савельева И.М. Американский институт марксистских исследований // Бюллетень ИМРД. М.: ИМРД АН СССР, 1985. С. 41–60.
Савельева И.М. Дж. Гэллап. 2000-й год. Прогноз [рецензия] // Новые книги за рубежом. 1985. № 6.
1984
Савельева И.М. «Новая социальная история» в США о классовом сознании пролетариата // Рабочий класс и профсоюзы. Проблемы историографии / М.А. Заборов (ред.). М.: Наука, 1984. С. 81–102.
Савельева И.М. Кризисные явления в США и изменения в общественном сознании рабочего класса // Рабочий класс в прошлом и настоящем. М.: Наука, 1984.
Савельева И.М. Забастовочное движение американского пролетариата: труды советских историков // Бюллетень ИМРД. М.: ИМРД АН СССР, 1984. С. 24–46.
1983
Савельева И.М. Профсоюзы и общество в США в XX в.: критика буржуазно-реформистских концепций. М.: Наука, 1983. 265 с.
Savelieva I. The Political Role of the Working Class in American Society // Working Class in American History. Minneapolis: Marxist Educational Press, 1983. P. 87–103.
Савельева И.М. В. Борисюк. США: у истоков антирабочей политики [рецензия] // Рабочий класс и современный мир. 1983. № 2.
Савельева И.М. Р. Ван Дорен. Настоящий Рейган [рецензия] // Новые книги за рубежом. 1983. № 1.
1982
Савельева И.М. Д. Грин. Мир рабочего [рецензия] // Рабочий класс и современный мир. 1982. № 3.
Савельева И.М. А. МакКензи. Обязанная быть свободной [рецензия] // Новые книги за рубежом. 1982. № 4.
1981
Савельева И.М. «Новая социальная история» в США о классовом сознании пролетариата // Проблемы историографии рабочего и коммунистического движения. М.: Наука, 1981.
Савельева И.М. Об истории классового противоборства в США // Рабочий класс и современный мир. 1981. № 1.
Савельева И.М. Американская историография рабочего движения в США после Второй мировой войны // Реферативный сборник. М.: ИНИОН, 1981.
Савельева И.М. Экономическая политика правительства Рейгана. М: Пресс-бюро «Комсомольской правды», 1981.
Савельева И.М. Америка середины 1980-х [рецензия] // Новые книги за рубежом. 1981. № 6.
Савельева И.М. Д. Харт, Ф. Мико. Польский кризис: права рабочих [рецензия] // Новые книги за рубежом. 1981. № 5.
1980
Савельева И.М. Американское профсоюзное движение в отражении буржуазно-реформистских концепций конца XIX – начала XX в. // Формирование пролетариата / М.А. Заборов (ред.). М.: Наука, 1980. C. 164–185.
1979
Савельева И.М. Двухсотлетняя история американских рабочих [рецензия] // Рабочий класс и современный мир. 1979. № 6.
1978
Савельева И.М., Сивачёв Н.В. Новая рабочая история // Рабочий класс и современный мир. 1978. № 2.
Савельева И.М. Г. Гутман. Труд, культура и общество в индустриализирующейся Америке [рецензия] // Вопросы истории. 1978. № 6.
Савельева И.М. А. Левисон. Большинство рабочего класса [рецензия] // Рабочий класс в мировом революционном процессе. М.: Наука, 1978.
1977
Савельева И.М., Савельев В.А., Сивачёв Н.В. Послевоенная буржуазная литература о трудовых отношениях // Вопросы методологии и истории исторической науки. М.: Изд-во Московского ун-та, 1977.
Savelieva I., Sivachev N. American Labor Movement in Recent Soviet Historiography // Labor History. 1977. Vol. 18. No. 3. P. 407–432.
1976
Савельева И.М. М. Лапицкий. Уильям Хейвуд [рецензия] // Рабочий класс и современный мир. 1976. № 2.
1975
Савельева И.М. С. Левитан, У. Джонстон, Р. Тэггерт. Все еще мечта [рецензия] // Новые книги за рубежом. 1975. № 2.
1974
Савельева И.М. Современные неолиберальные концепции американского тред-юнионизма // Вопросы истории. 1974. № 4. С. 77–90.
Савельева И.М. Американское трудовое законодательство // США: экономика, политика, идеология. 1974. № 7.
Савельева И.М. М. Ротбард. За новую свободу [рецензия] // Новые книги за рубежом. 1974. № 6.
Савельева И.М. С. Линд, Д. Альперович. Стратегия и программа [рецензия] // Новые книги за рубежом. 1974. № 4.
1973
Савельева И.М., Савельев В.А., Сивачёв Н.В. Эволюция взглядов на роль государства в американской буржуазной литературе о трудовых отношениях (1917–1945 гг.) // Американский ежегодник, 1973. М.: Наука, 1973. С. 156–186.
1972
Савельева И.М. Фальсификация истории трудового законодательства в США // Вопросы истории. 1972. № 6.
Савельева И.М. Профсоюзы [рецензия] // Новые книги за рубежом. 1972. № 7.
1971
Савельева И.М. Рабочий класс и американское общество в современной неолиберальной интерпретации // Рабочий класс и современный мир. 1971. № 3.
Сведения об авторах
Антощенко Александр Васильевич – Петрозаводский государственный университет, исторический факультет, профессор
Боярченков Владимир Владимирович – Рязанский государственный радиотехнический университет, профессор
Вишленкова Елена Анатольевна – Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), заместитель директора; профессор факультета истории НИУ ВШЭ
Гаврюшин Николай Константинович – Московская духовная академия, профессор
Дмитриев Александр Николаевич – Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), ведущий научный сотрудник
Еремеева Светлана Анатольевна – Российский государственный гуманитарный университет, старший преподаватель
Каменский Александр Борисович – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет истории, декан; Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), главный научный сотрудник
Каплан Вера – Университет Тель-Авива (Израиль), научный сотрудник
Парсамов Вадим Суренович – Российский государственный гуманитарный университет, профессор
Пенская Елена Наумовна – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет филологии, декан
Репина Лорина Петровна – член-корреспондент РАН; Институт всеобщей истории РАН; Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), главный научный сотрудник
Родигина Наталья Николаевна – Новосибирский государственный педагогический университет, профессор
Сабурова Татьяна Александровна – Омский государственный педагогический университет, профессор
Сандерс Томас – Военно-морская академия США (U.S. Naval Academy), профессор
Свешников Антон Владимирович – Омский государственный университет, доцент
Толочко Алексей Петрович – член-корреспондент Национальной академии наук Украины; Киево-Могилянская академия (Киев), профессор
Топычканов Андрей Васильевич – Российский государственный гуманитарный университет, доцент
Фёдорова Надежда Георгиевна – Казанский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета, преподаватель
Цимбаев Константин Николаевич – Российский государственный гуманитарный университет, доцент
Чесноков Владимир Иванович (1939–2000) – Воронежский государственный университет, профессор
Чирскова Ирина Михайловна – Российский государственный гуманитарный университет, доцент
Список сокращений
АРАН – Архив Российской академии наук
ВОЛСНХ – Вольное общество любителей словесности, наук и художеств
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГУДП – Главное управление по делам печати
ЖМНП – Журнал министерства народного просвещения
ИОРРИП – Известия Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III
МВД – Министерство внутренних дел
МНП – Министерство народного просвещения
НИОР РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
ОЛРС – Общество любителей российской словесности
ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников Государственного исторического музея
ОРРИП – Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III
ОР РНБ – Отдел рукопией Российской национальной библиотеки
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
ПФА РАН – Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
РГБ – Российская государственная библиотека
РГИА – Российский государственный исторический архив
РГИАМ – Российский государственный исторический архив г. Москвы
РНБ – Российская национальная библиотека
ЦИАМ – Центральный исторический архив г. Москвы
ЧОИДР – «Чтения в Обществе истории и древностей российских»
Примечания
1
Савельева И.М., Полетаев А.В. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия // Феномен прошлого / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (ред.). М., 2005. С. 170–220; Хаттон П. История как искусство памяти: пер. с англ. СПб., 2003; Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна: пер. с англ. СПб., 2004.
(обратно)2
Cм. одну из первых серьезных попыток использовать категорию исторической культуры: Guenée B. Histoire et culture historique dans l'occident Médiéval. Paris, 1980 (Пер. на рус. яз.: Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2002).
(обратно)3
The Invention of Tradition / E.J. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge, 1983.
(обратно)4
Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004; Assmann A. Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik München, 2006. См. также: Holtorf C. Geschichtskultur in ur– und frühgeschichtlichen Kulturen Europas // Der Ursprung der Geschichte / J. Assmann, K.E. Müller (Hg.). Stuttgart, 2005. S. 87–111, 292–300; Fischer T.E. Geschichte der Geschichtskultur. Über den öffentlichen Gebrauch der Vergangenheit von den antiken Hochkulturen bis zur Gegenwart. Köln, 2000.
(обратно)5
Ср.: Левада Ю. Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 186–224; Барг М. Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987; Барг М.А., Авдеева К.Д. От Макиавелли до Юма: становление историзма. М., 1998. См. важный обощающий труд: Erinnerung, Gedächtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung / G. Oesterle (Hg.). Göttingen, 2005.
(обратно)6
Geschichtskultur. Theorie – Empirie – Pragmatik / B. Mütter, B. Schönemann, U. Uffelmann (Hg.). Weinheim, 2000.
(обратно)7
Rüsen J. Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken // Historische Faszination. Geschichtskultur heute / J. Rüsen, T. Grütter, K. Füßmann (Hg.). Köln u.a., 1994. S. 3–26; Woolf D. The Social Circulation of the Past: English Historical Culture, 1500–1730. Oxford, 2003.
(обратно)8
Репина Л.П. Историческая культура как предмет исследования // История и память: историческая культура Европы до начала нового времени / Л.П. Репина (ред.). М., 2006. С. 5–18.
(обратно)9
Уваров П.Ю. Россия в роли «великой историографической державы» // Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши. М., 2010. C. 121–139; Дмитриев А. Контекст и метод (предварительные соображения об одной становящейся исследовательской индустрии) // Новое литературное обозрение. 2004. № 2 (66). С. 68–87.
(обратно)10
См. обширную вступительную статью: Мандрик М.В. Николай Леонидович Рубинштейн: Очерк жизни и творчества // Рубинштейн Н.Л. Русская историография. СПб., 2008.
(обратно)11
См.: Цамутали А.Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л., 1977; Цамутали А.Н. Борьба направлений в русской историографии в период империализма. Л., 1986; Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала ХХ века: Московский и Петербургский университеты. М., 2003; Брачёв В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. СПб., 2001 и др.
(обратно)12
См., в частности: Моисеева Г.Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980.
(обратно)13
Базовыми текстами здесь была Степенная книга XVI века, сохранявшая значимость как памятник и источник исторических представлений и в XVIII столетии, а также многократно переиздававшийся «Синопсис» Иннокентия Гизеля. См.: Сиренов А.В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв. М.; СПб., 2010 (особенно гл. 8 об официальных исторических сочинениях петровского времени, с. 334–385); Формозов А.А. Феномен «Синопсиса» // Формозов А.А. Человек и наука: из записей археолога. М., 2005. С. 127–146; о церковной переоценке роли Киева см.: Опарина Т.А. Москва как новый Киев, или Где же произошло Крещение Руси: взгляд из первой половины XVII века // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / Л.П. Репина (ред.). М., 2006. С. 635–663.
(обратно)14
См. только некоторые работы из весьма обширного списка: Живов В.М. Два пространства русского Средневековья и их позднейшие метаморфозы // Отечественные записки. 2004. № 5(20). С. 8–27; Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.): Курс лекций. М., 2001; Успенский Б.А. Борис и Глеб: восприятие истории в Древней Руси. М., 2000; Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. М., 1995; Ранчин А.М. Киевская Русь в русской историософии XIV–XVII веков (некоторые наблюдения) // Ранчин А.М. Вертоград Златословный: Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007. С. 221–232; Ерусалимский К.Ю. Понятие «история» в русском историописании XVI века // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени / Л.П. Репина (отв. ред.). М., 2003. С. 365–401; Ерусалимский К.Ю. Прочтение Ренессанса историографией барокко: сборник Курбского в исторической культуре России конца XVII – начала XVIII века // Человек в культуре русского барокко. М., 2007. С. 386–408; Усачёв А.С. Древнейший период русской истории в исторической памяти эпохи Московского царства (на материале «Книги степенной царского родословия») // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени. С. 609–634; Богданов А.П. От летописания к исследованию: Русские историки последней четверти XVII в. М., 1995. Ср. анализ европейских сочинений того времени: Grafton A. What Was History? The Art of History in Early Modern Europe. Cambridge, 2007.
(обратно)15
Толочко А.П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М.; Киев, 2005; Стефанович П.С. «История Российская» В.Н. Татищева: споры продолжаются // Отечественная история. 2007. № 3. С. 88–96; Свердлов М.Б. Василий Никитич Татищев – автор и редактор «Истории Российской». СПб., 2009.
(обратно)16
См. также: Каменский А.Б. Ломоносов и Миллер: два взгляда на историю // Ломоносов: Сборник статей и материалов. Т. IX. СПб., 1991; и особенно материалы содержательного исследования: Пештич С.Л. Русская историография XVIII в.: в 3 ч. Л., 1961–1971.
(обратно)17
Маслова Н.В., Агеева И.В. Русская история в научном наследии Т.Н. Грановского. К 180-летию со дня рождения // Отечественная история. 1993. № 4. С. 73–84. См. более общий очерк отечественной традиции изучения всемирной истории: Hecker H. Russische Universalgeschichts schreibung: Von den «vierziger Jahren» des 19. Jahrhunderts bis zur sowjetischen «Weltgeschichte». München, 1983.
(обратно)18
См. о популярной писательнице первой половины XIX века А.О. Ишимовой, авторе «Истории России в рассказах для детей» (1837–1841): Файнштейн М. Наставницы юных // Файнштейн М. Писательницы пушкинской поры: Историко-лит. очерки. Л., 1989. С. 42–57.
(обратно)19
Володина Т.А. История в пользу российского юношества: XVIII век. Тула, 2000; Володина Т.А. Учебники отечественной истории как предмет историографии: середина XVIII – середина XIX в. // История и историки. 2004. М., 2005. С. 104–126; Володина Т.А. Уваровская триада и учебники по русской истории // Вопросы истории. 2004. № 2. С. 117–128.
(обратно)20
Белофост М.Г. Проблемы школьного исторического образования в ракурсе внутренней политики российского правительства в начале ХХ века. Тамбов, 1998; Бабич И.В. Проблема учебника отечественной истории в политике министерства народного просвещения в конце XIX – начале XX в. // Вестник Московского университета. 1990. Сер. 8. История. № 2. С. 73–83; Фукс А.Н. Школьные учебники по русской истории (1861–1917 гг.): учеб. пособие. М., 1985; Фукс А.Н. Школьные учебники по отечественной истории как историографическое явление // Преподавание истории в школе. 2007. № 7. С. 28–34 (см. материалы докторской диссертации А.Н. Фукса «Школьные учебники по истории как историографический феномен (конец XVII века – 1930-е годы)». М., 2011.
(обратно)21
См.: Чекурин Л.В. Русский историк Д.И. Иловайский: Опыт биобиблиографического исследования. Рязань, 2002; Фукс А.Н. Русская история в школьных учебниках Д.И. Иловайского // Отечественная история. 2008. № 5. С. 185–192.
(обратно)22
Антощенко А.В. Русский либерал-англофил П.Г. Виноградов. Петрозаводск, 2010.
(обратно)23
См. важные соображения Олега Журбы (Днепропетровск) о позднем переходе от «регионального» к «национальному»: Журба О. Теоретичні проблеми української археографії // Україна модерна. 2005. № 9. С. 152–172.
(обратно)24
Наиболее известна критика традиционной схемы общероссийского исторического процесса (от древнего Киева через царскую Москву в имперский Петербург), сформулированная М. Грушевским в самом начале ХХ века (см.: Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Прага, 1923 [Киев, 1996]; Ісаєвич Я. Праця Михайла Грушевського «Про дві схеми східноєвропейської історії»: історіографічний і політичний контекст // Михайло Грушевський і Західна Україна. Львів, 1995. С. 83–90.). Позднее его аргументы отчасти были приняты во внимание А.Е. Пресняковым; но затем в отечественной историографии в понимании восточнославянского этногенеза надолго возобладала парадигма «древнерусской народности», начальные положения которой были сформулированы еще до советского периода (см. обстоятельную книгу украинского историка Натальи Юсовой: Юсова Н. «Давньоруська народність»: зародження і становлення концепції в радянській історичній науці (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). Київ, 2006.
(обратно)25
См.: Алексеев Л.В. Белорусская археология и историческое краеведение во второй половине ХIХ – начале ХХ в. // Советская археология. 1968. № 3. C. 85–100; Смоленчук А.Ф. Историческое сознание и идеология поляков Белоруссии и Литвы в начале XX века // Славяноведение. 1997. № 5. С. 100–105; Кохановский Г.А. Историография изучения культуры Белоруссии в конце ХVIII – начала ХХ вв. Становление научных знаний по археологии, историческому краеведению и фольклористике. Минск, 1992.
(обратно)26
Локшин А. Российская иудаика: русско-еврейская история и ее исследователи // Евреи в Российской империи XVIII–XIX вв. М., 1995. С. 3–22; Кельнер В.Е. Миссионер истории: жизнь и труды Семена Марковича Дубнова. СПб., 2008 и т. д.
(обратно)27
Лунин Б.В. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. Туркестанский кружок любителей археологии (1895–1917 гг.). Ташкент, 1958; Лунин Б.В. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения: Историографический очерк. Ташкент, 1979; Tolz V. Russia’s Own Orient’: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods. Oxford, 2011.
(обратно)28
Джавахов И.А. А.С. Хаханов и его деятельность в области кавказоведения. М., 1912; Черняев П.Н. Из истории кавказоведения // Сборник статей по вопросам культуры. Ростовна-Дону, 1928. Вып. 4. (Труды Северо-Кавказской ассоциации научно-исследовательских институтов. № 43). С. 5–42; Тютюнина Е.С. К вопросу об организационных формах исторического кавказоведения во второй половине XIX века // Вопросы истории и историографии Северного Кавказа (дореволюционный период). Нальчик, 1989. С. 113–125; Историография и источниковедение истории Северного Кавказа (вторая половина XVIII – первая треть XX в.): Библиографический указатель. Предварительный список: в 2 ч. / М.Е. Колесникова (автор-составитель); М.П. Мохначёва (науч. ред). Ставрополь, 2009.
(обратно)29
См.: Дмитриев А.Н. Украинская наука и ее имперские контексты (XIX – начало ХХ века) // Ab Imperio. 2007. № 4. С. 121–172.
(обратно)30
См. очень важный сборник: Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State / T. Sanders (ed.). Armonk, 1999 и недавно изданную антологию текстов из журнала «Ab Imperio»: Изобретение империи: языки и практики. М., 2011.
(обратно)31
См. статью-некролог о нем: Владимир Иванович Чесноков как ученый // Российские университеты в XVIII–XX веках. Вып. 6. Воронеж, 2002. С. 5–24 (и специальную монографию по теме: Чесноков В.И. Правительственная политика и историческая наука России 60–70-х гг. XIX века. Воронеж, 1989).
(обратно)32
См.: Колесник И.И. Историографическая мысль в России: от Татищева до Карамзина. Днепропетровск, 1993; Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. М., 1983. Известная работа киевского профессора В.С. Иконникова «Опыт русской историографии» (1884) осталась скорее уникальным по полноте и всеохватности детальным обзором источников и литературы по русской истории, чем трудом по истории исторической науки.
(обратно)33
Упомянем для предыдущего периода важные справочники: Каталог личных архивных фондов отечественных историков. Вып. 1. XVIII век; Вып. 2. Первая половина XIX века / С.О. Шмидт (отв. ред.). М., 2001, 2007. См. также: Byford A. Initiation to Scholarship: The University Seminar in Late Imperial Russia // The Russian Review. 2005. Vol. 64. No. 2. Р. 299–323.
(обратно)34
См. также содержательную работу: Berelowitch W. History in Russia Comes of Age. Institution-Building, Cosmopolitanism and Debates among Historians in Late Imperial Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2008. Vol. 9. No. 1. Р. 113–134.
(обратно)35
См. анализ схожих процессов на материале близкой к историографии дисциплины – филологии: Byford A. Literary Scholarship in Late Imperial Russia: Rituals of Academic Institutionalization. Oxford, 2007.
(обратно)36
Дербов Л.А. Н.И. Новиков и русская история (к изданию «Древней Российской Вивлиофики») // Из истории общественного движения и общественной мысли в России. Вып. 2. Саратов, 1968.
(обратно)37
Брачёв В.С. Петербургская археографическая комиссия (1834–1929 гг.). СПб., 1997.
(обратно)38
Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России. М., 1989; Щавелев С.П. Историк Русской земли. Жизнь и труды Д.Я. Самоквасова. Курск, 1996; Шохин Л.И. Московский архив Министерства юстиции и русская историческая наука: Архивисты и историки во второй половине XIX – начале XX века. М., 1999.
(обратно)39
Демидов И.А., Ишутин В.В. Общество истории и древностей российских при Московском университете // История и историки. 1975. М., 1978. С. 250–280; Боярченков В.В. Общество истории и древностей российских в середине 1840-х гг. // Вопросы истории. 2008. № 4. C. 114–121; Шахназарова М.Г. «Чтения в обществе истории и древностей российских» как историографический источник (1893–1918 гг.) // Вестник РГГУ. 2009. № 4. С. 133–145.
(обратно)40
Степанский А.Д. Первые исторические общества в России // Вопросы истории. 1973. № 12. С. 204–208; Степанский А.Д. К истории научно-исторических обществ в дореволюционной России // Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 38–56.
(обратно)41
Хартанович М.Ф. Гуманитарные научные учреждения Санкт-Петербурга XIX века. СПб., 2006; Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (ХVIII – середина ХIХ в.). СПб., 2002; Фролов Э.Д. Русская наука об античности. Историографические очерки. 2-е изд. СПб., 2006; Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. СПб, 2008 и др.
(обратно)42
См.: Бакун Д.Н. Развитие библиографии исторических источников в России (XVIII – начало XX в.). М., 2006.
(обратно)43
Солнцев Н.И. «История русской церкви» Е.Е. Голубинского: теоретические основы и историографическое значение. Н. Новгород, 2010; Сухова Н.Ю. Научно-богословские исследования в России – проблемы и поиск (XIX – начало XX в.) // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный. Сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начала XX века. М., 2007. С. 143–171 и др.
(обратно)44
Бескровный Л.Г. Очерки военной историографии России. М., 1962; Дьяков В.А. О возникновении, составе и деятельности Русского военно-исторического общества (1907–1917 гг.) // Проблемы истории общественного движения и историографии. М., 1971. С. 275–288; Автократов А.В. Научно-издательская деятельность военно-исторических комиссий и военных исторических архивов дореволюционной России // Издание исторических документов в СССР. М., 1989. С. 129–152; Автократов В.Н. Жизнь и деятельность военного историка и архивиста Г.С. Габаева (1877–1956) // Советские архивы. 1990. № 1. С. 62–76; № 2. С. 61–78; Бориснев С.В. Деятельность Императорского русского военно-исторического общества. 1907–1917 гг. // Военно-исторический журнал. 2007. № 5. С. 43–47.
(обратно)45
Славина Т.А. Исследователи русского зодчества: Русская историко-архитектурная наука XVIII – начала XX в. Л., 1983; Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи, XIX век. М., 1986; Вздорнов Г.И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи. М., 2006; Тарасов О. Русская икона в Серебряном веке. Из истории Комитета попечительства о русской иконописи (1901–1918) // Искусствознание. 2010. № 3/4 С. 461–486.
(обратно)46
Каменский А.Б. Подданство, лояльность, патриотизм в имперском дискурсе России XVIII в.: исследовательские проблемы: Препринт WP6/2007/04. М.: ГУ ВШЭ, 2007. С. 39.
(обратно)47
Плюханова М.Б. «Историческое» и «мифологическое» в ранних биографиях Петра I // Тартуский сборник. Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 78–119; Соловьёв Е.А. Пётр Великий и русская историческая мысль XIX – начала XX века // Отечественная история. 2006. № 4. С. 112–123. О легитимации через давнее прошлое и попытках его переописания см.: Рукавичникова В.В. Вадим Новгородский в русской историографии и литературе (Исторический факт и его интерпретация) // Русская литература. 2000. № 4. С. 73–83; Майофис М. Музыкальный и идеологический контекст драмы Екатерины II «Начальное управление Олега» // Тартуские тетради / Р.Г. Лейбов (сост.). М., 2005. С. 253–260.
(обратно)48
Козлов В.П. Российская археография конца XVIII – первой четверти XIX века. М., 1999.
(обратно)49
Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика ХVIII – первой пол. XIX в.: От рукописи к книге. М., 1991; Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX в. М., 1997.
(обратно)50
Особая тема – исторические воззрения декабристов и либералов в 1810–1830-е годы, когда были заложены основы будущих столкновений западников и славянофилов и сформировался характер мировоззрения Герцена. См.: Иллерицкий В.Е. Революционная историческая мысль в России. М., 1974; специально о редакторе «Колокола»: Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: секретная политическая история России XVIII–XIX веков и Вольная печать. 2-е изд., испр. М., 1984.
(обратно)51
Севастьянова А.А. Историография русской провинции второй половины XVIII в. (к постановке проблемы) // История СССР. 1991. № 1. С. 134–142; Севастьянова А.А. Русская провинциальная историография второй половины XVIII века. М., 1998; Комарова И.И. Научно-историческая деятельность губернских и областных статистических комитетов // Археографический ежегодник за 1978 год. С. 85–96; Макарихин В.П. Губернские ученые архивные комиссии России. Н. Новгород, 1991; Писарькова Л.Ф. Губернские ученые архивные комиссии: организация, численность и условия деятельности // Археографический ежегодник за 1989 год. М., 1990. С. 187–198; Зубова Н.Л. Архивно-просветительские организации в России в конце XIX – начале XX в. // Вестник Московского университета. 1990. Сер. 8. История. № 2. С. 62–72.
(обратно)52
Боярченков В.В. Историки-федералисты: Концепция местной истории в русской мысли 20–70-х годов XIX века. СПб., 2005; о последующей эволюции региональной историографии см.: Аленова В.А. Историческая наука в российской провинции в конце XIX – начале XX вв. Рязань, 2002.
(обратно)53
Лоскутова М.В. Академия наук и краеведческое движение первой четверти ХХ в. // Академия наук в истории культуры России в XVIII – ХХ вв. / Ж.И. Алфёров (отв. ред.). СПб., 2010. С. 645–677; Лоскутова М.В. Уездные ученые: самоорганизация научной общественности в российской провинции во второй половине XIX – первой трети XX в. // Ab Imperio. 2009. № 3. С. 119–169; Лоскутова М.В. Географическая мобильность профессоров и преподавателей российский университетов второй половины XIX в.: постановка проблемы и предварительные результаты исследования // «Быть русским по духу и европейцем по образованию»: Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII – начала ХХ в. / А.Ю. Андреев (отв. сост.). М., 2009. С. 183–221; Loskutova M. A Motherland with a Radius of 300 Miles: Regional Identity in Russian Secondary and Post-Elementary Education from the Early Nineteenth Century to the War and Revolution // European Review of History. 2002. Vol. 9. No. 1. P. 7–22.
(обратно)54
Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010. С. 202–223.
(обратно)55
Дмитриев С.С. Дореволюционные исторические журналы // История СССР периода капитализма / С.С. Дмитриев, В.А. Фёдоров, В.И. Бовыкин (ред.). М., 1961. С. 171–190; Дмитриев С.С. Именословие русских исторических журналов // Русская литература. 1967. № 1. С. 73–83; Дмитриев С.С. Источниковедение русской исторической журналистики // Источниковедение отечественной истории (1975). М., 1976. С. 272–306; Зайцев А.Д. Пётр Иванович Бартенев и журнал «Русский архивъ». М., 2001; Порох В.И. Офицер, историк, издатель: Все о М.И. Семевском. Саратов, 2000; Железнева Т.В. Задачи, структура и тематика журнала «Исторический вестник» (1880–1904) // Историографические и источниковедческие проблемы истории СССР. М., 1987. С. 51–58; Кельнер В.Е. От «Древней и новой России» к «Историческому вестнику» (С.Н. Шубинский и становление исторических научно-популярных изданий в России в 1870-е гг.) // Книжное дело в России во второй половине ХIХ – начале XX в. Л., 1988. Вып. 3. С. 156–176; Костылёва Р.Д. Историк-популяризатор С.Н. Шубинский во главе «Исторического вестника». Уссурийск, 1989; Мохначёва М.П. С.Н. Шубинский и его сборник-журнал «Древняя и новая Россия» // Труды Историко-архивного института. Т. 33. М., 1996. С. 168–176; о последнем редакторе исторического вестника см.: Иванова Г.Г. Историк-публицист Б.Б. Глинский // Вопросы истории. 2008. № 4. С. 141–145.
(обратно)56
Русская историческая периодика 1861–1917 гг. Материалы к библиографии / С.Н. Ущиповский (сост.). СПб., 1992; Поникарова Н.М. Школьные учебники по русской истории в оценках Журнала министерства народного просвещения // Преподавание истории в школе. 2004. № 9. С. 26–31.
(обратно)57
См.: Шумейко М.Ф. Материалы архива В.Я. Богучарского по истории журнала «Былое» («Минувшие годы») // Археографический ежегодник за 1978 год. С. 276–284; Шумейко М.Ф. О выявлении и собирании документов революционного движения в России второй половины XIX – начала XX века (по материалам архива В.Я. Богучарского) // Археографический ежегодник за 1981 год. С. 178–187; Болотина А.В. В.Я. Богучарский по архивным материалам и в воспоминаниях современников // Страницы истории и историографии отечества. Вып. 3. Воронеж, 2001. С. 4–84; Лурье Ф.М. Хранители прошлого. Журнал «Былое»: История, редакторы, издатели. Л., 1990.
(обратно)58
Гринченко Н.А. История цензурных учреждений в России в первой половине ХIХ в. // Цензура в России. История и современность. Вып. 1. СПб., 2001. С. 15–46; Патрушева Н.Г. История цензурных учреждений в России во второй половине XIX – начале XX века // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX века. Вып. 10. СПб., 2000. С. 7–48; Добровольский Л.М. Библиографический обзор дореволюционной и советской литературы по истории русской цензуры // Труды БАН СССР и фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР. Т. V. М.; Л., 1961. С. 245–252; Патрушева Н.Г. Изучение истории цензуры второй половины XIX – начала ХХ века в 1960–1990-е гг.: Библиогр. обзор // НЛО. 1998. № 30. С. 425–438.
(обратно)59
Боярченков В.В. С.Г. Строганов, С.С. Уваров и «история Флетчера» 1848 г. // Российская история. 2009. № 5. С. 144–150.
(обратно)60
Хартанович М.Ф. Императорская Археографическая комиссия и сеть археографических учреждений в России XIX в. // Академия наук в истории культуры XVIII–XIX вв. СПб., 2010. С. 268–311.
(обратно)61
«Дерзостное неуважение Верховной власти». Материалы судебного процесса по делу об уничтожении 5-й книги М.Н. Покровского «Русская история с древнейших времен», 1912–1913 гг. / публ. подгот. Ю.В. Варфоломеев, А.А. Чернобаев // Исторический архив. 2011. № 2. С. 165–182.
(обратно)62
Летенков Э.В. К истории правительственных информационных центров в России (1906–1917 гг.) // Вестник Ленинградского университета. Серия: История, язык, литература. 1973. Вып. 4. № 20. С. 80–88.
(обратно)63
Бржостовская Н.В. Вопросы архивного дела на археологических съездах в России, 1869–1911 гг. // Археографический ежегодник за 1971 год. М., 1972. С. 89–105; Размустова Т.О. Губернские ученые архивные комиссии и изучение памятников археологии в дореволюционной России // Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры. М., 1990. С. 89–104.
(обратно)64
Шведова О.И. Указатель «Трудов» губернских ученых архивных комиссий и отдельных их изданий // Археографический ежегодник за 1957 год. М., 1958. С. 377–433; Макарихин В.П. Губернские ученые архивные комиссии России. Н. Новгород, 1991.
(обратно)65
Самоквасов Д.Я. Проект архивной реформы и современное состояние окончательных архивов в России. М., 1902; Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М., 2003.
(обратно)66
Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986. Гл. 8. Академическая и университетская наука. С. 210–276.
(обратно)67
См. более общие рассуждения О.Б. Леонтьевой: Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала ХХ в. Самара, 2011 (она рассматривает весьма детально историческое «воображаемое» пореформенной эпохи – от представлений о старообрядчестве до образов Ивана Грозного и Петра Великого).
(обратно)68
Киселёва Л.Н. Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) //Лотмановский сборник. Вып. 2. М., 1997; Живов В.М. Сусанин и Пётр Великий. О константах и переменных в составе исторических персонажей // Новое литературное обозрение. 1999. № 38. С. 51–65; Велижев М., Лавринович М. «Сусанинский миф»: становление канона // Там же. 2003. № 63.
(обратно)69
Вандалковская М.Г. История изучения русского революционного движения середины XIX века. 1890–1917 гг. М., 1982; Критский Ю.М. Вопросы истории русской общественной мысли и революционного движения в России XVIII – начала XX века в журнале «Голос минувшего» в 1913–1923 гг. // Исторические записки. 1972. М., 1973. С. 78–106.
(обратно)70
См. также: Urban Vera. Geschichte als Argument?: Politische Kommunikation russischer Konservativer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Berlin, 2009; Urban V. «Geschichte» in der politischen Kommunikation konservativer Eliten im Zarenreich, 1860–1890 // Jenseits der Zarenmacht: Dimensionen des Politischen im Russischen Reich 1800–1917 // W. Sperling (Hg.). Frankfurt am Main, 2008. S. 100–123.
(обратно)71
Будницкий О.В. История «Народной воли» в идейной борьбе первой российской революции // Революционеры и либералы в России. М., 1990. С. 271–292; Плеханов Г.В. Предисловие к книге А. Туна «История революционного движения в России» // Тун А. История революционного движения в России. Женева, 1903. С. III–XLVII.
(обратно)72
Комиссарова Л.И., Ольховский Е.Р. У истоков марксистской исторической мысли в России. М., 1986. См. также: Пронина М.В. К вопросу создания Г.В. Плехановым книги «История русской общественной мысли» // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале XX в.: Сб. науч. тр. Вып. 9. СПб., 1998. С. 106–119.
(обратно)73
Здесь важно не упустить из виду деятельность таких радикальных организаций, как Общество распространения технических знаний (его Учебного отдела), и энергичных внеакадемических историков – издателей и редакторов, вроде В. Каллаша, Д. Рязанова и др.: Гуковский А.И. Как создавалась «Русская история с древнейших времен» М.Н. Покровского // Вопросы истории. 1968. № 8. С. 122–132; № 9. С. 130–142; Rojahn J. Aus der Frühzeit der Marx-Engels-Forschung: Rjazanovs Studien in den Jahren 1907–1917 im Licht seiner Briefwechsel im IISG // MEGA-Studien. 1996. Bd. 1. S. 3–65.
(обратно)74
См.: Чагин Г.Н. История в памяти русских крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале XX в. Пермь, 1999; Буганов А.В. Русская история в памяти крестьян XIX века и национальное самосознание. М., 1992; Буганов А.В. Личности и события истории в памяти русских крестьян XIX – начала XX века // Вопросы истории. 2005. № 12. С. 120–127.
(обратно)75
Черепнин Л.В. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968; Формозов А. Историзм русской литературы (рец. на кн.: Л.В. Черепнин. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968) // Новый мир. 1969. № 4. С. 267–271; Серман И.З. Ключевский и русская литература // Canadian-American Slavic Studies. 1986. Vol. 20. No. 3–4. P. 417–436.
(обратно)76
Серман И.З. Пушкин и русская историческая драма 1830-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Т. IV. Л., 1969. С. 118–149; Серман И.З. Ключевский и русская литература; Блок Г. Пушкин в работе над историческими источниками. М.; Л., 1949; Эйдельман Н.Я. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984; Осповат А. Исторический материал и исторические аллюзии в «Капитанской дочке»: статья первая // Тыняновский сборник. Вып. 10. Шестые-Седьмые-Восьмые Тыняновские чтения. М., 1998. С. 40–67.
(обратно)77
См. обширную статью академика Нестора Котляревского: Котляревский Н. Трилогия А.К. Толстого как национальная трагедия // Котляревский Н. Старинные портреты. СПб., 1907. С. 273–416.
(обратно)78
Юхименко Е.М. Старообрядческие источники романа Д.С. Мережковского «Пётр и Алексей» // De visu. 1994. № 3/4. С. 47–59; Берлин П. Александр I и декабристы в искажении Д. Мережковского // Новый журнал для всех. 1913. № 4. Стлб. 169–172; Садовский Б. Оклеветанные тени (О романе Д.С. Мережковского «Александр I») // Северные записки. 1913. № 1. С. 115–119; Корнилов А. Исторический роман Д. Мережковского «Александр I» // Современник. 1913. № 11. С. 184–200; Мельгунов С.П. Роман Мережковского «Александр I» // Голос минувшего. 1914. № 12. С. 39–80 (часть отзывов представлена также в недавнем сборнике: Д.С. Мережковский: Pro et contra. СПб., 2001).
(обратно)79
Только мимоходом упомянем исследования Р. Тарускина и К. Эмерсон об истории в российском оперном искусстве (от Бородина до Чайковского и Мусоргского): Taruskin R. The Present in the Past: Russian Opera and Russian Historiography, ca. 1870 // Taruskin R. Musorgsky: Eight Essays and an Epilogue. Princeton, 1993. Р. 123–200; Emerson C., Oldani R.W. Modest Musorgsky and Boris Godunov: Myths, Realities, Reconsiderations. Cambridge, 1994.
(обратно)80
Об исторической драматургии см. цикл работ самарского филолога В.А. Бочкарёва (Бочкарёв В.А. Русская историческая драматургия XVII–XVIII вв. М., 1988 и др.); Дотцауэр М.Ф. К вопросу об исторических источниках драматической трилогии А.К. Толстого // Ученые записки Саратовского гос. пед. ин-та. Вып. 12. Саратов, 1948. С. 29–52; Виролайнен М.Н. Историческая драматургия 50–70-х годов // История русской драматургии. Вторая половина XIX – начало XX века. Л., 1987. С. 309–335; Ростоцкий Б., Чушкин П. «Царь Фёдор Иоаннович» на сцене МХАТа. М.; Л., 1940.
(обратно)81
См. также: Антощенко А.В. Увековечивая в бронзе: правительственный замысел памятника «Тысячелетию России» и его воплощение // Феномен прошлого / И.М. Савельева, А.В. Полетаев (отв. ред.). М., 2005. С. 396–418.
(обратно)82
Стоит в этой связи особенно подчеркнуть растущую «субъективацию», персонализацию отечественной культурной памяти и исторического сознания интеллигенции, особенно по мере роста богатства и сложности русской литературной культуры (что не отменяло, а порой парадоксально усиливало коллективистские инспирации); см.: Гронас М. Безымянное узнаваемое, или Канон под микроскопом // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 68–88 (о выражении «память сердца»); Паперно И. Интимность и история: семейная драма Герцена в сознании русской интеллигенции (1859–1990-е годы) // Там же. 2010. № 103. С. 41–66.
(обратно)83
См.: Jahn H.F. Patriotic Culture in Russia during World War I. Ithaca; L., 1995.
(обратно)84
Особую роль в формировании новой исторической культуры сыграло и либеральное крыло историографии и публицистики начала ХХ века (Г. Джаншиев, И. Иванюков, А. Корнилов и др.), разумеется, весьма далекое от взглядов социал-демократов или М. Покровского.
(обратно)85
Corney F.C. Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution. Ithaca, 2004.
(обратно)86
См.: Чистякова Е.П., Богданов А.П. «Да будет потомкам явлено…»: Очерки о русских историках второй воловины XVII века и их трудах. М., 1988; Богданов А.П. Летописец и историк конца XVII века: Очерки исторической мысли «переходного времени». М., 1994.
(обратно)87
Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. Т. 1. Конструирование прошлого. СПб., 2003. С. 292–295; Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом, или Знают ли американцы историю. М., 2008. С. 21.
(обратно)88
Дворниченко А.Ю. О периодизации и содержании курса русской историографии // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. 2005. Вып. 4. С. 32. Выражение «более научный подход» вряд ли можно признать удачным: подход может быть либо научным, либо ненаучным.
(обратно)89
Характерный пример интерпретации истории исторической науки. Автор диссертации по истории судебной реформы начала XVIII века отмечает: «Историография поставленного вопроса ведет свое начало с середины XIX столетия – времени, когда российская историческая наука получила свои кафедры в главных университетах Российской империи. Если первая половина века оказалась периодом складывания исторической науки, когда начал формироваться общий взгляд на историю России, то его вторая половина дала возможность подойти к вопросам государственного устройства…» (Бородина Е.В. Проведение судебной реформы в 20-х гг. XVIII в. на Урале и в Западной Сибири: автореф. дис… канд. ист. наук. Челябинск, 2008. С. 9).
(обратно)90
См.: Илизаров С.С. О формировании термина «исторический источник» в русской научной литературе XVIII в. // Источниковедение отечественной истории. 1984. М., 1986. С. 201–202.
(обратно)91
См. подробнее: Каменский А.Б. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера (1705–1783) // Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России: Избранное. М., 1996. С. 374–415.
(обратно)92
Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. СПб., 1872. Т. 1. С. 210.
(обратно)93
Соловьёв С.М. Герард Фридрих Мюллер (Фёдор Иванович Миллер) // Современник. 1854. Т. 47. № 10. Р. 115–150; Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913.
(обратно)94
Оглоблин Н.Н. Герард Миллер и его отношение к первоисточникам // Библиограф. 1889. № 1. С. 1–11; Оглоблин Н.Н. К вопросу об историографе Миллере // Библиограф. 1889. № 8–9. С. 161–166.
(обратно)95
Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. С. 67.
(обратно)96
Бахрушин С.В. Г.Ф. Миллер как историк Сибири // Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. М.; Л., 1937. С. 17.
(обратно)97
См.: Национальная идея в Западной Европе в Новое время: Очерки истории / В.С. Бондарчук (отв. ред.). М., 2005.
(обратно)98
Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: Теория и история. Т. 2: Образы прошлого. СПб., 2006. С. 535.
(обратно)99
См. об этом: Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 40–41; Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004.
(обратно)100
Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России: Избранное. С. 355.
(обратно)101
Шлёцер А.Л. Общественная и частная жизнь. СПб., 1875. С. 25–26.
(обратно)102
Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 10. М.; Л. 1957. С. 148–149.; Пекарский П.П. История императорской Академии наук в Петербурге. Т. I. СПб., 1870. С. 381. Ср. с замечанием Щербатова, на взгляды которого Миллер оказал значительное влияние: «Не состоит должность историка самому повествование писателей, из которых выбирает деяния историческия, переменить. Может он учинить некоторыя размышления по случаям обстоятельств бывших дел, но никогда до самых дел для того, что они благопристойнее и сходственнее были бы с обстоятельствами, касаться не может, ибо сие было бы писать роман, а не историю» (Письмо кн. Щербатова, сочинителя Российской Истории, к одному приятелю с оправданием на некоторыя сокрытыя и явныя охуления, учиненныя его Истории от г-на генерал-майора Болтина, творца примечаний на Историю древния и нынешния России г-на Леклерка. М., 1789. С. 29–30).
(обратно)103
Мыльников А.С. Славянская тема в трудах Татищева и Ломоносова: опыт сравнительной характеристики // Ломоносов: Сборник статей и материалов. Т. IX. СПб., 1991. С. 35.
(обратно)104
Цит. по: Белковец Л.П. Россия в немецкой исторической журналистике XVIII в.: Г.Ф. Миллер и А.Ф. Бюшинг. Томск, 1988. С. 65.
(обратно)105
См.: Gombosz I. De Charlataneria eruditorum: Johann Burkhard Mencke as a forerunner of the enlightened satire // Daphnis. Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur. 1999. Vol. 28. No. 1. S. 187–200.
(обратно)106
Илизаров С.С. Герард Фридрих Миллер (1705–1783). М., 2005. С. 19–20.
(обратно)107
Митрополит Евгений Болховитинов полагал, что Миллер «наиболее обучался» именно у Готтшеда, однако это утверждение представляется сомнительным (Евгений [Болховитинов]. Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России. Составлен митрополитом Евгением. М., 1845. Т. II. С. 55).
(обратно)108
«С моей юности и до моего возвращения из поездки в Англию, Голландию и Германию я был под влиянием полигистории самое большее морховского типа: ученой истории, познаний, которые добываются в библиотеке» (Миллер Г.Ф. История Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге // Миллер Г.Ф. Избранные труды. М., 2006. С. 644).
(обратно)109
Black J.L. G.-F. Muller and the Imperial Russian Academy. Kingston; Montreal, 1986. P. 5.
(обратно)110
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 68. СПб., 1902. С. 771.
(обратно)111
Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. С. 67.
(обратно)112
См.: Миллер Г.Ф. Описание моих служб // Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. С. 145–155.
(обратно)113
См.: Миллер Г.Ф. История Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге. С. 481–647.
(обратно)114
См.: Пекарский П.П. История императорской Академии наук в Петербурге. Т. 1.
(обратно)115
Илизаров С.С. Герард Фридрих Миллер. С. 17, 22.
(обратно)116
Относительно определения данного издания как исторического журнала среди исследователей, впрочем, нет единства. См.: Мохначёва М.П. Журналистика в контексте наукотворчества в России XVIII–XIX вв. Кн. 1. М., 1998. С. 255–257.
(обратно)117
Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. 2. М.; Л., 1934. С. 198.
(обратно)118
Балыхина Т.М., Лысякова М.В., Рыбаков М.А. Курс русского языка и культура речи для учащихся вузов. URL: (дата обращения 21.11.2008 г.)
(обратно)119
См.: Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952. С. 64–72.
(обратно)120
Илизаров С.С. Герард Фридрих Миллер. С. 23.
(обратно)121
Миллер Г.Ф. Благосклонный читателю // Миллер Г.Ф. Избранные труды. С. 711–712.
(обратно)122
См.: Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. С. 72–76.
(обратно)123
См.: Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: Теория и история. Т. 1. С. 55–56. О том, что эта традиция в России XVIII века была достаточно заметной, свидетельствует использование слова «история» в названиях целого ряда изданий этого времени, как, например, «История о разорении…», «История о славном рыцаре…», «История о невинном заточении…», История о княжне…», «История, или описание жизни…», «История зверей, содержащая изображение их свойств» и т. д. (См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. М., 1962. Т. 1. С. 409–414).
(обратно)124
Байер Г.З. Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова. СПб., 1738. С. 4, 7.
(обратно)125
Миллер Г.Ф. История Сибири. С. 169.
(обратно)126
Там же. С. 164.
(обратно)127
Белковец Л.П. Россия в немецкой исторической журналистике XVIII в. С. 95.
(обратно)128
Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. С. 5–14.
(обратно)129
Словарь русского языка XVIII века. Вып. 9. СПб., 1997. С. 145.
(обратно)130
Слово «исследование», судя по всему, получило распространение в первой трети XIX века. В статье Н.В. Гоголя 1832 года читаем: «Слово “исследование” весьма идет к его стилю; его повествование именно исследовательное». Это высказывание вполне подходит для характеристики Г.Ф. Миллера, но адресовано малоизвестному швейцарскому историку Иоганну Миллеру (1752–1809) (Гоголь Н.В. Шлёцер, Миллер и Гердер // Гоголь Н.В. Собр. соч. Т. VI. М., 1986. С. 89).
(обратно)131
Татищев В.Н. История Российская. Ч. 1. М.; Л., 1962. С. 79–92.
(обратно)132
Публикация «Опыта» на русском языке была прервана в результате доноса М.В. Ломоносова, утверждавшего, что «Миллер пишет и печатает на немецком языке смутные времена Годуновы и Растригины, самую мрачную часть российской истории, из чего чужестранные народы худые будут выводить следствия о нашей славе». Подробнее см.: Каменский А.Б. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера. С. 389–391.
(обратно)133
Миллер Г.Ф. Опыт новейшия истории о России // Миллер Г.Ф. Избранные труды. С. 158–159.
(обратно)134
Там же. С. 159–163.
(обратно)135
Цит. по: Барсуков Н.П. Жизнь и труды П.М. Строева. СПб., 1878. С. 69.
(обратно)136
Евгений [Болховитинов]. Словарь русских светских писателей соотечественников и чужестранцев… Т. II. С. 67.
(обратно)137
Подробнее об этом см.: Диалог со временем: историки в меняющемся мире / Л.П. Репина (ред.). М., 1996; Репина Л.П. От «истории одной жизни» к «персональной истории» // История через личность: историческая биография сегодня / Л.П. Репина (ред.). М., 2005. С. 55–74. В этой связи будет уместно также напомнить: «Глубокое непонимание существа истории кроется за убеждением, что развитие историографии представляет собой своего рода интегральный процесс, в котором что-то раз и навсегда устанавливается и последующие историки возводят новые этажи на уже построенных» (Карсавин Л.П. Философия истории. Пг.; М., 1922. С. 254).
(обратно)138
Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 82.
(обратно)139
Его первая лекция состоялась 17 сентября 1839 года.
(обратно)140
Грановский Т.Н. Сочинения: в 2 т. 3-е изд. М., 1892. Т. 2. С. 211.
(обратно)141
Лекции Т.Н. Грановского по истории Средневековья были изданы посмертно по записям слушателей лишь в 1961 году. См.: Лекции Т.Н. Грановского по истории Средневековья (Авторский конспект и записи слушателей) / Предисловие, подготовка текста и примечания С.А. Асиновской. М., 1961; Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья / С.А. Асиновская (сост.). М., 1987 (Серия «Памятники исторической мысли»).
(обратно)142
См.: Грановский Т.Н. Учебник всеобщей истории. Введение // Грановский Т.Н. Сочинения. 3-е изд. Т. 2. С. 452–464.
(обратно)143
В 1837 году Грановский писал (в письме к одному из университетских друзей) о том, что существуют вопросы, на которые ни один человек не в состоянии дать ответ, и Гегель также не решает подобные проблемы, но все то, что ныне доступно человеческому пониманию, и само это знание он прекрасно объясняет (Григорьев В.В. Т.Н. Грановский до его профессорства в Москве // Русская беседа. 1856. Кн. 4. С. 12).
(обратно)144
Виноградов П.Г. Т.Н. Грановский (Публичная лекция, читанная 11 февраля 1893 года в пользу комитета грамотности) // Русская мысль. 1893. Кн. 4. С. 65. Действительно, признавая эти основные принципы всеобщей истории, Грановский «не мог не быть западником» (там же).
(обратно)145
Там же. С. 52.
(обратно)146
Грановский Т.Н. О современном состоянии и значении всеобщей истории // Сочинения. 3-е изд. Т. 1. С. 9.
(обратно)147
Ranke L. [von]. The Role of the Particular and the General in the Study of Universal History (A Manuscript of the 1860s) // The Theory and Practice of History: Leopold von Ranke / G.G. Iggers, K. von Moltke (eds.). Indianapolis; N. Y., 1973. P. 58.
(обратно)148
Примечательно, что этот пассаж из неопубликованной рукописи Ранке почти в тех же выражениях повторяет Эдуард Мейер в своей известной работе «Теоретические и методологические вопросы истории»: «…Считать единицей историю нации и из ее судеб выводить нормы исторической эволюции – совершенно ошибочно. Никакой замкнутой в себе национальной истории вообще нет: все народы, вступившие между собою в продолжительное политическое и культурное единение, представляют для истории единство, до тех пор, пока связь их не нарушится ходом исторической эволюции, и, в конце концов, истории отдельных народов, государств, наций являются лишь частями единой, всеобщей истории; хотя их и можно рассматривать отдельно, но никогда нельзя изучать совершенно изолированно, без связи с целым. Основой и высшей целью исторического исследования и всякой, даже направленной на частности, исторической работы – может быть только всеобщая история» (Мейер Э. Теоретические и методологические вопросы истории. Философско-исторические исследования. 2-е изд., испр. М., 1911. С. 46).
(обратно)149
Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1961. С. 47.
(обратно)150
Именно потребностью в сравнительной точке зрения, которая «может быть приобретена лишь основательным знакомством, кроме истории отечественной, с прочими частями всеобщей истории человечества», определял П.Н. Кудрявцев «известную степень зрелости сознания» (см.: Кудрявцев П. Известие о литературных трудах Грановского // Грановский Т.Н. Сочинения. 3-е изд. Т. 1. С. VI–VII).
(обратно)151
Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1987. С. 239.
(обратно)152
Там же. С. 240–241.
(обратно)153
Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1961. С. 47.
(обратно)154
Грановский Т.Н. Сочинения. 4-е изд. М., 1900. С. 29.
(обратно)155
Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1987. С. 300–302.
(обратно)156
Там же. С. 307–309.
(обратно)157
«Что касается человеческой истории, то она бывает общей и частной… Общая история описывает деяния сообществ многих людей, или народов, или целых государств» (Боден Ж. Метод легкого познания истории. М., 2000. С. 22).
(обратно)158
Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. М., 2002. Т. 2. С. 162.
(обратно)159
Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1987. С. 239–240.
(обратно)160
Развернутый анализ шлёцеровских Universalhistorie (1772) и Weltgeschichte (1785) см.: Zbinden J. Heterogeneity, Irony, Ambivalence. The Idea of Progress in the Universal Histories and the Histories of Mankind in the German Enlightenment // Rivista internazionale di storia della storiografia. 1996. No. 29. P. 28–33. Возможно, именно отход Шлёцера от идеи универсальной истории в его Weltgeschichte, наряду с его подверженностью влиянию «материальной философии» (Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1987. С. 309), вызвал скептическое отношение Грановского.
(обратно)161
Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1987. С. 311–312.
(обратно)162
Там же. С. 313.
(обратно)163
Там же. С. 314.
(обратно)164
Там же. «У истории две стороны, – утверждал Грановский, – одной является нам свободное творчество духа человеческого, в другой – независимые от него данные природою условия его деятельности» (Грановский Т.Н. Сочинения. 3-е изд. Т. 1. С. 22).
(обратно)165
Грановский привлек внимание к тому факту, что в своем развитии в течение многих тысячелетий, «род человеческий» приобрел «массу истин» и «человек в каждом веке побеждает и разрушает какой-нибудь предрассудок». Примечательно замечание, сделанное Грановским в письме к Н.В. Станкевичу от 4 марта 1840 года по поводу прочитанной им в тот день лекции о Григории VII: «Доволен собою – мне особенно хотелось показать ничтожество материальной силы при всей ее наглости в борьбе с идеями» (Т.Н. Грановский и его переписка. М., 1897. С. 386).
(обратно)166
Т.Н. Грановский и его переписка. С. 313.
(обратно)167
Там же. С. 315–316.
(обратно)168
См., например: Каменский З.А. Тимофей Николаевич Грановский. М., 1988; Левандовский А.А. Время Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции. М., 1990 и др.
(обратно)169
Грановский Т.Н. Сочинения. 3-е изд. Т. 2. С. 36–37.
(обратно)170
Грановский Т.Н. Чтения Нибура о древней истории (1853–1856) // Грановский Т.Н. Сочинения. 3-е изд. Т. 2. С. 118.
(обратно)171
Станкевич А. Тимофей Николаевич Грановский. (Биографический очерк). М., 1869. С. 302.
(обратно)172
Там же. С. 303–304.
(обратно)173
Герье успел прослушать только несколько вступительных лекций Грановского, но всегда считал себя его учеником (см.: Герье В.И. Тимофей Николаевич Грановский: В память столетнего юбилея его рождения. М., 1914). Свою фундаментальную монографию о Лейбнице он предварил посвящением «Памяти Тимофея Николаевича Грановского», в котором счел необходимым этот шаг «оправдать», пояснив: «Я пользовался слишком короткое время преподаванием Грановского, чтобы иметь право причислять себя к его ученикам. Но такие люди, как Грановский, приобретают учеников не одним только преподаванием… Влияние людей, служивших всю жизнь идее, не прекращается с их смертью. Деятельность их становится преданием, память о них – нравственной силой…» (Герье В.И. Лейбниц и его век. М., 1868. С. I).
(обратно)174
В интерпретации В.И. Герье, историческая жизнь человечества «проявляется одновременно в нескольких областях: в культуре, к которой относятся наука и искусство, в политических учреждениях и в религиозных верованиях» (Герье В.И. Лекции по новой истории (Реформация), читанные в 1894–95 акад. году. М., 1894–1895. С. 3).
(обратно)175
Герье В.И. Сергей Михайлович Соловьёв. СПб., 1880. С. 25–26.
(обратно)176
Герье В.И. Философия истории от Августина до Гегеля. М., 1915. С. I.
(обратно)177
Герье В.И. О. Конт и его значение в исторической науке // Вопросы философии и психологии. 1898. Кн. III (43). С. 460.
(обратно)178
«…Субъективный элемент будет всегда играть в ней [истории] важную роль, и при том не только тот, который вносится личностью историка, но тот, который обуславливается уровнем образования, нравственным состоянием, складом ума целой эпохи (курсив мой. – Л.Р.)» (Герье В.И. Очерк развития исторической науки // Русский вестник. 1865. № 10. С. 451).
(обратно)179
Герье В.И. Философия истории от Августина до Гегеля. С. II.
(обратно)180
Там же.
(обратно)181
Цит. по: Герье В.И. Тимофей Николаевич Грановский… С. 72–73. Грановский продолжал: «Она [всеобщая история] показывает различие, существующее между вечными, безусловными началами нравственности и ограниченным пониманием этих начал в данный период времени…» (Грановский Т.Н. О современном состоянии и значении всеобщей истории. С. 26).
(обратно)182
Герье В.И. Сергей Михайлович Соловьёв. СПб., 1880. С. 12–14.
(обратно)183
Грановский Т.Н. Сочинения. 3-е изд. Т. 2. С. 267–268.
(обратно)184
Чичерин Б.Н. Несколько слов о философско-исторических воззрениях Грановского // Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 1 (36). С. 1.
(обратно)185
Кудрявцев П. Известие о литературных трудах Грановского. С. XVI.
(обратно)186
См., в частности: Гутнова Е.В. Историография истории Средних веков. М., 1985. С. 271.
(обратно)187
См., например: Кареев Н.И. Из лекций по общей теории истории. Ч. II. Историология. Теория исторического процесса. СПб., 1915. С. 266.
(обратно)188
Виноградов П.Г. Т.Н. Грановский (Публичная лекция…). С. 52–58.
(обратно)189
Там же. С. 56.
(обратно)190
Кареев Н. Историческое миросозерцание Грановского. Речь на торжественном акте Императорского С.-Петербургского Университета 8 февраля 1896 г. СПб., 1896. С. 2, 4.
(обратно)191
Там же. С. 67–69.
(обратно)192
Там же. С. 24.
(обратно)193
Виноградов П.Г. Т.Н. Грановский (Публичная лекция…). С. 56.
(обратно)194
Кареев Н. Основные вопросы философии истории. М., 1883. Т. I. С. 285.
(обратно)195
Кареев Н. Философия культурной и социальной истории нового времени (1300–1800). Введение в историю XIX века. (Основные понятия, главнейшие обобщения и наиболее существенные итоги истории XIV–XVIII веков. 2-е изд. СПб., 1902. С. IX–XI.
(обратно)196
Кареев Н.И. Общий ход всемирной истории. СПб., 1903. С. 5–7.
(обратно)197
См.: Osterhammel J. Geschichtswissenschaft Jenseits des Nationalstaats: Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Göttingen, 2001. См. также: Muhlack U. Universal History and National History. Eighteenth– and Nineteenth-Century German Historians and the Scholarly Community // British and German Historiography, 1750–1950: Traditions, Perceptions, and Transfers / B. Stuchtey, P. Wende (eds.). Oxford, 2000. P. 25–48.
(обратно)198
Студеникин М.Г. Методика преподавания истории в школе. М., 2000. С. 21.
(обратно)199
Бухараев В. Что такое наш учебник истории. Идеология и назидание в языке и об разе учебных текстов // Историки читают учебники истории. Традиционные и новые концепции учебной литературы / К. Аймермахер, Г. Бордюгов (ред.). М., 2002. С. 15.
(обратно)200
Донской Г.М. «Целый мир уложить на странице…»: Учебник истории – от замысла до издания и дальше. Книга для учителя. М., 1992. С. 12.
(обратно)201
Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история: в 2 т. Т. 1: Конструирование прошлого. СПб., 2003. С. 414.
(обратно)202
Гуревич А.Я. Социальная история и историческая наука // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 144.
(обратно)203
Цит. по: Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики М., 1982. С. 183.
(обратно)204
Каптерев П.Ф. История русской педагогики. Пг., 1915. С. XII.
(обратно)205
Там же. С. 374–375.
(обратно)206
Цит. по: Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в России (X – начало XX в.). М., 1998. С. 246.
(обратно)207
Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения (1802–1902). СПб., 1902. С. 10.
(обратно)208
Чесноков В.И. Правительственная политика и историческая наука России 60–70-х годов XIX века: Исследовательские очерки. Воронеж, 1989. С. 37.
(обратно)209
Каптерев П.Ф. История русской педагогики. С. 376.
(обратно)210
Каптерев П.Ф. Новая русская педагогия, ее главнейшие идеи, направления и деятели. 2-е изд. СПб., 1914. С. 7.
(обратно)211
Бущик Л.П. Очерк развития школьного исторического образования в СССР. М., 1961. С. 11.
(обратно)212
Кулжинский Я.С. Опыт методики систематического курса истории. 2-е изд. СПб., 1914. С. 98.
(обратно)213
Кругликов-Гречаный Л.П. Методика истории. Киев, 1911. С. 49.
(обратно)214
Стасюлевич М.М. История Средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых: в 3 т. Т. 1. СПб., 1863. С. XX.
(обратно)215
Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. М., 1982. С. 197.
(обратно)216
Например: Стасюлевич М.М. История Средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых: в 3 т. Т. 1–3. СПб., 1863–1865.
(обратно)217
Смарагдов С.Н. Краткое начертание всеобщей истории. СПб., 1845; Кайданов И.К. Учебная книга всеобщей истории (для юношества). СПб., 1843.
(обратно)218
Бущик Л.П. Очерк развития школьного исторического образования в СССР. С. 10. См. также учебные книги по русской истории: Кайданов И.К. Краткая русская история. Царское село, 1834; Устрялов Н.Г. Начертание русской истории для учебных заведений. 10-е изд. СПб., 1857.
(обратно)219
Кайданов И.К. Учебная книга всеобщей истории (для юношества). СПб., 1843.
(обратно)220
Там же. С. 86.
(обратно)221
Там же. С. 217–226.
(обратно)222
Цит. по: Глинский Б.Б. Недуги среднего образования // Исторический вестник. 1898. Сентябрь. С. 1017.
(обратно)223
Кареев Н.И. Заметки о преподавании истории в средней школе. СПб., 1900. С. 38.
(обратно)224
Кайданов И.К. Учебная книга всеобщей истории… С. 101.
(обратно)225
Там же. С. 51.
(обратно)226
Там же. С. 127.
(обратно)227
Там же. С. 159.
(обратно)228
Там же. С. 202.
(обратно)229
Там же. С. 190.
(обратно)230
Там же. С. 215.
(обратно)231
См., например, среди многих подобных переизданий: Учебная книга всеобщей истории, сочиненная И.М. Шрекком в пользу и наставление юношеству: пер. с нем. Е. Константинова. Ч. 1–3. СПб., 1819.
(обратно)232
Наши исторические пособия для преподавателей и учеников // Журнал министерства народного просвещения. 1862. Ч. 113. Февраль – март. С. 65.
(обратно)233
Там же. С. 67.
(обратно)234
Кайданов И.К. Учебная книга всеобщей истории… С. 21–23.
(обратно)235
Там же. С. 31–40.
(обратно)236
Там же. С. 23.
(обратно)237
Там же. С. 82.
(обратно)238
Смарагдов С.Н. Руководство к познанию средней истории для женских учебных заведений. СПб., 1849.
(обратно)239
Наши исторические пособия для преподавателей и учеников. С. 67.
(обратно)240
Смарагдов С.Н. Руководство к познанию средней истории… С. 2.
(обратно)241
Там же. С. 3.
(обратно)242
Там же. С. 32.
(обратно)243
Там же. С. 88.
(обратно)244
Там же. С. 150–151.
(обратно)245
Там же. С. 39.
(обратно)246
Там же. С. 135–136.
(обратно)247
Там же. С. I–XI.
(обратно)248
Там же. С. 43–45.
(обратно)249
Там же. С. 60–61.
(обратно)250
Там же. С. 129–130.
(обратно)251
Там же. С. 206–225.
(обратно)252
Там же. С. 206–225.
(обратно)253
Там же. С. 219.
(обратно)254
Там же. С. 221–222.
(обратно)255
Там же. С. 223.
(обратно)256
Белинский В.Г. [Рец.:] Руководство к познанию средней истории. Соч. С. Смарагдова // Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. С. 126.
(обратно)257
Наши исторические пособия для преподавателей и учеников. С. 68.
(обратно)258
Лоренц Ф. Руководство к всеобщей истории: в 3 ч. Ч. 1–3. СПб., 1843–1845.
(обратно)259
[А.Л.] [Рец.:] Руководство к всеобщей истории, сочинение Фр. Лоренца. Три части. СПб., 1843–1845. В 8 д.л. // Журнал министерства народного просвещения. 1846. Ч. 52. Отд. VI. Новые книги, изданные в России. С. 141
(обратно)260
Там же. С. 131–132.
(обратно)261
Там же. С. 133–134.
(обратно)262
Там же. С. 136–138.
(обратно)263
Наши исторические пособия для преподавателей и учеников. С. 68–69.
(обратно)264
Яркий пример являют оценки учебников С.Н. Смарагдова. Уже в начале 1860-х годов рецензент писал, что пособия этого автора, «не отличаясь легкостью и живостию», часто грешат «риторическою напыщенностью и громкими эпитетами без значения», да и в целом «встречаются целые статьи, написанные каким-то отвлеченным, для учащихся недоступным языком» (Там же. С. 68). А ведь еще десятилетием ранее стиль изложения в учебнике Смарагдова, напротив, удостаивался сугубо положительных отзывов.
(обратно)265
Пантелеев Л.Ф. Из воспоминаний о гимназии 50-х годов // Русское богатство. 1901. № 6. С. 123.
(обратно)266
Примером этого служит выбор руководством книг, раздаваемых в награду лучшим ученикам при переходе из одного класса в другой, о котором, в частности, вспоминает В.Г. Авсеенко: «Мне дали какой-то “Детский театр”, состоящий из малограмотных переводных комедий, в другой раз “Очерк похода Наполеона I против Пруссии в 1806 году”, а в третий один том словаря Рейфа» (Авсеенко В.Г. Школьные годы: Отрывки из воспоминаний (1852–1863) // Исторический вестник. 1881. Т. I V. С. 709).
(обратно)267
Интересно изучить реплики отдельных мемуаристов, писавших воспоминания на рубеже XIX–XX столетий, например, Л.Ф. Пантелеева, насчет такой политики: «…В первые годы моего учения чтение не поощрялось, но почему? По несколько узкому соображению, что оно отвлекает от приготовления уроков» (Пантелеев Л.Ф. Из воспоминаний о гимназии 50-х годов. С. 129). Здесь очевидно, как критические оценки несколько «сглаживаются» временем, а автор стремится уже понять и объяснить логику действий руководства школ.
(обратно)268
Пантелеев Л.Ф. Из воспоминаний о гимназии 50-х годов. С. 122–123.
(обратно)269
Авсеенко В.Г. Школьные годы. С. 708.
(обратно)270
Златовратский Н. Детские и школьные годы (Очерки былого) // Вестник воспитания. 1908. № 1. С. 1–40. № 2. С. 75–76.
(обратно)271
[Б.а.] Первая Московская гимназия в 50-х годах (Отрывок из воспоминаний) // Русская старина. 1904. Т. 119. № 7. С. 193.
(обратно)272
Авторизованный и дополненный перевод с украинского языка выполнен по изданию: Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3 т. / В.А. Смолій (відп. ред.). Т. 1. Українські проекти в Російській імперії. Киïв, 2004. С. 331–345.
(обратно)273
Погодин М.П. Записка о древнем языке русском М.П. Погодина (Письмо к И.И. Срезневскому) // Известия Отделения русского языка и словесности. Т. V. Вып. 2. СПб., 1856. С. 70–92 (То же под назв.: «О древнем языке русском» // Москвитянин. 1856. Т. I. № 1. С. 113–139; То же под назв.: О древнем русском языке // Исторические чтения о языке и словесности. 1856 и 1857. СПб., 1857. С. 1–40); Максимович М.А. Филологические письма к М.П. Погодину // Русская беседа. 1856. Т. III. Кн. 3. Отд. II. С. 78–139; Погодин М. Ответ на филологические письма М.А. Максимовича // Москвитянин. 1856. Т. I V. № 13–16. С. 26–43 (То же в: Русская беседа. 1856. Т. III. Кн. 3. Отд. II. С. 78–139); Максимович М.А. Ответные письма М.П. Погодину // Русская беседа. 1857. Т. II. Кн. 6. Отд. V. С. 80–104; Погодин М. Ответ на два последние письма М.А. Максимовича // Москвитянин. 1856. Т. IV. № 13–16. С. 339–350 (То же в: Русская беседа. 1857. Т. III. Кн. 7. Отд. V. С. 97–107); Максимович М.А. Критические замечания, относящиеся к истории Малороссии. I. О мнимом запустении Украины в нашествие Батыево и населении ее новопришлым народом (Письмо к М.П. Погодину) // Русская беседа. 1857. Т. I V. Ч. I. Кн. 8. Отд. III. С. 22–35. Максимович вернулся к возражениям московскому историку также в связи с выступлениями П. Лавровского: Максимович М.А. Новые письма к М.П. Погодину. О старобытности малороссийского наречия // День. 1863. № 8, 10, 15, 16.
(обратно)274
Уже тогда эта полемика обратила на себя внимание прессы и академических кругов: 1) Сын Отечества. 1856. № 15. С. 56–62; 2) [Давыдов И.И.] Записка председательствующего о занятиях Второго отделения Академии в истекшем 1856 г. // Известия Отделения русского языка и словесности. Т. VI. Вып. 1. СПб., 1857. С. 1–18; 3) Н.Н. Спор между М.П. Погодиным и М.А. Максимовичем о древнем русском языке // Санкт-Петербургские ведомости. 1857. № 204; 4) Отечественные записки. 1859. Т. CXXVI. Сентябрь. С. 23. Особенно стоит отметить соображения двух весьма авторитетных в будущем славистов: Александра Александровича Котляревского (1837–1881), сторонника идей Максимовича, и Петра Алексеевича Лавровского (1827–1886), который поддержал Погодина: Лавровский П. Ответ на письма г. Максимовича к г. Погодину о наречии малорусском // Основа. 1861. Август. С. 14–40; Котляревский А. Наука о русской старине и народности за истекший год // Московские ведомости. 1862. № 103; Котляревский А. Были ли малоруссы исконными обитателями Полянской земли или пришли из-за Карпат в XIV в.? // Основа. 1862. Октябрь. С. 1–12 (разд. паг.); Котляревский А. Об изучении древней русской письменности // Филологические записки. 1879. Вып. IV–VI; 1880. Вып. VI. С. 1–211 (отд. паг.). Котляревский был также редактором собрания сочинений Максимовича, где были републикованы его письма Погодину: Максимович М. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1–3. Киев, 1876–1880.
(обратно)275
Далее в тексте этнонимы «Украина». «украинский» и «украинец» применительно к середине XIX века (и даже к более ранним временам) мы станем употреблять как тождественные «Малороссии», «малороссийскому» и т. д., допуская некоторое нарушение историко-гео графической точности и сознательный терминологический анахронизм. Ведь общепринятыми представления об Украине, ее границах и составе (применительно к Галиции, Буковине и Слобожанщине с Новороссией) становятся только с первых десятилетий ХХ века. Характерно в этом смысле название главного исторического труда М. Грушевского «История Украины-Руси», первый том которого вышел в 1898 году во Львове. См.: Каппелер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи // Россия – Украина: история взаимоотношений / А. Миллер (ред.). М., 1997. С. 125–144; Котенко А.Л., Мартынюк О.В., Миллер А.И. «Малоросс»: эволюция понятия до Первой мировой войны // Новое литературное обозрение. 2011. № 108. С. 9–27.
(обратно)276
Эти идеи Погодина позднее оспаривали его авторитетные современники: Соловьёв С.М. История Российская с древнейших времен. М., 1960. Кн. 2, 3, 4. С. 189; Бестужев-Рюмин В.Н. Русская история. СПб., 1872. Т. 1. С. 278. Более обстоятельно этот сюжет изложен в 4-м и 15-м томе обширной биографии Погодина: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. XV. СПб., 1901. С. 366–392. См. российские работы о Погодине последних десятилетий: Терещенко В.К. Общественно-политические позиции М.П. Погодина в сере дине 50-х годов ХIХ века // Проблемы истории СССР. 1974. Вып. IV. С. 243–270; Умбрашко К.Б. М.П. Погодин: Человек. Историк. Публицист. М., 1999; Павленко Н.И. Михаил Погодин. М., 2003; Тесля А.А. Предыстория издания журнала «Русская беседа» (1855–1856 гг). URL: %20of%20rusian%20beseda.pdf (дата отображения: 23.09.2011 г.). – Примеч. ред.
(обратно)277
См. очень разные по уровню и качеству изложения недавние работы: Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи Відродження (друга половина ХVІІІ—ХІХ ст.). Харків, 1996; Колесник І.І. Українська історіографія (ХVІІІ – початок ХХ ст.). Киïв, 2000; Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс лекцій. Киïв, 2004.
(обратно)278
Первая публикация: Грушевський М.С. Звичайна схема «руської» історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства // Статьи по славяноведению / В.И. Ламанский (ред.). СПб., 1904. С. 298–304.
(обратно)279
См., однако, краткие, но содержательные замечания Алексея Миллера: Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХIХ в.). СПб., 2000.
(обратно)280
Она была опубликована одновременно и в академических «Известиях», и в славянофильском журнале. См. примеч. 1 к настоящей статье.
(обратно)281
См. подробнее: Толочко О.П. Російське «відкриття України» // Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т. 1. С. 266–310.
(обратно)282
См.: Погодин М.П. Записка… // Московитянин. 1856. № 1. С. 125–126.
(обратно)283
Там же. С. 128.
(обратно)284
Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Т. XV. С. 366–371.
(обратно)285
Такой обзор Грушевский сделал специальным приложением к первому тому «Истории Украины-Руси», см.: Грушевський М.С. Історія України-Русі. Т. 1. Киïв, 1913. С. 551–556. При этом сюжету «запустения» Приднепровья историк уделил много места еще в своем «медальном сочинении», так что можно рассматривать его взгляды как продолжение идей его учителя В.Б. Антоновича (см.: Грушевский М.С. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца ХIV столетия. Киев, 1891. С. 427–443).
(обратно)286
Как становится ясным из циркуляра, разосланного тогда самим С.С. Уваровым (см.: Saunders D. The Ukrainian Impact on Russian Culture. 1750–1850. Edmonton, 1985. Р. 233–234. См., впрочем, противоположную интерпретацию официальной позиции: Миллер А.И. «Украинский вопрос»… С. 56–58).
(обратно)287
Иван Михайлович Снегирёв и дневник его воспоминаний. СПб., 1871. С. 112. Одна из первых инициатив Уварова на посту министра народного просвещения состояла в организации при Дерптском университете ежемесячного издания «Dorpater Jahbücher für Literatur, Statistik und Kunst besonders Russlands». Предшественник Уварова князь Ливен, который, возможно, также мог испытывать проблемы с русским языком, так закончил свою речь перед профессорами Московского университета в 1828 году: «Я русский и вы русские!»
(обратно)288
Переписка государственного канцлера графа Н.П. Румянцева с московскими учеными, с предисл., примеч. и указат. Е.В. Барсова // Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских. 1882. Кн. 1. С. II.
(обратно)289
Цит. по: Миллер А.И. «Украинский вопрос»… С. 64. Разъяснения Муханова были вызваны сомнениями цензора В. Бекетова по поводу «Хмельниччины» Пантелеймона Кулиша. Бекетов обратился в Главное управление по делам печати с вопросом: «Может ли вообще быть допущена история Малороссии, в чем как бы высказывается самостоятельность этого края?» и получил приведенный выше ответ.
(обратно)290
Из дневника, веденного Ю.Ф. Самариным в Киеве, в 1850 году // Русский Архив. 1877. № 6. C. 232.
(обратно)291
См.: Погодин М.П. Ответ П.В. Киреевскому // Москвитянин. 1845. № 3. С. 57. Отд. Науки. [В этом же номере помещен его отклик на статью Максимовича: Максимович М.А. О народной исторической поэзии в древней Руси: (Письмо к М.П. Погодину).]
(обратно)292
См. детальнее: Tolochko O. Fellows and Travelers: Thinking about Ukrainian History in the Early Nineteenth Century // A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent Ukrainian Historiography / G. Kasianov, Ph. Ther (eds.). Budapest; N. Y., 2008. Р. 149–168.
(обратно)293
Максимович М.А. Филологические письма к М.П. Погодину. С. 84–85.
(обратно)294
Там же. С. 85.
(обратно)295
Максимович М.А. Критические замечания, относящиеся к истории Малороссии… // Русская беседа. 1857. Кн. 8. С. 27.
(обратно)296
На это с языковедческой стороны указывал позднее такой признанный знаток предмета, как Ватрослав Ягич. См.: Ягич И.В. История славянской филологии. СПб., 1910. С. 492. – Примеч. ред.
(обратно)297
Максимович М.А. Об участии и значении Киева в общей жизни России. Речь в торжественном собрании Императорского университета св. Владимира, бывшем по случаю раздачи медалей студентам… 2 октября 1837 г., произнесенная профессором русской словесности Михаилом Максимовичем. Киев, 1837. С. 1.
(обратно)298
После восстания 1830–1831 годов правительство начинает предпринимать энергичные меры (в частности, ликвидируя польскую систему образования и заменяя ее сетью российских учреждений), направленные на подрыв польского самосознания этого края. Однако, как указывает Даниэль Бовуа, успех этих решительных и внешне эффективных мер в 1840-е годы был еще довольно сомнительным и лишь частично способствовал интеграции поляков в российское общество (см.: Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляха и народ на Правобережной Украине (1793–1914). М., 2011. С. 471–489). Все это на Правобережной Украине касалось отношений между поляками и русской администрацией. Украинцы в этой картине никак не фигурируют.
(обратно)299
Миллер А.И. «Украинский вопрос»… С. 71.
(обратно)300
Костомаров Н. Начало Руси // Современник. 1860. Т. LXXIX. № 1. С. 5–32; Костомаров Н. Две русские народности // Основа. 1861. № 3. С. 33–80; Костомаров Н. Правда москвичам о Руси // Там же. 1861. № 10. С. 1–15; 1862. № 1. С. 58–62 и др.
(обратно)301
Миллер А.И. «Украинский вопрос»… С. 117.
(обратно)302
Довольно запоздалым было выступление против Соболевского на страницах «Киевской старины» в 1898–1899 годах востоковеда и весьма пылкого украинского патриота Агатангела Крымского (он продолжил полемику и в ряде своих работ начала XX в.): Крымский А. Филология и погодинская гипотеза. Дает ли филология малейшие основания поддерживать гипотезу г. Погодина и г. Соболевского о галицко-волынском происхождении малорусов. Киев, 1904 (отд. оттиск). – Примеч. ред.
(обратно)303
Соболевский А.И. Как говорили в Киеве в XIV и XV вв. // Чтения в Историческом Обществе Нестора-Летописца. Киев, 1888. Кн. 2. С. 215 и далее (см. также его книгу: Соболевский А.И. Очерки по истории русского языка. Киев, 1884).
(обратно)304
Антонович В.Б. Киев, его судьба и значение с XIV по XVI ст. (1362–1569) // Киевская старина. 1882. Т. 1. С. 48; а также см.: Антонович В.Б. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России. Киев, 1885.
(обратно)305
Толочко О.П. Двi не зовсiм академiчнi дискусiї (I.A. Лiнниченко, Д.I. Багалiй, М.С. Грушевський) // Український археографічний щорічник: нова серія. Київ, 1993. Вип. 2. С. 92–103.
(обратно)306
Это были монографии Николая Дашкевича (1852–1908) «Болоховская земля и ее значение в русской истории» (1876), Никандра Молчановского (1852–1906) «Очерк известий о Подольской земле до 1434 года» (1885); близкие по темам работы Александра Андрияшева (1863–1939) «Очерк истории Волыни до конца ХV столетия» (1887) и Петра Иванова «Исторические судьбы Волынской земли до конца ХV столетия» (1895), исследование Петра Голубовского (1857–1907) «История Северской земли до половины ХІV ст.» (1881); уже упомянутая книга Михаила Грушевского «Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца ХІV столетия» (1891), труды оппонентов Грушевского – Дмитрия Багалея (1857–1932) «История Северской земли до половины XIV столетия» (1882) и Ивана Линниченко (1857–1926) «Черты из истории сословий Юго-Западной (Галичской) Руси ХІV – ХV ст.» (1894), Владимира Ляскоронского (1859–1928) «История Переяславской земли с древнейших времен до конца ХІІІ ст.» (1897, 1903) и др.
(обратно)307
Текст печатается по изданию: Российские университеты в XIX – начале XX века: Сб. науч. ст. Вып. 2. Воронеж, 1996. С. 3–29, с незначительными сокращениями.
(обратно)308
Милюков П.Н. Университеты в России // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. 68. СПб., 1902. С. 789.
(обратно)309
Первый устав Дерптского университета был утвержден и 1803 году (см.: Сборник постановлений по министерству народного просвещения. СПб., 1875. Т. 2. Стб. 139). Впоследствии «особые» уставы этого учебного заведения принимались в 1820 и 1865 годах.
(обратно)310
См.: Устав императорских российских университетов. СПб., 1805; Общий устав императорских российских университетов // Журнал министерства народного просвещения [далее ЖМНП]. 1835. № 8. С. LI–XCVII; Общий устав императорских российских университетов // Там же. 1863. № 8. С. 23–76; Общий устав императорских российских университетов // Там же. 1884. № 10. С. 23–74.
(обратно)311
См.: Устав императорских российских университетов. Проект, выработанный совещанием профессоров под председательством министра народного просвещения графа И.И. Толстого в 1906 г. СПб., 1906; Проект устава императорских российских университетов П.М. Кауфмана. СПБ., 1909; Устав императорских российских университетов. [СПб., 1915.]
(обратно)312
Из новейших публикаций эта концепция прозвучала в сборнике «Киевский университет. 1834–1984» (Киев, 1984), отличающемся тенденциозной подборкой документов и материалов.
(обратно)313
См.: Ферлюдин П. Исторический обзор мер по высшему образованию в России. Вып. 1. Академия наук и университеты. Саратов, 1894. С. 108. Собранные К.Д. Кавелиным сведения были опубликованы (см.: Кавелин К. Очерк французского университета // ЖМНП. 1862. № 6, 7, 11; Кавелин К. Свобода преподавания и учения в Германии // Там же. 1863. № 3, 4; Кавелин К. Устройство и управление немецких университетов // Русский вестник. 1865. № 2, 3, 4 (собраны в кн.: Кавелин К. Наука и университеты на Западе и у нас // Кавелин К.Д. Собр. соч. СПб., 1904. Т. 3. С. 5–240).
(обратно)314
Первым погрешил таким приемом П.Н. Милюков, утверждавший, что российские университеты по уставу 1863 года управлялись по немецким образцам, а учебное дело в них было устроено на французский манер (см.: Милюков П.И. Очерки по истории русской культуры. М., 1994. Т. 2. Ч. 2. С. 306).
(обратно)315
Недостатком внимания к академическим аспектам темы страдают даже солидные исследования последних десятилетий Р.Г. Эймонтовой (Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. М., 1985; Русские университеты на путях реформ. Шестидесятые годы XIX в. М., 1993) и Г.И. Щетининой (Университеты в России и устав 1884 года. М., 1976).
(обратно)316
См.: Сборник постановлений по министерству народного просвещения. СПб., 1876. Т. 2. Отд. 2. Стб. 343.
(обратно)317
Там же. Стб. 1133–1134.
(обратно)318
Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. С. 46.
(обратно)319
См.: История Тартуского университета. 1632–1982. Таллин, 1982. С. 79.
(обратно)320
См.: Чесноков В.И. Движение за «разделение историко-филологического факультета» и начало специализации университетского исторического образования в 50–70-х годах XIX в. // Российские университеты в XIX – начале XX века. Воронеж, 1993. С. 72.
(обратно)321
РГИА. Ф. 733. Оп. 147. Д. 21. Л. 3–4.
(обратно)322
Там же. Л. 9.
(обратно)323
См.: РГИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Д. 3951. Л. 7 и об.
(обратно)324
См.: Там же. Л. 8 об., 9.
(обратно)325
См.: Там же. Л. 1 и об.
(обратно)326
См.: Устав императорского Дерптского университета 1865 года. СПб., 1865. С. 6.
(обратно)327
Георгиевский А.И. О нынешнем устройстве наших историко-филологических факультетов. Записка 12 февраля 1889 г. [СПб., 1889]. С. 2.
(обратно)328
См.: Чесноков В.И. Движение за «разделение историко-филологического факультета»… С. 86.
(обратно)329
См.: РГИА. Ф. 733. Оп. 147. Д. 21. Л. 40–47 об.; Д. 200. Л. 92–94.
(обратно)330
См.: Общий устав императорских российских университетов [1863 г.]. С. 25–26.
(обратно)331
См. об этом: Воробьёва И.Г. Славистика в университетских уставах России XIX века // Славистика в университетах России. Тверь, 1993. С. 8; Лаптева Л.П. Преподавание славистических дисциплин в Московском университете в XIX – начале XX в. // Из истории университетского славяноведения в СССР. М., 1983. С. 34–56.
(обратно)332
См.: Общий устав императорских российских университетов [1863 г.]. С. 26.
(обратно)333
Там же [1884 г.]. С. 42, 63.
(обратно)334
Там же [1863 г.]. С. 43.
(обратно)335
См.: Труды Высочайше учрежденной комиссии по преобразованию высших учебных заведений. Вып. 3. СПб., 1903. С. 17.
(обратно)336
Общий устав императорских российских университетов [1863 г.]. С. 37.
(обратно)337
См.: Общий устав императорских российских университетов [1835 г.]. С. LIII.
(обратно)338
См.: Чесноков В.И. Правительство и развитие структуры исторических кафедр и наук в университетах России // Российские университеты в XIX – начале XX века. С. 25, 27.
(обратно)339
См.: Труды Первого археологического съезда в Москве. 1869. М., 1871. Т. 1. С. I V, ХLI; Чесноков В.И. Правительственная политика и историческая наука России 60–70-х годов XIX века. Воронеж, 1989. С. 67–69, 71–72.
(обратно)340
См.: Уваров А.С. Что должна обнимать программа для преподавания русской археологии и в каком систематическом порядке должна быть распределена эта программа // Труды Третьего археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 г. Киев, 1878. Т. I. С. 19–38; Уварова П.С. О преподавании археологии в русских университетах // Труды Одиннадцатого археологического съезда в Киеве. 1899. М., 1902. Т. 2. С. 161–163.
(обратно)341
См.: Чесноков В.И. Правительственная политика и историческая наука России… С. 67–68.
(обратно)342
См.: Лаптева Л.П. Организация преподавания истории славян в университетах России XIX – начала XX в. // Российские университеты XVIII–XX веков в системе исторической науки и исторического образования: материалы межвузовской научной конференции. Воронеж, 1994. С. 13.
(обратно)343
См.: Труды Высочайше учрежденной комиссии по преобразованию высших учебных заведений. Вып. 1. СПб., 1902. С. 85.
(обратно)344
См.: Устав императорских российских университетов. Проект… 1906 г. С. 4–5.
(обратно)345
См.: Проект устава императорских российских университетов П.М. Кауфмана. С. 54–55.
(обратно)346
См.: Проект университетского устава // Вестник Европы. 1915. № 6. С. 341–342.
(обратно)347
См.: Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1899; Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 1. М., 1904; Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. Т. 1–2. СПб., 1912–1914.
(обратно)348
Пирогов Н.И. По поводу занятий русских ученых за границей // ЖМНП. 1863. № 12. С. 115, 117; Берлинский университет // Там же. 1864. № 2. С. 53.
(обратно)349
РГИА. Ф. 733. Оп. 147. Д. 1007. Л. 2.
(обратно)350
Отчет В.И. Модестова о заграничной командировке // ЖМНП. 1863. № 8. С. 437.
(обратно)351
См.: Варадинов Н. Необходимость реформы в нашем университетском преподавании // Там же. 1870. № 7. С. 1–18; Герасимов В. Устранение чтения лекций в академической или университетской системе преподавания наук. М., 1881.
(обратно)352
См., например: Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1903 г. СПб., 1905. С. 98–100.
(обратно)353
См.: Новицкий Г.Н. Университеты // Советская историческая энциклопедия. Т. 14. Стб. 810.
(обратно)354
См.: ЖМНП. 1863. № 12. С. 183.
(обратно)355
См.: Золотарёв В.П. Семинарские занятия по новой истории стран Запада в российских университетах 60-х годов XIX в. // Вузовская историческая наука и историческое образование: итоги и перспективы развития: Материалы межвузовской научно-методической конференции. Воронеж, 1992. С. 10.
(обратно)356
Известия из Киева // ЖМНП. 1861. № 11. С. 89–91.
(обратно)357
См.: ЖМНП. 1869. № 10. С. 79.
(обратно)358
См.: Срезневский И.И. О научных упражнениях студентов. Письмо по поводу записки профессора Дройзена // ЖМНП. 1869. № 12. С. 247–265; Брикнер А. О практических упражнениях при преподавании новой русской истории // Там же. 1876. № 6. С. 17–42.
(обратно)359
См.: Брикнер А. О так называемых исторических семинариях в германских университетах // ЖМНП. 1870. № 12. С. 162.
(обратно)360
См.: ЖМНП. 1871. № 8. С. 137–138.
(обратно)361
См.: Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1903 год. С. 100.
(обратно)362
См.: РГИА. Ф. 733. Оп. 147. Д. 352. Л. 14–15. Уже в 1860-е годы на вознаграждение приват-доцентов выделялись особые суммы; в 1878 году университетам Петербургскому, Харьковскому, Казанскому и св. Владимира было разрешено «употребить» на эти цели 16 718 рублей (см.: Алфавитный сборник постановлений и распоряжений по С.-Петербургскому учебному округу за 1872–1882 гг. / С. Комаров (сост.). СПб., 1884. С. 407–408).
(обратно)363
См.: Кареев Н. Факультеты // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. 35. СПб., 1902. С. 253.
(обратно)364
См.: ЖМНП. 1892. № 5. С. 10–11.
(обратно)365
См.: Отчет о состоянии и действиях императорского С.-Петербургского университета за 1891 год. СПб., 1892. С. 13.
(обратно)366
См.: Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете императорского Московского университета в 1898–1899 году. [М., 1898]; Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете императорского Московского университета в 1899–1900 году. [М., 1899].
(обратно)367
См.: Обозрение преподавания наук на историко-филологическом факультете императорского С.-Петербургского университета в осеннем полугодии 1900 и весеннем полугодии 1901 г. СПб., 1900.
(обратно)368
Там же.
(обратно)369
См.: Обозрение преподавания в университете св. Владимира по историко-филологическому факультету в 1897/98 ак. году. Киев, 1897; Обозрение преподавания наук в императорском Казанском университете на 1898–1899 год. Казань, 1898; Обозрение преподавания предметов в императорском Варшавском университете в 1897–1898 году. Варшава, 1897.
(обратно)370
См.: Сидельников Р.А. Проблемы методологии истории в университетских курсах А.С. Лаппо-Данилевского // Российские университеты в XIX – начале XX века. С. 143–144.
(обратно)371
О внедрении в учебный процесс университетов историографических курсов см.: Алленов С.Г., Митрошина М.С., Чесноков В.И. К вопросу о преподавании историографии в университетах дореволюционной России // Проблемы истории отечественной исторической науки. Воронеж, 1981. С. 117–135.
(обратно)372
Второй формой выпускной аттестации было звание «действительный студент». Оно само по себе не открывало дорогу к ученым степеням, хотя в 1819 г. было поименовано как четвертая ученая степень (см.: Положение об испытаниях на звание действительного студента и на ученые степени // ЖМНП. 1864. № 3. С. 476).
(обратно)373
Там же. С. 490.
(обратно)374
В прусских университетах по философскому факультету в первой половине XIX в. были две ученые степени: лиценциата и доктора наук (см.: ЖМНП. 1864. № 3. С. 147).
(обратно)375
См., например: Пирогов Н.И. Взгляд на общий устав наших университетов // Циркуляр по управлению Киевского учебного округа. 1861. № 3. С. 49; Модестов В.И. Статьи для публикации по вопросам историческим, политическим, общественным, философским и проч. СПб., 1883. С. 271–272.
(обратно)376
См.: Труды Высочайше учрежденной комиссии по преобразованию высших учебных заведений. Вып. 1; Труды совещания профессоров по университетской реформе. СПб., 1906.
(обратно)377
Положение об испытаниях на звание действительного студента и на ученые степени. С. 475.
(обратно)378
См.: Журнал Главного правления училищ 29 марта 1818 г. СПб., 1819.
(обратно)379
РГИА. Ф. 733. Оп. 147. Д. 125. Л. 250, 253.
(обратно)380
См.: Положение об испытаниях на звание действительного студента и на ученые степени. С. 480.
(обратно)381
Там же. С. 481, 483–484.
(обратно)382
РГИА. Ф. 733. Оп. 147. Д. 126. Л. 56 об.; РГИА. Ф. 139. Оп. 1. Д. 6215. Л. 13 об.
(обратно)383
См.: ЖМНП. 1865. № 2. С. 166–167.
(обратно)384
РГИА. Ф. 733. Оп. 147. Д. 126. Л. 239–239об.
(обратно)385
Рождественский С.В. Исторический очерк деятельности министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902. С. 423.
(обратно)386
Подробнее о профессорских стипендиатах см.: Чесноков В.И., Чесноков И.В. К вопросу о подготовке профессоров истории в университетах России XIX – начала XX в. // История и теория исторической науки и образования: Харьковский историографический сборник. Харьков, 1995. Вып. 1. С. 73–85.
(обратно)387
Григорьев В.В. Императорский Санкт-Петербургский университет в течении первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 216.
(обратно)388
См., например: Иванова Т.Н. Владимир Иванович Герье: Портрет российского педагога и организатора образования. Чебоксары, 2009. С. 81; Кирсанова Е.С. Владимир Иванович Герье (1837–1919) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 3. Древний мир и Средние века. М., 2004. С. 318; Мягков Г.П. Научное сообщество в исторической науке: опыт «русской исторической школы». Казань, 2000. С. 208; Краснова Ю.В. Семинарии В.И. Герье как фактор формирования научной школы // Владимир Иванович Герье (1837–1919): Материалы научной конференции. М., 2007. С. 56.
(обратно)389
См. об этом подробно: Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы: шестидесятые годы XIX века. М., 1993.
(обратно)390
Всеподданнейший доклад министра народного просвещения 7 сентября 1865 года. СПб., 1865. С. 18.
(обратно)391
См. общие данные для второй половины 1860–1870-х годов: Обзор деятельности министерства народного просвещения и подведомственных ему учреждений в 1862, 63 и 64 годах. СПб., 1865. С. 80–81; Всеподданнейший доклад министра народного просвещения 7 сентября 1865 года. С. 5, 15; Обзор деятельности министерства народного просвещения за 1879, 1880 и 1881 годы (Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения). СПб., 1887. С. 4. Ср.: Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы. С. 198–199, 206–208. Если в Московском университете вновь образовавшиеся кафедры ИФФ были замещены в начале 1870-х годов, то в Казанском университете, где в 1865 году на ИФФ было 8 вакантных кафедр, кафедра теории и истории искусств так и оставалась незамещенной вплоть до начала ХХ века.
(обратно)392
См. об этом: Антощенко А.В. Das Seminar: немецкие корни и русская крона (о применении немецкого опыта «семинариев» московскими профессорами во второй половине XIX в.) // «Быть русским по духу и европейцем по образованию». Университеты российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы ХVIII – начала ХХ в. М., 2009. С. 264–265.
(обратно)393
См., например: Скуратов Д. Об организации и служебных правах нашей учебной системы // Русский вестник. 1862. № 6. С. 687.
(обратно)394
См. об этом: Антощенко А.В. Das Seminar. С. 265–268.
(обратно)395
См.: Цыганков Д.А. Профессор Московского университета В.И. Герье (1837–1919) // Новая и новейшая история. 2002. № 5. С. 223; Кореева Н.С. Заграничные командировки и их роль на пути к «нелегкому и ответственному профессорству» // История идей и воспитание историей: Владимир Иванович Герье / Л.П. Репина (ред.). М., 2008. С. 88. Мнение базируется на собственной оценке В.И. Герье, но более позднего времени, зафиксированной в воспоминаниях. Ср.: Герье В.И. Детство. Учение до получения кафедры // История и историки / И.Д. Ковальченко (отв. ред.). М., 1990. С. 427.
(обратно)396
Извлечения из отчета лиц, отправленных Министерством народного просвещения за границу для приготовления к профессорскому званию. СПб., 1863. Ч. 1. С. 424. Ср. с точной оценкой: Кирсанова Е.С. Консервативный либерал в русской историографии: жизнь и историческое мировоззрение В.И. Герье. Северск, 2003. С. 13 (прим. 21).
(обратно)397
Герье В.И. Детство. Учение до получения кафедры. С. 432.
(обратно)398
Первоначально был опубликован в «Московских университетских известиях».
(обратно)399
Отчет о состоянии и действиях императорского Московского университета в 1871/72 академическом и 1872 гражданском году. М., 1873. С. 17. Эти же меры перечислены в отчете за 1872/73 академический год (с. 17).
(обратно)400
Отчет о состоянии и действиях императорского Московского университета [далее – Отчет…] за 1876 год. М., 1877. С. 20; Отчет… за 1877 год. М., 1878. С. 19; Отчет… за 1878. М., 1879. С. 24–25. Ср.: Воробьёва И.Г. Н.А. Попов как профессор и организатор науки // Воробьёва И.Г. Славяно-россика: избранные статьи. Тверь, 2008. С. 153.
(обратно)401
Отчет… за 1880 год. М., 1881. С. 21; Отчет… за 1881 год. М., 1882. С. 21–22.
(обратно)402
Отчет… за 1882 год. М., 1883. С. 21.
(обратно)403
См. «Отчеты» и «Обозрения преподавания в историко-филологическом факультете императорского Московского университета» за 1880–1890-е годы. Начало этого процесса относится, по-видимому, к 1883 году и напоминает возрождение «репетиций», т. к. в основу изучения была положена «История России» С.М. Соловьёва. Впрочем, данный специальный вопрос требует детальной проработки. Ср.: Отчет… за 1883 год. М., 1884. С. 21; Отчет… за 1884 год. М., 1885. С. 22. Д.А. Цыганков считает такую линию развития семинариев тупиковой. См.: Цыганков Д.А. Исследовательские традиции московской и петербургской школ историков // История мысли. Русская мыслительная традиция. Вып. 3. М., 2005. С. 72.
(обратно)404
Впервые: Обозрение преподавания в историко-филологическом факультете императорского Московского университета на академический 1890/91 год. Отчет… за 1891. М., 1893. С. 23. См. воспоминания: Готье Ю.В. Университет // Московский университет в воспоминаниях современников (1755–1957). М., 1989. С. 562–563; Маклаков В.А. Отрывки из воспоминаний // Московский Университет. 1755–1930. Юбилейный сборник. Париж, 1930. С. 310–312; Маклаков В.А. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954. С. 197–205, 208–209. Ср. с воспоминаниями о других виноградовских семинариях: Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 76; Он же. Мои университетские годы // Московский Университет. 1755–1930. С. 265; Кизеветтер А.А. Из воспоминаний восьмидесятника // Голос минувшего на чужой стороне. 1926. № 3 (XVI). С. 137–138; Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия. М., 1987. С. 71–74; Пичета В.И. Воспоминания о Московском университете (1897–1901 гг.) // Московский университет в воспоминаниях современников. С. 589–590.
(обратно)405
См.: Гутнов Д.А. Об исторической школе Московского университета // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1993. № 3. С. 41–46; Гутнов Д.А. Как преподавали историю на историко-филологическом факультете Московского университета в конце XIX – начале XX в. // Там же. 1991. № 5. С. 67–69, 71.
(обратно)406
См.: Из писем П.Г. Виноградова / публ. и прим. К.А. Майковой // Средние века. М., 1962. Вып. 22. С. 268–273.
(обратно)407
Fisher H.A.L. A Memoir // The Collected Papers of Paul Vinogradoff: 2 vols. Oxford, 1928. Vol. 1. P. 33–35. Позже П.Г. Виноградов осуществлял «экспорт» семинариев в США. См.: Public Lectures Given in England and Foreign Countries // Ibid. Vol. 2. P. 498; Paul Vinogradoff ’s Letter to Seligman on April 20, 1907 // Columbia University Libraries. The Rare Book & Manuscript Library. Special Papers. Edwin Robert Anderson Seligman collection; Письмо П.Г. Виноградова к М.М. Богословскому от 5 мая 1907 г. // АРАН. Ф. 636. Оп. 4. Д. 4. Л. 13–13 об. Семинар, проведенный в Висконсинском университете, был оценен позже как «событие в интеллектуальной жизни этого университета». См.: [Рец.] The Collected Papers of Paul Vinogradoff // American Historical Review. 1929. Vol. 34. No. 4. P. 789.
(обратно)408
Vinogradoff P. Oxford and Cambridge Trough Foreign Spectacles // Collected Papers. Vol. 2. P. 284–285.
(обратно)409
Гревс И.М. Василий Григорьевич Васильевский как учитель науки. Набросок воспоминаний и материалы для характеристики. СПб., 1899. С. 25.
(обратно)410
В.С. Брачёв считает, что система семинарских занятий по истории сложилась в Петербургском университете на рубеже XIX–XX веков. См.: Брачёв В.С. «Наша петербургская школа историков» и ее судьбы. СПб., 2001. С. 103.
(обратно)411
Жебелёв С.А. Ф.Ф. Соколов (1841–1909). СПб., 1909. [Оттиск статьи из ЖМНП]. С. 47.
(обратно)412
Валк С.Н. Воспоминания ученика // Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Т. 2: Петербургский – Петроградский университет. 1895–1917. Л., 1982. С. 118–119.
(обратно)413
См.: Годичный акт в императорском Казанском университете 5 ноября [далее – Годичный акт…] 1872 года. Казань, 1872. С. 29; Годичный акт… 1873 года. С. 31–32; Годичный акт… 1875 года. С. 68; Годичный акт… 1887 года. С. 77; Годичный акт… 1892 года. С. 16; Годичный акт… 1894 года. С. 20–21 (отд. паг.) и др. См. также: Обозрение преподавания по историко-филологическому факультету императорского Казанского университета.
(обратно)414
См.: Годичный акт… 1887 года. С. 78; Годичный акт… 1888 года. С. 57; Годичный акт… 1889 года. С. 21 (отд. паг.) и др. Особо отметим семинарий в 1893/94 году по вспомогательным историческим дисциплинам: археологии, археографии, палеографии, нумизматике, сфрагистике (см.: Императорский Казанский университет: Обозрение преподавания по историко-филологическому факультету в 1893/94 учебном году. Казань, 1893. С. 8). Ср.: Мухамадеев А.И. Дмитрий Александрович Корсаков: 1843–1919. Казань, 2002; Мухамадеев А.И. Учебно-административная деятельность профессора Д.А. Корсакова на историко-филологическом факультете Казанского университета в начале ХХ столетия // История и историки в Казанском университете: к 125-летию Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете: Сб. науч. статей. Казань, 2005. С. 57–65.
(обратно)415
См. «Обозрение преподавания по историко-филологическому факультету императорского Казанского университета» за соответствующие годы. Ср.: Годичный акт… 1894 г. С. 21 (отд. паг.); Годичный акт… 1900 г. С. 18 (отд. паг.); Годичный акт… 1909 г. С. 20; Годичный акт… 1910 г. С. 25–26 и др.
(обратно)416
Собственно, эта норма закреплялась правилами о зачете полугодий.
(обратно)417
Обозрение преподавания наук на историко-филологическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета за 1912/13 учебный год. СПб., 1913. С. 31.
(обратно)418
Там же. С. 31–32.
(обратно)419
Там же. С. 32.
(обратно)420
См., например: Гревс И.М. Василий Григорьевич Васильевский как учитель науки. СПб., 1899; Кизеветтер А.А. В.О. Ключевский как преподаватель // В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 164–176; Пичета В.И. Воспоминания о Московском университете (1897–1901) // Московский университет в воспоминаниях современников (1755–1917). С. 584–591; Готье Ю.В. Университет // Там же. С. 563–569; Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 116–124; Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., 1992. С. 157–171; Кондаков Н.П. Воспоминания и думы. М., 2002. С. 70–82; Вейдле В.В. Воспоминания // Диаспора: новые материалы. Вып. 2. СПб., 2001. С. 120–122.
(обратно)421
Ср.: Милюков П.Н. Мои университетские годы. С. 264, 266–267; Маклаков В.А. Отрывки из воспоминаний. С. 296.
(обратно)422
См., например: Богословский М.М. Историография… С. 82.
(обратно)423
Кизеветтер А.А. Из воспоминаний восьмидесятника. III. Профессора // Голос минувшего на чужой стороне. 1926. № 3 (XVI). С. 133.
(обратно)424
См., например: Письмо П.Г. Виноградова к В.И. Герье от 25 марта 1883 г. // НИОР РГБ. Ф. 70 (В.И. Герье). К. 38. Д. 110. Л. 41–41 об.
(обратно)425
См.: Кизеветтер А.А. Из воспоминаний восьмидесятника. III. Профессора. С. 144, 146–147; Милюков П.Н. Мои университетские годы. С. 267.
(обратно)426
Примером этого могут служить отклики на статьи М.О. Гершензона «Аристотель и Эфор» и В.А. Маклакова «Избрание жребием в афинском государстве», опубликованные в 1894 году издательством Московского университета под общим названием «Исследования по греческой истории». Рецензией на издание откликнулись Ф.Г. Мищенко (см.: Ученые записки Казанского университета. 1894. Кн. 5. С. 1735) и В.П. Бузескул (см.: Филологическое обозрение. 1894. № 7. Кн. 1. С. 1–9).
(обратно)427
Показательно в этом отношении различие неформальных оценок экзаменующихся и занимающихся в семинарии студентов в письмах П.Г. Виноградова к В.И. Герье от 15 августа 1883 года и от 13 августа 1884 года: «Лицеист Гурко отлично представляет невежд новой гимназической формации: из всех государств Пелопоннеса он знал о существовании одного – “Фив”! И когда я остался этим недоволен, сын знаменитого генерала заявил, мне: “Исторический процесс не изменяется от того, что в Пелопоннесе были те, а не другие города!” Этот ответ я считаю перлом своей экзаменационной практики»; «Курс вообще – плох. Лучшие студенты, которых Вы уже достаточно знаете, Сперанский, Нечаев, Кудрявцев. Не дурен Приклонский. Работник и не глупый, но общая подготовка слаба и довольно странный характер – семинарист, посматривающий исподлобья. Белкин очень не глупый; иногда очень занимается, иногда совсем не занимается. В общем, не в своей тарелке, к сожалению. Верещагин: [с] всеобъемлющими философскими и религиозными тенденциями. Заполнил свое сочинение о жрецах у германцев хаотическими рассуждениями о происхождении общественности из религиозного чувства и т[ому] п[одобное]. Смольянинов: выпотрошенный и несколько глуповатый отпрыск старого дворянского рода. Из расчета не пропустит ни одной Вашей лекции, но едва ли удивит Вас своими семинарскими работами. Спасский – несчастный дьячок с наклонностями к ипохондрии, совершенным неумением различить понятия и излагать мысли. К несчастью – прилежен. Моклоков – какой-то мясистый, неповоротливый ум. Старается, однако, изо всех сил. Очень мало образован – не знает по-немецки. Зубов – приличная мямля. Баюков – говорят, отец его содержит какие-то бани. Больше ничего не могу сказать о нем. Лугинин – непростительная тупица; постоянно потеет и, по-видимому, затрачивает на это всю свою умственную энергию. Линдеман совсем дрянь. Ухитрился ничего не представить мне за год кроме двух листов какой-то ерунды, а Ключевскому накануне факультетского заседания списал главу из Пахмана (буквально). Вымолил перевод на том основании, что сидит на курсе два года, а брат его совершил кражу у Безекирского. Моисеев ein wundeliches Männchen. Пороха совсем не выдумал, но имеет достаточную дозу здравого смысла и большую добросовестность. На скверном курсе приятное явление Соловьёв – не глупый, конечно, но издыхающий» (см.: НИОР РГБ. Ф. 70. К. 38. Д. 110. Л. 46 об.–47 об.; Д. 111. Л. 10 об.–11).
(обратно)428
См., например: Маклаков В.А. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954. С. 208.
(обратно)429
Письмо А.И. Гучкова к Я.Л. Барскову от 13 ноября 1891 г. // НИОР РГБ. Ф. 16 (Я.Л. Барсков). К. 2. Д. 55. Л. 28.
(обратно)430
Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники: в 2 вып. Вып. I (ч. 1, 2). Париж, 1964. С. 72. Для него разбор семинарских работ П.Г. Виноградовым напоминал «беспощадное ощипывание».
(обратно)431
Ср.: Богословский М.М. Историография… С. 69–91.
(обратно)432
Среди многочисленных мемуаров хочется обратить внимание на воспоминания Василия Алексеевича Маклакова, который не стал историком, но высоко оценил семинарии П.Г. Виноградова (см.: Маклаков В.А. Отрывки из воспоминаний. С. 310–311), а главное – подметил его способность признаться без ущерба для авторитета в отсутствии собственного решения (см.: Маклаков В.А. Из воспоминаний. С. 208).
(обратно)433
Анциферов Н.П. Из дум о былом. С. 165.
(обратно)434
См.: Каганович Б.С. Русские медиевисты первой половины ХХ века. СПб., 2007. С. 28–39; Вахромеева О.Б. Духовное единение. К истории изучения творческой биографии И.М. Гревса. СПб., 2005. С. 71–75.
(обратно)435
ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 150. Л. 267–272; Д. 132. Л. 127–151.
(обратно)436
Д.А. Цыганков считает, что отличия «московской» и «петербургской» школ историков коренятся в различных способах постановки исторических семинаров в Московском и Петербургском университетах. См.: Цыганков Д.А. В.И. Герье и Московский университет его эпохи (вторая половина XIX – начало ХХ вв.). М., 2008. С. 172–173.
(обратно)437
Это основной вектор профессиональной миграции представителей университетской корпорации. См.: Лоскутова М.В. Географическая мобильность профессоров и преподавателей российских университетов второй половины XIX в.: постановка проблемы и предварительные результаты // «Быть русским по духу и европейцем по образованию». С. 194–195.
(обратно)438
См.: Будде Е.Ф. В.К. Пискорский (Некролог) // Журнал министерства народного просвещения. 1910. № 10. С. 56; Шофман А.С. Михаил Михайлович Хвостов. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1979; Мягков Г.П. Медиевистика в Казанском университете // История и историки в Казанском университете. С. 165–167; Хамматов Ш.С. Казанский период деятельности Э.Д. Гримма (1896–1899) // Античная история и историки: межвуз. сборник. Казань, 1997. С. 7–12; Хамматов Ш.С. Изучение и преподавание медиевистики в учебных заведениях Казани (XIX – начало ХХ вв.): автореф. дис… канд. ист. наук. Казань, 2003. С. 20–22. К ним можно добавить «варяга» из Дерптского университета М.В. Брачкевича. См.: Хамматов Ш.С. Научно-преподавательская деятельность М.В. Брачкевича (1913–1922 гг.) // Гуманитарное знание в системах политики и культуры: сб. науч. ст. Казань, 2000. С. 180–182.
(обратно)439
См.: Попова Т.Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах. Из истории Новороссийского университета. Одесса, 2007. С. 478–479.
(обратно)440
Цыганков Д.А. В.И. Герье и Московский университет его эпохи. С. 220–221.
(обратно)441
См.: Клюев А.И., Свешников А.В. Представители петербургской школы медиевистики в Пермском университете в 1916–1922 гг. // Санкт-Петербургский университет в XVIII– ХХ вв.: европейские традиции и российский контекст. СПб., 2009. С. 350–364.
(обратно)442
ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 2. Д. 332. Л. 1–1об.
(обратно)443
Отчет о состоянии и действиях императорского Московского университета в 1870/71 академическом и 1871 гражданском году. М., 1872. С. 18.
(обратно)444
Отчет о состоянии и действиях императорского Московского университета в 1874/75 академическом и 1875 гражданском году. М., 1876. С. 17.
(обратно)445
См. соответствующие разделы «Отчетов о состоянии и действиях императорского Московского университета».
(обратно)446
См. соответствующие разделы «Годичных актов в императорском Казанском университете». Ср.: Мягков Г.П., Хамматов Ш.С. Н.П. Грацианский: путь в науку // Мир историка: историографический сборник. Вып. 3. Омск, 2007. С. 267.
(обратно)447
Мягков Г.П., Хамматов Ш.С. Н.П. Грацианский: путь в науку. С. 281.
(обратно)448
См.: Отчет… за 1877 год. С. 18–19; Отчет… за 1878 год. С. 22; Отчет… за 1879 год. С. 25; Отчет… за 1880 год. С. 20–21; Отчет… за 1881 год. С. 19–20; Отчет… за 1882. С. 20; Отчет… за 1883 год. С. 21; Отчет… за 1884 год. С. 22. См. также: Цыганков Д.А. Исследовательские традиции московской и петербургской школ историков. С. 69–70.
(обратно)449
См. об этом: Богословский М.М. Историография… С. 87; Дневниковые записи М.С. Корелина о П.Н. Милюкове / вст. ст., публ. и ком. А.В. Макушина, П.А. Трибунского // Commentarii de Historia. Электронный периодический журнал исторического ф-та Воронежского гос/ ун-та. 2000 (декабрь). № 2. URL: -07.htm (дата обращения: 26.09.2011 г.); Письма русских историков (С.Ф. Платонов, П.Н. Милюков) / вст. ст., публ. и ком. В.П. Корзун, А.В. Свешникова, М.А. Мамонтова. Омск, 2003. С. 149–152; Макушин А.В., Трибунский П.А. Павел Николаевич Милюков: труды и дни (1859–1904). Рязань, 2001. С. 81–85; Бон Т.М. Русская историческая наука (1880–1905): Павел Николаевич Милюков и Московская школа. СПб., 2005. С. 66, 210 (сн. 197).
(обратно)450
Цит. по: Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Рязань, 2004. С. 92.
(обратно)451
Думается, что в этом кроется главная причина скептического отношения к способностям студентов, характерная для поздней стадии профессорской карьеры В.И. Герье и отмеченная в воспоминаниях В.А. Маклакова (см.: Маклаков В.А. Отрывки из воспоминаний. С. 296–297).
(обратно)452
См. подробно: Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 г. М., 1976.
(обратно)453
Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1884 год. СПб., 1886. С. 19.
(обратно)454
Отчет… за 1886 год. М., 1888. С. 20.
(обратно)455
Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 г. С. 156–158.
(обратно)456
Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1901 год. СПб., 1903. С. 113. В Отчете 1910 года этот раздел звучал еще более лаконично: «Сверх чтения лекций университетские профессора уделяли значительную долю времени на практические занятия и упражнения, настоятельно необходимые для прочного усвоения проходимых курсов». Ср.: Всеподданнейший отчет министра народного просвещения за 1910 г. СПб., 1912. С. 11.
(обратно)457
Циркуляр министерства народного просвещения от 21 июля 1899 г. по вопросу об установлении желательного общения между студентами, профессорами и учебным начальством // ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 70. Л. 23.
(обратно)458
Перевод с английского выполнен по изданию: Sanders T. The Third Opponent: Dissertation Defenses and the Public Profle of Academic History in Late Imperial Russia // Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State / T. Sanders (ed.) Armonk, 1999. Р. 69–97.
Автор выражает глубокую признательность Исследовательскому совету Военно-морской академии США за поддержку в подготовке статьи.
(обратно)459
Георгий Владимирович Вернадский (1887–1973) – видный профессор Йельского университета, один из основателей американской русистики, был сыном Владимира Ивановича Вернадского, блестящего российского и советского академика, автора идеи ноосферы. О Вернадском-старшем см.: Bailes Kendall E. Science and Russian Culture in the Age of Revolutions: V.I. Verndasky and His Scientific School, 1863–1945. Bloomington, 1990.
(обратно)460
Это была магистерская диссертация Вернадского «Русское масонство в царствование Екатерины II», изданная в: Записки историко-филологического факультета Петроградского университета. Ч. 137. Пг., 1917. Мой рассказ основан на мемуарах: Вернадский Г.В. Из воспоминаний (Годы учения. С.Ф. Платонов) // Новый журнал. 1970. № 100. С. 219–221. Я изменил порядок некоторых цитат и приводимых автором деталей, сохранив их первоначальный смысл.
(обратно)461
Официальными оппонентами были Сергей Фёдорович Платонов (1860–1933), ведущий российский историк после ухода Ключевского, Сергей Васильевич Рождественский (1868–1934), наиболее известный работами по истории образования в России, и Илья Александрович Шляпкин (1858–1918), профессор русской литературы в Санкт-Петербургском университете и редактор собрания сочинений А.С. Грибоедова.
(обратно)462
Шляпкин был вынужден пропустить торжество.
(обратно)463
Gleason A. The Terms of Russian Social History // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia / E.W. Clowes, S.D. Kassow, J.L. West (eds.). Princeton, 1991. P. 15–27, особенно 21–22. Эта же тема рассматривается им в начале исследования: Gleason A. Young Russia: The Genesis of Russian Radicalism in the 1860s. N. Y., 1980. P. 2.
(обратно)464
Обычно первым российским университетом считается Московский университет, однако существовавший при Академии наук Академический университет также отвечает критериям заведений этого типа. В Европе XVIII века не сразу стало понятным, что именно недавно учрежденным и инновационным национальным академиям предстоит стать институциональной основой для будущих центров исследования и преподавания, в которые в конечном итоге и превратятся реформированные и обновленные университеты. Немецкий (гумбольдтовский) университет приобрел статус общепринятой в мире модели лишь к концу XIX века, однако, по словам Даниэля Фаллона, «в конце XVIII века большинство университетов в немецкоязычной Европе можно охарактеризовать как место бессмысленно-механических диспутов, населенное по большей части педантами»: Fallon D. The German University: A Heroic Ideal in Confict with the Modern World. Boulder, 1980. P. 5.
(обратно)465
См.: Marker G. Publishing, Printing, and the Origins of the Intellectual Life in Russia. 1700–1800. Princeton, 1985. О другом аспекте возникновения общедоступной интеллектуальной жизни, публичной библиотеке, см.: Stuart M. Aristocrat-Librarian in Service to the Tsar: Aleksei Nickolaevich Olenin and the Imperial Public Library: Boulder, East European Monographs. № 221. N. Y., 1986.
(обратно)466
Я уделяю основное внимание Московскому университету, чтобы доказать, что публичные устные дискуссии были общепринятой частью университетской культуры к тому времени, когда в России в первой половине XIX века сформировалась настоящая университетская система по немецкому образцу. Мои рассуждения о диспутах и защитах в период после 1804 года касаются, в первую очередь, магистерских и докторских диссертаций, в то время как соображения о диспутах до 1804 года относятся к любой публичной дискуссии по «ученому» вопросу. По сути дела, подобные практики, как кажется, были общепринятыми для интеллектуальной жизни элиты XVIII века. Фриз приводит следующий пример: «…Провинциальные епископы даже старались превратить проводимые раз в год (или в полгода) теологические диспуты в публичные мероприятия. Эти диспуты были совершенно очевидным образом рассчитаны на то, чтобы семинаристы продемонстрировали свои знания в философии и теологии… Однако на деле диспуты стали гораздо более значимым социальным событием. Епископ приглашал на торжество местное дворянство, и данное мероприятие включало в себя не только богословские дебаты, но и чтение поэтических произведений, музицирование и обеды. Семинаристов также приглашали выступать в аналогичных ролях на различные общественные мероприятия; например, торжественное открытие новых губерний в 1778 году сопровождалось публичными собраниями, на которых семинаристы читали верноподданнические стихи об императрице и местных знатных особах» (Freeze G.L. The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth Century. Cambridge, 1977. P. 102).
(обратно)467
Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею: 1755–1855. М., 1855. С. 568–569.
(обратно)468
Кизеветтер А.А. Московский университет (исторический очерк) // Московский университет. 1755–1930. Юбилейный сборник. Париж, 1930. С. 43.
(обратно)469
Там же.
(обратно)470
Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета… С. 66. В последующие годы в качестве дня, когда праздновалось основание университета, было выбрано 12 января – именно тогда был подписан указ об учреждении университета. Судя по словам Шевырёва, в то время Татьянин день еще не праздновался.
(обратно)471
Текст одного из таких объявлений см. там же.
(обратно)472
Там же.
(обратно)473
Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 25.
(обратно)474
Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней): в 6 т. Т. 2. СПб., 1891. С. 159.
(обратно)475
Кизеветтер писал об Аничкове, что, «по-видимому, то была первая серьезная научная величина» из числа выпускников Московского университета: Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 34. Его рассуждения по поводу трудностей, с которыми столкнулся Аничков в процессе защиты, см.: там же. С. 60–61.
(обратно)476
Соловьёв С.М. Диспут в Московском университете 25 августа 1769 года // Русский архив. 1875. № 11. С. 313; Шевырёв С.П. История императорского Московского университета. С. 142. Во втором источнике указано, что диспут состоялся 24 августа.
(обратно)477
Шевырёв С.П. История императорского Московского университета. С. 142; Соловьёв С.М. Диспут в Московском университете… С. 313.
(обратно)478
Деление образованной элиты XVIII века на «государственную» и «общественную» является искусственным, поскольку их пути в то время еще не разошлись. Я заранее хотел бы попросить у читателей прощения за обезличенное применение терминов «общество» и «государство». Обобщенное использование этих терминов часто ведет к овеществлению идей, которые они представляют, в отрыве от деятельности конкретных людей. В данной статье автор стремится продемонстрировать, что нам необходимо более пристально взглянуть на некоторые из внешних форм дореволюционного российского общества, чтобы понять, что в действительности оставалось за ними сокрытым.
(обратно)479
Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 43.
(обратно)480
Законодательной базой для развития современной университетской системы в России стал Устав 1804 года (последующие документы принимались в 1835, 1863 и 1884 годах). Однако присуждение магистерских и докторских степеней отчасти регулировалось законодательством, принятым еще до 1804 года, и его дальнейшие изменения проводились независимо от решения основного «университетского вопроса». Согласно указу от 24 января 1803 года, учреждались три основные научные степени: кандидат (по существу, степень бакалавра), магистр и доктор. В действительности, настоящими научными степенями были только магистерская и докторская, для которых были установлены письменные и устные экзамены, а также публичные защиты. После так называемой «дерптской аферы», когда обнаружилось, что несколько степеней было получено за деньги, отдельной реформой были введены градации внутри бакалаврской степени. Все те, кто окончил полную университетскую программу обучения, получали звание «действительного студента». Если студент успешно сдавал экзамен, назначавшийся как минимум через год после этого, он получал дополнительную степень «кандидата». Далее он мог претендовать на последующие степени при условии, что каждый раз между присвоением степени проходил минимум год. Последующее законодательство не изменило по существу данную систему. Изменения затронули только такие вопросы, как язык диссертации (которым мог быть русский, латынь или немецкий), структура факультетов и экзаменов, категории, по которым могли присуждаться степени, а в довершение всего в 1863 году был отменен экзамен для соискателей докторской степени.
(обратно)481
Под влиянием французской модели, ведущей свое начало от предложения, сделанного Кондорсе революционному Законодательному собранию, в России изначально была предпринята попытка интегрировать школьное образование в вертикальную систему, чтобы каждый из шести университетов отвечал за начальное и среднее образование в своих регионах. Этими шестью университетами были Московский, Дерптский, Казанский, Харьковский, Виленский и с 1819 года Санкт-Петербургский. После польского восстания 1830 года Виленский университет был закрыт (1832) и учрежден новый Киевский университет св. Владимира (1832–1833). См.: Galskoy C. The Ministry of Education Under Nicholas I (1826–1836): [дис… PhD Стенфордский ун-т]. Stanford, 1977. P. 199–208.
(обратно)482
См. гл. 4 «Universities in the Bible Society Decade» в: Flynn J.T. The University Reform of Tsar Alexander I, 1802–1835. Washington, 1988.
(обратно)483
Довольно интересно, что мне не встретились какие-либо указания на обсуждение отмены публичной защиты. Устойчивость этого ритуала, скорее всего, объясняется практически всеобщим признанием как общественной природы знания, так и приоритета государственных целей в развитии образования. Немалое влияние, вероятно, оказали и зарубежные модели. Составители проектов университетских уставов 1804 года изучили работы Кондорсе об университетах, недавно учрежденную (1783) польскую систему, работу Христофа Майнера о немецких университетах (Meiner C. Über die Verfassung und Verwaltung deutscher Universitäten: Bd. 1–2. Göttingen, 1801–1802), а также вступили в прямую переписку с Майнером. См.: Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 64. У Майнера есть рассуждения по поводу экзаменов и защит (см: Bd. 1. S. 345–365 в репринтном издании: Darmstadt, 1970). Марк Раев подчеркивает важную роль Германии как источника западных форм и идей для России, и российская университетская система была больше всего похожа на немецкую.
(обратно)484
Погодин М. Диспут г. Гладкова. О диспутах десятилетней давности (40-е годы) // Журнал министерства народного просвещения. 1856. № 2. С. 37 [отд. паг.]. В 1856 году Погодин считал себя обязанным написать об истории диспутов, поскольку в недавно опубликованной столетней истории Шевырёва об этом говорилось очень скудно.
(обратно)485
Там же. С. 38.
(обратно)486
Там же. С. 28–29.
(обратно)487
Там же. С. 40.
(обратно)488
А.В. Никитенко (1804–1877) был известным цензором, литературным критиком и автором дневников. Речь идет о его диссертации «О творческой силе поэзии, или поэтическом гении» (СПб., 1837). Это была одна из тех наскоро написанных диссертаций, единственной целью которых было дать ее автору возможность сохранить преподавательскую должность. Описание, которое дает ей Буслаев, показывает дистанцию между его идеалом точной науки и подобного рода работами: «Теперь я не помню ни ее заглавия, ни содержание, только хорошо знаю, что в ней говорилось вообще об изящных искусствах, о прекрасном, о поэзии, при полнейшем отсутствии положительных фактов». Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. М., 1897. С. 122.
(обратно)489
Там же.
(обратно)490
Погодин М. Диспут г. Гладкова. С. 38–39.
(обратно)491
Там же. С. 37–38.
(обратно)492
Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 122. Кизеветтер в данном случае говорит только о своей alma mater, но это относится к университетской системе в целом.
(обратно)493
Это было продолжающееся эволюционное движение. В своем очерке Кизеветтер, например, указывает на существенные обновления в преподавательском составе между 1780 и 1800, 1832 и 1848, 1855 и 1863 годами, а также на вклад выдающихся новых преподавателей, таких как В.О. Ключевский или П.Г. Виноградов, в области истории. См.: Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 54, 101, 120, 123–124.
(обратно)494
Правительство признавало, что оно перенаправляет внимание профессоров от управленческих задач к науке. См.: Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета. С. 487. Галской в своей работе (Galskoy C. The Ministry of Education… P. 238) указывает, что устав 1835 года увеличил жалование профессоров примерно в три раза.
(обратно)495
Whittaker C.H. The Origins of Modern Russian Education: An Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov, 1786–1855. DeKalb, 1984. P. 161. Она цитирует сведения Никитенко о том, что тринадцать профессоров Санкт-Петербургского университета были постепенно удалены со своих должностей из-за новых требований. См. также: Galskoy C. The Ministry of Education… P. 239–240.
(обратно)496
В 1820-х годах две группы студентов были посланы на определенный срок на учебу в Дерпт, после чего еще на два года в Париж или Берлин. О Профессорском институте см.: Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета. С. 485–487; Flynn J. University Reform… P. 181–185; Galskoy C. The Ministry of Education… P. 239–240.
(обратно)497
Буслаев считал, что это является естественным ходом событий в специализации знания и преподавания как в России, так и на Западе: «Старый энциклопедизм <…> оказался неудовлетворителен для серьезных требований университетской науки». В этой связи в качестве образца профессора-энциклопедиста он рассматривал Давыдова. См.: Буслаев Ф.И. М.П. Погодин как профессор. М., 1876. С. 9.
(обратно)498
Whittaker C. The Origins of Modern Russian Education. P. 161–162 (цитата на с. 161).
(обратно)499
Григорьев В.В. Императорский Санкт-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. Историческая записка. СПб., 1870. С. 83, 87.
(обратно)500
Kornilov A. Modern Russian History. N. Y., 1943. P. 282. См. также: Galskoy C. The Ministry of Education… P. 239–240.
(обратно)501
Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 115.
(обратно)502
Кизеветтер отмечает, что студенты очень сильно отличались от «подростков», которые в 1820-х годах «резвились» на лекциях «скучных профессоров». В 1830-е и 1840-е годы студенты были «гораздо зрелее и гораздо сильнее были захвачены серьезными интересами». Они читали новейшие работы, посещали литературные, философские и политические дебаты, а также участвовали в деятельности «серьезных» кружков. Кизеветтер А.А. Московский университет… С. 116.
(обратно)503
Annenkov P. V. The Extraordinary Decade: Literary Memoirs / A.P. Mendel (ed.), I.R. Titunik (trans.). Ann Arbor, 1968. P. 2.
(обратно)504
Whittaker C. The Origins of Modern Russian Education. P. 153. Некоторые детали о возникавшей интеллектуальной прессе см.: Ibid. P. 116.
(обратно)505
Annenkov P.V. The Extraordinary Decade. P. 81.
(обратно)506
Ibid.
(обратно)507
Roosevelt P. Apostle of Russian Liberalism: Timofei Granovsky. Newtonville, 1986. P. 106.
(обратно)508
См.: Дело Совета Императорского С.-Петербургского университета «О приглашении лиц к присутствию на публичных защищениях ученых диссертаций», 20 декабря 1850 г. // ЦГИА Санкт-Петербурга. Ф. 14. Оп. 1. Д. 4965. Л. 1.
(обратно)509
Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения, 1802–1902. СПб, 1902. С. 264.
(обратно)510
Цит. по: Roosevelt P. Apostle of Russian Liberalism. P. 142 (см.: Никитенко А.В. Дневник. Л., 1955. Т. 1. С. 316, запись от 6 декабря 1848 года); см. также: Ibid. P. 210. Note 61.
(обратно)511
В целях обобщения я делаю допущение, что отдельной кандидатской степени не существует (как определялось уставом 1884 года) и что соискатели докторской степени не сдают экзамены (реформа 1863 года).
(обратно)512
Каждая из университетских степеней соответствовала определенному чину в дореволюционной «Табели о рангах». Соответствие степеней определенным чинам менялось в течение примерно столетия, пока функционировала эта система. Кроме того, связь между университетской степенью, относившейся к науке, и чином, относившимся к бюрократической иерархии, беспокоила некоторых членов научного сообщества. Здесь мы не будем затрагивать данные вопросы, поскольку наш основной предмет – защиты и их роль.
(обратно)513
По имеющимся у меня сведениям, до революции в Московском и Санкт-Петербургском университетах только две женщины получили ученые степени по истории выше степени бакалавра – а именно Мария Александровна Островская и Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская. Островская защитила магистерскую диссертацию «Земельный быт сельского населения Русского Севера в XVI–XVIII веках» (СПб., 1913) в марте 1914 года. Если какая-либо другая женщина не защитила диссертацию в другом российском университете ранее, то тогда Островская является первой женщиной-историком со степенью магистра. Добиаш-Рождественская стала первой женщиной, получившей магистерскую степень по всеобщей истории в результате защиты работы «Церковное общество Франции в XIII веке» (СПб., 1914), а также первой женщиной, получившей докторскую степень по всеобщей истории после защиты работы «Культ св. Михаила в латинском Средневековье», которая состоялась в апреле 1918 года (опубликована литографическим способом с машинописного текста из-за условий, в которых в то время находилась Россия). Об Островской см.: Семевский В. М.А. Островская // Голос минувшего. 1914. № 4. С. 292–297; о Добиаш-Рождественской см.: Ершова В.М. О.А. Добиаш-Рождественская. Л., 1988. С. 47–50, 60–61. Я благодарен Алексею Николаевичу Цамутали за информацию об этой работе. Статья А.Д. Люблинской о Добиаш-Рождественской (Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History / J.L. Wieczynski (ed.). Vol. 9. Gulf Breeze, 1978. P. 184) содержит двусмысленную формулировку, утверждая, что она была «первой женщиной в Российской империи, получившей степень магистра (1915) и доктора (1918)». Разумеется, в 1918 году империи уже не существовало, и она была первой женщиной, получившей обе степени, однако она не была первой женщиной, защитившей магистерскую диссертацию даже в своем родном Санкт-Петербургском университете, не говоря уже об империи. См.: Магистерский диспут М.А. Островской в Петербургском университете // Научный исторический журнал. 1914. № 5. С. 143, где указано, что именно это – «первый женский диспут в Петербургском университете».
(обратно)514
Николай Павлович Павлов-Сильванский, который позже получил признание, особенно за свою работу о русском феодализме, провалился на своих магистерских экзаменах (в первую очередь, из-за возражений Николая Кареева) и так и не предпринял попытку получить следующую степень. См.: Цамутали А.Н. Борьба направлений в русской историографии в период империализма: Историографические очерки. Л., 1986. С. 212. Если студент не сдавал экзамен, он мог пройти его заново, однако не ранее, чем через год.
(обратно)515
О том, что этот ритуал воспринимался очень серьезно, свидетельствует недовольство Платонова, когда он узнал, что Вернадский уже опубликовал свою диссертацию в 1917 году еще до того, как она была официально одобрена деканом факультета. Хотя факультет уже согласился опубликовать диссертацию в своих «Записках», что свидетельствовало о ее безоговорочном одобрении, Платонов был очень расстроен. Этот «промах, который чуть было не испортил мои отношения с Платоновым», пришлось позднее исправлять. См.: Вернадский Г.В. Из воспоминаний… С. 218–219.
(обратно)516
Необходимо учитывать то, что соискатель докторской степени уже имел опубликованную магистерскую диссертацию. Даже у соискателей магистерской степени часто были публикации и рецензии.
(обратно)517
Мое внимание сосредоточено на защитах магистерских и докторских диссертаций по истории в Московском и Санкт-Петербургском университетах. Правила и практики отличались в разных университетах и на факультетах. История, будучи наукой более доступной и популярной, привлекала, несомненно, большее внимание образованной публики, чем химия или сравнительная анатомия, однако общая модель публичных диспутов, сопровождавших защиты, характеризует дореволюционную университетскую систему в целом. См., например, «полицейский донос», связанный с защитой диссертации по эмбриологии, о котором упоминалось выше. Также можно вспомнить знаменитый случай с участием Владимира Онуфриевича Ковалевского. Человек, получивший докторскую степень в зарубежном университете, мог подать ту же диссертацию на соискание степени магистра, сдав при этом сопутствующие экзамены (См.: Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Т. 3. Царствование императора Александра II, 1855–1864. СПб., 1865. № 472. 18 июня 1863 года. Общий устав императорских российских университетов. Гл. IX. Примеч. к п. 113, с. 953). Ковалевский, чья диссертация, защищенная в Йенском университете, считалась лучшей в палеонтологии за предшествующие двадцать пять лет (сейчас Ковалевский считается одним из основателей сравнительной палеонтологии), был вынужден дважды сдавать магистерские экзамены из-за ревности своих коллег. См.: Соболева Е.В. Организация науки в пореформенной России. Л., 1983. С. 209. Я благодарен Александру Вусиничу, который обратил мое внимание на этот эпизод.
(обратно)518
См. перепечатку речи Лаппо-Данилевского перед защитой его магистерской диссертации «Организация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований» в: Исторические диспуты в 1890 г. // Историческое обозрение. Т. 1. СПб., 1890. С. 283–294. О докторской защите А.Е. Преснякова см.: Пресняков А.Е. Речь перед защитой диссертации под заглавием «Образование Великорусского государства». Пг., 1920.
(обратно)519
Неизвестно, какие еще правила определяли выбор официальных оппонентов помимо того, что их должно было быть как минимум двое. См.: Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Т. 2. Царствование императора Николая, 1825–1855. Отделение второе, 1840–1855. СПб., 1864. С. 364. Ст 47 (1844 г.), где говорится, что «возражателей на тезисы», как тогда назывались официальные оппоненты, должно было быть не менее двух. В случае с Кареевым Герье был его Doktorvater’ом и поэтому присутствовал в качестве официального оппонента на обеих защитах. С другой стороны, на защите М.М. Богословского, ученика В.О. Ключевского, официальными оппонентами были М.К. Любавский и А.А. Кизеветтер, который к тому времени еще не защитил свою магистерскую диссертацию. См.: Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий (Воспоминания 1884–1914). Прага, 1929. С. 24–25, где он сетует на отсутствие или нехватку публичных аудиторий. Защиты в данном контексте он не обсуждает.
(обратно)520
Н.Н. По поводу одного диспута // Исторический вестник. 1888. Октябрь. С. 263.
(обратно)521
Эта обобщающая модель основывается на значительном круге источников по данной проблеме. Наиболее подробным обзором процесса присуждения степеней во всех областях науки является статья: Кричевский Г.Г. Ученые степени в университетах дореволюционной России // История СССР. 1985. № 2. С. 141–153. Некоторые части предыдущего абзаца основаны на его рассуждениях на с. 145–150. Другой интересной работой по этой теме является: Соболева Е.В. Организация науки в пореформенной России. Гл. 3 «Подготовка научных кадров». С. 170–242.
(обратно)522
Кричевский Г.Г. Ученые степени в университетах… С. 143. В других университетах были следующие показатели: Дерпт – 135, Харьков – 80, Казань – 45, Киев (также молодой университет) – 60.
(обратно)523
Там же. С. 150. В других университетах расширившейся системы высшего образования были следующие показатели: Киев – 218, Дерпт – 214, Харьков – 184, Казань – 179, Новороссийск – 125, Варшава – 42, Томск – 6. Кричевский отмечает, но не объясняет «резкое уменьшение их [т. е. защит] числа» в Москве с 1880 года до начала ХХ века и в Петербурге в 1890-е годы. Объяснить его, скорее всего, можно реформой образования 1884 года, которая ввела более строгие классические требования. Соболева однозначно объясняет снижение последствиями этой реформы. По ее расчетам, не включающим медиков, за десятилетие с 1863 по 1874 год в среднем ежегодно защищалось 26 докторских диссертаций и 24 магистерских. За десятилетний период с 1886 по 1896 год соответствующие показатели – 12 и 15. Соболева Е.В. Организация науки в пореформенной России. С. 207.
(обратно)524
Эта ситуация не изменялась в течение всего периода, начиная с 1860-х годов и до революции. В то же время на физико-математических и юридических факультетах среднее время между защитой магистерской и докторской диссертации выросло с 3,5 лет в 1860-е годы до 6,7 лет за десятилетие между 1900–1909 годами для физиков и математиков и с 4,7 в 1860-е годы до 6,4 лет в начале столетия – для юристов. См.: Там же. С. 149.
(обратно)525
См.: Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий… С. 280.
(обратно)526
Kassow S.D. Students, Professors and the State in Tsarist Russia. Berkeley, 1989. P. 296. Эта работа является лучшим общим исследованием того запутанного комплекса профессиональных, педагогических и политических вопросов, с которыми приходилось иметь дело профессуре в целом.
(обратно)527
Пичета получил образование до революции и сделал выдающуюся карьеру как историк и славист в СССР. См.: Королюк В.Д. Владимир Иванович Пичета // Славяне в эпоху феодализма. К столетию академика В.И. Пичеты. М., 1978. С. 5–25. Цитата приводится по: Пичета В.И. Воспоминания о Московском университете (1897–1901) // Славяне в эпоху феодализма. С. 61. Эти воспоминания, которые в действительности рассматривают и события после 1901 года, были написаны в 1931 году – пожалуй, в наиболее мрачный период для историков в сталинскую эпоху, – поэтому оценки, данные в ряде мест, кажутся подозрительно политически ортодоксальными. Однако это относится скорее к конкретным историкам и их концепциям, а не к высказываниям Пичеты о роли диспутов в обществе, как, например, когда он пишет о докторской диссертации политически и методологически консервативного М.К. Любавского «Литовско-русский сейм: опыт по истории учреждений в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства» (М., 1901): «Теперь мне ясны все недостатки этой работы, несмотря на большие ее достоинства, но в мои студенческие годы она мне казалась образцовой» (Там же. С. 64). О Пичете см. также в сн. 116.
(обратно)528
Пичета В.И. Воспоминания о Московском университете… С. 61.
(обратно)529
Там же. Я только могу сожалеть, подобно Пичете, о том, что «диспутов никто не стенографировал».
(обратно)530
Можно получить представление о том, насколько узкой социальной прослойкой имперского общества являлась образованная элита, из приведенного Джеффри Бруксом мнения А.А. Каспари (одного из основателей еженедельника «Родина») о читающей публике, согласно которому «ни одна публикация не могла быть предназначена только для людей с университетским образованием, поскольку “было невозможно публиковать журнал для горстки людей” [1913 г.]» (цит. по: Brooks J. When Russia Learned to Read. Princeton, 1985. Р. 114).
(обратно)531
Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия / А.И. Клибанов (ред.). М., 1987. С. 75.
(обратно)532
Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. С. 278.
(обратно)533
Там же. С. 280.
(обратно)534
Пичета В.И. Воспоминания о Московском университете… С. 63.
(обратно)535
Там же. С. 62–63.
(обратно)536
Г.Д. Докторский диспут В.О. Ключевского // Русские ведомости. 1882. № 268. 10 октября. С. 3.
(обратно)537
Отчет в: Голос. 1882. 4 октября. № 269. C. 2.
(обратно)538
Г.Д. Докторский диспут В.О. Ключевского.
(обратно)539
Голос. 1882. 4 октября. C. 2.
(обратно)540
Там же.
(обратно)541
Г.Д. Докторский диспут В.О. Ключевского.
(обратно)542
Пичета В.И. Воспоминания о Московском университете… С. 61–62.
(обратно)543
Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. С. 282.
(обратно)544
Готье Ю.В. Университет // Московский университет в воспоминаниях современников: сборник. М., 1989. С. 558. Его диссертация «Очерки по истории русской поземельной политики в XVIII и XIX вв.» также обсуждалась в прессе П.Н. Милюковым, В.А. Мякотиным и др. См.: там же. С. 673.
(обратно)545
Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия. С. 83.
(обратно)546
Маклаков В.А. Отрывки из воспоминаний // Московский университет. 1755–1930. С. 314.
(обратно)547
Там же.
(обратно)548
Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия. С. 83. Маклаков вспоминает тот же самый случай, цитируя слова Гилярова следующим образом: «А как же вы мне писали в таком-то письме, что моя диссертация блестяща?» (Маклаков В.А. Отрывки из воспоминаний. С. 314).
(обратно)549
Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия. С. 83.
(обратно)550
Маклаков В.А. Отрывки из воспоминаний. С. 314–315.
(обратно)551
Там же.
(обратно)552
Roosevelt P. Apostle of Russian Liberalism. С. 107. См. также: Афанасьев А.Н. Московский университет (1844–1848 гг.) // Московский университет в воспоминаниях современников. С. 268–271. Его диссертация называлась «Волин, Иомсбург и Винета». Рузвельт – возможно, в силу естественной симпатии биографа – очень высоко оценивает исследования Грановского. Она, в частности, утверждает, что причиной нападок на Грановского стало то, что он отдал предпочтение западной науке, а не славянским мифам, сложившимся вокруг этих поселений. Я предполагаю, что это, скорее, касается самой фигуры Грановского, а шум вокруг его диссертации был лишь предлогом. И.П. Кочергин утверждает, что Грановский был скорее «общественным деятелем, чем кабинетным ученым, и оценивать его можно только в связи с общественной жизнью» (Московский университет в воспоминаниях современников. С. 641. Примеч. 19, данное от редактора). Очень низкое мнение о Грановском как об ученом сложилось у Афанасьева, который считал его ленивым человеком, увлеченным больше игрой в карты, чем работой с картотекой, и изучавшим проблемы, «уже прекрасно разработанные иностранными учеными» (Афанасьев А.Н. Московский университет. С. 268). Однако все соглашаются, что у Грановского в то время была невероятная популярность, и его влияние отмечают многие ученые из числа его младших современников.
(обратно)553
Кареев пошел против совета своего руководителя Владимира Герье, когда писал свою работу «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.» (М., 1879). Это была новаторская и высоко оцененная впоследствии работа; в ней утверждалось, что в годы, предшествующие 1789 году, феодальные повинности росли, и это неявно свидетельствовало о необходимости Французской революции.
(обратно)554
Прочитав работу, Ключевский позднее спросил у Кареева: «А вы не боитесь, что вас обвинят в социализме?» (См.: Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 140). Более подробно о диспуте см.: Докторский диспут Н.И. Кареева // Критическое обозрение. 1879. № 9. С. 17–36; № 10. С. 45–48.
(обратно)555
Кареев Н.И. Прожитое и пережитое… С. 139–140. Согласно Карееву, Герье был «немилостивен». Герье прервал Ковалевского, который выступал в качестве неофициального оппонента и которому так понравилась работа, что он позднее послал копию Марксу. Это ухудшило и без того напряженные отношения между Герье и Ковалевским. См.: Ковалевский М.М. Отрывки из воспоминаний. С. 281.
(обратно)556
См. ред. примеч. 20 в: Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С. 329. Ограничения, накладываемые на профессуру, на деле были не такими жесткими, потому что те, кто входил в конфликт с министерством народного просвещения, могли преподавать в высших учебных заведениях, подведомственных другим министерствам.
(обратно)557
Эта работа («Крестьяне в царствование Императрицы Екатерины II») была опубликована в «Записках историко-филологического факультета». Только после того, как завершенная работа была представлена Бестужеву-Рюмину, тот сдался. См.: Z. Диспут г. В.И. Семевского в Москве // Вестник Европы. 1882. Май. С. 442–444; Станиславская А.М. Народническая историография 70–90-х гг. // Очерки истории исторической науки в СССР: в 5 т. Т. 2. М., 1960. С. 207–208. Непосредственно после убийства Александра II, 9 марта, Бестужев, старейший среди петербургских историков-русистов, безоговорочно отклонил диссертацию. См.: Petrovich M.B. V.I. Semevskii (1848–1916): Russian Social Historian // Essays in Russian and Soviet History in Honor of Geroid Tanquary Robinson / J.Sh. Curtiss (ed.). N. Y., 1963. P. 67.
(обратно)558
Ibid. P. 68.
(обратно)559
Z. Диспут г. В.И. Семевского в Москве. С. 442–443, см. также: Malloy J.A. Jr. Vasilii Ivanovich Semevskii // The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History / J.L. Wieczynski (ed.). Vol. 33. Gulf Breeze, 1983. P. 239–243.
(обратно)560
Z. Диспут г. В.И. Семевского в Москве. С. 442–443.
(обратно)561
Свиденко В.С. Конфликт между В.И. Семевским и К.Н. Бестужевым-Рюминым // Вопросы истории. 1988. № 8. С. 137–138. Министр народного просвещения И.Д. Делянов высказал мнение, что преподавание Семевского «могло только зародить в юных умах примитивное чувство негодования по отношению к прошлому, а не обогатить их его основными понятиями». Цит. по: Petrovich M.B. V.I. Semevskii… P. 70.
(обратно)562
Другим примером персональных и политических интриг служит магистерская защита Милюкова в 1892 году. Его личные взаимоотношения с Ключевским были прохладными, дополнительным затруднением было то, что он ожидал присуждения ему докторской степени в знак признания эрудиции соискателя и качества его диссертации. Слухи о конфликте со столь значимой фигурой, как Ключевский, вместе с интересом, пробужденным его исследованием, в котором пересматривались итоги реформ Петра Великого, привели к тому, что аудитория была набита битком. Однако в данном случае масштабного общеполитического спора между профессором и соискателем не случилось. Милюков П. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб., 1892. См. также: Милюков П.Н. Воспоминания. Ч. 1. М., 1990. С. 157–161; Riha T. A Russian European: Paul Miliukov in Russian Politics. Notre Dame, 1969. P. 18–20.
(обратно)563
Например, В.И. Пичета отмечал, что аудитория была гораздо более наполнена в те дни, когда Ключевский читал лекции о личностях российских царей (Пичета В.И. Воспоминания о Московском университете… С. 53).
(обратно)564
Маклаков В.А. Отрывки из воспоминаний. С. 302.
(обратно)565
Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. С. 278.
(обратно)566
Там же.
(обратно)567
Маклаков В.А. Отрывки из воспоминаний. С. 304.
(обратно)568
Пичета В.И. Воспоминания о Московском университете… С. 64–65.
(обратно)569
Щетинин Б.А. М.М. Ковалевский и Московский университет 80-х годов (страничка из воспоминаний) // Исторический вестник. 1916. № 5. С. 487.
(обратно)570
Там же. С. 486–487.
(обратно)571
Там же.
(обратно)572
Об это диспуте см.: Диспут г. Чечулина // Исторический вестник. 1897. № 1. С. 373–374; Несколько слов о диспуте г. Чечулина // Санкт-Петербургские ведомости. 1896. № 344. С. 2; Докторский диспут в университете // Новости и биржевая газета. 1896. № 340. 9 декабря. C. 2. Цитата взята из последнего источника.
(обратно)573
Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий… С. 281.
(обратно)574
Эта традиция еще какое-то время теплилась. Обнаруженный недавно дневник Юрия Владимировича Готье включает два упоминания о защите В.И. Пичетой докторской диссертации «Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-русском государстве». 3 марта 1918 года он сделал запись: «Сегодня мы праздновали наш академический праздник – диспут В.И. Пичеты, которому возражали Любавский и я, насколько мне кажется, диспут был из удачных как по общему настроению, так и по характеру возражений. Затем было угощение у Пичеты на дому; развязались языки, было уютно, хотя забыть об общем ужасе не пришлось». Got’e Yurii Vladimirovich. Time of Troubles, The Diary of Iurii Vladimirovich Got’e: Moscow July 8, 1917 to July 23, 1922 / T. Emmons (trans. and ed.). Princeton, 1988. P. 113. Позднее он сделал запись: «Сегодня справили второй диспут Пичеты <…> Интересно, последний это наш диспут или нет? Потонет ли этот обычай в куче мусора или Герострат-футурист Лупанарский все-таки не осквернит нашу святыню?» (с. 124). Луначарский был комиссаром просвещения. Приношу благодарность профессору Эммонсу за эту информацию (Лупанарский – саркастическое искажение фамилии Луначарский: от лат. Lupanar – дом терпимости. – Примеч. пер.).
(обратно)575
Эта фраза принадлежит Буслаеву, см.: Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. С. 309.
(обратно)576
Rieber A.J. The Sedimentary Society // Between Tsar and People. P. 346.
(обратно)577
Чистович И.А. История С.-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1857. С. 300.
(обратно)578
Там же. С. 18.
(обратно)579
История Российской иерархии, собранная Новгородской семинарии префектом, философии учителем, соборным иеромонахом Амвросием. М., 1807–1815. См. также: Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3 (Р-Я). СПб., 2010. С. 107–108.
(обратно)580
[Sellius Adam Burchardt]. Schediasma literarium de scriptoribus qui historiam politico-ecclesiasticam Rossiae scriptis illustrant. Revaliae, typis Joh. Köhleri, 1736.
(обратно)581
Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-российской церкви. Ч. 1–2. СПб., 1818 [2-е изд., испр. и доп. Ч. 1–2. СПб., 1827].
(обратно)582
Селлий А. Каталог писателей, сочинениями своими объяснявших гражданскую и церковную российскую историю, сочиненный Адамом Селлием. Переведен в Вологодской семинарии. М., 1815
(обратно)583
Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии М., 1992 [Варшава, 1928]. С. 35.
(обратно)584
Платон (Левшин), митрополит Московский. Краткая церковная российская история. Т. 2. М., 1805. С. 235–326.
(обратно)585
Там же. С. 241.
(обратно)586
Там же. С. 275.
(обратно)587
Здесь и далее цит. книга: Карташёв А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1. М., 1993 [Париж, 1959]. С. 12–39 («Очерк систематического построения истории Русской Церкви»). Антон Владимирович Карташев (1875–1960) был известным церковным деятелем, историком, руководителем Религиозно-философского общества в Санкт-Петербурге (и последним обер-прокурором Св. синода в 1917 году); особенно заметной была его организаторская и научная деятельность в послереволюционной эмиграции.
(обратно)588
Там же. С. 19.
(обратно)589
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. 4-е изд. Т. VII. Л., 1978. С. 326–328.
(обратно)590
Андреев Ф. Московская Духовная Академия и славянофилы // Богословский вестник. 1915. № 10. С. 628.
(обратно)591
Там же.
(обратно)592
Полное название: Слово надгробное преосвященному Иннокентию, епископу Воронежскому, преставльшемуся в Бозе сего 1794 года апреля 15 дня, то есть в субботу светлыя недели: говоренное по совершении Божественной литургии при начале погребательного молитвословия в Воронежском Благовещенском соборе того же апреля 19 числа, с присовокуплением к тому речи и разговора стихами, говоренное также над гробом пред последним целованием тела, и с приложением краткого летописца преосвященных воронежских, от основания епископского престола в Воронеже до нынешнего времени. М., 1794.
(обратно)593
Слово на память иже во святых отца нашего Никиты, епископа и чудотворца новгородского при случае преложения мощей его из старой раки в новую, проповеданное в Новгородском Кафедральном Софийском соборе Евгением, епископом Старорусским, Новгородской митрополии викарием апреля 30 1805 года с присовокуплением списков новгородских епархиальных и викарных преосвященных архиереев. СПб., 1805; Описание монастырей Иоанно-Богословского Крыпецкого и Рождество-Богородицкого Снетогорского: С прибавлением списка преосвященных архиереев псковских. Дерпт, 1821; Описание Киево-Софийского собора и Киевской иерархии: С присовокуплением различных граммат и выписок, объясняющих оное, а также планов и фасадов Константинопольской и Киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия. Киев, 1825 (см. также: Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва. Київ: Либідь, 1995).
(обратно)594
Полетаев H. Труды митрополита киевского Е. Болховитинова по истории русской церкви. Казань, 1889. С. 82–86. Эту точку зрения повторяют А.В. Карташёв и Н.Н. Жерве (Жерве Н.Н. Труды митрополита Евгения (Болховитинова) по истории русской церкви // Вспомогательные исторические дисциплины: высшая школа, исследовательская деятельность, общественные организации. М., 1994. С. 60–61).
(обратно)595
См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. Т. I. М., 1963. С. 325, 327 (№ 2099, 2107).
(обратно)596
Чистович И.А. История С.-Петербургской Духовной Академии. С. 142.
(обратно)597
[Болховитинов Е.] Описание жизни и подвигов преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого, сочиненное для любителей и почитателей памяти сего преосвященного. М., 1820.
(обратно)598
Полетаев Н. Письма митрополита Киевского Евгения Болховитинова к Я.И. Бардовскому (1819–1822) // Православный Собеседник. 1889. Июнь. С. 323.
(обратно)599
Москвитянин. 1842. № 8. С. 256.
(обратно)600
История Русской Церкви. Сочинение епископа Рижского Филарета. Период 1–5. М., 1847–1848.
(обратно)601
В качестве хронологических ориентиров Филаретом были выбраны следующие даты:
1) от начала христианства в России до нашествия монголов (988–1237);
2) от нашествия монголов до разделения русской митрополии (1237–1410);
3) от разделения митрополии до учреждения Патриаршества (1410–1588);
4) период Патриаршества (1589–1720);
5) синодальное управление (после 1721).
(обратно)602
Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука… С. 50.
(обратно)603
Знаменский П.В. История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период ее существования (1842–1870). Вып. 1. Казань, 1891. С. 145.
(обратно)604
См. о нем: Мельков А.С. Жизненный путь и научное наследие протоиерея А.В. Горского. М., 2006.
(обратно)605
См. обзор его трудов: Постников П. Очерки жизни и деятельности Александра Васильевича Горского // У Троицы в Академии, 1814–1914 гг.: Юбилейный сборник исторических материалов / издание бывших воспитанников Московской Духовной Академии. М., 1914. С. 254–341 и другие материалы из этого издания.
(обратно)606
Прежде всего это было шеститомное сочинение «Всеобщая история христианской религии и церкви» (1825–1842, 1852). Перу Неандера – по сути, основателя новейшей церковной историографии – принадлежат также труды по догматике и истории христианского нравоучения. См. о нем специальный раздел в лекциях авторитетного тогдашнего историка: Лебедев А.П. Очерки развития протестантской церковно-исторической науки в Германии (XVI–XIX века). М., 1881.
(обратно)607
Цит. по: Мельков А.С. Жизненный путь и научное наследие протоиерея А.В. Горского. С. 70.
(обратно)608
Там же. С. 71.
(обратно)609
Письма архимандрита Феодора (А.М. Бухарева) к А.А. Лебедеву // Богословский вестник. 1915. № 10. С. 465–466.
(обратно)610
Смирнов С.И. Евгений Евсигнеевич (sic!) Голубинский // Памяти почивших наставников. Сергиев Посад, 1914. С. 289.
(обратно)611
Мельков А.С. Жизненный путь и научное наследие протоиерея А.В. Горского. С. 71. [Николай Фёдорович Каптерев (1847–1918) – церковный историк, профессор Московской духовной академии, член-корреспондент Императорской академии наук. Автор монографий: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Время патриаршества Иосифа. 2-е изд. Сергиев Посад, 1913; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович: в 2 т. Сергиев Посад, 1909–1912 и работ об отношениях русской церкви с константинопольским патриархатом. Его труды о зарождении старообрядчества казались ряду церковных иерархов и чиновников Синода (особенно К.П. Победоносцеву) недостаточно выдержанными с «идеологической» точки зрения. – Примеч. ред.]
(обратно)612
См.: Лебедев А.П. Протоиерей Александр Васильевич Горский, ректор и профессор Московской Духовной Академии: По поводу 25-летия со дня его кончины, 1875–1900 гг. [М.], 1900. [Алексей Петрович Лебедев (1845–1908) – профессор Московской духовной академии и Московского университета, крупнейший специалист по истории Восточной церкви и византинист (см. два прижизненных десятитомных издания его трудов, далеко не исчерпывающие его творчества: Собрание церковно-исторических сочинений. М., 1898–1905; СПб., 1903–1907). Особенно следует отметить с точки зрения анализа обширной литературы первый том («Церковная историография в главных ее представителях с IV века по XX»), недавно переизданный (СПб., 2000). Независимый от мнений академического начальства, в общественно-идеологических спорах Лебедев занимал скорее консервативную позицию, в частности, отстаивал и защищал репутацию и наследие московского митрополита Филарета (Лебедев А.П. В защиту Филарета, митрополита Московского, от нападок историка С.М. Соловьёва. М., 1907.) – Примеч. ред.]
(обратно)613
Скорее всего имеется в виду книга видного католического историка церкви Каспара Риффеля (1807–1856): Rifel C. Geschichtliche Darstellung des Verhältnisse zwischen Kirche und Staat. Von der Gründung des Christenthums bis auf Justinian I. Mainz, 1836. – Примеч. ред.
(обратно)614
Голубинский Е.Е. Воспоминания. Кострома, 1923. С. 31–32.
(обратно)615
Там же. С. 40.
(обратно)616
См. также: Смирнов С.И. Александр Васильевич Горский // Памяти почивших наставников. 1914. С. 81.
(обратно)617
См. примечательное исследование конца 1920-х годов: Зубов В.П. К истории слова «Нигилизм» // Зубов В.П. Избранные труды. М., 2004. С. 385–400. – Примеч. ред.
(обратно)618
Выпускник и преподаватель Московской духовной академии, Александр Матвеевич Бухарев, в монашестве – архимандрит Феодор (1824–1871) был на десять лет старше Голубинского; в 1862 году вышел из монашества после запрещения Синодом его многолетнего труда по богословию «Исследования Апокалипсиса». Его оригинальные идеи органического соединения мирского с духовным, попытки сопряжения начал православия и современных культурных течений представлены в его тогдашней публицистике (в сб.: Бухарев А.М. О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно Русской. М., 1865). См. антологию: Архимандрит Феодор (А.М. Бухарев): pro et contra. Личность и творчество архимандрита Феодора в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 1997. – Примеч. ред.
(обратно)619
Цит. по: Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука… С. 49.
(обратно)620
См. первое примечание к первому тому – к названию начальной главы (Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. 2-е изд., испр. и доп. М., 1901. М., 1997. Т. 1. С. 1).
(обратно)621
Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука… С. 50.
(обратно)622
Там же. С. 50.
(обратно)623
Там же. Павлов Алексей Степанович (1832–1898) – профессор Казанской духовной академии, затем – Новороссийского и Московского университетов, крупный специалист по истории церковного права.
(обратно)624
Голубинский Е.Е. Воспоминания. С. 52. См. также: Архимандрит Иннокентий Просвирнин. Митрополит Макарий (Булгаков) и академик Евгений Голубинский. Из истории русской церковно-исторической науки // Журнал Московской Патриархии. 1973. № 6.
(обратно)625
Макарий (Булгаков), арх. История Киевской духовной академии. СПб., 1843.
(обратно)626
Чистович И.А. История С.-Петербургской Духовной Академии.
(обратно)627
Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука… С. 48.
(обратно)628
Никанор (Бровкович), архиеп. Биографические матерьялы. Одесса, 1900. С. 258.
(обратно)629
Карташёв А.В. Очерки по истории Русской Церкви. С. 20.
(обратно)630
См.: Христианское чтение. 1884. Т. 1. С. 805.
(обратно)631
Полетаев Н. Труды митрополита Киевского Евгения Болховитинова по истории русской церкви. С. 438.
(обратно)632
[Филарет (Гумилевский Д.Г.)] Обзор русской духовной литературы, 862–1863. 3-е изд., с поправками и доп. авт. СПб., 1884. Кн. 2. С. 400.
(обратно)633
Никанор (Бровкович), архиеп. Биографические матерьялы. С. 268–269.
(обратно)634
Михаил Яковлевич Морошкин (1820–1870) – священник, автор трудов: «Иезуиты в России, с царствования Екатерины II и до нашего времени» (в 2 ч. СПб., 1867–1870), «Славянский именослов, или Собрание славянских личных имен в алфавитном порядке» (СПб., 1867) и др. Ему же фактически принадлежит изданный под редакцией Н.Ф. Дубровина в начале ХХ века сборник: Материалы для истории Православной церкви в царствование Императора Николая I: в 2 кн. СПб., 1902. – Примеч. ред.
(обратно)635
Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука… С. 48.
(обратно)636
Знаменский П.В. История Казанской духовной академии… С. 135.
(обратно)637
См. прежде всего книгу: Знаменский П.В. Православие и современная жизнь. Полемика 60-х годов об отношении православия к современной жизни. М., 1906.
(обратно)638
Корсунский Ив. Хрисанф // Русский биографический словарь / А.А. Половцов (ред.): в 25 т. Т. 18. СПб., 1910. С. 429.
(обратно)639
Знаменский П. Руководство к русской церковной истории. Казань, 1870.
(обратно)640
Карташёв А.В. Очерки по истории Русской Церкви. С. 20.
(обратно)641
Чистович И.А. Руководящие деятели духовного просвещения в России в первой половине текущего столетия. СПб., 1894.
(обратно)642
См. также: Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. 2-е изд. СПб., 1899.
(обратно)643
Карташёв А.В. Очерки по истории Русской Церкви. С. 37.
(обратно)644
Афанасьев Н. Памяти А.П. Доброклонского // Вестник Русского студенческого христианского движения. 1938. № 2. С. 16–17.
(обратно)645
Успенский Б.А. История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема) // Труды по знаковым системам. [Т.] XXII. Тарту, 1988. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 463.) С. 76.
(обратно)646
«Подобно миру, история существует лишь в нашем воображении» (Копосов Н.Е. Как думают историки. М., 2001. С. 8).
(обратно)647
Thierry A. Lettres sur l’histoire de France pour servir d’introduction à l’étude de cette histoire. Paris, 1856. P. 13.
(обратно)648
См. об этом: Booth W. The Rhetoric of Fiction. Chicago, 1961; Iser W. Der implizite Leser: Kommunikationsformen des Romans von Buyan bis Beckett. München, 1972; Iser W. Der Akt des Lesens: Theorie ästhetscher Wirkung. München, 1976; Głowiński M. Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego // Studia z teorii i historii poezji. Seria pierwsza. Wrocław, 1967. S. 7–32; Červenka M. Literární dílo jako znak // Červenka M. Významová výstavba literámího díla. Praha, 1992. S. 131–144; Wolff E. Der intendierte Leser. Uberlegungen und Beispiele zur Einfuhrung eines literaturwissenschaftlichen Berrifts // Poetica. Zeitschrift fur Sprach– und Literaturwissenschaft. 1971. Bd. 4. S. 141–166; Grimm G. Rezeptionsgeschichte: Grundlegung einer Theorie. Mit Analysen und Bibliographie. Munchen, 1977; Eco U. Lector in fabula: La cooperazione interpretative nei testi narrative. Milan, 1979; Лотман Ю.М. Текст и структура аудитории // Труды по знаковым системам. Т. 9. Тарту, 1977. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 422.) С. 55–61; Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы. Ижевск, 1992. С. 119–128.
(обратно)649
Татищев В.Н. История Российская. Т. 1. М.; Л., 1962. С. 83.
(обратно)650
Там же. С. 80.
(обратно)651
Татищев В.Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 51.
(обратно)652
Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М., 1996. С. 355.
(обратно)653
О заказном характере большинства исторических текстов XVIII века см.: Милюков П.Н. Очерки истории исторической науки. М., 2002. С. 42–43.
(обратно)654
Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. С. 355.
(обратно)655
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 6. М.; Л., 1952. С. 171.
(обратно)656
Там же. С. 172.
(обратно)657
Там же. С. 24–25.
(обратно)658
Там же. С. 77.
(обратно)659
См., например: Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII – первая половина XIX в.). М., 1985. C. 23; Каменский А.Б. Судьба и труды Г.Ф. Миллера // Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. С. 384–385. Общий обзор см.: Хлевов А.А. Норманнская проблема в отечественной исторической науке. СПб., 1997.
(обратно)660
Каменский А.Б. Судьба и труды Г.Ф. Миллера. С. 385.
(обратно)661
Елагин И.П. Опыт повествования о России. М., 1803. Кн. 1. С. V–VI.
(обратно)662
Там же. С. XX.
(обратно)663
Там же. С. XXIII. Эпитеты «витиевато» и «плодовито» у Елагина получают неодобрительную оценку. Первый противопоставляется истинному красноречию, как то, чему можно научиться, – в противоположность тому, что закладывается самой природой. Второй же является синонимом многословия.
(обратно)664
Там же. С. XXV.
(обратно)665
Там же. С. XXVII.
(обратно)666
Там же. С. VIII.
(обратно)667
Там же. С. IX.
(обратно)668
Там же. С. XVII–XVIII.
(обратно)669
Елагин И.П. Опыт повествования о России. С. X.
(обратно)670
Там же. С. XXVII.
(обратно)671
Там же. С. XXXXVII–XXXVIII.
(обратно)672
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. М., 1958. С. 67.
(обратно)673
Карамзин Н.М. История государства Российского: в 3 кн с прил. М., 1988. Кн. 1. С. X–XI.
(обратно)674
«Время мы <…> часто концептуализируем в терминах пространства» (Копосов Н.Е. Как думают историки. С. 21.)
(обратно)675
О параллелизме между «Письмами русского путешественника» и «Историей государства Российского» Карамзина см.: Лотман Ю.М. Колумб русской истории // Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I V. М., 1988. С. 4–5.
(обратно)676
Лотман Ю.М. Пути развития русской прозы 1800-х – 1810-х годов // Труды по русской и славянской филологии. [Т.] I V. Тарту, 1961. (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 104) С. 43.
(обратно)677
Там же. С. 45.
(обратно)678
Вяземский П.А. Старая записная книжка. М., 2000. С. 231.
(обратно)679
Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения: в 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 552.
(обратно)680
Катенин П.А. Размышления и разборы. М., 1981. С. 231.
(обратно)681
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 67.
(обратно)682
Характерно, что некоторые издания карамзинской «Истории» выходили в свет без примечаний.
(обратно)683
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 66.
(обратно)684
Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь «умственные плотины». М., 1986. С. 56.
(обратно)685
Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 134.
(обратно)686
Там же. Т. 1. С. 456.
(обратно)687
Там же. С. 394.
(обратно)688
Thierry A. Lettres sur l’histoire de France… P. 13–14.
(обратно)689
Полевой Н.А. [Рец. на кн.:] История Государства Российского. Сочинение Н.М. Карамзина. Т. I–XII // Московский телеграф. 1829. Ч. 27. С. 467.
(обратно)690
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 7. М., 1957. С. 144.
(обратно)691
Полевой Н.А. История русского народа: в 6 т. Т. 1. М., 1829. С. XXI.
(обратно)692
«Чем дальше, тем определеннее сползал он на карамзинскую схему русской истории» (Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С. 253).
(обратно)693
Лотман Ю.М. Пути развития русской прозы… С. 45.
(обратно)694
Успенский Б.А. История и семиотика. С. 66–67.
(обратно)695
Подборку сведений об этом см.: Шмидт С.О. «История государства Российского» в культуре дореволюционной России // Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 4 (прил.). С. 31–36.
(обратно)696
См.: Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. СПб., 2004.
(обратно)697
Проскурина В.Ю. Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006; Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети ХVIII – первой трети ХIX века. М., 2001; Живов В.М. Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002; Погосян Е.А. Пётр I – архитектор российской истории. СПб., 2001; Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: в 2 т. Т. 1: От Петра Великого до смерти Николая I. М., 2002.
(обратно)698
Вяземский П.А. Ю.А. Нелединский-Мелецкий // Вяземский П.А. Сочинения: в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 293.
(обратно)699
Там же.
(обратно)700
Golburt L. Catherine’s Retinue: Old Age, Fashion, and Historicism in the Nineteenth Century // Slavic Review. 2009. Vol. 68. No. 4. P. 782–783.
(обратно)701
Вяземский П.А. Старая записная книжка. М., 2000. С. 92.
(обратно)702
Герцен А.И. Былое и думы. Ч. 4. // Герцен А.И. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 9. М., 1956. С. 66.
(обратно)703
Там же. С. 70.
(обратно)704
О символике руин см.: Schönle A. Ruins and History: Observations on Russian Approaches to Destruction and Decay // Slavic Review. 2006. Vol. 65. No. 4. Р. 649–669.
(обратно)705
Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 94.
(обратно)706
Там же.
(обратно)707
Вяземский П.А. О Державине // Вяземский П.А. Сочинения. Т. 2. С. 9.
(обратно)708
Вяземский П.А. О «Кавказском пленнике», повести соч. А. Пушкина // Вяземский П.А. Сочинения. Т. 2. С. 43.
(обратно)709
Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 208–211.
(обратно)710
Вяземский П.А. О письме Екатерины II к Сумарокову // Вяземский П.А. Полное собрание сочинений: в 12 т. СПб., 1878. Т. I. С. 61–62.
(обратно)711
Вяземский П.А. Московское семейство старого быта // Русские мемуары. Избранные страницы. 1800–1825 гг. М., 1989. С. 547.
(обратно)712
Стенник Ю.В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-истори ческой мысли XVIII – начала XIX века. СПб., 2004. С. 225.
(обратно)713
Кюхельбекер В. Изящная проза. Европейские письма // Невский зритель. СПб., 1820. Февраль. С. 45.
(обратно)714
Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В.А. Озерова // Вяземский П.А. Сочинения. Т. 2. С. 14.
(обратно)715
См.: Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. С. 63, 206.
(обратно)716
Бестужев Н.А. Избранная проза. С. 47.
(обратно)717
Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 106.
(обратно)718
Бестужев Н.А. Избранная проза. С. 80–81.
(обратно)719
Карамзин Н.М. История государства Российского: в 3 кн. с прил. Кн. 3. М., 1989. С. XV.
(обратно)720
Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 32.
(обратно)721
Письма А.И. Тургенева к Н.И. Тургеневу. Лейпциг, 1872. С. 9.
(обратно)722
Леман-Карли Г. Взгляды геттингенских историков на российскую историю и проблема «древней» и «новой» России (А.-Л. Шлёцер, А.И. Тургенев, Н.М. Карамзин) // Литература и история (Исторический процесс в творческом сознании русских писателей и мыслителей XVIII–XX вв.). Вып. 2. СПб., 1997. С. 51.
(обратно)723
Щербатов М.М. Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого // Пётр Великий: Pro et contra. СПб., 2003.
(обратно)724
Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. Т. VI. СПб., 1881. С. 340.
(обратно)725
Белинский В.Г. Россия до Петра Великого // Собрание сочинений: в 9 т. Т. 4. М., 1979. С. 9.
(обратно)726
Полевой Н.А. История Петра Великого. М., 1899. С. 431.
(обратно)727
Тургенев А.И. Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.) М.; Л., 1964. С. 104.
(обратно)728
Тургенев А.И. Российский двор в XVIII веке. СПб., 2005. С. 133.
(обратно)729
Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 3. С. XVI.
(обратно)730
Тургенев А.И. – Вяземскому П.А. (30 апреля 1837 г., Москва) // Тургенев А.И. Политическая проза. М., 1989. С. 223.
(обратно)731
Тургенев А.И. Дневники апрель – май 1834 г. // ОР РНБ. Ф. 326. [Архив Е.П. Казанович]. № 59. Л. 10.
(обратно)732
Вяземский П.А. Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина // Вяземский П.А. Сочинения. Т. 2. С. 212.
(обратно)733
См. также: Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987. – Примеч. ред.
(обратно)734
Минье [Ф.]. История французской революции. СПб., 1901. С. II
(обратно)735
«После обеда обыкновенно читаем мы все трое вместе: я чтец, а Жуковский и брат слушатели…» (Письма А.И. Тургенева к Н.И. Тургеневу. С. 8).
(обратно)736
Тургенев А.И. Хроника русского. С. 431.
(обратно)737
Жуковский В.А. – Вяземскому П.А. (26 декабря 1826 года, Дрезден) // Жуковский В.А. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М.; Л., 1960. С. 590.
(обратно)738
Минье [Ф.]. История французской революции. С. 2.
(обратно)739
Тургенев А.И. Хроника русского. С. 432.
(обратно)740
Минье [Ф.]. История французской революции. С. 178.
(обратно)741
См.: Тургенев А. Политическая проза. М., 1989. С. 9.
(обратно)742
Герцен А.И. Дневник. Ноябрь 1842 г. // Собрание сочинений. Т. 2. М., 1954. С. 242.
(обратно)743
Мильчина В. Франсуа Артог. Типы исторического мышления: презентизм и формы восприятия времени // Отечественные записки. 2004. № 5. [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 02.10.2011 г.).
(обратно)744
Подробно о влиянии Шатобриана на русское общество см.: Barrat G.R. Chateaubriand in Russia, 1800–1830 // Comparative Literature Studies. 1972. Vol. 9. No. 2. Р. 152–172.
(обратно)745
Тургенев А.И. Хроника русского. С. 381.
(обратно)746
Письма А.И. Тургенева к Н.И. Тургеневу. С. 232.
(обратно)747
Цит. по: Артог Ф. Времена мира, история, историческое письмо // НЛО. 2007. № 83. [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 02.10.2011 г.).
(обратно)748
Французские корреспонденты А.И. Тургенева (Ш. Ренуар, Ф. Гизо, Ш. Маньен, О. Тьерри, О. и Ф.-А. Лев-Веймар) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 243.
(обратно)749
Русскоее общество 40–50-х годов XIX в. Ч. 1. Записки А.И. Кошелева. М., 1991. С. 69.
(обратно)750
Станкевич Н.В. Избранное. М., 1982. С. 110.
(обратно)751
Станкевич Н.В. – Неверову Я.М. (21 сентября 1836 г., Удеревка) // Станкевич Н.В. Избранное. С. 145.
(обратно)752
Тургенев А.И. Хроника русского. С. 459–460.
(обратно)753
Там же. С. 373.
(обратно)754
«В день взрыва только один факт сохранял свою реальность и мощь: общая цивилизация страны» (Тургенев А.И. Хроника русского. С. 433).
(обратно)755
Там же.
(обратно)756
Там же.
(обратно)757
«При входе concierge поручил нас женщине, которая воспитана в сем заведении с малолетства и до тех пор не оставляла его, прожив здесь всю грозу революции» (Там же. С. 324); «…прекрасная готическая церковь с прахом королей, бурею революции рассеянным» (С. 425).
(обратно)758
Минье [Ф.]. История французской революции. С. 232, 293, 296.
(обратно)759
Тургенев А.И. Хроника русского. С. 459.
(обратно)760
Тургенев А.И. Дневники апрель – май 1834 г. // ОР РНБ. Ф. 326. № 59. Л. 7 об.
(обратно)761
Shlapentokh D. The French Revolution in Russian Intellectual Life. 1865–1905. Westport, 1996. P. 109.
(обратно)762
По мнению М.И. Гиллельсона, мадам де Сталь пользовалась глубоким уважением Пушкина, Вяземского и людей их круга (Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. С. 76).
(обратно)763
См. тогдашний русский перевод: Скотт В. Картина французской революции, служащая вступлением к жизни Наполеона Бонапарте. СПб., 1833. Ч. 1. С. 219; Ч. 3. С. 28.
(обратно)764
Н.М. Карамзин – В.М. Карамзину (22 мая 1817 г., Царское Село) // Выписки из писем историографа Ник. Мих. Карамзина к брату его Вас. Мих. Карамзину и четыре письма
(обратно)765
Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 27.
(обратно)766
Письма В.А. Жуковского А.И. Тургеневу. М., 1895. С. 276.
(обратно)767
История французской революции, избранная из латинских писателей // Пантеон иностранной словесности. М., 1818. Ч. 1. С. 215–236.
(обратно)768
Там же. С. 216.
(обратно)769
«Со времени основания Московского университета и вплоть до пушкинской эпохи римские авторы владели воображением русских образованных людей, были предметом их усилий как переводчиков, пробуждали в них разнообразные таланты и определяли чувство близости России к европейской культуре» (Kahn A. Readings of Imperial Rome from Lomonosov to Pushkin // Slavic Review. 1993. Vol. 52. No. 4. Р. 747.)
(обратно)770
Фролов Э.Д. Русская наука об античности: Историографические очерки. СПб., 1999. С. 105–106.
(обратно)771
Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М., 1993. Кн. 3. С. 414.
(обратно)772
Герцен А.И. Былое и думы. Ч. 1. // Герцен А.И. Собрание сочинений. Т. 8. М., 1956. С. 64–65.
(обратно)773
Shlapentokh D. The French Revolution in Russian Intellectual Life. P. 104
(обратно)774
См.: Герцен А.И. Былое и думы. Ч. 4. С. 152
(обратно)775
Там же. С. 159.
(обратно)776
Там же. С. 203.
(обратно)777
Н.Х. Кетчер (1809–1886) – писатель-переводчик, врач, член кружка Н.В. Станкевича, друг А.И. Герцена и Н.П. Огарёва.
(обратно)778
Герцен А.И. Былое и думы. Ч. 4. С. 226.
(обратно)779
Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб., 1999. С. 48.
(обратно)780
Севастьянова А.А. Русская провинциальная историография второй половины XVIII в. М., 1998.
(обратно)781
Макарихин В.П. Губернские ученые архивные комиссии России. Н. Новгород, 1991.
(обратно)782
Сумцов Н. «Губернские ведомости» как пособие при изучении русской истории и этнографии // Киевская старина. 1885. № 2. С. 394.
(обратно)783
Аскоченский В.И. Дневник // Исторический вестник. 1882. № 9. С. 32–33.
(обратно)784
Сахаров И.П. Мои воспоминания // Русский архив. 1873. № 6. С. 900.
(обратно)785
Там же; Н.А. [Андреев Н.Ф.] Прогулка по Туле и путешествие по ее окрестностям. Статья первая // Москвитянин. 1843. № 2. С. 606; Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина: [в 22 кн.]. Кн. 3. СПб., 1890. С. 365–366.
(обратно)786
Н.А. [Андреев Н.Ф.] Прогулка по Туле и путешествие по ее окрестностям. С. 608–610.
(обратно)787
Там же. С. 607.
(обратно)788
Снегирёв И.М. Дневник: [в 2 т.]. Т. 1. М., 1904. С. 249.
(обратно)789
Снегирёв И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды: в 4 вып. Вып. 1. М., 1837. С. V.
(обратно)790
Там же. С. I–II.
(обратно)791
Титов А.А. Биографический очерк протоиерея Михаила Диева с приложением его писем к Ивану Михайловичу Снегирёву: 1830–1857 // Чтения в Имп. обществе истории и древностей российских. 1887. Кн. 1. С. 80, 82.
(обратно)792
Там же. С. 38.
(обратно)793
Диев М.Я. Какой народ в древние времена населял Костромскую сторону, и что известно об этом народе? // Там же. 1865. Кн. 4. С. 167–178.
(обратно)794
В.Т. [Тизенгаузен В.Г.] рец. на: ЧОИДР. М., 1865. 4 книги // Известия Имп. археологического общества. 1866. Т. 6. Вып. 2. Стб. 58.
(обратно)795
О.Б. [Бодянский О.М.] Объяснение // Чтения в Имп. обществе истории и древностей российских. 1866. Кн. 2. С. 189–190.
(обратно)796
Тизенгаузен В. Ответ на «Объяснение» // Там же. 1866. Кн. 4. С. 259; Бодянский О. Новое объяснение // Там же. С. 263.
(обратно)797
Подробнее см.: Найт Н. Наука, империя и народность: Этнография в Русском географическом обществе, 1845–1855 // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. М., 2005. С. 176–182.
(обратно)798
Барсуков Н.П. Жизнь и труды П.М. Строева. СПб., 1878. С. 198.
(обратно)799
Там же. С. 198–199.
(обратно)800
Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 2. СПб., 1889. С. 369.
(обратно)801
Там же. Кн. 5. СПб., 1892. С. 89.
(обратно)802
Там же. С. 93; Там же. Кн. 6. СПб., 1892. С. 180–182.
(обратно)803
Там же. Кн. 5. С. 82.
(обратно)804
Г….й П….н [Парихин Г.] Провинциальные увеселения (Письмо к редактору литературных прибавлений) // Литературные прибавления к Русскому Инвалиду. 1839. № 2. С. 34, 36.
(обратно)805
Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 5. С. 81–82.
(обратно)806
Погодин М.П. [рец. на книги: ] Козловский А. Взгляд на историю Костромы. М., 1840; Иванчин-Писарев Н. День в Троицкой Лавре. М., 1840; Он же. Вечер в Симоновом монастыре. М., 1840; Он же. Утро в Новоспасском монастыре. М., 1840; Снегирёв И.М. Путевые записки о Троицкой Лавре. М., 1840; Крылов И.З. Достопамятные могилы в Московском Высоко-Петровском монастыре. М., 1841 // Москвитянин. 1841. Ч. 2. С. 479–481.
(обратно)807
Там же. С. 481.
(обратно)808
Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 6. С. 221–228.
(обратно)809
Там же. Кн. 8. СПб., 1894. С. 411–413.
(обратно)810
Там же. С. 201.
(обратно)811
Цит. по: Лазарчук Р.М. К.Н. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий. Череповец, 2007. С. 304.
(обратно)812
Титов А.А. Биографический очерк протоиерея Михаила Диева… С. 33, 39–40, 88; Письма о. Михаила Диева к И.М. Снегирёву. М., 1909. С. 30.
(обратно)813
Титов А.А. Биографический очерк протоиерея Михаила Диева… С. 88, 113.
(обратно)814
Отдел рукописей и редкой книги Российской национальной библиотеки. Ф. 678. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 57–57 об.; Г….й П….н [Парихин Г.] Провинциальные увеселения. С. 35.
(обратно)815
Iнститут рукописiв. Нацiональна бiблiотека Украïни iменi В.I. Вернадьского. Ф. 22. Оп. 1. Ед. хр. 241. Л. 5 об. – 6 об.
(обратно)816
Филиппов Д.Ю. И.С. Гагин: новые биографические материалы // Провинциальное культурное гнездо (1778–1920-е гг.): сб. статей и материалов / А.А. Севастьянов (отв. ред.). Рязань, 2005. С. 54–55.
(обратно)817
Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 203. Кн. 14. Л. 206–206 об.
(обратно)818
Отдел письменных источников Государственного исторического музей. Ф. 178. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 66 об.; Белёвская вивлиофика. Собр. древних памятников об истории Белёва и Белёвского уезда: в 2 т. М., 1858. Т. 1. С. III.
(обратно)819
Там же. С. III–IV.
(обратно)820
Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф. 178. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 67.
(обратно)821
Белёвская вивлиофика. С. V–VIII.
(обратно)822
Синбирский сборник. М., 1844. С. Е – З.
(обратно)823
Там же. С. Н.
(обратно)824
Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф. 178. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 87 об.; Письма П.В. Киреевского к Н.М. Языкову. М.; Л., 1935. С. 79; Пирожкова Т.Ф. Славянофильская журналистика. М., 1997. С. 47.
(обратно)825
Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф. 178. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 86 об. – 88 об.
(обратно)826
Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 231. Р. II. К. 8. Ед. хр. 42. Л. 5–5 об.; Государственный архив Российской Федерации. Ф. 279. Оп. 1. Ед. хр. 1099. Л. 1–10 об.; Iнститут рукописiв. Нацiональна бiблiотека Украïни iменi В.I. Вернадьского. Ф. 22. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 1–2.
(обратно)827
Акты Оскольского края (из собрания старинных актов о Курской губернии) // Труды Курского губернского статистического комитета. Вып. 1. Курск, 1863. С. 355–484.
(обратно)828
Троцкий Л.Д. Судьба толстого журнала [1914] // Троцкий Л.Д. Литература и революция. М., 1991. С. 297–298.
(обратно)829
Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту: Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX в. М., 2009 [1991]. С. 39–42.
(обратно)830
Бурдьё П. Начала. Choses dites: пер. с фр. М., 1994 [1987]. С. 196–198.
(обратно)831
Белинский В.Г. Руководство к всеобщей истории. Сочинение Ф. Лоренца // Отечественные записки. 1842. № 1. С. 35.
(обратно)832
Мохначёва М.П. Журналистика и историческая наука: в 2 кн. Кн. 2: Журналистика и историографическая традиция в России 30–70-х гг. XIX в. М., 1999. С. 194.
(обратно)833
Там же. С. 127–165.
(обратно)834
Троицкий Ю.Л. Российская провинция: от топоса к имени // Сибирские чтения в РГГУ. Вып. 1. М., 2006. С. 34.
(обратно)835
См.: Мордовцев Д.Л. Печать в провинции // Дело. 1875. № 9. С. 44–74; № 10. С. 1–32; Ткачёв П.Н. Культурные идеалы и почва // Дело. 1876. № 7; Гациский А.С. Смерть провинции или нет?: (Открытые письма Д.Л. Мордовцеву). Н. Новгород, 1876.
(обратно)836
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 86. Л. 1.
(обратно)837
Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного М., 1997. С. 102.
(обратно)838
От редакции. Программа «Вестника Европы» с 1866 г. // Вестник Европы. 1866. № 1. С. VI.
(обратно)839
Там же. С. VII.
(обратно)840
Историческая хроника // Вестник Европы. 1866. №. 1. С. 1.
(обратно)841
Пыпин А.Н. Московская старина // Там же. 1885. № 2. С. 689.
(обратно)842
См., например: А. В-н. Исторические новости // Там же. 1890. № 5. С. 257–301.
(обратно)843
Там же. С. 261–262.
(обратно)844
Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в культуре пореформенной России // Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Л.П. Репина (ред.). М., 2008. С. 644.
(обратно)845
Литературная хроника // Вестник Европы. 1866. №. 1. С. 1–2.
(обратно)846
Цит. по: Кельнер В.Е. М.М. Стасюлевич и либеральная оппозиция в 70-х – начале 80-х гг. XIX в. // Отечественная история. 1992. № 4. С. 59.
(обратно)847
Там же. С. 69.
(обратно)848
РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 87. Л. 46.
(обратно)849
Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту. С. 47–48.
(обратно)850
Там же.
(обратно)851
А. Н-в. Новые исторические вопросы // Вестник Европы. 1869. № 10. С. 799.
(обратно)852
Литературная хроника // Там же. 1866. №. 2. С. 22.
(обратно)853
А. Н-в. Новые исторические вопросы. С. 790–791.
(обратно)854
Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в культуре пореформенной России. С. 638.
(обратно)855
Там же. С. 639.
(обратно)856
Пыпин А.Н. Народничество // Вестник Европы. 1884. № 1. С. 152; Пыпин А.Н. Новейшие исследования русской народности // Там же. 1883. № 2. С. 599–639 и др.
(обратно)857
Хроника. Литературное обозрение // Там же. 1891. № 4. С. 870–871.
(обратно)858
Рец. на кн.: Сукачёв В.П. Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири // Вестник Европы. 1891. № 10. С. 844–845.
(обратно)859
Рец. на кн: Сибирский сборник. СПб., 1886 // Вестник Европы. 1886. № 7. С. 415–417; А.П. [Пыпин А.Н.] Рец. на кн: Андриевич В.К. Исторический очерк Сибири. Т. 2. Иркутск, 1886 // Там же. № 9. С. 403–406; Рец. на кн: Нижегородский сборник // Там же. 1890. № 8. С. 865–868; Рец. на кн: Алтай. Томск, 1890 // Там же. 1891. № 4. С. 870–875; Терский календарь на 1891 год. Владикавказ, 1890 // Там же. № 5. С. 409–411 и др.
(обратно)860
Рец. на кн.: Клеменц Д. Древности Минусинского музея // Вестник Европы. 1887. № 1. С. 409.
(обратно)861
Исторические новости // Вестник Европы. 1890. № 5. С. 258.
(обратно)862
Литературное обозрение // Там же. 1885. № 3. С. 435.
(обратно)863
А.П. [Пыпин А.Н.] Рец. на кн.: Андриевич В.К. Исторический очерк Сибири. С. 403.
(обратно)864
См.: Рец. на кн.: Латкин В. Материалы для истории Земских соборов XIX в. СПб., 1884 // Вестник Европы. 1885. № 3. С. 439.
(обратно)865
Маловичко С.И., Мохначёва М.П. Регионалистика – историческое краеведение – локальная история: размышление о пороках и порогах несовместимости // Харкiвський iсторiографiчний збiрник. Вип. 8. Харькiв, 2006. С. 30–31; Маловичко С.И. Тип исторического знания в провинциальном историописании и историческом краеведении // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. Вып. 7. Ставрополь, 2005. С. 5–31.
(обратно)866
А.П. [Пыпин А.Н.] Рец. на кн.: Андриевич В.К. Исторический очерк Сибири. С. 405.
(обратно)867
Рец. на кн.: Витевский В.Н. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. Казань, 1891 // Вестник Европы. 1891. № 4. С. 868.
(обратно)868
См., например: ОР РНБ. Ф. 621 (А.Н. Пыпин). Д. 687. Л. 7–8; ОР РНБ. Ф. 621 (А.Н. Пыпин). Д. 1027 (Письма Н.М. Ядринцева А.Н. Пыпину); ИРЛИ. Ф. 293 (М.М. Стасюлевич). Оп. 1. Д. 1631 (Письмо Н.М. Ядринцева М.М. Стасюлевичу); ИРЛИ. Ф. 293 (М.М. Стасюлевич). Оп. 1. Д. 1632 (Письмо А.Ф. Ядринцевой М.М. Стасюлевичу).
(обратно)869
См., например: ОР РГБ. Ф. 77 (В.А. Гольцев). К. 7. Д. 55. Л. 1; Архив В.А. Гольцева. М., 1914. С. 155–156 и др.
(обратно)870
См., например: ОР РГБ. Ф. 135 (В.Г. Короленко). Разд. II. Карт. 36. Д. 20. Л. 1; ИРЛИ. Ф. 114 (А.И. Иванчин-Писарев). Оп. 2. Д. 204. Л. 1 об. и др.
(обратно)871
Слонимский Л. М.М. Стасюлевич как редактор // М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке / М.К. Лемке (ред.): в 5 т. Т. 1. СПб., 1911. С. 27.
(обратно)872
Мохначёва М.П. Журналистика и историческая наука. С. 365–367.
(обратно)873
Пименова Э.К. Дни минувшие. Л.; М., 1929. С. 155.
(обратно)874
ИРЛИ. Ф. 293. (М.М. Стасюлевич). Оп. 1. Д. 1696. Л. 40, 51, 60, 105, 130.
(обратно)875
Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в культуре пореформенной России. С. 640.
(обратно)876
ИРЛИ. Ф. 343 (С.Н. Шубинский). Д. 115. Л. 18 об.
(обратно)877
Аристов Н.Я. Разработка русской истории в последние двадцать пять лет (1855–1880) // Исторический вестник. 1880. № 4. С. 672.
(обратно)878
Там же. С. 676.
(обратно)879
Цит. по: Кельнер В.Е. «От Древней и Новой России» к «Историческому вестнику» (С.Н. Шубинский и становление исторических научно-популярных изданий в России в 1870-е гг.) // Книжное дело в России во второй половине XIX – начале ХХ в. Л., 1988. С. 158.
(обратно)880
., например: Город Владимир в 1877 г. // Исторический вестник. 1880. № 2. С. 3.
(обратно)881
Мохначёва М.П. Журналистика и историческая наука. С. 198.
(обратно)882
А.О. Рец. на кн.: Латкин Н.В. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. СПб., 1892 // Исторический вестник. 1893. № 7. С. 234.
(обратно)883
Рец. на кн.: Харьковский сборник. Вып. 5. Харьков, 1891 // Исторический вестник. 1891. № 11. С. 510.
(обратно)884
Рец. на кн.: Календарь и памятная книжка Курской губернии на 1884 г. Курск, 1884 // Исторический вестник. 1884. № 6. С. 684.
(обратно)885
А.Л. Рец. на кн.: Нижегородский сборник. Т. 10. Нижний Новгород, 1891 // Исторический вестник. 1891. С. 729.
(обратно)886
П.П. Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Пятый год издания // Там же. 1887. № 1. С. 213.
(обратно)887
ОР РНБ. Ф. 874. (С.Н. Шубинский). Оп. 1. Д. 79. Л. 72.
(обратно)888
Там же. Д. 37. Л. 287.
(обратно)889
Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 г. СПб., 1862. С. 482.
(обратно)890
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 3. Л. 48–48 об.; Д. 4. Л. 170 об.–173; Д. 6. Л. 9 об. и др.
(обратно)891
Сборник статей, недозволенных цензурой в 1862 году: в 2 т. СПб., 1862.
(обратно)892
Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры, 1700–1863. СПб., 1892; Лемке М.К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904; История Комитета 2 апреля 1848 года в документах / Н.А. Гринченко (публ.) // Цензура в России: История и современность: сб. науч. трудов. Вып. 3. СПб., 2006. С. 224–246 и др.
(обратно)893
Лемке М.К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. С. 199.
(обратно)894
[Мнение Государственного совета о преимуществах цензоров] // ПСЗ II [Собр.] Т. 25. № 24342.
(обратно)895
ОР РНБ. Ф. 208. Оп. 1. Д. 3. Л. 47–71.
(обратно)896
ПСЗ II. Т. 40. Отд. 1. № 41988.
(обратно)897
«Конфиденциальная инструкция цензорам столичных цензурных комитетов» от 23 августа 1865 г. // Материалы, собранные особою комиссиею, Высочайше учрежденною 2 ноября 1869 года, для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати: [в 5 ч.]. СПб., 1870. Ч. II. С. 180–181.
(обратно)898
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 3. Л. 77–77 об.
(обратно)899
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 3. Л. 113–117.
(обратно)900
Закон «О дополнении и изменении некоторых из действующих узаконений о печати», признавая факт освобождения от предварительной цензуры в столицах объемных сочинений, принадлежащих «к литературе серьезной, обращающейся к более зрелым умам» и по цене недоступной к распространению «в массе малообразованных читателей» и не могущей «служить орудием вредной пропаганды», тем не менее указывал, что под этой маркой вышло много «сочинений, наполненных самыми опасными лжеучениями», направленными на то, чтобы «поколебать основы государственного и общественного порядка». Особые опасения законодателей вызвало то, что книги эти продавались за треть и четверть стоимости и попадали в университеты, гимназии, а также к лицам, «посвятившим себя распространению вредных учений». Поскольку «пересмотр узаконений о печати» затягивался, закон предусматривал ряд карательных мер. В частности, бесцензурная книга или номер повременного издания, выходившего реже одного раза в неделю, признанные министром внутренних дел «особо вредными», подлежали задержанию в типографии, а вопрос об окончательном запрещении передавался на разрешение в Комитет министров (без высочайшего повеления). Лица, выпустившие в свет, утаившие экземпляр задержанной книги или способствовавшие ее распространению, подвергались наказанию. Если в издании содержалось «преступление, то независимо от задержания возбуждалось судебное преследование». Бесцензурное периодическое издание должно было быть представлено за четыре дня до рассылки читателям, а непериодическое – выйти в свет только через семь дней «после получения расписки» в принятии узаконенного числа экземпляров. См.: ПСЗ II. Т. 4. Отд. 1. № 50958. 7 июня 1872 г. С. 815–817.
(обратно)901
ПСЗ III. Т. 2. № 1072. С. 390–391.
(обратно)902
Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия (политическая реакция 70 – начала 90-х годов). М., 1970. С. 264.
(обратно)903
В числе таких наказаний были: денежные взыскания и аресты; тюремное заключение за напечатание произведений без просмотра цензуры, за открытие и содержание тайно типографий, литографий или металлографий, за хранение, продажу книг, запрещенных цензурой и т. п. (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. СПб., 1909. Разд. VIII. Изд. V. Отд. II).
(обратно)904
ПСЗ III. Т. 6. № 4772. С. 512; Там же. Т. 16. № 12992. С. 484–485.
(обратно)905
Там же. Т. 17. № 13902, 28 марта 1887 г. С. 14.
(обратно)906
Новомбергский Н.Я. Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России. СПб., 1903. С. 228.
(обратно)907
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 3. Л. 48 об.
(обратно)908
Там же. Д. 4. Л. 170об. –173; Д. 6 Л. 9 об.
(обратно)909
Еленев Фёдор Павлович (1829(1827)–1902) писатель (под псевдонимом Скалдин опубликовал очерки «В захолустье и в столице», 1870), автор брошюры о студенческих волнениях (см.: Материалы для характеристики положения русской печати: [в 2 вып.]. Женева, 1898. Вып. 1. С. 4), цензор Санкт-Петербургского цензурного комитета в 1860-х годах, с 1870-х годов член ГУДП, до службы в цензуре придерживался либеральных взглядов.
(обратно)910
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 7. Л. 675–679об.
(обратно)911
Там же. Д. 3. Л. 47–51; 135–135 об.; Д. 4. Л. 136 об.–138 об.; Д. 14. Л. 161–163 об.
(обратно)912
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 2. Л. 209–212; Л. 338 об.–342 об.
(обратно)913
Там же. Д. 3. Л. 221 об.–240; Д. 8. Л. 7–14.
(обратно)914
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 2. Л. 95–96 об; Д. 1. Л. 192; Д. 6. Л. 125; Д. 7. Л. 587.
(обратно)915
ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 5. Д. 458. Л. 38–38 об.; Д. 504. Л. 36–36 об.; Д. 508. Л. 16 об., 26; Д. 509. Л. 45; Д. 515. Л. 13, 17 об.
(обратно)916
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 6. Л. 315 об.
(обратно)917
ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 5. Д. 545. Л. 57–70.
(обратно)918
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 3. Л. 47–51; 135–135 об.
(обратно)919
Там же. Л. 249 об.–250 об.
(обратно)920
Там же. Д. 14. Л. 110–114; Л. 128 об.–134 об.
(обратно)921
ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 5. Д. 474. Л. 53; Д. 15. Л. 100–100 об.
(обратно)922
ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 5. Д. 474. Л. 53; Д. 15. Л. 100–100 об.; Оп. 3. Д. 2172. Л. 263–263 об.; РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 11. Л. 325 об.–326; Оп. 2. Д. 15. Л. 297–302 об.; Д. 20. Л. 26–27 об.
(обратно)923
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 7. Л. 308, 311–314 об., 662–669.
(обратно)924
Там же. Д. 9. Л. 674, 676 об.–692.
(обратно)925
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 4. Л. 443–444; Д. 6. Л. 143–144; Д. 7. Л. 81–83 об., 241–247, 419 об.–422; Д. 8. Л. 390 об.–402, 644 об.–645; Д. 9. Л. 95 об.–96 об.; Д. 10. Л. 190 об.–193; Д. 12. Л. 208–209.
(обратно)926
РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 3. Л. 130–132; Д. 4. Л. 30–36 об., 142 об.–146.
(обратно)927
Там же. Д. 5. Л. 226–229, 233–238, 445–448 об.; Д. 9. Л. 597, 621–624 об.; Д. 16. Л. 286–289.
(обратно)928
Цит. по: Васильева Р.В. Главное археологическое учреждение царской России: Императорская археологическая комиссия. 1859–1917 гг.: Заметки архивиста // Культурное наследие Российского государства. СПб., 1998. С. 94.
(обратно)929
Памятники архитектуры в дореволюционной России: Очерки истории архитектурной реставрации / А.С. Щенков (ред.). М., 2002.
(обратно)930
Ср., например, реставрационные работы в Нижегородском кремле видного архитектора, сторонника неовизантийского стиля, знатока строительной техники прошлого и активного участника археологических съездов 1880-х годов Николая Владимировича Султанова (Салтанова) (1850–1908) (см.: Султанов Н. История архитектурных форм. СПб., 1903; Савельев Ю.Р. Николай Султанов. СПб., 2003). В его деятельности соединялись два разных подхода к памятнику архитектуры, см.: Ерёмин И.О. Эволюция отношения к памятникам русского оборонного зодчества со стороны официальных властей в XIX – первой половине ХХ вв. (на примере Нижегородского кремля) // Памятники истории и архитектуры Европейской России (Исследование, реставрация, охрана): материалы докладов науч. конференций «Проблемы исследования памятников истории, культуры и природы Европейской России». Н. Новгород, 1995. С. 80.
(обратно)931
О терминологии см.: Зозуля Л.И. Понятие «исторический памятник» в России в XIX – начале XX в. // Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры / Э.А. Шулепова (отв. ред.). М., 1992. С. 160–171. В этой статье существенно скорректированы выводы
(обратно)932
Разгон А.М. Предварительный музейный съезд – итоги развития музейного дела в России // Музей и власть: Из жизни музеев. М., 1991. С. 18.
(обратно)933
Охрана культурного наследия России XVII – ХХ вв.: Хрестоматия. Т. 1. М., 2000.
(обратно)934
Комарова И.И. Законодательство по охране памятников культуры: Историко-правовой аспект. М., 1989. С. 6–13. Конечно, курьезы, особенно останки так называемых волотов – людей-великанов (на самом деле, мамонтов), интересовали власть и в XVII веке, однако это не привело к появлению указов о выявлении и сохранении этих останков (Замятин С.Н. Первая русская инструкция для раскопок // Советская археология. 1950. Т. XIII. С. 287–288).
(обратно)935
Охрана культурного наследия России. С. 25, 28.
(обратно)936
200-летие Кабинета Его Императорского Величества. СПб., 1911.
(обратно)937
Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. М., 1986. С. 21.
(обратно)938
Охрана культурного наследия России. С. 100–101.
(обратно)939
Цит. по: Разгон А.М. Исторические музеи в России (с начала XVIII в. до 1861 г.) // Очерки истории музейного дела в СССР: сб. ст. Вып. 5. М., 1963. (Труды НИИ музееведения. Т. IX.) С. 206.
(обратно)940
Там же. С. 209, 208.
(обратно)941
Охрана культурного наследия России. С. 24. Об организации Кунсткамеры подробнее см.: Станюкович Т.В. Кунсткамера Петербургской Академии наук. М.; Л., 1954.
(обратно)942
Шарымов А.М. Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 г.: Книга исследований. СПб., 2004.
(обратно)943
Кириллов И.К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М., 1977. Кириллов принимал самое непосредственное участие в подготовке и организации академических экспедиций; он был составителем первого общего географического атласа Российской империи – «Atlas imperii russici» (см.: Троицкий С.М., Новлянская Н.Г., Гольдберг Л.А. И.К. Кирилов и его труд «Цветущее состояние Всероссийского государства» // Кириллов И.К. Цветущее состояние Всероссийского государства. С. 8–10, 13–16).
(обратно)944
См. общий очерк: Данилов И. Правительственные распоряжения относительно отечественных древностей с императора Петра I, особенно в царствование императора Александра II // Вестник археологии и истории. СПб., 1886. Вып. 6. С. 1–50.
(обратно)945
Равикович Д.А. Из истории организации сибирских музеев в XIX в. // История музейного дела в СССР: сб. ст. [Вып. 1] М., 1957. (Труды НИИ музееведения. Т. I.) С. 163.
(обратно)946
Гнучева В.Ф. Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX вв. М.; Л., 1940.
(обратно)947
См., например: Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. С. 33.
(обратно)948
Гурвич Д.М. В.Н. Татищев и русская археологическая наука // Советская археология. Т. 26. М., 1956. С. 153–164.
(обратно)949
О вкладе В.Н. Татищева в изучение и сохранение культурного наследия Урала см.: В.Н. Татищев и культурное наследие Урала в исторической динамике. Седьмые Татищевские чтения (Екатеринбург, 17–18 апреля 2008 г.): доклады и сообщения / С.П. Постников (отв. ред.). Екатеринбург, 2008.
(обратно)950
Разгон А.М. Охрана исторических памятников в России (XVIII в. – первая половина XIX в.) // Очерки истории музейного дела в СССР: сб. ст. Вып. 7. М., 1971. С. 324.
(обратно)951
Илизаров С.С. К вопросу о формировании в XVIII в. исторического сознания: особенности восприятия российских древностей // Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Годичная научная конференция 2006 г. М., 2006. С. 230–234. См. описания Москвы 1770–1790-х гг.: Москва в описаниях XVIII в. М., 1997.
(обратно)952
Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России / А.Б. Каменский (сост.). М., 1996. Подробнее о Г.Ф. Миллере см. статью А.Б. Каменского «У истоков русской исторической науки: Г.Ф. Миллер» в данном сборнике (С. 33–51).
(обратно)953
Охрана культурного наследия России. С. 50.
(обратно)954
Разгон А.М. Охрана исторических памятников в России. С. 337–339.
(обратно)955
Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 17.
(обратно)956
Алёшин А.Б. Развитие русской школы реставрации станковой масляной живописи. Л., 1972. С. 42.
(обратно)957
Новиков Н.И. Сокровище российских древностей [Факсимильное издание] / подгот. С.Р. Долгова. М., 1986.
(обратно)958
Цит. по: Снегирёв В. Зодчий Баженов. М., 1962. С. 222. Редактором и, возможно, соавтором речи В.И. Баженова был А.П. Сумароков.
(обратно)959
Цит. по: Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 33.
(обратно)960
Державин Г.Р. Сочинения: в 9 т. Т. 3. СПб., 1870. С. 191–192.
(обратно)961
Забелин И.Е. История Москвы. М., 1905. С. 176–177. См. также: Валуев П.С. Записка П.С. Валуева по истории Оружейной палаты / публ., [вступ. ст. и примеч.] В.Г. Бухерта // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: альманах. М., 1999. С. 61–63. В своей должности Валуев немало сделал для сохранения памятников архитектуры в дворцовых ансамблях Москвы и Подмосковья, в частности – Царицына.
(обратно)962
См.: Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. С. 136.
(обратно)963
См.: Исторический очерк мер, принятых в России для сохранения и исследования древностей // Журнал общеполезных сведений. 1858. № 5. С. 166–189.
(обратно)964
Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 161, 162.
(обратно)965
Там же. С. 167, 169, 215.
(обратно)966
Там же. С. 166.
(обратно)967
Подробнее об изучении Причерноморья см.: Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII – середина XIX в.). СПб., 2002.
(обратно)968
Савваитов П.И. Заботы императора Николая Павловича о сохранении памятников отечественных древностей и старины [1853] // Русская старина. 1877. Т. XIX. С. 148–154.
(обратно)969
Охрана культурного наследия России. С. 98–99.
(обратно)970
Глаголев А.Г. Краткое обозрение древних русских зданий и других отечественных памятников, составляемое при Министерстве внутренних дел. Ч. 1. Тетр. 1: О русских крепостях. СПб., 1838; Тетр. II: Описание церквей и монастырей. СПб., 1840.
(обратно)971
Охрана культурного наследия России. С. 98–101, 104–105, 107–110; Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 97.
(обратно)972
Подробнее см.: Комарова И.И. Научно-историческая деятельность губернских и областных статистических комитетов // Археографический ежегодник за 1978 год. М., 1979; Зозуля Л.И. Губернские статистические комитеты в системе выявления и охраны памятников старины в России (XIX – начало ХХ в.) // Памятники истории и архитектуры Европейской России. С. 62–69.
(обратно)973
Охрана культурного наследия России. С. 108.
(обратно)974
Подробнее об этой записке, а также о жизни и деятельности «палеолога» (по словам тогдашнего биографа и источниковеда Н.П. Барсукова) и исследователя русской иконописи Ивана Петровича Сахарова (1807–1863) см.: Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX в. М., 1986. С. 55–59, 127–128.
(обратно)975
Васильева Р.В. Главное археологическое учреждение царской России. С. 88.
(обратно)976
Охрана культурного наследия России. С. 120–124.
(обратно)977
Разгон А.М. Исторические музеи в России. С. 221.
(обратно)978
Белавская К.П. Дворцовые музеи и хранилища XVIII – первой половины XIX в. // Очерки истории музейного дела в России: сб. ст. Вып. 3. М., 1961. С. 358.
(обратно)979
Стемпковский И.А. Мысли относительно отыскания древностей в Новороссийском крае // Отечественные записки. 1827. № 81. С. 40–72.
(обратно)980
Записки Санкт-Петербургского Археологическо-нумизматического общества. Т. 1. СПб., 1848. Ч. 3. С. 181–210. Статья вышла также отдельным оттиском. О выдающемся знатоке московской старины Иване Михайловиче Снегирёве (1793–1868) см.: Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. С. 51–54.
(обратно)981
Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. С. 116.
(обратно)982
Малицкий Г.Л. К истории Оружейной палаты Московского Кремля // Государственная Оружейная палата Московского Кремля. М., 1954. С. 558.
(обратно)983
Шмидт С.О. К юбилею П.П. Дубровского: Дипломат-коллекционер в контексте развития отечественной культуры и общественной мысли второй половины XVIII – начала XIX века // Археографический ежегодник за 2004 год. М., 2005. С. 315–317.
(обратно)984
Аделунг Ф. Предложения об учреждении Русского национального музея // Сын Отечества. 1817. № 14. С. 54–72; Вихман Г. Российский отечественный музей // Там же. 1821. № 33. С. 289–310.
(обратно)985
Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 43.
(обратно)986
Памятники древнего русского зодчества, снятые с натуры и представленные в планах, фасадах, разрезах с замечательными деталями, украшениями высечки и живописи / сост. под рук. Ф.Ф. Рихтера. Тетр. I–IV. М., 1850–1856. См. подробнее: Кириченко Е.И. «Памятники древнего русского зодчества» Ф.Ф. Рихтера в контексте русской культуры XIX в. // Забытый зодчий Ф.Ф. Рихтер. К 190-летию со дня рождения. [Труды Государственного исторического музея. Вып. 117] / И.И. Комарова (отв. ред.). М., 2000.
(обратно)987
Подробнее о трудах первого профессора по кафедре истории Г.П. Успенского (ум. 1820) см.: Багалей Д.И. Г.П. Успенский // Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805–1905) / М.Г. Халанский, Д.И. Багалей (ред.). Харьков, 1908. С. 312–319.
(обратно)988
Ходаковский (Доленга) Зориян Яковлевич (наст. имя – Адам Чарноцкий) (1784–1825) – путешественник, предложивший в конце 1810-х годов программу изучения древнего прошлого России, опираясь, в том числе, на находки полевой археологии (Доленга-Ходаковский З. Разыскания касательно русской истории // Вестник Европы. 1819. № 20. С. 277–302). См. также: Историческая система Ходаковского // Русский исторический сборник, издаваемый Императорским обществом истории и древностей российских. Т. I. Кн. 3. М., 1838. С. 1–109; Отрывок из путешествия Ходаковского по России. Ладога. Новгород // Там же. Т. 3. Кн. 2. М., 1839. С. 129–200; Сопки // Там же. Т. 7. М., 1844. С. 368–375 и др. Кроме этого, см.: Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. С. 48–51; Ровнякова Л.Н. Русско-польский этнограф и фольклорист З. Доленга-Ходаковский и его архив // Из истории русско-славянских литературных связей XIX в. / М.П. Алексеев (отв. ред.). М.; Л., 1963. С. 58–94.
(обратно)989
План путешествия по России для собирания древностей // Архив графов Мордвиновых. Т. 3. СПб., 1902. С. 588–614. О «Плане» П.П. Дубровского см.: Козлов В.П. Российская археография конца ХVIII – первой четверти XIX века. М., 1999. С. 69–70; Шмидт С.О. К юбилею П.П. Дубровского. С. 314–322.
(обратно)990
Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 43.
(обратно)991
Путешествие по России 1809 г.: 10 писем К.М. Бороздина А.Н. Оленину // Источник. 1999. № 5. С. 7.
(обратно)992
Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 60.
(обратно)993
На 1830–1840-е годы приходится самое большое число воспитанников Академии художеств, занимающихся изучением античных древностей (Там же. С. 93–95).
(обратно)994
Там же. С. 222, 226.
(обратно)995
Там же. С. 197.
(обратно)996
Там же. С. 200–215, 225.
(обратно)997
Там же. С. 98–105, 165, 227–229.
(обратно)998
Там же. С. 229.
(обратно)999
См. также: Ковенева Г.Н. Из истории музеефикации палат бояр Романовых в Зарядье // Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры / Э.А. Шулепова (отв. ред.). М., 1992.
(обратно)1000
Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 166.
(обратно)1001
Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. С. 39–40.
(обратно)1002
Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 283.
(обратно)1003
Карабинов И.А. Полузабытый опыт реставрации древнерусских икон // Сообщения ГАИМК. Т. 2. Л., 1929. С. 325–329; Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. С. 144–153; Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 238–241, 256–257, 280, 282.
(обратно)1004
Редин Е.К. Значение деятельности археологических съездов для науки русской археологии. Харьков, 1901; Уварова П.С. Обзор деятельности 12 первых археологических съездов с 1869 по 1902 // Труды XII Археологического съезда в Харькове. М., 1905. Т. 3. С. 409–427; Иловайский Д.И. Всероссийские археологические съезды // Сборник статей в честь графини Прасковьи Сергеевны Уваровой. М., 1916. С. 1–5; Полякова М.А. Роль общественности в сохранении культурного наследия России (по материалам всероссийских археологических съездов) // Памятники истории и архитектуры Европейской России. С. 69–76.
(обратно)1005
При этом граф А.А. Бобринский обращал внимание на профессионализм, а не на место службы, чин или сословную принадлежность работников комиссии.
(обратно)1006
Васильева Р.В. Главное археологическое учреждение царской России. С. 92–93.
(обратно)1007
Это мысль впервые высказана в статье: Баталов А.Л. К вопросу о становлении системы охраны памятников и реставрации в России в XIX – начале ХХ вв. // Святыни и культура. М., 1992. С. 146–168.
(обратно)1008
Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 342–344.
(обратно)1009
Шляков И.А. Очерк деятельности Комиссии по восстановлению Ростовского Кремля. Ростов Ярославский, 1902; Толстой В.М. Ростовский Кремль и восстановление его зданий. М., 1903; Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 260–268, 273.
(обратно)1010
Пархоменко Т.А. Музеи дореволюционной России во внешкольном образовании (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Музей и власть: Из жизни музеев. М., 1991. С. 43. См. также: Разгон А.М. Очерк истории военных музеев в России (1861–1917) // Вопросы истории музейного дела в СССР: сб ст. Вып. 4. М., 1962. (Труды НИИ музееведения. Т. VII). С. 189; Равикович Д.А. Формирование государственной музейной сети (1917 – первая половина 60-х гг.): Научно-методические рекомендации. М., 1988. С. 14.
(обратно)1011
Пархоменко Т.А. Музеи дореволюционной России во внешкольном образовании. С. 29.
(обратно)1012
Разгон А.М. Очерк истории военных музеев в России. С. 125–128.
(обратно)1013
Подробнее см.: Разгон А.М. Российский исторический музей: история его основания и деятельности (1872–1917) // Очерки истории музейного дела в России: сб. ст. Вып. 2. М., 1960.
(обратно)1014
Голос. 1873. 31 января; 10 февраля.
(обратно)1015
Багалей Д.И. Русская историография. Харьков, 1911. С. 363.
(обратно)1016
Разгон А.М. Российский исторический музей. С. 248.
(обратно)1017
Там же. С. 258–259.
(обратно)1018
Разгон А.М. Предварительный музейный съезд – итоги развития музейного дела в России.
(обратно)1019
Разгон А.М. Очерк истории военных музеев в России.
(обратно)1020
Подробнее о местных музеях этого времени см.: Равикович Д.А. Музеи местного края во второй половине XIX – начале XIX в. (1861–1917 гг.) // Очерки истории музейного дела в России. Вып. 2. С. 145–223.
(обратно)1021
Равикович Д.А. Из истории организации сибирских музеев в XIX в. С. 165.
(обратно)1022
Равикович Д.А. Музеи местного края во второй половине XIX – начале XIX в. С. 148–151.
(обратно)1023
Иваницкий И.П. Сельскохозяйственные музеи капиталистической России (1861–1917 гг.) // Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 5. С. 276–325.
(обратно)1024
Ядринцев Н.М. Частная инициатива в деле общественных учреждений // Восточное обозрение. 1882. № 18. С. 227. Цит. по: Равикович Д.А. Из истории организации сибирских музеев в XIX в. С. 172.
(обратно)1025
Разгон А.М. Исторические музеи в России. С. 228.
(обратно)1026
Подробее см.: Комарова И.И. Церковно-археологические учреждения и охрана памятников культуры в России конца XIX – начала ХХ в. // Археографический ежегодник за 1990 год. М., 1992. С. 83–102; Комарова И.И. Церковно-археологические общества и музеи // Святыни и культура. С. 65–70.
(обратно)1027
Церковно-археологические учреждения // Зодчий. 1904. Вып. 32. С. 365. Цит. по: Комарова И.И. Церковно-археологические общества и музеи. М., 1992. С. 65.
(обратно)1028
Разгон А.М. Охрана исторических памятников в дореволюционной России (1861–1917 гг.) // История музейного дела в СССР. С. 81.
(обратно)1029
Разгон А.М. Очерк истории военных музеев в России. С. 158.
(обратно)1030
В 1906 году из 29 408 посетителей Исторического музея с экскурсиями прошло только 1898 учащихся, в 1903 году из 27 000 посетителей было всего 100 рабочих (Пархоменко Т.А. Музеи дореволюционной России во внешкольном образовании. С. 35–36, 39).
(обратно)1031
Равикович Д.А. Музеи местного края во второй половине XIX – начале XIX в. С. 209–213; Пархоменко Т.А. Музеи дореволюционной России во внешкольном образовании.
(обратно)1032
Пархоменко Т.А. Музеи дореволюционной России во внешкольном образовании. С. 38–40.
(обратно)1033
Иванов А.Е. Московский археологический институт – центр российского исторического культуроведения // Археографический ежегодник за 1994 год. М., 1996. С. 47–63.
(обратно)1034
См., например: Соболев В.С. Для будущего России: Деятельность Академии наук по сохранению национального культурного и научного наследия, 1890–1930 гг. СПб., 1999; Чирков С.В. В.О. Ключевский и развитие отечественной археографии в конце XIX – начале XX в. // В.О. Ключевский и проблемы российской провинциальной культуры и историографии: материалы науч. конференции (Пенза, 25–26 июня 2001 года): в 2 кн. / С.О. Шмидт (отв. ред.). М., 2005. Кн. 1. С. 38–100.
(обратно)1035
Например: Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, собор Мирожского монастыря, собор Макарьево-Желтоводского монастыря, замок в Остроге, церковь Спаса на Берестове, Ханский дворец в Бахчисарае.
(обратно)1036
Разгон А.М. Охрана исторических памятников в дореволюционной России. С. 99.
(обратно)1037
Сиволап Т.Е. Охрана памятников старины в России в конце XIX – начале ХХ в.: Правительственная и общественная деятельность: автореф… канд. ист. наук. СПб., 1997; Крапчатова И.Н. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей // Образование и культура: Роль права: доклады и сообщения VI Всероссийской науч. – практ. конференции (Москва, 12 апреля 2006 года). М., 2006. С. 219.
(обратно)1038
Подробнее см.: Разгон А.М. Предварительный музейный съезд – итоги развития музейного дела в России.
(обратно)1039
Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 314.
(обратно)1040
Рерих Н.К. Собрание сочинений. Кн. 1. М., 1914. С. 59–79.
(обратно)1041
См.: Берар Е. Из Парижа в «Живописный Петербург». Мирискусники и городская культура // Звезда. 2005. № 3. С. 205–213.
(обратно)1042
Лурье Ф.М. Журнал «Старые годы» и его издатель // «Старые годы». Хронологическая роспись содержания. 1907–1916 / Ф.М. Лурье (сост.). СПб., 2007; Вейнер П.П. «Старые годы», их история и критика / публ., вст. ст. и комм. М.А. Витухновской // Памятники культуры. Новые открытия. 1984. Л., 1986. С. 79–84; Столица и усадьба: хронологическая роспись содержания, 1913–1917 / Ф.М. Лурье (сост.). СПб., 2008; Лурье Ф.М. Голоса Серебряного века: книги, журналы, выставки // Феномен Петербурга: труды Междунар. конференции, состоявшейся 3–5 ноября 1999 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2000. С. 178–188; Лаврухина И.А. Елизаветинская выставка: история создания и бытования // Петербургская Академия наук в истории Академий мира: К 275-летию Академии наук: материалы междунар. конференции. СПб., 1999. Т. 3. С. 18–27.
(обратно)1043
См. о нем: Лурье Ф.М. Дилетант // Врангель Н.Н. Старые усадьбы: Очерки истории русской дворянской культуры. СПб., 1999. С. 3–32; Врангель Н.Н. Свойства века: Статьи по истории русского искусства / сост., комм. и подг. текста И.А. Лаврухиной. СПб., 2000.
(обратно)1044
Инициатором создания музея было основанное в 1904 году Общество художников и архитекторов (во главе с известными архитекторами Павлом Сюзором, Иваном Фоминым и др.). См.: Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 17: Музей Старого Петербурга. 1907–1919. Документы из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга: Альманах / Е.А. Кононенко (сост.). СПб., 2008.
(обратно)1045
См.: Мнение председателя Комиссии по описанию синодального архива акад. А.И. Соболевского по поводу думского законопроекта об охране древностей. 1912 г. // Церковные ведомости. 1912. Приб. к № 23. С. 943–947; Вейнер П. Закон об охране старины // Старые годы. 1914. Февраль. С. 47–50; О деятельности Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины // Голос минувшего. 1913. № 4. С. 287–289; Рудаков В. Охрана памятников старины // Исторический вестник. Т. 129. 1912. № 7. С. 305–309.
(обратно)1046
Памятники архитектуры в дореволюционной России. С. 324, 331, 336, 451.
(обратно)1047
Ср., например: Масленицына С.П. Законодательство по охране церковных памятников в России в XVIII – первой половине XIX в. // Художественное наследие. Хранение. Исследование. Реставрация. Вып. 17. М., 1999. С. 11–30; Галай Ю.Г., Михеева И.В. Правотворчество Министерства внутренних дел Российской империи по охране памятников старины. Н. Новгород, 2001; Сиволап Т.Е. Законодательная деятельность российского правительства в области охраны памятников в начале XX века // Вестник Псковского вольного университета. 1995. Т. 2. № 1. С. 63–73. См. общие обзоры: Шалюгин М.С. Российское законодательство об охране памятников археологии // Очерки по истории государства и права России XVIII – начала XX века. Н. Новгород, 2005. С. 220–236; Шалюгин М.С. Государственно-правовое обеспечение охраны памятников в XVIII – начале XX века // Современные проблемы государства и права: сб. науч. трудов. Вып. 8. Н. Новгород, 2005. С. 113–121.
(обратно)1048
Рудаков В. Охрана памятников старины. С. 305–309; Зосимовский З.В. Наше строительное законодательство // Строитель. 1900. № 1–2. Стлб. 41–48; № 3–4. Стлб. 117–124; Тидони А.И. Законодательная охрана памятников старины и произведений искусства (по поводу правительственного законопроекта «Об охране древностей») // Зодчий. 1912. № 12. С. 111–114; Смолин В.Ф. Краткий очерк истории законодательных мер по охране памятников старины в России // Известия Археологической комиссии. Вып. 63. Пг., 1917. С. 121–148; Сытина Т.М. Русское архитектурное законодательство первой половины XVIII в. // Архитектурное наследство. Вып. 18. М., 1969. С. 67–73; Власюк А.И. Эволюция строительного законодательства России в 1830–1910-е годы // Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Города, ансамбли, зодчие / В.П. Выголов (отв. ред.). М., 1985. С. 226–246.
(обратно)1049
Ср.: Хаттон А. Музеи и наследие: есть ли между ними реальное противоречие // Музееведение. Музеи мира. М., 1991. С. 72–97.
(обратно)1050
Материалы по вопросу сохранения древних памятников. М., 1911. С. 45.
(обратно)1051
Ср.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 196–203.
(обратно)1052
Основные причины и факторы значимости феномена «наследие» в современных обществах рассматриваются в книге: Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. СПб., 2004. О взглядах некоторых русских общественных деятелей (преимущественно XIX века) см.: Формозов А.А. Страницы истории русской археологии.
(обратно)1053
This research was supported by THE ISRAEL SCIENCE FOUNDATION (grant № 134/09).
(обратно)1054
Г. Каменский, С.-Петербург, 17 февраля 1910 года // РГИА. Ф. 747 (Общество ревнителей русского исторического просвещения) Оп. 1. Д. 72. Л. 18.
(обратно)1055
Там же. Л. 19–20.
(обратно)1056
Краткая история о городе Архангельском сочинена Архангелогородским гражданином Василием Крестининым. СПб., 1792. С. 243.
(обратно)1057
Ключевский В.О. Юбилей Общества истории и древностей российских // Ключевский В.О. Неопубликованные произведения, М., 1983. С. 191; Моисеева Г.Н. Слово о полку Игореве и Екатерина II // XVIII век. Сб. 18 / Н.Д. Кочеткова (отв. ред.). СПб., 1993. С. 9.
(обратно)1058
Устав Общества Истории и Древностей Российских, утвержденный февраля 11 дня, 1811 года, М., 1811. С. 4.
(обратно)1059
Устав русского исторического общества. СПб., 1866. С. 3.
(обратно)1060
Степанский А.Д. История научных учреждений и организаций дореволюционной России. М., 1987. С. 72; Устав исторического общества при императорском Санкт-Петербургском Университете. СПб., 1889. С. 3. Отчет о состоянии и деятельности Исторического Общества при императорском С.-Петербургском Университете в 1890 году. СПб., 1890. С. 54.
(обратно)1061
Vusinich A. Science in Russian Culture, 1861–1917. Stanford, 1970; Hachten E.A. In Service to Science and Society: Scientists and the Public in Late Nineteenth Century Russia // Osiris. 2nd Series: Science and Civil Society. 2002. Vol. 17. P. 171–209; Bradley J. Voluntary Associations in Tsarist Russia: Science, Patriotism and Civil Society. Cambridge (MA), 2009. P. 15.
(обратно)1062
Об исторических комиссиях образовательных обществ см.: Степанский А.Д. История научных учреждений и организаций дореволюционной России. С. 73, 77; обзор деятельности образовательных обществ содержится в статьях: Bradley J. Pictures at an Exhibition: Science, Patriotism, and Civil Society in Imperial Russia // Slavic Review. 2008. Vol. 67. No. 4. P. 938–939; Туманова А.С. Общественные организации и их роль в формировании социально-культурной среды русского дореволюционного города / Культуры городов Российской империи на рубеже XIX–XX веков: материалы междунар. коллоквиума (Санкт-Петербург, 14–17 июня 2004 года). СПб., 2009. С. 394.
(обратно)1063
Кизеветтер А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. Прага, 1929. С. 289.
(обратно)1064
Чарнолуский В.И. Основные вопросы организации внешкольного образования в России. СПб., 1909.
(обратно)1065
Topolski J. The Role of Logic and Aesthetics in Constructing Narrative Wholes in Historiography // History and Theory. 1999. Vol. 38. No. 2. Р. 201–202. Основы теории исторического нарратива изложены в исследованиях: White H. Tropics of Discourse: Essay in Cultural Criticism / Baltimore, 1985; White H. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore; L., 1987; Ankersmit F.R. Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian’s Language. The Hague, 1983; Ankersmit F.R. History and Tropology: The Rise and Fall of Metaphor. Berkeley, 1994; Ankersmit F.R. Historical Representation. Stanford, 2002. Сравнительный анализ различных теорий исторического нарратива содержится в статье: Lorenz C. Can Histories be True? Narrativism, Positivism and the «Metaphorical Turn» // History and Theory. 1998. Vol. 37. No. 3. Р. 309–329. Cемиотический подход к проблеме исторического нарратива развивал Ю.М. Лотман, см.: Lotman Y.M. Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. L., 1990.
(обратно)1066
Sanders T. Introduction: A Most Narrow Present // Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State. Armonk, 1999. Р. 3.
(обратно)1067
Вортман Р. «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX века // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII – начало XX века. М., 1999. С. 233–244.
(обратно)1068
О Голенищеве-Кутузове см: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. IX. СПб., 1893. C. 43; Венгеров С.А. Источники словаря русских писателей. Т. II. СПб., 1910. О роли Голенищева-Кутузова в создании Общества ревнителей см.: Мемуары графа С.Д. Шереметева. Т. 3 / К.А. Вах, Л.И. Шохин (сост.). М., 2005. С. 397–403. Текст «Записки» Голенищева-Кутузова был опубликован в первом номере «Известий» Общества (см.: От редакции // Известия Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III [далее – ИОРРИП]. 1900. № 1. С. 3–6).
(обратно)1069
РГАДА. Ф. 1287 (Шереметевы. Личный архив С.Д. Шереметева) Оп. 1. Д. 411. Л. 13 об.
(обратно)1070
См. состав членов-учредителей общества: Список членов Общества Ревнителей Русского Исторического Просвещения в память Императора Александра III [далее – ОРРИП] // ИОРРИП. 1900. № 2. С. 22.
(обратно)1071
Устав Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. СПб., 1904. С. 1.
(обратно)1072
Вортман Р. «Официальная народность» и национальный миф российской монархии. С. 233, 238.
(обратно)1073
От редакции. С. 3.
(обратно)1074
Там же.
(обратно)1075
РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 4126. Л. 1–1 об; там же. Д. 411. Л. 31 об.
(обратно)1076
Там же. Д. 1754. Л. 20 oб.
(обратно)1077
Там же. Д. 4126. Л 3. О феномене враждебности к интеллигенции в определенных кругах российского образованного общества см.: Колоницкий Б.И. Идентификация российской интеллигенции и интеллигентофобия // Интеллигенция в истории. Образованный человек в представлениях и социальной действительности. М., 2001. С. 150–170.
(обратно)1078
РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 411. Л. 7 об.–8.
(обратно)1079
РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 16. Л. 3–4.
(обратно)1080
РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 411. Л. 19 об.
(обратно)1081
Устав ОРРИП. С. 1–2.
(обратно)1082
«Ключевский, как возбудивший много толков в последнее время, был бы, может быть, на первое время (подчеркнуто в оригинале. – В.К.) не совсем удобен (РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 411. Л. 17).
(обратно)1083
Список членов совета ОРРИП // ИОРРИП. 1902. № 4. С. 50–51; Отчет ОРРИП за 1901–1902 год // ИОРРИП. 1904. № 5. С. 2, 6.
(обратно)1084
Завтра я вышлю Вам первую часть моего “Учебника” в надежде услышать Ваш отзыв о ее пригодности с точки зрения “государственной истории”. Левая критика уже осудила меня за эту книгу» (Академик С.Ф. Платонов. Переписка с историками: в 2 т. / С.О. Шмидт (отв. ред.). М., 2003. Т. 1. С. 130); Кизеветтер А. На рубеже двух столетий. С. 197.
(обратно)1085
Sanders T. The Chechulin Afair or Politics and «nauka» in the History Profession of Late Imperial Russia // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2001. Bd. 49. H. 1. S. 1–23 (см. также его статью в настоящей книге, с. 161–192).
(обратно)1086
Список членов совета ОРРИП // ИОРРИП. 1900. № 2. С. 31.
(обратно)1087
В 1915 году Н.Д. Чечулин был назначен попечителем Виленского учебного округа, а в январе 1917 года обратился к графу Шереметеву с просьбой содействовать его переходу на должность попечителя столичного округа, см.: РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 898. Л. 57–57 oб., 64–65. Биография Чечулина освещается в публикациях: Вахтина П.Л., Острой О.С. Николай Дмитриевич Чечулин и его книга // Чечулин Н.Д. Русская провинция во второй половине XVIII века. СПб., 2009; Грин Ц.И. Чечулин Николай Дмитриевич // Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры: Биогр. словарь: в 3 т. СПб., 1995. Т. 1. С. 566. Я благодарю В.Е. Кельнера, обратившего мое внимание на публикацию П.Л. Вахтиной и О.С. Острой.
(обратно)1088
ОР РНБ. Ф. 585 (С.Ф. Платонов). Оп. 1. Д. 4616. Л. 30, 51.
(обратно)1089
Кизеветтер А. На рубеже двух столетий. С. 320–321.
(обратно)1090
Wortman R.S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 2. From Alexander II to the Abdication of Nicholas II. Princeton, 2000. Р. 235–270.
(обратно)1091
Отчет ОРРИП за 1901–1902 год. С. 7.
(обратно)1092
Состав Императорского Русского исторического общества. 12 марта 1912. [Б\м., б\д.]. С. 1–7; Отчет ОРРИП за 1900–1901 год // ИОРРИП. 1902. № 4. С. 2; Отчет ОРРИП за 1901–1902 год. С. 2; Список членов ОРРИП… С. 22–36.
(обратно)1093
Отчет ОРРИП за 1898–1899 год. СПб., 1899. С. 8; Протокол заседания совета ОРРИП 14 мая 1900 года // ИОРРИП. 1900. № 2. С. 3–4; Отчет ОРРИП за 1901–1902 год. С. 16.
(обратно)1094
Очерк главных оснований деятельности местных отделов Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III. СПб., 1900. С. 8–9.
(обратно)1095
РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 28. Л. 13; Деятельность Общества в 1898–1899 году // ИОРРИП. 1900. № 1. С. 17–18.
(обратно)1096
Отчет ОРРИП за 1899–1900 год // ИОРРИП. 1901. № 3. С. 9; Отчет о движении сумм Общества с 1 марта 1899 г. по 1 марта 1900 г. // Там же. С. 43.
(обратно)1097
Деятельность Общества в 1898–1900 году. С. 17–18.
(обратно)1098
Там же.
(обратно)1099
Корольков К. Жизнь и царствование Императора Александра III (1881–1894 гг.). Киев, 1901; ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4616. Л. 29. См. о награждении: Отчет ОРРИП за 1902–1903 год // ИОРРИП. 1904. № 5. С. 17.
(обратно)1100
Обсуждение вопроса об издании учебника истории и учебника для деревенской школы грамоты см.: Отчет ОРРИП за 1898–1899 год. С. 28; Деятельность отделений Общества за 1895–1899 года // ИОРРИП. 1900. № 1. С. 238; Отчет ОРРИП за 1899–1900 год. С. 6, 9; Отчет ОРРИП за 1900–1901 год // ИОРРИП. 1902. № 4. С. 10; Отчет ОРРИП за 1901–1902 год. С. 8.
(обратно)1101
РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 28. Л. 81 oб.
(обратно)1102
Там же. Л. 56–63.
(обратно)1103
РГИА. Ф. 873 (С.С. Татищев). Оп 1. Д. 74. Л. 3.
(обратно)1104
Там же. Д. 73. Л. 1.
(обратно)1105
Там же. Л. 3–3 об.
(обратно)1106
Лясковский В. Предисловие к биографии Императора Александра III-го // ИОРРИП 1901. № 3. С. 17.
(обратно)1107
РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 4141. Л. 1, 7 об.
(обратно)1108
Деятельность отделений Общества за 1895–1899 года. С. 22.
(обратно)1109
Отчет ОРРИП за 1896–1897 год. СПб., 1897. С. 3–4; Отчет ОРРИП за 1901–1902 год. С. 2.
(обратно)1110
РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 4141. Л. 1, 7 об.
(обратно)1111
А.В. Старина и новизна // ИОРРИП. 1900. № 2. С. 21.
(обратно)1112
Миф об основании успешен и действенен лишь до тех пор, пока способен включать в себя индивидуум. И при наиболее благоприятном сценарии слушатель сам становится повествователем, пересказывая основные элементы мифа об основании» (Corney F.C. Telling October: Memory and the Making of Bolshevik Revolution. Ithaca, 2004. Р. 4).
(обратно)1113
РГИА. Ф 747. Оп. 1. Д. 12. Л. 13, 17, 17 oб., 18, 22, 52.
(обратно)1114
ОР РНБ. Ф. 847 (Н.В. Шаховской). Оп. 1. Д. 184. Л. 3.
(обратно)1115
Отчет ОРРИП за 1899–1900 год. С. 4–5.
(обратно)1116
Вахтеров В.П. Внешкольное образование народа. М., 1896. С. 33.
(обратно)1117
Stuart M. «The Ennobling Illusion»: The Public Library Movement in Late Imperial Russia // Slavonic and East European Review. 1998. Vol. 76. No. 3. P. 411.
(обратно)1118
Известия Общества ревнителей. 1900. № 1. С. 26.
(обратно)1119
Лясковский В. О народных библиотеках // ИОРРИП. 1900. № 1. С. 80.
(обратно)1120
Чарнолуский В. Основные вопросы организации внешкольного образования в России. СПб., 1909. С. 67.
(обратно)1121
Отчет ОРРИП за 1901–1902 год. С. 7.
(обратно)1122
Востоков В. Письмо сельского священника к членам ОРРИП // ИОРРИП. 1900. № 2. С. 11–12.
(обратно)1123
Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1961–1917. Princeton, 1985. P. 297.
(обратно)1124
Отчет ОРРИП за 1901–1902 год. С. 3, 7.
(обратно)1125
Сборник рассказов из русской и чужеземной жизни: Часы досуга / И.П. Хрущов (сост.). СПб., 1905; Сборник чтений по русской истории с древнейших времен до XVI века / И.П. Хрущов (ред.). СПб., 1907.
(обратно)1126
РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 1420. Л. 10 об.
(обратно)1127
Народные библиотеки Общества Ревнителей Русского Исторического Просвещения в Память Императора Александра III. Приложение № 2. Правила о бесплатных народных библиотеках Общества. СПб., 1899. C. 30.
(обратно)1128
Деятельность отделений Общества за 1895–1899 года. С. 26.
(обратно)1129
Отчет ОРРИП за 1900–1901 год. С. 7–8.
(обратно)1130
Каталог бесплатных народных библиотек Общества ревнителей // Народные библиотеки общества ревнителей. СПб., 1899. С. 19–27.
(обратно)1131
Каталог бесплатных народных библиотек… С. 21–23, 24.
(обратно)1132
Там же.
(обратно)1133
Отчет ОРРИП за 1900–1901 год. С. 9.
(обратно)1134
Отчет ОРРИП за 1901–1902 год. С. 8.
(обратно)1135
Володимеров С. Сельские и городские народные библиотеки // ИОРРИП. 1900. № 2. С. 10.
(обратно)1136
Отчет ОРРИП за 1901–1902 год. С. 8–9.
(обратно)1137
Там же.
(обратно)1138
Володимеров С. Сельские и городские народные библиотеки. С. 10
(обратно)1139
Востоков В. Письмо сельского священника к членам ОРРИП. С. 10–12.
(обратно)1140
Отчет ОРРИП за 1900–1901 год. С. 7–8.
(обратно)1141
Отчет ОРРИП за 1899–1900 год. С. 8; Рачинский С. Письмо в редакцию // Там же. С. 28.
(обратно)1142
Востоков В. Красное Солнышко земли Русской (Очаг народного исторического чтения) // ИОРРИП. 1902. № 4. С. 40–44.
(обратно)1143
Отчет ОРРИП за 1900–1901 год. С. 4.
(обратно)1144
Отчет ОРРИП за 1901–1902 год. С. 9.
(обратно)1145
Леонтьев Т.В. Народные чтения. Пг., 1919. С. 13.
(обратно)1146
Деятельность отделений Общества за 1895–1899 года. С. 28; Отчет ОРРИП за 1900–1901 год. С. 4.
(обратно)1147
Отчет ОРРИП за 1901–1902 год. С. 11.
(обратно)1148
РГИА. Ф. 747. Оп. 1. Д. 12. Л. 17.
(обратно)1149
РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 4126. Л. 43 об.
(обратно)1150
Кочетков А. Русское военно-историческое общество (1907–1914) // Военно-исторический журнал. 1965. № 9. С. 94–99.
(обратно)1151
Краткий обзор деятельности общества ознакомления с историческими событиями России за 1911–1912 годы. М., 1913, С. 3, 18–19.
(обратно)1152
ЦГИА СПб. Ф. 2168 (Общество ревнителей истории). Оп. 1. Д. 9, 18.
(обратно)1153
Hoffman D.L. European Modernity and Soviet Socialism // Hofman D.L., Kotsonis Y. Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices. Palgrave Macmillan, 2000. P. 246, 247.
(обратно)1154
Грабарь И. История русского искусства. Т. V. Скульптура. История скульптуры. М., 1913. С. 72.
(обратно)1155
Григорович В.И. Сведения о Григории Ивановиче Угрюмове и его произведениях // Журнал изящных искусств. 1823. Ч. 1. № 1. С. 65.
(обратно)1156
Там же. Имелись в виду полотна «Покорение Казани» и «Вступление на престол Царя Михаила Фёдоровича».
(обратно)1157
Бенуа А. Русская школа живописи. СПб., 1904. Вып. 3. С. 25.
(обратно)1158
Матэ В.В. Гравюра и ее самостоятельное значение // Голлербах Э. История гравюры и литографии в России. М., 2003. С. 10.
(обратно)1159
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
(обратно)1160
Начало «визуального поворота» отсчитывают с выхода книги: Vision and Visuality / H. Foster (ed.). Seattle, 1988.
(обратно)1161
Frierson C.A. Peasant Icons: Representations of Rural People in Late Nineteenth-Century Russia. Oxford, 1993.
(обратно)1162
Кириченко Е.И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX в. М., 1997; Ely C. This Meager Nature. Landscape and National Identity in Imperial Russia. DeKalb, 2002; Norris S. Russian Images of War: The Lubok and Wartime Culture, 1812–1917: Ph.D. Diss. / Univ. of Virginia. Charlottesville, 2001; Norris S.M. A War of Images: Russian Popular Prints, Wartime Culture, and National Identity, 1812–1945. Decalb, 2006.
(обратно)1163
Wortman R. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy: vol. 1–2. Princeton, 1995–2000.
(обратно)1164
Огаркова Н.И. Церемонии, празднества, музыка русского двора XVIII – началa XIX в. СПб., 2004; Агеева О.Г. Европеизация русского двора. 1700–1796. М., 2006.
(обратно)1165
Важными исключениями являются следующие публикации: Турчин В.С. Александр I и неоклассицизм в России. Стиль империи, или империя как стиль. М., 2001; Алексеев А.Н. Медальерное искусство XVIII века как явление социополитической жизни: дис… канд. ист. наук. СПб., 2005.
(обратно)1166
[Григорович В.И.] Науки и Искусства // Журнал изящных искусств. 1823. Ч. 1. № 1. С. 9.
(обратно)1167
Писарев А.А. Предметы для художников, избранные из Российской Истории, из Славенского Баснословия и из всех русских сочинений в стихах и прозе: в 2 ч. СПб., 1807; [Гр и горович В.И.] Сущность, цель и польза Изящных Искусств (по теории Сульцера) // Журнал изящных искусств. 1823. Ч. I. № 2. С. 97–98.
(обратно)1168
Die Zarin und die Teufel. Europaische Russlandbilder aus vier Jahrhunderten. Stuttgart, 2004.
(обратно)1169
Модзалевский Л.Б. Рукописи Ломоносова в Академии наук СССР: науч. описание / Г.А. Князев (отв. ред.). Л.; М., 1937. (Труды Архива АН. Вып. 3.) Оп. № 414. С. 145.
(обратно)1170
Le Prince J.-B. Oeuvres, contenant plus de 160 planches representant divers costumes et habillements des peuples du Nord. Paris, 1782.
(обратно)1171
Акишин М.О. Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра Великого. Новосибирск, 1996. С.13. Я благодарю Н.И. Никитина за эту информацию.
(обратно)1172
Кузьминский К.С. Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX вв. М., 1937. С. 21.
(обратно)1173
Писарев А.А. Предметы для художников… Ч. 2. С. 313.
(обратно)1174
Там же. С. 313–314.
(обратно)1175
Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки Казанского университета. Ед. хр. 4417 (Бумаги медальерного комитета XVIII века). Т. 1–8.
(обратно)1176
Об этом проекте писали: Щукина Е.С. Медальерное искусство в России XVIII века. Л., 1962; Щукина Е.С. Два века русской медали: Медальерное искусство в России 1700–1917 гг. М., 2000; Гаврилова Л.М. Русская историческая мысль и медальерное искусство в эпоху Екатерины II. СПб., 2000.
(обратно)1177
Сборник материалов для истории Императорской С.-Петербургской Академии художеств за сто лет ее существования: в 3 ч. / П.П. Петров (ред.). СПб., 1864. Ч. I. С. 434.
(обратно)1178
Кошанский Н.Ф. Памятник Пожарскому и Минину, назначенный в Москве // Журнал изящных искусств. 1807. Кн. 2. С. 61.
(обратно)1179
Сборник материалов для истории Императорской С.-Петербургской Академии художеств. Ч. 1. С. 171.
(обратно)1180
Шенк Ф.Б. Русский герой или фантом? Заметки к истории почитания Александра Невского // Родина. 2003. № 12. С. 92–93.
(обратно)1181
[Григорович В.И.] Новые произведения художеств // Журнал изящных искусств. 1823. Ч. 1. № 3. С. 259.
(обратно)1182
Грабарь И. История русского искусства. Т. V. Скульптура. С. 247.
(обратно)1183
Турчин В.С. Александр I и неоклассицизм в России. С. 174–175.
(обратно)1184
Чаадаев П.Я. Сочинения и письма: в 2 т. Т. 2. М., 1914. С. 213.
(обратно)1185
Карамзин Н.М. Отчего в России мало авторских талантов? // Карамзин Н.М. Избранные сочинения: в 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 185.
(обратно)1186
Измайлов В.В. О русском старинном воспитании // Патриот. Журнал воспитания. 1804. Т. 2. Апрель. С. 4–5.
(обратно)1187
Степанский А.Д. Первые исторические общества в России // Вопросы истории. 1973. № 12. С. 204–205.
(обратно)1188
Burke P. Popular Culture in Early Modern Europe. N. Y., 1978; Cocchiara G. The History of Folklore in Europe. Philadelphia, 1981; The Invention of Tradition / E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge, 1992.
(обратно)1189
Herder J.G. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Th. I–III. Riga; Leipzig, 1784–1787; Herder J.G. Zwei Preisschriften. I. Über den Ursprung der Sprache. 2. Ursachen des gesunknen Geschmacks bei den verschiednen Völkern, da er geblühet. Berlin, 1789; Herder J.G., Liebeskind A.J. Palmblätter. Erlesene morgenländische Erzählungen für die Jugend. Neue Aufl. Durchgesehen v. J.A. Krummacher. Bd. I–IV. Berlin; Gotha; Jena, 1788–1816.
(обратно)1190
Цит. по: Knight N. From Entertainment to Artifact [неопубликованная рукопись].
(обратно)1191
О Русских пословицах: (Второе письмо Старожилова) // Русский вестник. 1809. № 8. С. 184–185.
(обратно)1192
Автор книги «Histoire de la Russie ancienne et moderne» (Paris, 1783–1794).
(обратно)1193
О Русских пословицах: (Второе письмо Старожилова). С. 177.
(обратно)1194
О Русских пословицах // Русский вестник. 1811. № 7. С. 19.
(обратно)1195
О Русских пословицах: (Второе письмо Старожилова). С. 191.
(обратно)1196
Там же. С. 193.
(обратно)1197
Письмо к Издателю // Русский вестник. 1808. № 1. С. 69.
(обратно)1198
Помей Ф.А. Храм всеобщего Баснословия, или Баснословная история о богах египетских, греческих, латинских и других народов: пер. с латин. И. В[иноградов]. Ч. 1–3. М., 1785; То же: пер. с латин. П. Рейпольский. Ч. 1–3. М., 1808.
(обратно)1199
Рус. перевод: Храм благочестия, или избранные черты из житий святых и деяния добродетельных мужей и жен, прославившихся в христианстве: пер. с фр. яз., умнож. многими статьями, избранными из отечественной истории. Ч. 1–2. СПб., 1822.
(обратно)1200
Базанов В.Г. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949.
(обратно)1201
Орлов В. Русские просветители 1790–1800-х гг. М., 1953. С. 229.
(обратно)1202
Каганович А. И.И. Теребенёв. М., 1956. С.10, 132.
(обратно)1203
Львов П.Ю. Храм славы российских Ироев от времен Гостомысла до царствования Романовых. СПб., 1803.
(обратно)1204
Писарев А.А. Предметы для художников… Ч. 1. С. 6.
(обратно)1205
Там же. С. 11.
(обратно)1206
Piles R. [de]. L’idée du peintre parfait. Paris, 1699; Пиль Р. [де]. Понятие о совершенном живописце, служащее основанием судить о творениях живописцев, и Примечание о портретах [: пер. с фр. и итал. А.М. Иванова]. СПб., 1789.
(обратно)1207
Сводный каталог русской книги XVIII в., 1725–1800. М., 1964. Т. 2: К – П. С. 414.
(обратно)1208
Пиль Р. [де]. Понятие о совершенном живописце. С. 43.
(обратно)1209
Чекалевский П.П. Рассуждение о свободных художествах с описанием некоторых произведений российских художников. Издано в пользу воспитанников Императорской Академии художеств. СПб., 1792. С. 142–143.
(обратно)1210
Любого художественного произведения.
(обратно)1211
Пиль Р. [де]. Понятие о совершенном живописце. С. 5.
(обратно)1212
Там же. С. 7.
(обратно)1213
Там же. С. 6.
(обратно)1214
Там же. С. 7.
(обратно)1215
Там же. С. 9.
(обратно)1216
Там же. С. 10.
(обратно)1217
Там же. С. 15.
(обратно)1218
Рамазанов Н. Материалы для истории художеств в России. Кн. 1. М., 1863. С. 117.
(обратно)1219
Мокрицкий А. Воспоминания об А.Г. Венецианове и учениках его // Венецианов в письмах художника и воспоминаниях современников. М.; Л., 1931. С. 62.
(обратно)1220
Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа первой половины XIX в. М., 1963. С. 58.
(обратно)1221
Розин В.М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. М., 2004. С. 147–155.
(обратно)1222
О подражании // Сочинения студентов Санкт-Петербургского Педагогического Института по части Эстетики. СПб., 1806. С. 31.
(обратно)1223
Розин В.М. Визуальная культура и восприятие. С. 154.
(обратно)1224
О простосердечном // Сочинения студентов Санкт-Петербургского Педагогического Института по части Эстетики. С. 205.
(обратно)1225
Рассуждение об эстетическом удовольствии // Там же. С. 217.
(обратно)1226
Рамазанов Н. Материалы для истории художеств в России. Кн. 1. С. 34.
(обратно)1227
Писарев А.А. Военные письма и замечания, наиболее относящиеся к незабвенному 1812 году и последующим: в 2 ч. М., 1817. Ч. 1. С. 4–5.
(обратно)1228
Вишленкова Е.А. Визуальный язык описания «русскости» в XVIII – первой четверти XIX в. // Ab Imperio. 2005. № 3. C. 97–146.
(обратно)1229
Вишленкова Е.А. Увидеть героя: создание образа русского народа в карикатуре 1812-го года // Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы / О.И. Киянская (ред.). М., 2008. С. 136–153.
(обратно)1230
Писарев А.А. Военные письма и замечания… Ч. 1. С. 7–8.
(обратно)1231
Специально об этом см.: Вишленкова Е.А. Утраченная версия войны и мира: символика Александровской эпохи // Ab Imperio. 2004. № 2. С. 171–210.
(обратно)1232
Вид Триумфальных ворот в С.-Петербурге 31 июля 1814 года» И. Иванова, «Торжественный въезд в Париж Императора Александра Первого и Великого Князя Константина Павловича и короля Прусского Вильгельма III и союзных войск» и «Вступление союзников в Париж» неизвестного художника.
(обратно)1233
Пуцко В.Г. Митрополит Евгений Болховитинов об Отечественной войне 1812 г. // М.И. Кутузов и русская армия на II этапе Отечественной войны 1812 г. Малоярославец, 1995. С. 143.
(обратно)1234
Дуров В. Награды 1812 года // Родина. 2002. № 8. С. 109.
(обратно)1235
Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 92. Оп. 1. Д. 1982 («О вновь учрежденной медали», 1826).
(обратно)1236
Попова И. Аллегории русской славы: Отечественная война 1812 г. в произведениях фарфора, выпущенных на Петербургском фарфоровом заводе в первой трети XIX в. // Мир музея. 1993. № 4 (132). С. 30–32.
(обратно)1237
Там же. С. 32.
(обратно)1238
Веселова Н. Вдова Тучкова-четвертого // Родина. 2002. № 8. С. 133.
(обратно)1239
Слово на вступление последняго полка Тульскаго Ополчения в город Тулу, командуемаго Его Сиятельством, генерал-майором […] А.Ф. Щербатовым […] проповеданное в Тульском Успенском кафедральном соборе преосвященным Амвросием, епископом Тульским
(обратно)1240
Habermas J. 1989 in the Shadow of 1945: On the Normality of a Future Berlin Republic // Habermas J. A Berlin Republic: Writings on Germany. Lincoln, 1977. P. 172–173.
(обратно)1241
Об идеологии правительства Александра I после войны 1812 г. см.: Вишленкова Е.А. Война и мир и русское общество в правление Александра I // Миротворчество в России. Церковь. Политики. Мыслители: от раннего Средневековья до рубежа XIX–XX столетий / Е.Л. Рудницкая (ред.). М., 2003. С. 160–195.
(обратно)1242
Faber du Faur G. [de]. Campagne de Russie 1812. D’après le journal illustré d’un temoin oculaire avec introduction par Armand Dayot. Paris, 1831.
(обратно)1243
Слово на вступление последняго полка Тульскаго Ополчения в город Тулу… С. 13–14.
(обратно)1244
Цит. по: Турчин В.С. Александр I и неоклассицизм в России. С. 406.
(обратно)1245
Филарет (Дроздов), архимандрит. Слово по освящении храма во имя святой живоначальной Троицы, в доме князя Александра Николаевича Голицына, 1 октября. СПб., 1812. С. 2.
(обратно)1246
Витберг А.Л. Записки строителя храма Христа Спасителя в Москве // Турчин В.С. Александр I и неоклассицизм в России. С. 489.
(обратно)1247
Избранные черты и анекдоты государя императора Александра I, избавителя и миротворца Европы. М., 1826. С. 18.
(обратно)1248
Чувство Россиянина // Восточныя известия. 1813. № 48. Прибавление.
(обратно)1249
Каганович А. И.И. Теребенёв. С. 141.
(обратно)1250
Об истории его создания см.: Записки графа Фёдора Петровича Толстого / Е.Г. Горохова (сост.), А.Е. Чекунова. М., 2001. С.163.
(обратно)1251
Воробьёв Т.И. Памятники Отечественной войны 1812 г. в Москве и Ленинграде // 1812: К 150-летию Отечественной войны. М., 1962. С. 270.
(обратно)1252
Sahlins M. Islands of History. Chicago, 1985. P. 35–50.
(обратно)1253
Рамазанов Н. Материалы для истории художеств в России. Кн. 1. С. 11–12.
(обратно)1254
Кириченко Е.И. Русский стиль. С. 12.
(обратно)1255
Слова и речи синодального члена Филарета, митрополита московского. 2-е изд., доп.: в 2 ч. М., 1848.
(обратно)1256
Подробнее об этих спорах см.: Вишленкова Е.А. Сокровищница русского искусства: история создания (1780–1820-е годы): Препринт WP6/2009/03. М., 2009 (Серия WP6. Гуманитарные исследования).
(обратно)1257
Григорович В.И. Обычаи, обряды и костюмы древних и новых народов // Журнал изящных искусств. 1823. Ч. 1. № 1. С. 30.
(обратно)1258
Григорович В.И. Замечания на письмо Г. О… // Там же. № 6. С. 527.
(обратно)1259
Григорович В.И. Обычаи, обряды и костюмы древних и новых народов. С. 31–32.
(обратно)1260
Жабрева А.Э. «Страстный любитель точности в костюмах». Штрихи к творческому портрету А.Н. Оленина // Российская национальная библиотека и отечественная художественная культура: сб. ст. и публикаций. Вып. 2. СПб., 2002. С. 127–135.
(обратно)1261
Григорович В.И. О состоянии художеств в России // Северные Цветы: Альманах на 1826 г. / сост. барон Дельвиг. СПб., 1827. С. 6.
(обратно)1262
Там же. С. 5.
(обратно)1263
Григорович В.И. О картинах, известных под именем Каппониановых // Журнал изящных искусств. 1823. Ч. 1. № 1. С. 54, 60.
(обратно)1264
Григорович В.И. О состоянии художеств в России. С. 5–6.
(обратно)1265
Там же. С. 9.
(обратно)1266
Haarmann H. The Soul of Mother Russia. Russian Symbols and Pre-Russian Cultural Identity // ReVision. 2002. Vol. 23. No. 1.
(обратно)1267
Ребеккини Д. Русские исторические романы 30-х годов XIX века (Библиографический указатель) // Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 416–433.
(обратно)1268
Maigron L. Le roman historique a l’époque romantique. Paris, 1898; Maigron L. Le roman historique. Paris, 1912.
(обратно)1269
Скабичевский А.М. Наш исторический роман // Северный вестник. 1886. № 1. С. 57–90. В более поздних работах и лекционных курсах критик смягчил свою оценку Карамзина: Скабичевский А.М. Наш исторический роман в его прошлом и настоящем // Скабичевский А.М. Сочинения: в 2 т. 2-е изд. СПб., 1895. Т. 2. С. 561–702.
(обратно)1270
Dibelius W. Englische Romankunst. Bd. 2. Berlin; Leipzig, 1922.
(обратно)1271
Лукач Д. Исторический роман // Литературный критик. 1937. № 7, 9, 12; 1938. № 3, 7, 8, 12.
(обратно)1272
Шкловский В.Б. [Рец.:] Георг Лукач – книга «Исторический роман» // РГАЛИ. Ф. 562 (Шкловский В.Б.). Оп. 1. Ед. хр. 126.
(обратно)1273
Шкловский В.Б. Об историческом романе и о Юрии Тынянове // Звезда. 1933. № 4. С. 167–174.
(обратно)1274
Долинин А.А. История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988.
(обратно)1275
Боярский Е.И. Русская революционно-демократическая критика о происхождении и специфике жанра исторического романа // Труды кафедры русской и зарубежной литературы Казахского университета. Вып. 3. Алма-Ата, 1961. С. 120–135; Боярский Е.И. О задачах исторического романиста // Уч. зап. Гурьевского педагогического института. Вып. 2. Уральск, 1962. С. 97–121; Щеблыкин И.П. В.Г. Белинский о национальном своеобразии «романической линии» в русских сюжетах на историческую тему // А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, М.Ю. Лермонтов (Жанр и стиль художественного произведения) / А.К. Бочарова (ред.). Рязань, 1974. С. 84–105.
(обратно)1276
Нестеров М.Н. Структурно-лингвистический подход к определению и классификации исторического жанра // Очерки по стилистике русского языка. Вып. 1. Курск. 1974. С. 56–88. (Науч. тр. Курского пед. института. Т. 39 (132)); Щеблыкин И.П. О двух основных разновидностях исторического повествования // Проблемы жанрового многообразия русской литературы ХIХ века. Сб. статей. / Отв. ред. И.П. Щеблыкин. Рязань, 1976. С. 3–15.
(обратно)1277
Ленобль Г.М. История и литература: сб. статей. М., 1960.
(обратно)1278
Сорокин Ю. Исторический жанр в прозе 30-х годов XIX века // Доклады и сообщения филологического факультета МГУ. М., 1947. С. 36, 39.
(обратно)1279
Бельский А.А. Английский роман 1800–1810-х годов. Пермь, 1968. С. 136–138.
(обратно)1280
Левкович Я.Л. Принципы документального повествования в исторической прозе пушкинской поры // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. Реализм Пушкина и литература его времени / Б.С. Мейлах (отв. ред.). Л., 1969. С. 171–196.
(обратно)1281
Жирмунский В.М. Проблемы сравнительного изучения литератур // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. XIX. Вып. 3. М., 1960. С. 177–186.
(обратно)1282
Ладыгин М.Б. К вопросу о типологии русского романтического исторического романа // Типологические соответствия и взаимосвязи в русской и зарубежной литературе / М.В. Воропанова (отв. ред.). Красноярск, 1980. С. 3–23.
(обратно)1283
Фризман Л.Г., Чёрный И.В. Проблематика русского исторического романа 1830–1840-х годов // Филологические науки. 1987. № 3. С. 23–28; Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. М., 1978. С. 249.
(обратно)1284
Петров С.М. Русский исторический роман XIX века. М., 1964; То же. 2-е изд. М., 1984.
(обратно)1285
Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 1830-х годов. СПб., 1996.
(обратно)1286
Якубович Д.П. «Капитанская дочка» и романы Вальтера Скотта // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 4–5. М.; Л., 1939. С. 165–197; Степанов Н.Л. Проза Пушкина. М., 1962. С. 96–107, 130–131; Зборовец И.В. «Дубровский» и «Гай Мэннеринг» В. Скотта // Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л., 1977. С. 131–137; Якубович Д.П. «Арап Петра Великого» / публ. Л.С. Сидякова // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 9. Л., 1979. С. 261–293; Петрунина Н.Н. Проза Пушкина (Пути эволюции). Л., 1987. С. 241–287; Долинин А. История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988. С. 231–235; Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России. С. 206–257. Данный перечень, разумеется, далеко не полон.
(обратно)1287
Долинин А.А. Вальтер-скоттовский историзм в «Капитанской дочке» // Долинин А.А. Пушкин и Англия. М., 2007. С. 237–259.
(обратно)1288
Немзер А.С. Вальтер-скоттовский историзм, его русские изводы и «Князь Серебряный». М., 2008. С. 345–373.
(обратно)1289
Пинский Л.Е. Исторический роман В. Скотта // Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М., 1989. С. 297–320; Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. М.; Л., 1965; Baker E.A. The History of the English Novel. Vol. 6. Edgeworth, Austen, Scott. L., 1935; Beers H.A. A History of English Romanticism in the Nineteenth Century. L., 1926; Cross W.L. The Development of the English Novel. L.; N. Y., 1948; Cusac M.H. Narrative Structure in the Novels of Sir Walter Scott. The Hague; Paris, 1969; Johnson E. Sir Walter Scott. The Great Unknown. N. Y., 1973; Raleigh W. The English Novel. L., 1894; Schabert I. Der historische Roman in England und America. Darmstadt, 1981; Shaw H.E. The Forms of Historical Fiction: Sir Walter Scott and his Successors. Ithaca; L., 1983 и множество других статей и монографий.
(обратно)1290
Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958; Bernard C. Le Passé recomposé, le roman historique français au dix-neuvième siècle. Paris, 1996; Dunn S. Nerval et le roman historique. Paris, 1981; Gretton T.H. French Historical Novels. L., 1979; Nelod G. Panorama du roman historique. Paris; Bruxelles, 1969; Tanguy Baum M. Der historische Roman im Frankreich der Julimonarchie. Frankfurt am Main, 1981; Vindt G. Les grands romans historiques: l’histoire à travers les romans. Paris, 1991 и др.
(обратно)1291
Малкина В.Я. Поэтика исторического романа. Проблема инварианта и типология жанра. Тверь, 2002; Чёрный И.В. Исторический роман М.Н. Загоскина: автореф. дис… канд. филол. наук. Харьков, 1990; Христолюбова О.В. Русская историческая проза 40–50-х годов XIX века: Проблемы стилевой эволюции: автореф… канд. филол. наук. Саратов, 1997; Линьков В.Д. Типы русского исторического романа 20–30-х годов XIX века: автореф… канд. филол. наук. Горно-Алтайск, 2001; Стролого Перович Ф. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь как исторические романисты: сопоставительный анализ «Капитанской дочки» и «Тараса Бульбы»: автореф… канд. филол. наук. М., 1998.
(обратно)1292
Сорочан А.Ю. «Квазиисторический» роман в русской литературе XIX века: Д.Л. Мордовцев. Тверь, 2007.
(обратно)1293
Мещеряков В. Творческий путь Г.П. Данилевского и его исторические романы // Данилевский Г.П. Княжна Тараканова; Сожженная Москва: Ист. романы. Киев, 1987; Троицкий В. Глагол времен: О русском историческом романе и массовой исторической беллетристике // Три старинных романа: в 2 кн. М., 1990. Кн. 1. С. 5–30; Лебедев Ю. Даниил Лукич Мордовцев (1830–1905) // Мордовцев Д.Л. Сочинения: в 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 5–41; Саплин А.И., Саплина Е.В. Предисловие // Мордовцев Д.Л. Гроза двенадцатого года. М., 1991. С. 5–30; Александров А. Об авторе // Гейнце Н. Малюта Скуратов. М., 1991. С. 289–296; Ранчин А.М. Писатель-историк. Даниил Лукич Мордовцев и его сочинения // Мордовцев Д.Л. Замурованная царица: Романы. М., 1991. С. 359–367; Песков А.М. Исторический роман нашего времени // Загоскин М.Н. Рославлев, или Русские в 1812 году: Роман. Иркутск, 1992. С. 359–367; Беляев Ю. Любимец читающей России // Салиас Е. Сочинения: в 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 5–24; Ганичев В. Исторический романист Г.П. Данилевский // Данилевский Г.П. Потёмкин на Дунае. М., 1992. С. 5–16; Скачков И. Боян нашего прошлого // Соловьёв Вс. Юный император: Роман-хроника XVIII века. М., 1992. С. 3–20.
(обратно)1294
Правда, не так давно исследователями было внесено уточнение: на самом деле первым историческим романом, написанным по модели Вальтера Скотта, следует считать текст, подписанный лишь инициалами (Госницкий. Исторический роман с описанием нравов и обычаев Запорожцев. Соч. Ив. Т. М., 1827). Авторство Ивана Телепнева восстановлено на основании архивных документов. См.: Ребеккини Д. Русские исторические романы… С. 435.
(обратно)1295
Головина Т.Н. Из круга чтения помещиков средней руки (по документам 1830–1840-х годов из усадебного архива) // Новое литературное обозрение. 2008. № 93. С. 384–386.
(обратно)1296
Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997. С. 16.
(обратно)1297
Русский архив. 1864. Ст. 3.
(обратно)1298
Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 1824–1836 гг. СПб., 1899–1913. Т. III. С. 356.
(обратно)1299
Григорьев А.А. Мои литературные и нравственные скитальчества // Григорьев А. Воспоминания. М., 1988. (Литературные памятники). С. 34.
(обратно)1300
Московский Телеграф. 1829. № 15. С. 272; Там же. 1833. № 15. С. 405; Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья. М., 1986. С. 239.
(обратно)1301
Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. VI. М., 1955. С. 91.
(обратно)1302
Московский Телеграф. 1833. № 15. С. 406.
(обратно)1303
Белинский В.Г. «Руководство к всеобщей истории» Фридриха Лоренца // Полное собрание сочинений. Т. VI. С. 90.
(обратно)1304
Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России.
(обратно)1305
Тургенев И.С. О романе Евгении Тур «Племянница» // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 28 т. М.; Л., 1960–1968. Т. V. С. 372.
(обратно)1306
Oeuvres de Walter Scott: trad. de l'anglais par Defauconpret. Paris, 1822–1830.
(обратно)1307
Carlyle T. Sir Walter Scott // Carlyle T. Critical and Miscellaneous Essays. Vol. I V. L., 1847. P. 99–164.
(обратно)1308
Карлейль Т. Вальтер Скотт // Отечественные записки. 1857. № 5. С. 124–126.
(обратно)1309
Головина Т.Н. Из круга чтения помещиков средней руки.
(обратно)1310
Турумова К., Рейтблат А.И. Воскресенский Михаил Ильич // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь: в 5 т. Т. 1. М., 1989. С. 490–491.
(обратно)1311
Турумова К. «Евгений Вельской» и его автор // Вопросы литературы. 1972. № 8. С. 106–125.
(обратно)1312
Сенковский О.И. Об историческом романисте Воскресенском // Библиотека для чтения. 1841. Т. 44. Ч. 2. Отд. VI. С. 24.
(обратно)1313
Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. Т. 9. М., 1950. С. 78.
(обратно)1314
Алексеев М.П. Виктор Гюго и его русские знакомства. Встречи. Письма. Воспоминания // Литературное наследство. Т. 31–32. Русская культура и Франция. М., 1937. Кн. 2. С. 777–916.
(обратно)1315
Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России. С. 59–64.
(обратно)1316
Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 43.
(обратно)1317
Мильчина В.А., Осповат А.Л. О Чаадаеве и его философии истории / Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С. 14.
(обратно)1318
Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. С. 60.
(обратно)1319
Белинский В.Г. Ледяной дом. Сочинение И.И. Лажечникова… Басурман. Сочинение И. Лажечникова // Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. III. М., 1953. C. 19.
(обратно)1320
Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. С. 37–41.
(обратно)1321
История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах: в 5 т., 12 ч. М., 1976–1989.
(обратно)1322
Указатель воспоминаний и путевых записок XVIII–XIX вв. (из фондов Отдела рукописей ГБЛ). М., 1951; Воспоминания и дневники XVIII–XIX вв. Указатель рукописей (Отдел рукописей ГБЛ). М., 1976; Материалы по истории движения декабристов в ОПИ ГИМ: Подокументный указатель / И.С. Калантырская (сост.). М., [б. г.].
(обратно)1323
См. составленное Е.В. Бронниковой и Т.Л. Латыповой издание: Дневники и воспоминания XVIII–XX вв. Аннотированный указатель по фондам Российского государственного архива литературы и искусства / Т.М. Горяева (ред.) Вып. 1. М., 2011.
(обратно)1324
См.: Собрание дневников и воспоминаний XVIII–XX веков // РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1–5.
(обратно)1325
См., например: Вильбоа Н.П. Краткий очерк, или Анекдот о жизни князя Меншикова и его детях: пер. по рукописи // Русский вестник. 1842. Т. 6. № 2. С. 141–173; Записки Вильбоа, современника Петра Великого (Материалы по русской истории) // [Пересказ Г. Благосветлова] Общезанимательный вестник. 1855. Т. 2. № 4. С. 186–194 («Записки» хранятся в: РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 2. Ед. хр. 6).
(обратно)1326
Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. М., 1991.
(обратно)1327
Ребеккини Д. В.А. Жуковский и французские мемуары при дворе Николая I (1828–1837). Контекст чтения и его интерпретация // Пушкинские чтения в Тарту 3: материалы междунар. науч. конференции, посвященной 220-летию В.А. Жуковского и 200-летию Ф.И. Тютчева / Л. Киселёва (ред.). Тарту, 2004. С. 229–253.
(обратно)1328
Мильчина В.А., Осповат А.Л. О Чаадаеве и его философии истории // Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С. 3–12; Осповат А.Л. Исторический материал и исторические аллюзии в «Капитанской дочке»: Статья первая // Тыняновский сборник. Вып. 10. Шестые – седьмые – восьмые Тыняновские чтения. М., 1998. С. 40–67; Осповат А.Л. Из комментария к «Капитанской дочке»: лубочные картинки // Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: материалы и исследования / Д.М. Бетеа, А.Л. Осповат, Н.Г. Охотин и др. (ред.). М., 2001. (Сер. «Материалы и исследования по истории русской культуры». Вып. 7.) С. 357–365; Осповат А.Л., Тименчик Р.Д. «Печальну повесть сохранить…»: об авторе и читателях «Медного всадника». 2-е изд., перераб. и доп. М., 1987; Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999.
(обратно)1329
«Козьма Захарьич Минин-Сухорук» (1861, 2-я редакция 1866), «Воевода» (1864, 2-я редакция 1885), «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» (1866).
(обратно)1330
Вестник Европы. 1828. № 15. С. 231–232.
(обратно)1331
Ребеккини Д. Русские исторические романы… С. 428.
(обратно)1332
Рейтблат А.И. «Фризурный» литератор Иван Гурьянов и его книги // Лица: биографический альманах. М.; СПб. [Париж], 1993. С. 24–38.
(обратно)1333
Мезьер А.В. Указатель исторических романов, оригинальных и переводных, расположенных по странам и эпохам. СПб., 1902; Указатель заглавий произведений художественной литературы. 1801–1975: в 8 т. М., 1985–1995; Щеблыкин И.Р. У истоков русского исторического романа. Пенза, 1992; Ребеккини Д. Русские исторические романы…
(обратно)1334
Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. С. 444.
(обратно)1335
Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. М., 1980. С. 193–202.
(обратно)1336
Аксаков С.Т. Биография Михаила Николаевича Загоскина // Аксаков С.Т. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4. М., 1966. С. 169.
(обратно)1337
Загоскин М.Н. Сочинения: в 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 722.
(обратно)1338
Аксаков С.Т. Биография Михаила Николаевича Загоскина. С. 168.
(обратно)1339
Модзалевский Б.Л. Примечания // Пушкин А.С. Письма / под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. Т. 2. Письма. 1826–1830. М.; Л., 1928. С. 365–366.
(обратно)1340
Из переписки М.Н. Загоскина // Русская Старина. 1902. Т. CXI. Сентябрь. С. 632–633.
(обратно)1341
Загоскин М.Н. Сочинения. Т. 1. С. 287.
(обратно)1342
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 173.
(обратно)1343
Белинский В.Г. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова… // Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. V. М., 1957. С. 455.
(обратно)1344
Тургенев И.С. [Рец. на: ] Гедеонов С.А. Смерть Ляпунова // Тургенев И.С. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 11. М., 1956. С. 68.
(обратно)1345
Вельтман А.Ф. Мысль о сотворении мира и родстве планет по двум стихиям // ОР РГБ. Ф. 47. Разд. I. Карт. 19. Ед. хр. 5. Л. 31.
(обратно)1346
Лескову эти сведения могли быть известны из статьи: Нелюбов Л. Иван Иванович Лажечников // Русский вестник. 1869. № 10. С. 561–601.
(обратно)1347
Лажечников И.И. Черненькие, Беленькие и Серенькие // Русский вестник. 1856. № 4; Новобранец 1812 года. Из моих памятных записок [1852] // Полное собрание сочинений И.И. Лажечникова: [в 12 т.]. СПб.; М., 1901. Т. 1. С. 131–200; Лажечников И.И. Заметки для биографии В.Г. Белинского // Московский вестник. 1859. № 17; Лажечников И.И. Ответ графу Надеждину по поводу его набега на мою статью о Белинском // Московский вестник. 1859. № 82; Лажечников И.И. Материалы для биографии А.П. Ермолова // Русский вестник. 1864. № 6; Лажечников И.И. Как я знал Магницкого // Русский вестник. 1866. № 1.
(обратно)1348
Скабичевский А.М. Сочинения: в 2 т. СПб., 1890. Т. 2. С. 721; «Русский художественный листок» В. Тимма. 1858. № 7. С. 47.
(обратно)1349
См.: Дубин Б. Риторика преданности и жертвы: вождь и слуга, предатель и враг в современной историко-патриотической прозе // Знамя. 2002. № 4. С. 23–39.
(обратно)1350
Цит. по: Венгеров С.А. Иван Иванович Лажечников. Критико-биографический очерк // Лажечников И.И. Полное собрание сочинений: в 12 т. СПб., Т. 1. 1899. С. 84.
(обратно)1351
[Рец. на: ] Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого. Исторический роман. Соч. И. Лажечникова // Московский телеграф. 1833. Ч. 51. № 10. С. 327.
(обратно)1352
Лажечников И.И. Последний Новик // Лажечников И.И. Сочинения: в 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 427.
(обратно)1353
Там же. С. 37.
(обратно)1354
Лажечников И.И. Полное собрание сочинений: в 12 т. Т. 5. С. 14.
(обратно)1355
Лажечников И.И. Сочинения. Т. 2. С. 641.
(обратно)1356
Лесков Н.С. Детские годы // Лесков Н.С. Собрание сочинений: в 11 т. Т. 5. М., 1957. С. 308.
(обратно)1357
Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой. Берлин, 1922. С. 73.
(обратно)1358
Пенская Е. Проблемы альтернативных путей в русской литературе. Поэтика абсурда в творчестве А.К. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.В. Сухово-Кобылина. М., 2000. С. 148–153.
(обратно)1359
Чулков Г. Императоры России. Психологические портреты. М., 2003. С. 304.
(обратно)1360
Варварин В. [В.В. Розанов] К открытию памятника Государю Александру III // Русское слово. 1909. 23 октября. С. 3.
(обратно)1361
Дубин Б. Государственная информация и массовая коммуникация // Отечественные записки. 2003. № 4. С. 32.
(обратно)1362
Мезьер А.В. Указатель исторических романов…
(обратно)1363
Динерштейн Е.А. «Фабрикант» читателей: А.Ф. Маркс. М., 1986.
(обратно)1364
Ущиповский С.Н. Русская историческая периодика 1861–1917 гг.: дис… канд. филол. наук СПбГУ. СПб., 1994.
(обратно)1365
Булгаков Ф.И. Тенденциозный взгляд на преподавание истории // Исторический вестник. 1881. Т. 4. № 1. С. 168–176; Булгаков Ф.И. Общественное брожение и русская школа // Там же. № 4. С. 858–865; Булгаков Ф.И. Историческая подготовка // Там же. Т. 5. № 5. С. 454–465; Булгаков Ф.И. В защиту истории и исторического романа. Письмо в редакцию // Там же. 1881. Т. 6. № 12. С. 514–519; Булгаков Ф.И. Фабрикации учебников истории // Там же. 1882. Т. 8. № 5. С. 417–420; Мордовцев Д.А. К слову об историческом романе и его критике. Письмо в редакцию // Там же. 1881. Т. 6. № 11. С. 620–672. В одной из публикаций Мордовцев отчетливо сформулировал свое кредо романиста: «Исторический роман не может не служить задачам современности» (Исторический вестник. 1881. № 9. Т. 4. С. 649).
(обратно)1366
См. попытку систематизации: Сорочан А.Ю. Формы репрезентации истории в русской прозе XIX в.: дис… докт. филол. наук. Тверь, 2008.
(обратно)1367
Салиас Е.А. Черваро // Салиас Е.А. Васильки. СПб., 1901; Салиас Е.А. Los novios // Салиас Е.А. Собрание сочинений: в 33 т. Т. 16. М., 1896.
(обратно)1368
Салиас-де-Турнемир Е.А. Семь арестов. Из воспоминаний // Исторический вестник. 1898. Т. 71. № 1. С. 88–120; № 2. С. 485–513; № 3. С. 828–856.
(обратно)1369
Викторович В.А. (при участии Маньковской Л.В. и Пенской Е.Н.) Салиас-де-Турнемир Евгений Андреевич // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 5. М., 2007. С. 459.
(обратно)1370
Цит. по: Измайлов А.А. Литературный Олимп. М., 1911. С. 435–436.
(обратно)1371
Скабичевский А.М. История новейшей русской литературы: 1848–1908. 7-е изд., испр. и доп. СПб., 1909. С. 352.
(обратно)1372
Соловьёв Вс. С. Из писем / публ. и коммент. Л.Р. Ланского // Литературное наследство. Т. 86. С. 422–426, 433–434.
(обратно)1373
Цит. по: Петров К.П. Современные литературные деятели. Вс. Соловьёв // Русская мысль. 1901. № 5. С. 700.
(обратно)1374
Соловьёв Вс. С. Наша беда // Север. 1888. № 1. С. 14–15.
(обратно)1375
Васильева С. Журнал «Север» под руководством Вс. С. Соловьёва // Новое литературное обозрение. 2007. № 87. С. 217.
(обратно)1376
Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. / В.Е. Евгеньев-Максимов, А.М. Еголин, К.И. Чуковский (общ. ред.). Т. 9. М., 1950. С. 94.
(обратно)1377
М.Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 1957. С. 329–330.
(обратно)1378
Кауфман А.Е. Даниил Лукич Мордовцев (Из личных воспоминаний и рассказов) // Исторический вестник. 1910. Т. 122. № 10. С. 225.
(обратно)1379
См.: Варганова Я.А. Д.Л. Мордовцев: Саратовские страницы биографии и творчества. Саратов, 2003; Момот В.С. Даниил Лукич Мордовцев: Очерк жизни и творчества. Ростов-на-Дону, 1978.
(обратно)1380
Глинский Б.Б. Среди литераторов и ученых. СПб., 1914. С. 219.
(обратно)1381
Панов С.И., Ранчин А.М. Д.Л. Мордовцев и его историческая проза // Мордовцев Д.Л. За чьи грехи? Великий раскол. М., 1990. С. 37.
(обратно)1382
Майорова О. Царевич-самозванец в социальной мифологии пореформенной эпохи // Россия / Russia. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII – начало XX века. М., 1999. С. 217.
(обратно)1383
Мордовцев Д.Л. Десятилетие русского земства // Отечественные записки. 1875. № 4–8, 10; 1876. № 7, 9, 11, 12.
(обратно)1384
Малышев В.И. История первого издания Жития протопопа Аввакума // Русская литература. 1962. № 2. С. 147–158.
(обратно)1385
Анненков П.В. Письма к И.С. Тургеневу: в 2 кн. СПб., 2005. Кн. 1. 1852–1874. С. 219.
(обратно)1386
См.: Боченков В.В. П.И. Мельников (Андрей Печерский): мировоззрение, творчество, старообрядчество. Ржев, 2008.
(обратно)1387
Мордовцев Д.Л. К слову об историческом романе и его критике. С. 650.
(обратно)1388
Михайловский Н.К. Сочинения. Т. 6. СПб., 1897. Стлб. 664.
(обратно)1389
Мордовцев Д.Л. Из переписки с А.А. Краевским // Новое Слово. 1894. № 3. С. 89–104.
(обратно)1390
Мордовцев Д.Л. De mortuo [Из переписки с Г.Е. Благосветловым] // То же. № 2. С. 245–262.
(обратно)1391
Грибовский В.М. Несколько встреч с А.С. Сувориным (По личным воспоминаниям) // Исторический вестник. 1912. Т. 130. № 10. С. 181–190; см. также: А.С. Суворин в воспоминаниях современников. Воронеж, 2001. С. 478.
(обратно)1392
Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города // Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: в 20 т. Т. 8. М., 1969. С. 266.
(обратно)1393
Салтыков-Щедрин М.Е. Письмо к А.Н. Пыпину от 2 апреля 1871 г. // Там же. С. 564.
(обратно)1394
Государственный театральный музей им. А.А. Бахрушина. Рукописный отдел. Ф. 274. Ед. хр. 1. Л. 18.
(обратно)1395
Топоров А. Я – из Стойла. Автобиографические записки // Сибирские огни. 2008. № 8. С. 211.
(обратно)1396
Филиппов М.М. Посмертный труд Карла Маркса // Русское богатство. 1885. № 10. С. 179–188; № 11. С. 183–190; № 12. С. 165–173.
(обратно)1397
См., в частности: Филиппов М.М. Россия и немецкие державы в 1840–1860 годах (По исследованиям прусского историографа) // Исторический вестник. 1890. Т. 39. № 2. С. 374–405. В статье суммированы и прокомментированы сочинения немецкого историографа Генриха Зибеля.
(обратно)1398
Филиппов М.М. Лейб-философ князя Бисмарка // Исторический вестник. 1889. Т. 36. № 5. С. 384–398. В статье содержится критика книги Эдуарда фон Гартмана «Zwei Jahrzehnte Deutscher Politik und die gegenwartige Weltage» (1882).
(обратно)1399
Манн Ю.В. М.М. Филиппов – критик и историк русской литературы // Филиппов М.М. Этюды прошлого. М., 1963. С. 322–346.
(обратно)1400
Ржавин И. Нераскрытая тайна // Слава Севастополя. 1968. 27 января; Филиппов Б.М. Тернистый путь. Жизнь и деятельность русского ученого и литератора М.М. Филиппова. 2-е изд, перераб. и доп. М., 1969. С. 123–139 (гл. «Связи с Л.Н. Толстым»); Менделевич Г. О книге М.М. Филиппова // Наука и жизнь. 1970. № 12. C. 150; Филиппов Б.М. Первый роман о Крымской войне // Наука и жизнь. 1969. № 3. C. 130–131; Филиппов Б. Встреча в Хамовниках // Литературная газета. 1968. 31 июля.
(обратно)1401
Толстой Л.Н. [Письмо] Л.И. Филипповой // Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. Т. 20. М., 1984. С. 574.
(обратно)1402
Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1881 // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 14. Л., 1995. С. 476.
(обратно)1403
Введенский А.И. Об исторических романах // Страна. 1880. 14 декабря. С. 7.
(обратно)1404
Круглов А.В. Новости текущей журналистики // Россия. 1880. 19 декабря. С. 6.
(обратно)1405
О «юбилеемании» ср. также: Цимбаев К.Н. Феномен юбилеемании в российской общественной жизни конца XIX – начала ХХ вв. // Вопросы истории. 2005. № 11. С. 98–108; Tsimbaev K. «Jubiläumsfeber»: Kriegserfahrung in den Erinnerungsfeiern in Russland vom Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts // Gründungsmythen. Genealogien. Memorialzeichen. Beiträge zur institutionellen Konstruktion von Kontinuität / G. Melville, K.-S. Rehberg (Hg.). Köln; Weimar; Wien, 2004. S. 75–107.
(обратно)1406
Еще более интересен этот юбилей уже состоявшимся «дальнейшим продолжением» – юбилеем 2003 года. Несмотря на кардинально менявшиеся общественно-политические условия, все три юбилея (включая торжества 1903 года) демонстрируют удивительную схожесть в процессе их подготовки: это и образование организационных комитетов под руководством или покровительством высших сановников, многочисленных подготовительных комиссий; это и похожие схемы расходования казенных средств и масштабы их выделения из бюджета; это и фактическое недопущение общественности к процессу подготовки и сколько-нибудь широкому обсуждению возможных вариантов мероприятий. Схожим оказывается даже сценарий самого мероприятия – сравнительный анализ церемоний показывает их практическую идентичность: церковные, военные, водные процессии, салюты, иллюминации, украшение парадных фасадов городских зданий и т. д. Минимальным изменениям за прошедшие двести лет подвергся и юбилейный язык – поразительно близкими оказываются материалы юбилейных комитетов, включая названия комиссий и подкомиссий, система делопроизводства, речевые обороты письменной документации, тексты юбилейных воззваний и торжественных речей, вплоть до официальных послепраздничных отчетов. И главное: во всех трех случаях юбилей не столько отмечается самими горожанами, сколько «декретируется сверху» государственными инстанциями.
(обратно)1407
Столетие Петербурга описывается, в основном, по следующим источникам: Половцов А.В. Празднование столетнего юбилея Санкт-Петербурга 16 мая 1803 года (цит. по: Сеселкина Л. И сто, и двести лет назад… О чем рассказывают архивные документы // Муниципальный вестник (Санкт-Петербург). 2003. № 12. С. 10–11; Памятник столетию Санкт-Петербурга, или Описание торжества и церемонии, совершившихся в сей Российско-Императорской столице, по случаю благополучно окончившегося первого столетия от заложения сей резиденции, с присовокуплением о прежнем и нынешнем состоянии жителей, церквей, дворцов и коммерции (цит. по: Срезневский В. Празднование столетия Петербурга // Русская старина. 1903. Т. 114. № 5. С. 363–378).
(обратно)1408
Этот факт особо подчеркивался в исторической справке А.В. Половцова, составленной по поручению Петербургской городской думы. Анатолий Викторович Половцов (1841–1905), возглавлявший Общий архив министерства императорского двора, известный архивист, историк, писатель, журналист, член Императорского русского археологического общества, Императорского Петербургского археологического института и Императорского общества поощрения художеств, заметный деятель многих ученых архивных комиссий, использовал в работе по ее составлению камер-фурьерские журналы, в которых с 1734 года велись поденные записи о царствующих особах и событиях при дворе, а также архивные дела Гофинтендантской конторы, ведавшей сооружением и содержанием дворцовых зданий. Записка Половцова была высоко оценена уже в его время (ее же использовали при составлении церемониала 200-летнего юбилея Петербурга в 1903 году) и сохранила свою историческую значимость в наши дни (в частности, она изучалась в дни празднования 300-летия города); однако насколько в данном случае историк ориентировался на документ, а не на требования политического момента – подлежит дальнейшему изучению.
(обратно)1409
В настоящее время в различных городах в музеях и иных памятных местах имеется по крайней мере несколько ботиков Петра, каждый из которых притязает на звание «дедушки русского флота», причем более чем один ведет свою историю от первых плаваний юного Петра по реке Серебрянке и прудам в селе Измайлово. Очевидно, в 1803 году аутентичность ботика была наиболее достоверной. «Ботик Петра» также стал одной из постоянных составляющих более поздних юбилеев; однако прояснение вопроса о том, насколько достоверны происхождение каждого подобного участника очередного торжества от искомого спутника Петра I, а также возможная неединственность изначального ботика и его дальнейшие приключения, – остается дезидератом историографии.
(обратно)1410
Невозможно останавливаться на каждой аналогии и каждом случае тождественности российской юбилейной культуры XIX, XX и XXI веков. Во многом они объясняются, разумеется, использованием общепринятых в европейской культуре Нового и Новейшего времени символов праздничности и эксплуатацией соответствующих обрядов, а также обращением в торжественных случаях к определенным сферам общественной жизни. Военные парады, религиозные церемонии и церковные службы, процессии – также военные, церковные, однако и гражданские, нередко с участием молодого поколения, зачастую символически объединяющие все общество по тем или иным категориям – сословным, профессиональным и т. д., музыка, иллюминации – все это общие черты большинства праздников во многих странах в современную эпоху. Однако как минимум одну характерную особенность праздничной, в том числе юбилейной, культуры России на протяжении уже более чем двухвековой ее истории здесь необходимо особо отметить. В первые либеральные годы правления Александра I, когда в политике шел поиск путей кардинальных реформ, а общественная жизнь была проникнута стремлением забыть жестко регламентированное время Павла I; в последние годы царствования Николая II, прошедшие под знаком попыток сохранить существующий общественный порядок и противостоять дальнейшим политическим реформам; в самые различные периоды советской истории; в постсоветской демократической России – постоянно главной характерной особенностью российской праздничной и юбилейной культуры является ее предписанность и расписанность сверху. Уже в 1803 году центральное место юбилея было именно «назначено». И пусть в то время выбор церкви св. Исаакия в качестве места основного торжества являлся наиболее логичным, позволявшим сделать его сакральным центром, территориально объединявшим основные символы императорской власти (Зимний дворец), российской истории (памятник Петру I), общественных учреждений (точнее – вовлеченности дворянского сословия в управление государством – Сенат), армии и флота (Адмиралтейство и Главный штаб), причем без разделенности рукавами Невы или пространственной удаленностью. Тем не менее, тот факт, что ни Петропавловская крепость, ни Смольный собор (строительство Казанского собора еще продолжалось, и он не был освящен) даже не рассматривались, а «места памяти» директивно устанавливались, наглядно характеризует начало российской юбилейной традиции, которая продолжается по сей день.
(обратно)1411
В 1803 году это была уже третья церковь св. Исаакия на этом месте – каменная, но еще не достигшая размаха и величия будущего собора; тем не менее, и тогда – крупнейшая церковь столицы.
(обратно)1412
Одна из немногих отличительных черт юбилея 1803 года. В дальнейшем присутствие простого народа на официальных юбилейных церемониях становится все менее и менее заметным. От века к веку уменьшается число участников торжественных мероприятий и даже зрителей, не имеющих особых пригласительных билетов; перманентно ограничивается возможность свободного доступа куда бы то ни было, равно как и количество мероприятий «для всех».
(обратно)1413
Из-за отсутствия соответствующих архивных материалов невозможно доподлинно судить об истинности возраста и личного знакомства с Петром Великим «украшенного сединами старца». Однако судя по его способности к продолжительной езде на лошади и по укоренившейся с тех пор традиции российских юбилеев, согласно которой организаторы торжеств стремились «найти» участников или очевидцев празднуемых событий, в том числе и столетней давности (ср., например, факт участия «ветеранов и очевидцев» Отечественной войны 1812 года «в возрасте 110–120 лет» в церемонии празднования 100-летнего юбилея Бородинской битвы в 1912 году, «аутентичность» этого ветерана представляется довольно сомнительной. См.: Цимбаев К.Н. Трехсотлетие дома Романовых. Юбилей 1913 года как художественное действо (Пролог) // Историк и художник. 2005. № 1. С. 181–195.
(обратно)1414
Через месяц после юбилея Баранов назначается «за обер-прокурорский стол» в 3-й департамент Сената, при этом службу он начал всего за два года до этого и был экзекутором 1-го департамента. Вопрос о том, явилось ли это совпадением или же быстрое продвижение по служебной лестнице связано с юбилейными (или послеюбилейными) событиями, как это стало нормой спустя сто лет, остается на данный момент еще не проясненным.
(обратно)1415
См. документы Церемониальной части министерства императорского двора, касающиеся юбилейных торжеств – о праздновании 200-летия Полтавской битвы в Полтаве и в Петербурге, 100-летия Бородина в Москве, 300-летия династии Романовых в Костроме, Владимире, Суздале, в Троице-Сергиевой лавре, в Ростове Великом и т. д. Именно Церемониальная часть (при содействии Канцелярии министерства двора и Гофмаршальской части) была той инстанцией, чиновниками которой прорабатывались окончательные варианты и детали церемоний. В ее фондах хранятся подробные программы пребывания императора и его семьи в различных городах во время высочайших путешествий и разработки маршрутов путешествий – схемы въездов и проездов императорской процессии, списки лиц, приветствовавших царскую семью и приносивших поздравления – по сословиям, профессиям, вероисповеданиям – с обязательным представительством всех основных религиозных течений (православных, иных христианских и нехристианских); распоряжения по дворцовым балам, парадным обедам, завтракам и спектаклям, приглашения и повестки на торжества, списки участвовавших полков, предписания о форме одежды военным, гражданским и придворным чинам, положения о вручавшихся юбилейных медалях, решения о приглашении отдельных, особо важных, лиц или групп (например, кавалеров ордена св. Александра Невского) на торжества. В этих документах содержатся и подробно расписанные церемониалы празднования всех важнейших юбилеев по дням и даже часам и минутам. Это позволяет досконально представить не только ход каждой церемонии, но и механизмы ритуализации истории – в частности, главенство светских распорядительных властей (дворцово-министерской бюрократии) над церковными и военными. (РГИА. Ф. 472 (Канцелярия Министерства императорского двора); Ф. 473 (Церемониальная часть); Ф. 476 (Гофмаршальская часть). Ср. также: РГИА. Ф. 1284 (Департамент общих дел МВД). Оп. 187. Юбилейные дела и различные ходатайства. 1900–1917 гг.).
(обратно)1416
В 1913 году Комитет для устройства празднования 300-летия династии Романовых, до этого обсуждавший в течение нескольких лет вопрос об организации широких народных гуляний, приходит к выводу, что необходимая сумма – свыше 340 тысяч рублей – весьма значительна; гуляния было решено отменить.
(обратно)1417
Как пример – празднование 100-летия Бородинской битвы: многочисленные юбилейные парфюмерные и винные наборы, шампанское, юбилейный «Русский коньяк», шоколадные наборы, детские настольные игры, посвященные разгрому Наполеона в России, и т. д. наглядно передают степень проникновения коммерциализации юбилея и стремление как организаторов, так и коммерческих деятелей охватить даже не вовлеченные в общественную и государственную жизнь группы населения. Рекламные плакаты, открытки и публикации, приуроченные к тому или иному юбилею, в начале XX века не просто иллюстрировали это событие, но весомо подкрепляли процесс популяризации и коммерциализации торжества. См., например: Отдел письменных источников ГИМ. Ф. 137 (Фонд Военно-исторического музея); Ф. 160 (Особый комитет по устройству в Москве Музея 1812 г. и коллекция документов музея).
(обратно)1418
Так, делопроизводители Комитета для устройства празднования 300-летия царствования дома Романовых получали помимо обычного содержания по службе в министерстве внутренних дел, к которому они в основном были приписаны, до 1,5 тысячи рублей в год (при среднегодовом заработке рабочего около 250 рублей, а народных учителей – порой 50–60 рублей); обеспеченные высокопоставленные действительные члены Комитета отсутствие жалованья за работу в нем могли компенсировать, например, частыми командировками (предварительные организационные и инспекционные поездки, участие в самих торжествах, сопровождение императора и т. д.). Деньги на билеты выделялись очень щедро, на ночлег, прогонные, суточные – до 100 рублей в день, причем в бумаге на выдачу денег вполне могли перечисляться три фамилии с указанием выдать указанную сумму «всем четверым». Кроме того, особый фонд в 10 миллионов рублей, резервируемый каждый год в государственном бюджете на экстренные расходы, не предусмотренные сметами, постоянно находился фактически в неограниченном распоряжении Комитета. Ни один его запрос не оставался без удовлетворения; ни одна сумма не подлежала сокращению. На заседаниях Комитета расходы обсуждались с точностью до копейки; для министерства финансов большинство смет округлялось до десятков тысяч (РГИА. Ф. 1320 (Комитет для устройства празднования 300-летия царствования дома Романовых)).
(обратно)1419
ГАРФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 156.
(обратно)1420
О юбилеях Отечественной войны 1812 года ср. также: Гаврилова Н.А. 1812 год: Влияние государственной идеологии на восприятие и изучение войны // Новый исторический вестник. 2004. № 2 (11). С. 74–92.
(обратно)1421
Реставрационные и строительные работы в Измайлове велись с 1839 по 1849 год. Освящение собора и корпусов состоялось в присутствии императора 12 апреля 1849 года. Открылась Измайловская Николаевская военная богадельня 19 марта 1850 года. Характерен и для неизменной российской действительности, и для организации отдельных юбилейных мероприятий связанный с ней исторический анекдот, являющийся, однако, вполне достоверным фактом. Николай I, осматривая свежевозведенные корпуса богадельни, заметил, что ветеранам войны, многие из которых действительно были инвалидами в современном понимании этого слова, несподручно ежедневно по нескольку раз подниматься и спускаться по довольно крутой и высокой лестнице, ведущей в жилые помещения, в том числе и на 4-й этаж, в то время как обеденные корпуса и, естественно, собор находились за пределами корпусов. Император повелел сделать для обитателей лифт. Были проведены подготовительные работы, в лестничной шахте сооружена блочная система, перекинута веревка – но не более того… Сотрудники и посетители Отдела письменных источников Государственного исторического музея, располагающегося сегодня в этих стенах, поднимаясь пешком по лестнице в читальный зал архива, могут и сейчас лицезреть свисающую с потолка веревку.
(обратно)1422
Подробнее о том, почему юбилей кампании 1812 года при Николае I широко отмечался фактически не в 1837 году, а на фундаменте 25-летней годовщины вступления союзных войск в Париж в 1814 году, а также о выборе дня празднования (в 1839 году за основу была взята юбилейная дата 1837 года), см.: Кухарук А. Некруглая дата. Открытие памятника на Бородинском поле в 1839 году // Родина. 2002. № 8. С. 134–136.
(обратно)1423
Записка Витебского, Могилёвского и Смоленского генерал-губернатора князя Голицына // Русская старина. 1891. Т. 69. Вып. 1. С. 108–109.
(обратно)1424
Алексеев В.П. Отечественная война в русской исторической литературе // Отечественная война и русское общество: 1812–1912: Юбилейное издание: в 7 т. Т. VII. СПб., 1912. С. 300.
(обратно)1425
О нагнетании официального культа Отечественной войны 1812 года, а также о его апогее – «бородинской годовщине» 1839 года – см. также: Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980.
(обратно)1426
О подготовке, проведении и значении юбилея 700-летия Москвы см., например: Глинка Ф.Н. Семисотлетие Москвы // Журнал министерства народного просвещения. 1847. Ч. 53. № 1. С. 7–11; Хавский П.В. 700-летие Москвы, 1147–1847, или Указатель источников ее топографии и истории за семь веков. М., 1847; Забелин И.Е. По поводу семисотлетия Москвы в 1847 г. // Забелин И.Е. Опыты изучения русских древностей и истории: Исследования, описания и критические статьи [в 2 ч.]. Ч. 2. М., 1873. C. 254–257; Погодин М.П. Семисотлетие Москвы // Москвитянин. 1846. № 1. С. 287–289; ср. также: Дмитриев С.С. Русская общественность и семисотлетие Москвы // Исторические записки. Т. 36. М., 1951. С. 219–251; Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 1986.
(обратно)1427
Другой пример участия властей в юбилее: по личному повелению императора в том же году, несмотря на слабые попытки общественности противостоять намеченному, была снесена старейшая московская церковь Рождества Иоанна Предтечи, стоявшая в Кремле с XII века.
(обратно)1428
Об университетском юбилее 1855 года см., например: Историческая записка, речи, стихи и Отчет Императорского Московского университета, читанные в торжественном собрании 12 января 1855 года по случаю столетнего его юбилея. М., 1855; ср. также: Алексеева Е.Д. С.П. Шевырёв и столетний юбилей Московского университета // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 2004. № 2. С. 106–121.
(обратно)1429
Шевырёв С.П. История Императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. М., 1855; Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета / Шевырёв С.П. (сост.): в 2 ч. Ч. I–II, М., 1855.
(обратно)1430
В воспоминание 12 января 1855 г. Учено-литературные статьи профессоров и преподавателей Императорского Московского университета, изданные по случаю его столетнего юбилея: сб. статей. М., 1855.
(обратно)1431
Характерной была и невозможность «непривилегированных» участвовать в торжествах из-за отсутствия пригласительных билетов или свободных мест – в случае с Московским университетом в его актовом зале собрались практически все начальственные лица Москвы по гражданской и военной части, духовенство, члены официальных делегаций. Профессора и студенты туда практически не допускались.
(обратно)1432
В 1855 году известный композитор А.Н. Верстовский, управляющий конторой дирекции московских императорских театров, написал специальную «Кантату к 100-летию Московского университета».
(обратно)1433
О юбилее тысячелетия Руси см. также: Майорова О.Е. Бессмертный Рюрик. Празднование Тысячелетия России в 1862 году // Новое литературное обозрение. 2000. № 43. С. 137–165; Буслаев А.И. Как пили за здоровье тысячелетия // Родина. 2010. № 10. С. 79–82; Буслаев А.И. Имперские юбилеи – тысячелетие России (1862 год) и девятисотлетие крещения Руси (1888 год): организация, символика, восприятие обществом: дис… канд. ист. наук. М., 2010.
(обратно)1434
Интересно, что и советская научная и политическая общественность, включив памятник «Тысячелетие России» в число выдающихся произведений искусства и символов неразрывной российской государственности, не приняла 862 год как дату, с которой следует исчислять историю России. М.Н. Тихомиров настойчиво доказывал ее ошибочность и утверждал, что 860 год «должен считаться основной и точной датой “начала Русской земли”, которую следовало бы отмечать как великую и памятную дату в истории нашей Родины» (Тихомиров М.Н. Начало русской земли // Вопросы истории. 1962. № 9. С. 42.).
(обратно)1435
Ср. также: Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: в 2 т. М., 2004. Т. II.
(обратно)1436
«Надоела нам уже эта сказка про свежесть и тысячелетнюю молодость» (Н.А. Лесков).
(обратно)1437
Ср.: Гаврилова Н.А. 1812 год: Влияние государственной идеологии на восприятие и изучение войны.
(обратно)1438
Уже в 1857–1860 годах вышла работа М.И. Богдановича «Описание Отечественной войны 1812 г.», изначально нацеленная на привлечение внимания общественности и вызвавшая неоднозначную реакцию образованной публики.
(обратно)1439
Ср.: Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. С. 233.
(обратно)1440
См.: Дьяков В.А. Бородинские юбилеи и их воздействие на дореволюционную русскую историографию // Проблемы истории русского общественного движения и исторической науки. М., 1981. С. 307.
(обратно)1441
См.: Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855–1875. Köln; Weimar; Wien, 2000. S. 365. Anm. 405.
(обратно)1442
Об использовании юбилеев в политических целях в России начала XX века см. также: Цимбаев К.Н. Полтаве – 200 лет! // Родина. 1999. № 12. С. 138–142; Цимбаев К.Н. Русская православная церковь и государственные юбилеи императорской России // Отечественная история. 2005. № 6. С. 42–51; Цимбаев К.Н. Гуманитарные технологии в юбилейных торжествах // Коммуникативные стратегии культуры и гуманитарные технологии: науч. – метод. материалы. СПб., 2007. С. 454–484; Tsimbaev K. Die Orthodoxe Kirche im Einsatz für das Imperium. Kirche, Staat und Volk in den Jubiläumsfeiern des ausgehenden Zarenreichs // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2004. Bd. 52. H. 3. S. 355–370.
(обратно)1443
Подробнее см.: Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: в 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 92–97.
(обратно)1444
Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985. С. 108.
(обратно)1445
Первые появившиеся памятники были архитектурными (обелиски, стелы и т. д.) – они могли быть напоминанием об общезначимом событии, но существовали в частном пространстве царских и дворянских усадеб: такой была Морейская колонна в Царском селе (1771). Первым городским памятником в России стал обелиск на главной площади в Твери (1778), так что ко дню открытия первого российского скульптурного общественного монумента в империи насчитывалось уже около дюжины таких памятных знаков.
(обратно)1446
Подробнее см.: Зорин А. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: НЛО, 2004. С. 159–186.
(обратно)1447
Там же. С. 164.
(обратно)1448
Первый в послеантичном искусстве городской портретный памятник гражданскому лицу в Европе – статуя Эразма в Роттердаме, установленная в 1622 году.
(обратно)1449
См. соображения В.Н. Топорова о памятнике Фальконе и его литературных «отражениях» в рамках его наблюдений о «петербургском тексте» русской культуры (Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003). – Примеч. ред.
(обратно)1450
Поэма была опубликована только после смерти Пушкина в исправленном Жуковским варианте. В свое время рукопись не была пропущена высочайшей цензурой – самим Николаем I. Из девяти требуемых поправок восемь были связаны именно с описанием памятника (из них три раза подчеркнуто определение «кумир» и один раз «горделивый истукан»). Подробнее см.: Зенгер Т. (Цявловская Т.Г.) Николай I – редактор Пушкина // Литературное наследство. Вып. 16–18: [о Пушкине]. М., 1934. С. 513–536.
(обратно)1451
Ермилов Н. История сооружения памятника Ломоносову в Архангельске // Исторический вестник. 1889. Т. 36. № 4. С. 184.
(обратно)1452
Там же. С. 185.
(обратно)1453
Robert E. Briefe aus dem hohen Norden und dem innern von Ruβland, geschrieben auf einer Reise in den Jahren 1838 und 1839 nebst Beilagen die franzosisch-scandinavische Expedition nach Spitzbergen betreffend. Hamburg, 1840. S. 53–54.
(обратно)1454
Шперк Фр. Ф. Страничка из моих скитаний по белу свету. Архангельск, его прошлое и настоящее. Архангельск, 1903. С. 19.
(обратно)1455
Симбирск и его общественная жизнь. (Письма в редакцию «Казанского Биржевого Листка»). Казань, 1888. С. 19.
(обратно)1456
Трофимов Ж. Карамзину, историку Государства Российского (Известное и неизвестное) // Памятники Отечества. 1995. № 34 (3–4). С. 150.
(обратно)1457
Погодин М. Историческое похвальное слово Карамзину, произнесенное при открытии ему памятника в Симбирске, августа 23, 1845 года, в собрании симбирского дворянства. М., 1845. С. 8.
(обратно)1458
Там же. С. 3–4.
(обратно)1459
Там же. С. 65–66.
(обратно)1460
Погодин М. Об открытии памятника Карамзину. Письмо из Симбирска (к М.А. Дмитриеву) // Москвитянин. 1845. Т. V. № 9. Отд. I. С. 5, 16.
(обратно)1461
Трофимов Ж. Симбирский памятник Н.М. Карамзину. Известное и неизвестное. М., 1992. С. 24.
(обратно)1462
Открытие памятника Карамзину // Москвитянин. 1845. № 9. Отд. VII. С. 37.
(обратно)1463
Погодин М. Об открытии памятника Карамзину. С. 8.
(обратно)1464
Переписка Н.В. Гоголя: в 2 т. / А. Карпов, М. Виролайнен (сост. и коммент.). М., 1988. Т. 2. С. 401.
(обратно)1465
Грот Я.К. Жизнь Державина // Державин Г.Р. Сочинения. Т. 8. СПб., 1880. С. 1017.
(обратно)1466
Рыбушкин М. Краткая история города Казани: в 2 ч. Казань, 1850. Ч. 2. С. 108.
(обратно)1467
Альмухаметова Г.А. Материалы местной печати об открытии памятника Г.Р. Державину в Казани // Вопросы источниковедения русской литературы второй половины XIX – начала XX века. Казань, 1985. С. 17.
(обратно)1468
Там же. С. 18.
(обратно)1469
Отчет о сооружении памятника Державину, читанный секретарем общества любителей отечественной словесности Суровцевым. Казань, 1848. С. 11. Ниже будет упомянута Александровская колонна на площади Зимнего дворца, поставленная в честь победы Александра над Наполеоном; она была открыта в 1834 году.
(обратно)1470
Фойгт К. Речь, при открытии в Казани памятника Г.Р. Державину, произнесенная проректором Императорского Казанского университета 25 августа 1847 года. Казань, 1847. С. 87–88.
(обратно)1471
Грот Я.К. Жизнь Державина. С. 1021.
(обратно)1472
Там же. С. 1022.
(обратно)1473
Путевой очерк графа Сальяса // Беседа. 1872. Кн. 1. С. 84 («Внутреннее обозрение»).
(обратно)1474
Несмотря на проведение конкурсов Академией художеств, создание монументов писателям передавалось чуть ли не по наследству. Первым был И. Мартос, затем эстафету принял его ученик по Академии художеств С. Гальберг – его памятники Карамзину и Державину переводил в бронзу П.К. Клодт, который и стал автором следующего памятника.
(обратно)1475
Обращение (из ЖМНП) повторяется дословно в «Русском инвалиде» (1845. № 11. С. 29–30), что подтверждает официальный статус текста.
(обратно)1476
Русский инвалид. 1845. № 11. С. 29–30.
(обратно)1477
Рощупкин Н. Иван Андреевич Крылов как русский народный баснописец // Празднование в Воронеже столетнего юбилея И.А. Крылова 2 февраля 1868 г. Воронеж, 1868. С. 53.
(обратно)1478
Цит. по: Левитт М.Ч. Литература и политика: Пушкинский праздник 1880 года. СПб., 1994. С. 46.
(обратно)1479
Кохановская [Н.] Степной цветок на могилу Пушкина // Русская беседа. 1859. Кн. 17. Т. 5. Критика. С. 74.
(обратно)1480
Крестовый поход наших передовых журналов на Пушкина // Светоч. 1860. № 8. С. 7 (3-я паг.).
(обратно)1481
Санкт-Петербургские ведомости. 1880. 11 июня. Цит. по: Чубуков В.В. Всенародный памятник Пушкину. М., 1999. С. 80.
(обратно)1482
Очевидец. Еще несколько слов о пушкинском празднике // Русское богатство. 1880. № 7. С. 29.
(обратно)1483
Левитт М.Ч. Литература и политика. С. 96.
(обратно)1484
Пушкинский праздник // Новости. 1880. 7 июня. С. 1.
(обратно)1485
Леже Л. У памятника Пушкину // Москва. 1965. № 8. С. 206–207.
(обратно)1486
Левитт М.Ч. Литература и политика. С. 95–96.
(обратно)1487
Очевидец. Еще несколько слов о пушкинском празднике. С. 29.
(обратно)1488
См.: «Мало кто думал о Пушкине и на пушкинском празднике. Что у кого болит, тот о том и говорит» (Михайловский Н.К. Литературные заметки 1880 года // Михайловский Н.К. Сочинения: в 6 т. Т. 4. СПб., 1897. Стлб. 921).
(обратно)1489
Венок на памятник Пушкину. СПб., 1880. С. 243.
(обратно)1490
Левитт М.Ч. Литература и политика. С. 8.
(обратно)1491
Там же. С. 9.
(обратно)1492
Памятник Пушкину академика А.М. Опекушина // Нива. 1880. № 21. С. 427.
(обратно)1493
Врангель Н.Н. История скульптуры // Грабарь И. История русского искусства. Т. 5. М., 1906. С. 382.
(обратно)1494
«Одновременно с открытием памятника устроился в двух комнатах московского дворянского собрания Пушкинский музей. У нас это первая попытка такого рода к охранению памяти великих людей от тления, тогда как на западе давно уже сознана необходимость подобных музеев. Так, например, видим и домик Шекспира со всей тщательно сберегаемой обстановкой до мельчайших подробностей, и помещение Шиллера, и прославленный замок Вольтера» (Открытие памятника А.С. Пушкину // Историческая библиотека. 1880. № 8–9. С. 15).
(обратно)1495
Торжество открытия памятника А.С. Пушкину в Москве 6 июня 1880 г. с биографиею А.С. Пушкина. М., 1880. С. 44.
(обратно)1496
Педашенко С.А. Памятники Пушкину (1837 – 29 января – 1912): с 10 снимками памятников. М., 1912. С. 9–10.
(обратно)1497
Левитт М.Ч. Литература и политика. С. 10–11.
(обратно)1498
Зорин А. Кормя двуглавого орла. С. 344.
(обратно)1499
Подробнее см.: там же. С. 337–374.
(обратно)1500
Там же. С. 367.
(обратно)1501
Там же. С. 372.
(обратно)1502
Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина: в 22 кн. Кн. 8. СПб., 1894. С. 181.
(обратно)1503
Там же. С. 183.
(обратно)1504
То же. Кн. 9. СПб., 1895. С. 236.
(обратно)1505
Подробнее см.: Выскочков Л.В. Монументальная пропаганда при императоре Николае I // Мавродинские чтения: сб. статей. СПб., 2002. С. 162–168. Автор приходит к выводу, что «именно в царствование императора Николая I в обществе формируется новое восприятие памятников по истории Отечества».
(обратно)1506
Сокол К.Г. Монументальные памятники Российской империи: Каталог. М., 2006. С. 7.
(обратно)1507
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 30. М., 1951. С. 170–171.
(обратно)1508
Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, 1985. P. 317.
(обратно)1509
Незнакомец [Суворин А.С.]. Недельные очерки и картинки // Новое время. 1880. 29 июня (11 июля). С. 2.
(обратно)1510
30-е января в книжном магазине «Нового времени» // Новое время. 1887. 31 января. С. 2.
(обратно)
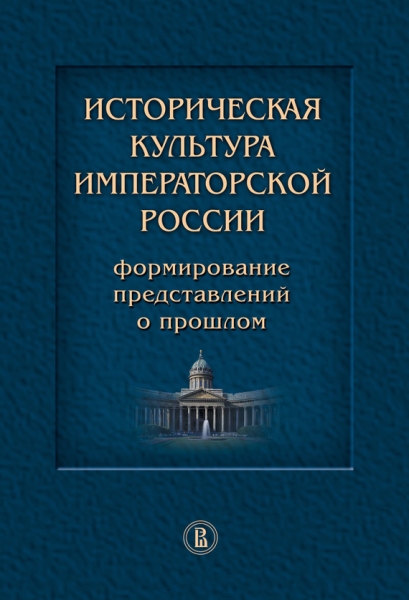




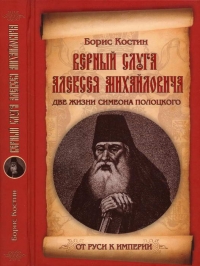
Комментарии к книге «Историческая культура императорской России. Формирование представлений о прошлом», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев