И. В. Глущенко, Б. Ю. Кагарлицкий, В. А. Куренной СССР. Жизнь после смерти
Предисловие
Борис Кагарлицкий ЗАГАДКА СОВЕТСКОГО СФИНКСА
Двадцать лет – значительный срок, позволяющий говорить о прошлом уже не в категориях личного опыта или текущего процесса, а в категориях именно Истории. За это время вырастает поколение, не знавшее обсуждаемых событий, не заставшее и не пережившее их. Такой слом произошел в Советском Союзе, когда в середине 1960-х появилось поколение, не заставшее войны, а еще раньше – во второй половине 1930-х, когда стали взрослыми люди, никогда не видевшие революцию (не случайно Сталин именно в 1937 г., к двадцатилетию Октября, решился пустить под нож «старых большевиков» – костяк революционного поколения). Сегодня же историей становится уже сам Советский Союз. Время, прошедшее с момента распада СССР, позволяет взглянуть на советскую повседневность с некоторой степенью отстраненности и, пользуясь термином Б. Брехта, «очужденно», преодолев идеологические и политические штампы, которыми зачастую нагружена дискуссия о советском.
Однако двадцатилетие с момента события – это еще и время, когда продолжение начатого в прошлом процесса столь же очевидно, как и дистанция, которая нас от него отделяет. Да, с одной стороны, выросла новая молодежь, сложились новые общественные отношения, образ жизни, практика, культура. А с другой – люди, жившие в том другом обществе, все еще активны, многие из них по-прежнему молоды. Александр Дюма не случайно дал своим мушкетерам перерыв в двадцать лет, чтобы потом опять собрать их для новых подвигов. Самое время применить в изменившихся условиях знания, навыки и опыт, накопленные в прошлую эпоху.
Два десятилетия, прошедших с момента крушения СССР, создали такую историческую и культурную дистанцию, которая помогает не только по-новому – более объективно и спокойно – взглянуть на случившееся, на весь советский период и различные его этапы, но и снова приблизиться к ушедшему времени, осознав, что оно оставило после себя много элементов, по-прежнему работающих и развивающихся в новом, радикально изменившемся мире.
В конце концов, любой юбилей, любая годовщина – это повод поразмышлять о событии, достойном того, чтобы о нем думали и говорили даже и без такого повода. А потому в декабре 2011 г. Институт глобализации и социальных движений (ИГСО) вместе с отделением культурологии философского факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) решили провести конференцию «СССР: жизнь после смерти». Интерес к этой инициативе превзошел ожидания организаторов. Заявок на выступление оказалось так много, что, даже ограничив их число, мы вынуждены были заменить первоначально планировавшийся скромный однодневный семинар двухдневной конференцией.
Буквально в то же время Валерий Анашвили выступил куратором художественного проекта «Искусство памяти», представленного на площадке Artplay в январе 2012 г. Живопись Влада Юрашко и Вики Шумской, посвященная все той же годовщине распада СССР – «великому разрыву» 1991 г., требовала обсуждения не только искусствоведческого. Было решено в рамках выставочного проекта продолжить дискуссию, начатую на площадке НИУ ВШЭ. Результатом стали еще два круглых стола: «СССР сегодня» и «Второе крушение: от распада Советского Союза к кризису неолиберализма». Итогом четырехдневных дебатов стала данная книга, издание которой было поддержано московским отделением Фонда Розы Люксембург.
Материалы этих дискуссий отразили взгляды разных поколений. С одной стороны, здесь выступают эксперты, для которых «советское» является не только предметом изучения, но и частью собственного жизненного опыта, а с другой – в книге представлены работы молодых исследователей, принадлежащих уже к постсоветскому поколению. Сопоставление этих двух взглядов выявляет не столько контраст, сколько культурное различие. Зачастую молодые люди прибегают к своего рода культурной археологии, обнаруживая в собственной жизни, практике и опыте следы советской системы, которые при менее пристальном взгляде были просто неразличимыми. В то же время, обращаясь к советскому прошлому, они очень четко фиксируют культурную и социальную дистанцию, рассматривая взятый материал именно как часть истории.
В заключительной части книги помещены материалы круглых столов, проходивших на площадке Artplay, где в значительной мере разговор шел о том, как «советское» воспринимается сегодня. Кризис 1990-х годов, положивший конец существованию СССР, на фоне нового кризиса, поразившего мир и Россию после 2008 г., воспринимается уже не просто как историческое событие или эпизод в коллективной биографии старших поколений, но и как своеобразная модель институционального и социального распада, изучение которой оказывается в высшей степени актуальным и поучительным в новых условиях. Мы второй раз за 20 лет наблюдаем кризис и крушение общественных институтов.
Обобщая итоги дискуссии, можно сказать, что одинаково рано говорить и об окончательном разрыве с СССР, и о его непреодолимом присутствии в современной России. Основной задачей наших встреч являлось исследование советских социально-культурных практик с точки зрения постсоветского опыта. Именно культурологический подход и сосредоточение на проблемах повседневного бытия позволяют в значительной мере освободиться от политической тенденциозности, что, впрочем, отнюдь не означает, будто подобный угол зрения исключает постановку общественно значимых тем и вопросов.
Ключевой вопрос, который ставился перед участниками конференции, состоял в том, насколько и в какой форме продолжается жизнь советских социально-культурных и бытовых практик в постсоветском, капиталистическом обществе. Что с ними происходит? Они: сохраняются/развиваются; адаптируются/трансформируются; вырождаются/разлагаются; исчезают/ преодолеваются? Является ли «советское наследие» препятствием для развития нового буржуазного общества в России или, наоборот, элементом, стабилизирующим новую систему, позволяющим избегать катастрофических драм, характерных для других стран периферийного капитализма (что можно было наглядно видеть на протяжении тех же двух десятилетий). Оказывается ли «советское» фактором сопротивления или ресурсом адаптации к реальности неолиберального порядка? Что это – груз, который мешает нам идти вперед, или запас прочности, защищающий нас от краха? Насколько авторитарен или демократичен советский опыт? Насколько он прогрессивен или консервативен? Ответы на эти последние вопросы, казавшиеся совершенно очевидными массовому сознанию начала 1990-х годов, явно должны быть найдены заново, ибо на фоне случившегося с нами за прошедшие годы обнаруживается, насколько противоречива и парадоксальна (точнее – диалектична) история.
В конце советского периода интеллигенция, да и значительная часть рабочих протестовали против косности и недемократичности советских политических и общественных структур и были, несомненно, правы в своем протесте. Но два десятка лет спустя мы можем оценить и другую – демократическую – сторону советского опыта, состоявшую в социальной открытости и общедоступности многих институтов – от системы образования до нижних звеньев бюрократии, от механизмов карьерного роста до структур, проводивших культурную политику и выступавших в одно и то же время в роли душителей (по отношению к свободному творчеству художников) и просветителей (по отношению к народу в целом, создавая для этих самых художников аудиторию и возможности, немыслимые ни в каком прежнем обществе).
Наблюдая за тем, как многие элементы советской социальной практики успешно интегрируются в новую капиталистическую реальность (причем одновременно и в форме практик адаптации, и, как ни парадоксально, гораздо реже, в форме практик сопротивления), можно заново переосмыслить вопрос о советской специфике, одновременно обратившись к истокам многих элементов советской общественной организации, которые мы можем найти как в дореволюционной России, так и в индустриальных обществах Запада.
В то же время при рассмотрении «советского» необходимо осознать неоднородность соответствующего социального опыта, анализируя его исторически: жизнь в СССР менялась на протяжении семи с лишним десятилетий, отражая экономические и политические перемены, происходившие в стране. Таким образом, «советское» можно, разумеется, рассматривать как некую историко-культурную целостность, но ни в коем случае не как некое неизменное и единое «целое», как это делают зачастую авторы, сводящие всю историю советского общества к «тоталитаризму», или, напротив, публицисты, ностальгирующие по «утраченной великой стране». Ни «величие», ни «тоталитаризм» не только не описывают всего многообразия советского исторического опыта, но, что гораздо важнее, и не объясняют его, не давая даже теоретически убедительного объяснения собственным констатациям (почему и в чем СССР был тоталитарным, почему и в чем он был великим, и как одно связано или, наоборот, находится в противоречии с другим).
Подобный историко-культурный взгляд на СССР позволяет нам не только лучше понять собственное недавнее прошлое, но и лучше разобраться в своем настоящем, преодолев соблазн механически приписывать проблемы и противоречия, специфические для современного российского капитализма, «советскому наследию». В действительности речь идет не о том, как «советское наследие» «деформировало» развитие постсоветского капитализма, но о том, почему и как сам новый капитализм для своего развития заимствовал, трансформировал и деформировал «советское наследие» на уровне культуры и повседневных практик.
Ощущение утраты, усиливавшееся на протяжении постсоветской эпохи, привело к масштабному переосмыслению недавнего прошлого, спровоцировав волну ностальгии. Однако и с ностальгией не все так просто. Потому что тоскуют все о разном, а часто и о противоположном. Одни горюют по утраченному равенству, а другие переживают из-за ослабления дисциплины и из-за того, что низы уже не так уважают начальство, как прежде. Одни страдают по поводу реальной, а не вымышленной дружбы между людьми и народами, а другим не дает покоя утраченная «имперскость». Одни с грустью вспоминают духовную свободу советской интеллигенции, другие страдают из-за отмены цензуры. Со своей стороны, власть и правящий класс реагируют на охватившую общество ностальгию и с готовностью используют те или иные элементы советского культурного багажа и советских институтов для решения уже совершенно новых задач. Рынок превращает названия советских товаров в бренды, экономя на их продвижении, администрация предприятий использует не только старые оборудование и кадры, но и остатки традиционных производственных отношений для контроля над рабочими (радикально меняя при этом задачи производства – от выполнения плана к получению прибыли). А советская привычка к подчинению и старая система доверия и ожиданий, сформировавшаяся по отношению к государству, выступавшему гарантом всевозможных социальных благ и прав, используются теперь, чтобы парализовать сопротивление правительственной политики, которая эти права отменяет, а блага отнимает. В процессе адаптации «советского опыта» в буржуазной и неолиберальной России этот опыт деполитизируется и деидеологизируется, лишаясь значительной части социального содержания. Искусственно обрывается его связь с породившим новое общество революционным взрывом 1917 г., после чего начинает происходить повторная реполитизация и реидеологизация, в ходе которой советская традиция встраивается в исправленную систему авторитарно-консервативных ценностей, призванных укрепить режим «управляемой демократии».
Загадка «советского» состоит не только в противоречивости и двойственности этого исторического опыта, но и в его целостности. В том, что, не осознав противоположности составивших основу советской жизни тенденций, невозможно понять и того, почему эта система, несмотря на все свои пороки и провалы, была столь жизнеспособна. Противостоящие друг другу тенденции до определенного момента дополняли и компенсировали друг друга. Когда потенциал этого конфликтного взаимодействия исчерпал себя, рухнуло и само государство.
Советский Союз, прошедший в течение своей истории целый ряд радикальных поворотов, был крайне противоречивым историческим феноменом, включавшим как наследие европейского Просвещения, так и традиции византийской автократии; как социально-освободительный порыв, так и бюрократическую косность; как репрессии, так и социальную мобильность; как динамизм, так и консерватизм; как развитие, так и застой. Однако именно в новой России все эти элементы с неизбежностью снова приходят в движение и по-своему расщепляются. В этом смысле идеологическая борьба 2010-х годов разворачивается не только и не столько вокруг оценки СССР («за» советский опыт или «против» него), но, скорее, как борьба за советское наследство, борьба за то, какие элементы этого наследства окажутся значимыми и работающими в новой российской (а также в украинской, молдавской, белорусской и т. д.) реальности.
В свое время Ленин применительно к буржуазному обществу высказал известный тезис о «двух культурах» в каждой национальной культуре. Лидер революции доказывал, что в каждом обществе одновременно существуют прогрессивная демократическая и реакционная консервативно-иерархическая культуры, между которыми идет постоянная борьба. Парадоксальным образом эта ленинская формула оказалась в высшей степени применима и к самому советскому обществу. Однако, указывая на наличие «двух культур в одной культуре», идеолог большевизма сознательно или бессознательно избегал упоминания о диалектической связи между ними, о том, что они, находясь в противоречии и борьбе между собой, одновременно являются частями единого целого (иначе бы они и не могли сосуществовать в одном обществе и в одной культурной системе). Сегодня, когда СССР уже нет, эти две советские культуры продолжают борьбу между собой уже в опыте постсоветской капиталистической России. Культура, как это часто бывает, пережила общество, ее породившее, став частью «наследия», работающего уже в другом социально-историческом контексте. Однако именно исчезновение первоначального советского политического и экономического «целого» дает шанс на своего рода «окончательный выбор» в пользу одного или другого варианта советской традиции.
Дискуссия о прошлом становится частью политических дебатов современности, но именно конкретный анализ происходящих перемен позволит ответить на вопрос о пресловутой «уникальности» советского опыта. В противном случае дискуссия снова рискует скатиться к жонглированию идеологическими догмами и конструированию псевдоисторических мифов, что, собственно, и происходит там, где хозяевами положения оказываются те или иные фракции «системных» политиков.
Задача конференции состояла не в оправдании или разоблачении «советского», даже не в противопоставлении «прогрессивного» наследия «реакционному», а в том, чтобы осмыслить диалектику культурной практики и стихийной борьбы за культурную гегемонию, которую ведут не только оформившиеся общественно-политические силы, но и – в своем повседневном опыте – миллионы людей, даже не сознающие, что своим поведением и постоянным бытовым выбором они тоже творят историю.
© Кагарлицкий Б., 2012I. Как изучать «советское»
Ирина Глущенко ШЕСТЬ ТЕЗИСОВ ОБ ИЗУЧЕНИИ «СОВЕТСКОГО»
1
Исполнилось двадцать лет как мы живем без Советского Союза. Прошла целая историческая эпоха, и уже успело вырасти поколение, Советского Союза не заставшее. Еще недавно казалось, что советский период закончился, – в социально-историческом плане, конечно, так оно и есть. Эту эпоху все чаще называют «советской Атлантидой». Однако на эмоциональном уровне не все так просто…
«Советское» сознательно культивируется. Интернет полон ностальгических картинок: тут и диафильмы, и игрушки, и трогательные воспоминания о детских играх, пионерах, доброте и отзывчивости, духовности и наполненности, дружбе народов и бескорыстии.
Частичная реабилитация «советского», которая началась в 2000-е годы, представляла собой попытку «встроить» советские ценности в капиталистическую реальность. Советские символы превращались в бренды, приемы советской политической пропаганды использовались для коммерческой рекламы. Происходила деидеологизация советских понятий, образы прошлого были лишены социального содержания. Именно поэтому на первый план вышли мультфильмы, картинки, продукты. Они словно парили в безвоздушном, добром, нейтральном пространстве.
Эту тенденцию подхватил рынок. «Советское» опять окружает нас на каждом шагу. Все эти бесчисленные заведения «со знаком качества», товары, изготовленные «по ГОСТу» (какому ГОСТу, какой страны?), чебуречные, которые гордятся тем, что у них нет сидячих мест, туалетов, сотрудники хамят, но зато чебуреки вкусные. В одном ресторане используют даже образы НКВД. Это стилизация, игра, эксплуатация символов. Торговцу ведь все равно, что продавать. Главное, что есть спрос. Даже наши воспоминания могут быть «услужливой подсказкой ложной памяти», как писал Набоков. Ностальгию начала вызывать даже скука – та страшная, серая, густая, как пыль, скука застойного времени.
Для людей новой эпохи «советское» неожиданно становится своего рода якорем, за который они держатся, чтобы сохранить более или менее прочное представление о своей идентичности.
Сейчас сложился некий стереотип, когда невозможно обсуждать всерьез советское прошлое: любая попытка его спокойно осмыслить расценивается едва ли не как намерение реабилитировать тоталитаризм. Но в то же время у нас появилась гора литературы, которая пытается обелить Сталина, доказать, что террора вообще не было, или воспеть «золотой век» Брежнева.
Можно ли оценивать какую-либо историческую эпоху однозначно? Говоря, например, о сталинских временах, надо иметь в виду трагическую двойственность того периода: с одной стороны, репрессии, с другой – энтузиазм и осознанное и слегка наивное участие людей в создании нового общества. Драматизм эпохи как раз и состоит в сочетании той непомерной цены, которую пришлось заплатить за достигнутый прогресс, и масштабов достижений, плодами которых мы пользуемся до сих пор.
Как считает культуролог Ольга Балла, «историю советской культуры и цивилизации пора выводить из-под ведения идеологии и превращать в нормальный, интонационно спокойный (что, разумеется, не означает ценностно нейтральный) исторический и культурологический анализ. Хочется надеяться, например, на то, что наши отношения с советским наследием вообще будут критически и конструктивно переосмыслены»[1].
2
«Советское» следует рассматривать в динамике, а не как статическое целое. Необходимо выделить и осмыслить различные фазы развития. Жизнь сталинской эпохи радикально отличалась от 1960-х годов, а социально-культурный опыт 1960-х годов, несмотря на некоторое бытовое сходство, содержательно был совершенно иным, чем во времена «застоя».
Общие слова о «тоталитарном обществе» вряд ли помогут разобраться даже со сталинским периодом и тем более заводят нас в тупик, когда речь идет о более поздних временах.
Советское общество эволюционирует от революционной диктатуры через потрясения «великого перелома» к сталинскому тоталитаризму, который не просто смягчается «оттепелью», но и существенно преобразуется, порождая по-своему уникальную посттоталитарную практику, когда сфера свободы в обществе стихийно расширяется, разъедая институты старого порядка, формально сохраняющиеся неизменными.
Эти различия ярко проявляются в сфере культуры, в тех образах, которые мы находим в литературе и кино соответствующего периода, в проблемах, которые волнуют людей. Когда в 1960-е годы происходит реабилитация частной жизни, это воспринимается как своего рода культурное и даже политическое освобождение. А в 1970-е годы частная жизнь становится убежищем от общественного бытия, к которому люди становятся безразличными. Возвращение этого аполитичного индивида в политику в 1980-е годы сопровождалось развалом самого советского общества.
При этом, говоря о советской системе, обычно имеют в виду либо сталинский период, либо брежневский, а принципиальные различия между этапами часто упускают из вида.
3
Необходимо сосредоточиться не на исключительности советского опыта, а, наоборот, на его схожести с мировым.
Так, например, специфика советского кулинарного опыта состоит не в том, что он противостоит мировым тенденциям, а как раз в том, что в СССР эти тенденции были доведены до предела, принимая зачастую гротескные формы.
Принцип машинной организации общества отнюдь не является советским изобретением. Напротив, он продолжает развивать те же концепции, которые зародились еще в Европе в эпоху Просвещения, но наибольшего влияния достигли в США конца 1920-х годов в связи с индустриальными преобразованиями, связанными с именем изобретателя и предпринимателя Генри Форда. Не случайно социологи определяют как фордизм индустриальную организацию Запада начиная с этого периода и вплоть до конца 1970-х годов. Художественным воплощением этого принципа стала знаменитая «машина для кормления рабочих» в фильме Чарли Чаплина «Новые времена». В стандартизации и унификации нет ничего специфически «советского». Специфика проявляется, пожалуй, в форме, с которой проводилась эта политика. Следует отметить, что в СССР любая политика проводилась с невероятной последовательностью и настойчивостью, возможной только в сверхцентрализованной системе, соблюдающей нормы единой идеологии.
4
Одним из подходов к изучению «советского» может быть попытка понять его через повседневность, используя ее как инструмент проникновения в «тайну» «советского».
В условиях отсутствия публичной политической и идейной борьбы советское общество постепенно деполитизировалось. Это отнюдь не значит, конечно, будто идейных и политических противоречий не было. Но они были в значительной мере скрыты и растворены в сфере культуры и повседневности. Именно поэтому мало в каком обществе повседневно-бытовая сфера жизни играла такую большую роль и занимала так много места в сознании людей, как в СССР. Отсюда и логичность попыток понять и расшифровать «советское» именно через изучение повседневности.
Повседневность в советском контексте всегда связана с большими историческими процессами. Советскую повседневность нельзя рассматривать вне контекста революционных социальных преобразований и модернизационной политики.
Однако быт в контексте советской истории не только относится к сфере индивидуального опыта, но и является частью коллективного бытия социальных групп. Борьба за новый быт оказывалась в сознании советских идеологов одним из важнейших фронтов общей борьбы за новый мир. Отделять бытовую жизнь от производственной было нельзя, как недопустимо было бы здесь противопоставлять личное политическому.
«Надо, чтобы каждый понял, что, работая на фабрике-кухне или другом каком предприятии или учреждении, делая какое-нибудь другое нужное дело, он строит, создает и не может, не должен, складывать рук, ибо дело, великое дело освобождения человечества, не может быть сделано без него»[2]. Это было написано в журнале «Работник народного питания», выходившем в 1919 г. Удивительно, насколько мала дистанция от фабрики-кухни до «большой истории». Удивительно и четкое понимание исторического масштаба происходящих событий.
«На нашу долю – долю работников народного питания и общежитий – выпала, может быть, самая сложная и ответственная задача. Мы должны урегулировать производство питания и, таким образом, фактически спасти пролетариат от физического вырождения. Если мы не справимся с этой задачей, то вся ответственность перед историей падет на нас, ибо только мы окажемся виновными».
Статья заканчивается ясным осознанием того, что повседневная деятельность работников питания является частью исторической драмы.
«История безусловно осудит всех тех, кто так низко представляет себе дело народного питания. Мы уверены, что пролетариат не пойдет за теми, кто говорит ему о старом, гнилом прошлом. Он пойдет по пути новой эры, по пути строительства новой жизни на коммунистических началах»[3].
5
Советское общество никогда не было однородным. Представление о его однородности культивируется одновременно двумя противоположными тенденциями. С одной стороны, ностальгические рассказы о советских людях вообще, которые как будто все обладали одинаковыми качествами и возможностями. А с другой – образ серого репрессивного тоталитарного общества, где все являются то ли одинаковыми винтиками, то ли унылыми жертвами системы.
На самом деле советское общество невозможно понять без осмысления существовавшей в нем социальной дифференциации. Тот факт, что дифференциация эта качественно отличалась от капиталистической, отнюдь не означает, будто ее не было вовсе.
Изучая «советское», важно уточнить, о какой социальной категории идет речь. То ли это советский аналог городского среднего класса – те, у кого с 1930-х годов была комната в коммуналке или, как минимум, угол, то ли колхозное крестьянство, подвергнутое при Сталине тотальному закрепощению, то ли миллионы обитателей бараков или, наконец, заключенные, насильственно изъятые из сферы потребления. И не следует забывать о партийно-государственной номенклатуре и связанных с ней разнообразных привилегированных группах.
Как отмечает финский исследователь Юкка Тронов, сталинское общество, несмотря на свою эгалитаристскую идеологию, было даже более иерархично, чем вариант советского общества, существовавший в 1960-е годы. Однако уже тогда декларативный эгалитаризм советской системы требовал утверждения в общественном сознании общедоступных и признанных норм массового потребления, которые отражали бы переход к «изобилию», «зажиточности» и «хорошей жизни»[4].
Привилегированные группы творческой интеллигенции, например, возникшие при Сталине, жили в Советском Союзе лучше остальных. И их это, кажется, не смущало. Они были уверены, что достойны всего этого за свои заслуги. Членство в творческих союзах давало право и на продуктовые заказы, и на дома творчества, и на специализированные поликлиники, и, конечно, на жилье – режим расплачивался с людьми, которые отвечали за идеологию.
Мой свекор в начале 1960-х стал членом Союза писателей. Некоторое время спустя у них в доме собрались гости. Пришла и его мать. Среди гостей был человек, не знакомый с особенностями писательской среды. «А что это значит – быть членом Союза писателей?» – спросил он. Свекор стал было что-то наивно объяснять про признание его заслуг и про почетность этого членства. «Это значит, – перебила его мать, – что отныне я смогу лечиться в поликлинике Литфонда, ездить в специальные дома отдыха и пользоваться услугами ателье!»
6
И наконец, изучая «советское», нельзя забывать о характерной для той культуры и идеологии двойственности, заключающейся в смешении идеального и реального, утопического и практического.
Ничто так не противоположно быту, как утопия. Но в советскую эпоху утопическое сознание было частью повседневной жизни. Движение к утопическому идеалу являлось целью общества, причем целью, которая не была просто навязана сверху, но и приветствовалась снизу. Именно постоянное присутствие этого идеала позволяло людям мириться со многими неудобствами и тяготами повседневности, относиться к ним как к чему-то временному и сохранять идеалистические настроения, явно находившиеся в противоречии с тем бытом, в который люди были погружены.
Считается, что официальная советская пропаганда идеализировала и приукрашивала быт, а потому задача исследователя состоит в том, чтобы противопоставить быт и идеологию. Достается и произведениям искусства – взять хотя бы знаменитый фильм Пырьева «Кубанские казаки». Однако и эта идеология, и это искусство тоже были частью повседневной жизни советских людей; они формировали их отношение к миру, потребности, идеалы и бытовое поведение. Проблема состоит не в том, чтобы показать, насколько картина жизни, изображенная в этих произведениях, расходилась с повседневным опытом, а в том, чтобы понять, почему, несмотря на столь очевидное противоречие, подобные фильмы и книги пользовались успехом.
Как объяснял A.B. Луначарский, не обязательно показывать то, что есть, важно, чтобы читатель или зритель получил представление о том, что будет, что в итоге получится.
«Представьте себе, что строится дом, и, когда он будет выстроен, это будет великолепный дворец. Но он еще недостроен, и вы нарисуете его в этом виде и скажете: “Вот ваш социализм – а крыши-то нет”. Вы будете, конечно, реалистом, вы скажете правду. Но сразу бросается в глаза, что эта правда в самом деле неправда. Социалистическую правду может сказать только тот, кто понимает, какой строится дом, как строится, и кто понимает, что у него будет крыша. Человек, который не понимает развития, никогда правду не увидит, потому что правда – она не похожа на себя самое, она не сидит на месте, правда летит, правда есть развитие, правда есть конфликт, правда есть борьба, правда – это завтрашний день, и нужно видеть ее именно так»[5].
Границы между мифом и реальностью в советском коллективном сознании не только условны, но и подвижны. Картина советской жизни включала то, что должно быть, то, что есть, и то, что будет, – и все это существует одновременно. Утопическая мечта воплощается в практику, а утопия превращается в реальность. И с этого момента она перестает быть утопией. Утопия растворяется в реальности и сама постоянно эволюционирует.
Литературовед Юрий Щеглов, анализируя романы И.А. Ильфа и Е.П. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», обращал внимание на то, что «оптимистический настрой романов обеспечивает… двухъярусное строение их мира. Идеальные сущности истинного социализма занимают в нем иерархически-доминирующее положение, образуя уровень, на котором многие из несовершенств советского образа жизни снимаются или обезвреживаются. Оказывается, что детали “земного социализма”, представляющие собой столь неутешительную картину, не могут считаться главной или окончательной реальностью, и что точка зрения раздраженных ими людей, хотя по-своему и понятная, не есть последняя инстанция о производимом в России грандиозном эксперименте. Над этой точкой зрения, в разреженных сферах истинного социализма, открывается возможность иного – более широкого – взгляда на вещи, более высоких требований к жизни, более интересных представлений о счастье»[6].
Американский историк Стивен Коэн в книге о возвращении жертв ГУЛАГа отмечает стремление значительной части из них восстановиться в Коммунистической партии. Многочисленные интервью, которые он собрал у «возвращенцев», свидетельствовали о том, что эта потребность была вызвана не только конформизмом или страхом перед новыми репрессиями, а представлением о том, что участие в «коммунистическом строительстве» – часть нормальной жизни советского человека[7].
Коммунистический проект в начале 1960-х все еще был органической частью советской культуры. Его разложение и дискредитация, нараставшие в последующие годы, были предзнаменованием распада советского образа жизни как такового.
© Глущенко И., 2012Евгений Добренко О СОВЕТСКИХ СЮЖЕТАХ В ЗАПАДНОЙ СЛАВИСТИКЕ
Я попытаюсь представить некий контекст исследований советской культуры и дать краткий исторический обзор того, как происходило изучение этой культуры, поскольку всю жизнь занимаюсь сталинской культурой, т. е., собственно, ядром советской культуры. Так вышло, что я оказался участником этого процесса. В 1990 г. журнал «Вопросы литературы», тогда дышавший на ладан (тогда, впрочем, все журналы были в таком состоянии), попросил меня сделать специальный номер о советской тоталитарной культуре. Помимо статей, которые представили коллеги, был опубликован и мой обзор того, что вообще написано о сталинской культуре. В 1990 г. исследованием сталинской культуры специально и профессионально занимались 5 человек в мире. Когда я говорю «5 человек», это не метафора: буквально 5! Тогда только что вышла книга Катерины Кларк «Советский роман: история как ритуал» (это первая американская книга), до этого – книга немецкого историка литературы Ханса Гюнтера «Огосударствление литературы». Конечно, существовала всем известная книга Владимира Паперного «Культура два», и вышла книга Игоря Голомштока «Totalitarian Art». Итак, две книги о литературе, одна – как бы об архитектуре (Паперного), одна об искусстве (Голомштока), и только-только появилась книга Бориса Гройса «Gesamtkunstwerk Stalin».
Это все, что было по исследованиям сталинизма в 1990 г. Меня это поразило: то, что в СССР этим не занимались, мне казалось понятным, но ведь на Западе наверняка интересовались этим! Действительно, писали о сталинской культуре очень многие представители русской эмиграции – первой волны, второй, третьей… Хотя, строго говоря, славистика была единственной, пожалуй, дисциплиной в то время, которая существовала вне рынка, за счет финансирования, которое шло откуда угодно. И она могла себе позволить жить, словно в отрыве от всех. Когда рухнул Советский Союз, а вместе с ним и все финансирование, надо было выживать за счет рынка и привлечения студентов. Но тут оказалось, что славистика привлечь ничем не может, потому что методологически она просто недоразвита. Дело в том, что люди, занимавшиеся русской культурой, литературой, в то время занимались не исследовательской работой, а миссией: у них была миссия сохранения Серебряного века, авангарда и т. д., и т. п. Это то, чем они все и занимались на протяжении десятилетий. Был, например, такой очень известный советолог – Марк Слоним. Его книга о советской литературе доходила до сталинской эпохи. Раздел о литературе позднего сталинизма открывался так: «Послевоенное десятилетие – это пустыня». А дальше было просто описание пустыни. Абсолютно то же самое читатель находил в книге Глеба Струве. Собственно, никакой исследовательской работы проделано не было.
Я хорошо помню, как в 1991 г. впервые оказался на конференции Американской ассоциации славистов (American Association for the Advancement of Slavic Studies – AAASS) и организовывал там сессию о соцреализме. Это была единственная сессия, где вообще кто-то занимался собственно советскими сюжетами. Основная масса исследователей – процентов пятьдесят – занималась тогда исключительно Достоевским и Толстым, процентов тридцать – Серебряным веком, ну, и было что-то о современной культуре. О сталинской культуре была одна сессия. И вот сейчас, спустя двадцать лет, в декабре 2011 г., я был на AAASS в Вашингтоне. Семьдесят процентов исследований были посвящены сталинской культуре, Достоевский и Толстой исчезли вообще – просто нет людей, которые могли бы сегодня преподавать Достоевского и Толстого, кое-кто занимается Серебряным веком и авангардом. Весь интерес сдвинулся именно к советскому, к СССР. Этот сдвиг абсолютно очевиден, он математически исчисляем. Исчисляя в процентах к общему количеству тем число исследований, связанных с советскими сюжетами, тогда и теперь, понимаешь, какая эволюция произошла.
Приведу несколько примеров.
Катерина Кларк, которая выпустила первую в англо-американской славистике книгу о сталинской литературе «The Soviet Novel: History as Ritual» в начале 1980-х, рассказывала в предисловии следующее. Каждый раз, когда она встречалась с коллегами, они ее спрашивали: «Чем вы занимаетесь?». Она отвечала: «Я занимаюсь русским романом». Ей говорили: «Понятно, Толстой и Достоевский». Она уточняла: «Нет, русским романом советской эпохи». «Это что?.. А, понятно – Пастернак?». «Нет», – вновь повторяла она и перечисляла сталинские романы, об авторах которых собеседники, разумеется, даже не слышали. «Я наблюдала на лице собеседника полное непонимание того, о чем я говорю, и в конце концов я начала понимать состояние прокаженных». Таким образом, существовали стереотипы: если ты занимаешься, скажем, 30-ми годами XX в., то должен заниматься в литературе, к примеру, Платоновым, в живописи – Филоновым, в музыке – Шостаковичем. А если, исследуя 1920-е, ты занимаешься РАППом и писателями-ударниками, а исследуя 1940-е – Бабаевским, то это просто возмутительно. А ведь на самом деле рядом с Шостаковичем работал, скажем, Коваль, с Эйзенштейном – Пырьев, с Филоновым – Герасимов. Вот такой консервативно-снобистский подход, к сожалению, был очень распространен в филологии, в искусствоведении, в киноведении – везде. Моя позиция тогда в этих спорах была очень простой. Когда мне говорили, что пришло время наконец-то достать такие-то книги из архивов, я отвечал: «Послушайте, в спецхранах на полках стоят, скажем, стихи Суркова о Сталине рядом, между прочим, со стихами Мандельштама о Сталине. Их надо обоих оттуда достать». «Нет, Мандельштама – надо, а Сурков пусть там и валяется», – заявляли они. Потому что, конечно, куда им рядом стоять. А достать надо было всех. Вот сейчас достали всех – условно говоря, всех. С хрущевской оттепели произошло то, что я называю обнулением сталинизма. Это понятие, которым я всегда оперирую. То есть убрали как антисталинистов, так и сталинистов. Однако нельзя исследовать культуру, вынимая одну ее часть и оставляя другую.
Возьмем западное киноведение, которое за 20–30 лет произвело 20 книг о С.М. Эйзенштейне, десяток книг о Дзиге Вертове и еще дюжину книг о великой пятерке советских кинорежиссеров 1920-х годов. Сейчас появились книги о кино в очень широком спектре, на совершенно разные темы. Я знаю десяток диссертаций, написанных молодыми исследователями, которые работают над монографиями о советском кинопроцессе за пределами всем известных классиков. Этот процесс, который был запущен, сейчас уже дает очень хорошие результаты. И такая картина наблюдается в разных областях – ив литературе, и в искусствоведении.
Вот только в 2011 г. в Риме, Мадриде, Чикаго прошли три большие выставки сталинского искусства. Я знаю об этом просто потому, что писал в каталоги для них. Скажем, еще пять лет назад такое нельзя было представить. Я помню, первая выставка соцреализма прошла в Советском Союзе в 1988 г. на Крымском Валу. О ней говорили в один голос: «Кому это надо? Там “Два вождя после дождя” – Сталин с Ворошиловым. Что это такое? Это что за монстры? Откуда это?» Борис Гройс писал, что соц-арт умер, потому что сегодня выставить картину Бродского или просто поставить пластинку с речью Брежнева – значит совершить постмодернистский жест. Висящая в музее сталинская живопись – это уже просто чистый соц-арт. Никому ничего не надо было. И вот спустя 20 лет проходят огромные выставки. Самая большая – выставка советского искусства XX в. в Риме в 2011 г. Она называлась «Соцреализмы» и охватывала 30–70-е годы XX в., т. е. искусство уже рассматривалось не как какой-то бесконечный серый массив, а как нечто разнородное. Мадридская выставка, в центре которой было именно сталинское искусство, называлась «Творить в СССР». Это очень показательные вещи. Это происходит во всех областях: ретроспективы фильмов, которые идут в разных местах, целая серия книг – уже десятки книг вышло – о советском кино, которые делает Ричард Тэйлор в Англии. В частности, там вышла монография о советском кинорежиссере, драматурге А.И. Медведкине. В России еще многие не знают, кто это такой, а в Англии о нем пишут. Такое абсолютно было невозможно 20 лет назад.
Второй момент, который я считаю не менее важным, – это сдвиг не только тематический и хронологический, но и методологический. По понятным причинам доминирующей областью в советологии была политическая история. Я думаю, мы не очень представляем, чем на самом деле была советология. Это был такой айсберг, и мы видели только его надводную часть. Большая часть советологических исследований была связана со всякого рода военным анализом и другими подобными вещами, которые, конечно, нигде не публиковались и никому не были известны. Они всплывут лет через пятьдесят, и тогда мы узнаем, чем же занималась советология. А в той советологии, которая была публичной, полностью доминировала политическая проблематика. Это во-первых. Во-вторых, прослеживался однозначный интерес к политической истории с доминированием интереса к экономике – конечно, с критикой советской экономической и политической модели. Говоря о политической модели, я имею в виду и систему государственного устройства, и национальные проблемы и т. д. Этим занималась советология. Потом, лет двадцать назад, произошел сдвиг. Одновременно он произошел и в историографии – с появлением так называемых ревизионистов (Арч Гетти, Ритерспорн и др.), т. е. историков, которые впервые начали смотреть на советскую историю не только сверху вниз, но и снизу вверх. Они увидели, конечно, совсем другую картинку. С этим был связан поворот к социальной истории (вспомним работы Шейлы Фицпатрик и других историков сталинизма). Произошел сдвиг от политической к социальной истории. И наконец, произошел сдвиг к культурной истории.
Эти процессы, конечно, связаны с определенным структурированием научного поля, по крайней мере, с хорошо знакомой мне англо-американской славистикой. То же самое можно сказать и о немецкой славистике. Эти тенденции понятны. Например, каждый год проходит крупная конференция, в которой участвуют 3000 человек, они фактически представляют все это поле и задают темы секций, круглых столов и т. д. Благодаря этому можно проследить превалирующий интерес в этом научном поле, отметить все эти сдвиги. Конечно, в российской академической среде ситуация несколько иная – тенденции видны прежде всего по публикациям: о чем больше всего пишут, кто чем занимается.
Подробнее остановлюсь на том, что интересно мне в связи с исследованием сталинской культуры, каковы основные тенденции здесь. Прежде всего отмечу разрастание этого научного поля. Тема, подобная рассматриваемой нами, находится в десятке исследований, которыми занимается англо-американская русистика в целом. В исследовании культуры прежде всего заметен поворот от традиционной историографии к культурной антропологии. Это методологический сдвиг, который происходит повсеместно, конечно, он происходит и в России. И это, быть может, основной итог двадцатилетнего, постсоветского развития. Российская гуманитарная наука развивается сегодня в абсолютно той же парадигме, в которой развивается мировая историография, и синхронно ей. Если раньше исследователи не могли найти общего языка не потому, что у них были разные взгляды, а потому, что они оперировали какими-то категориями, которые другие не понимали и не могли даже перевести, то сейчас все говорят на понятном друг другу научном языке. Это очевидный сдвиг.
Видно, как происходит сдвиг к культурной антропологии, скажем, и в России, и в американской русистике, и не только в русистике. Сегодня русистика на Западе вынуждена модернизироваться, чтобы выжить. У нее нет других способов финансирования (я имею в виду университетскую науку, представляющую собой основное поле) кроме как финансироваться за счет студентов. Но, чтобы привлекать студентов, ей приходится меняться интенсивно, быстро.
Методологически – с точки зрения использования понятийного аппарата – русистика все больше становится понятной и специалисту по французской истории, и специалисту по немецкой культуре, и специалисту по русской истории и культуре. Они говорят на одном научном языке. Раньше этих людей нельзя было разместить в одной аудитории, потому что они говорили вообще о разном. С недавнего времени многие русисты стали участвовать в работе COMPLIT (comparative literature) – в тех департаментах, где всю жизнь сотрудничали романисты, германисты и т. д., но не русисты. И не потому, что они не могли однозначно и плодотворно сравнивать, скажем, французский и русский символизм, русский и немецкий авангард, сталинское и нацистское искусство, а потому, что работали в совершенно другой понятийной парадигме, не находя общего языка с зарубежными учеными. У них был трезвый исследовательский интерес, а у русистов – миссия и патетика. Этого больше нет. Русистика стала интенсивно меняться, поскольку надо находить общий язык и выживать вместе с остальными.
Вот этим, мне кажется, объясняются сдвиги, которые происходят и в России, и на Западе, и когда речь идет о русистике-славистике, и, шире, когда речь идет о сравнении с иными гуманитарными дисциплинами, которые занимаются другими странами. Эта интеграция, произошедшая в последние 20 лет, вызванная рынком, необходимостью выжить, абсолютно очевидна. И этим объясняется то, что сдвиги, которые происходят в разных дисциплинах, похожи.
Итак, быстро – за какие-то 10 лет – произошел поворот от политической к социальной школе, то, что, скажем, у французских историков было значительно раньше. Затем был «лингвистический поворот», и вот сейчас – «эмоциональный поворот» (все изучают историю эмоций и т. д.). Все это происходит сегодня и в России, и в англо-американской среде, и в Германии, и во Франции. Это общий процесс, очень позитивная тенденция. Конечно, словно «модернизация» очень нагружено сегодня. Но модернизация, которая наблюдается в гуманитарных науках, связанных, например, с Россией, исключительно успешна. Это можно констатировать даже по уровню работ, которые выходят в России. Двадцать лет назад немыслимо было предложить студентам английского или американского университета в качестве учебника книгу советских исследователей. А сегодня переводные книги русских авторов вошли в академический оборот Запада. Это уже показатель встроенности в общемировой интеллектуальный процесс. И я вижу в этом большое достижение последних 20 лет.
© Добренко E., 2012Александр Шубин СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛИЗМ И СОВЕТСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Постсоветский «капитализм» – разрыв или преемственность?
Когда мы употребляем термин «капитализм», понятно, что речь идет не о каких-то специфических экономических капиталистических отношениях. Это своеобразный синоним нашего современного общества. Он нам необходим для того, чтобы зафиксировать, что произошел переход от чего-то к чему-то. Что мы уже не живем в советском обществе. Был «социализм» (в кавычках), а сейчас – что-то совсем другое.
Но «капитализм» этот тоже в кавычках. Ведь в этом обществе проступают уже и феодальные черты. Я не говорю о том, что капитализм капитализму рознь, общество многоукладно, а в нашем «капитализме» остаются какие-то важные элементы советского общества, которое, кстати, с точки зрения некоторых теоретиков, тоже «капитализм». Таким образом, понятие капитализма, используемое обычно для демонстрации разрыва, может оказаться и ключом к поиску преемственности.
Тут мы ступаем на почву известной проблемы, часто обсуждавшейся в советской науке: тема общего и особенного. Понятие «капитализм», выявление его черт подчеркивает особенное, то, насколько мы стали другими. С 1990-х годов мы смотрим на то, как мы меняемся, и видим: плохо меняемся, медленно, недостаточно, «неправильно». Отсюда два взгляда на общее: как рудимент и как цивилизационный путь. С точки зрения правоверного либерала-западника, советское прошлое можно и должно изжить. С точки зрения нового славянофила-патриота (или, напротив, хулителя русской непреходящей деспотической архаики), это есть такой русский (российский) путь, крест, проклятие или благословение, что в данном случае понимания проблемы не меняет. Только оценку.
Разберем ситуацию на конкретном примере. В 1997–1998 гг. мне довелось поработать в нашем, российском, правительстве, в это время я только что закончил книгу об эпохе Брежнева. Надо сказать, я очень быстро акклиматизировался. Я знал, как «ходят» бумаги. Они «ходили» примерно по тем же кабинетам, которые были переименованы, но функции их сохранились. Казалось бы, я должен был окончательно утвердиться в мысли, что ничего не меняется.
Однако в чем смысл этой неизменности? Возможно, и в Западной Европе бумаги «ходят» подобным образом. То, что нередко принимают за особенность «русского пути» или «уникальной эпохи», может быть чертой бюрократической организации или другого производного от принципов организации индустриального, традиционного либо переходного общества, центральной или периферийной системы. И вот если выделить все эти производные, на долю «цивилизационного фактора» останется не так много. Во всяком случае, в коридорах власти, которые я наблюдал, не было такого, чего мы не могли бы встретить в истории Франции или Великобритании. Просто смотреть надо не на наше время, а на первую половину XX в. Преемственность может исходить из того, что между различными эпохами разных стран может быть много общего, как бы ни разнились «капиталистические», «социалистические» и прочие этикетки.
Тем не менее хотя бы в двух отношениях произошли серьезные изменения. Первое: нас – тех, кто тогда жил – особенно волновала «проблема колбасы». Способ «доставания» продуктов, безусловно, изменился. Раньше, борясь за «колбасу», мы прилагали усилия для получения дефицита, т. е. продуктов лучшего качества. В результате некоторых особенностей советской системы распределения возникали такие перекосы, которые могли превратить в дефицит все что угодно. Эта проблема вроде бы ушла в прошлое. Но почему так мало радостных лиц в магазинах?
В советское время, получив колбасу, мы получали то, что считали колбасой. А что происходит сейчас? Мы (я имею в виду большинство населения, а не верхние слои общества) сталкиваемся с новым дефицитом – нехваткой денег. Но, получив и сэкономив их, мы из десятков вариантов продукта покупаем то, что покупали в прошлый раз, а оно вдруг оказывается совершенно другим. Эта лотерея – оборотная сторона прежней однообразной серости. Потому что свободы выбора нет, если тебе не гарантировано качество продукции. А оно по-прежнему не гарантировано, точнее – гарантировано в меньшей степени, чем раньше, в советской системе.
Мы по-другому «достаем» продукт нужного нам качества, но это «доставание» не стало намного легче. Оно стало другим. Функция, социальное отношение сохраняются, изменив форму. Вот в чем разгадка проблемы общего и особенного для нашей темы.
Вторая сторона изменений заключается в том, что до некоторой степени иначе стала функционировать властно-управленческая элита. Бюрократия сменилась… нет, не буржуазией, а некоторым социальным синтезом буржуазии, бюрократии и феодализированных компрадорских элементов. Этот синтез я назвал бы кастой. Но каста пытается вести себя так, чтобы чувствовалось скромное обаяние буржуазии. То есть если надо, то можно и убить кого-нибудь, но лучше, конечно, господствовать с помощью финансовых ресурсов. Там, где раньше был Госплан, действует биржа. Хотя Кремль и Белый дом по-прежнему могут влиять на ее результаты. Но ведь это – часть мирового процесса, когда за финансовыми потоками и рыночной логикой проступает воля мировых каст. Наша каста, включившись в эту игру в качестве слабого игрока, стала подчиненным игроком, наместником глобальной системы на данной территории. И это, конечно, определенное изменение по сравнению с СССР при всех элементах периферийности в его экономике. Но изменение количественное, т. е. глубокое развитие тенденции, которую можно было отметить уже в СССР.
Путь деградации
Можно спорить, насколько нынешняя каста преемственна с советской бюрократией, но все же это не простая смена этикетки. Кадры не целиком перекочевали из ЦК и обкомов в кабинеты новой системы управления. Можно говорить о гетерогенном характере нашей элиты, сдвиг произошел. Этот сдвиг во вполне марксистских тезисах принято называть (во всяком случае, часто приходится слышать это) «первоначальным накоплением». Однако тот процесс, который мы наблюдали в 1990-е годы, имел прямо противоположный «накоплению» вектор. Если первоначальное накопление – это концентрация ресурсов традиционного общества для создания индустриального сектора, то первоначальное разграбление, которое мы имели, – это некоторое распыление имеющегося индустриального сектора для перераспределения ресурсов, которое по многим характеристикам привело к деградации индустриального общества. Оговорюсь, что пока не считаю состоявшимся обратный исход нашей страны из индустриального общества. Структуры индустриального модерна пока сохраняются, но их стремительно разъедает социальная коррозия.
Мы можем увидеть это и в производственной структуре, и в структуре нынешней элиты. Качественного разрыва с прошлым не произошло, но есть динамика.
Помните, как мы критиковали коммунистическую элиту за то, что номенклатурщик вчера занимался вопросами образования, а завтра будет заниматься вопросами производства? И это, действительно, было так. Но все-таки не в таких пределах, как сейчас, когда бизнесмены управляют объектами вроде Саяно-Шушенской ГЭС, относясь к ним примерно так, как феодал к своему лену. Не мое дело, как крестьяне будут выращивать урожай, но их обязанность принести мне ренту. С крестьянами и землей так можно обходиться, да и то не всегда. А техника может ответить на это так, как произошло с энергоблоком на упомянутой ГЭС. При деградации от общества индустриального, называвшегося «социализмом», мы сначала прошли фазу «капитализма», больше напоминавшего фильм о «первоначальном накоплении», показанный в обратном порядке – от конца к началу, от индустриального общества к традиционному.
Это было бы еще, может быть, и приятное путешествие во времени в некую, как многие мечтают, Российскую империю. И все хотят быть помещиками при этом, никто не хочет быть крестьянами. Но есть и более серьезная проблема: из российской общинности генетически формировался советский коллективизм. А вот из советского коллективизма община назад не произвелась, а производится некий социальный мусор: атомизированное мещанство, болото (хорошую площадь в Москве, кстати, нашли для реализации чаяний), и эта атомизация представляет собой новое качество. Это не просто возвращение назад, а стабилизация деградации.
Горожане уже не умеют жить как крестьяне. Их выталкивают из советской городской жизни, но они не уходят, а оседают в пространствах маргинализации, аналогах фавел третьего мира, только в северном варианте – в разрушающихся хрущевках и бараках. За счет таких пространств маргинализации крупные города могут даже расти в условиях деградации городского общества: здесь идет приток беженцев из наших бывших южных республик и из провинции, где деградация зашла дальше, ибо шла с более низкого уровня. Бывшие советские инженеры из Киргизии и их дети готовы работать дворниками в Москве и жить в подвалах, как короленковские дети подземелья.
Конечно, можно найти в современности и признаки прогресса в виде мобильного телефона, компьютера, но и здесь мы легко заметим, что признаки прогресса принесли нам «инопланетяне», прилетевшие на нашу планету «постсоветская Русь». Эти дары Запада и Японии скрашивают нашу жизнь, но они скрашивают и жизнь африканских фавел, где тоже распространены компьютеры. Даже у архаичных родовых вождей сегодня есть мобильники. Во всяком случае, эти элементы мирового прогресса не есть продукт нашего внутреннего, российского развития, хотя он и влияет на характер развития, подчеркивая его периферийность.
Советское общество вышло на уровень развитого индустриального городского общества, оно подошло к грани, за которой встают принципиально новые задачи, но переступить ее не смогло. Перестройка потерпела поражение, революционный переход не совершился. Мы с размаху ударились о стену – не смогли ни перескочить через нее, ни пробить ее. В результате история пошла в обратном направлении. Это было не просто движение вспять по тем же рельсам. Поражение перестройки сбросило страну с привычных рельс, страна попыталась двигаться вперед по непривычной колее западного типа и по этой колее смогла лишь спускаться назад – в третий мир. Мы, таким образом, движемся не только по линии «вперед – назад», но и по горизонтали – в сторону от советского пути. И это уклонение оказалось чрезвычайно непродуктивно, так как культурные ритмы страны были настроены на советский путь.
Можно ли развернуть вектор
И все же я не пессимист, а реалист. На утверждение, что хуже быть не может, я конечно же оптимистично отвечу: может! Мы откатились на десятилетия, и можно дальше скатываться в пучину архаики. Но возможен и разворот вектора. И эта возможность связана не только с упомянутыми выше благами глобальной цивилизации, которая бросает нам канаты из будущего. Глобальная система так устроена, что канаты из будущего очень скользки, и крупной стране трудно вскарабкаться по ним на подножку уходящего в будущее поезда. Скорее, можно надеяться на культурный якорь, который связывает нас с прошлым. Ведь в условиях деградации прошлое – это путь прогресса.
Что мы смотрим на Новый год? «Место встречи изменить нельзя» в сотый раз (и, что самое удивительное, вся моя семья смотрит), «Собаку Баскервилей» – в двухсотый раз, «Семнадцать мгновений весны». Мы переключаемся с этих безумных сериалов. Со своими студентами я общаюсь языком советской культуры, а не современных сериалов и михалковской «Цитадели». Наша надежда в том, что деградация российского периода не создала жизнеспособной культурной альтернативы советскости. И эта советскость мешает нам скатываться в пучину архаики.
Важная черта советской культуры – наличие утопии в смысле социальной проектности (что, собственно, и является отличительной чертой социалистического реализма). Многими Советский Союз воспринимается как «золотой век», который уже ушел, но к которому, может быть, имеет смысл вернуться. Отсюда это воспроизводство в ностальгии. Помните, была такая либеральная уверенность, что сейчас, наконец, перемрут все старушки из Коммунистической партии, и никто не будет голосовать за КПРФ? Но нет, за КПРФ (при всем моем скепсисе в отношении этой партии) голосуют люди разных возрастов. И это только одно проявление устойчивости советской традиции. Происходит самовоспроизводство советской культуры – и в политике, и в литературе, и в науке. Но, как всякое самовопроизводство, это – движение. Советское понимание жизни ушло от 1970-х годов, адаптируясь к современности, к Интернету и третьему миру. Но пока мы не потеряли вкус к проектности, в широких массах живет мечта о прорыве в будущее.
Итак, я думаю, многие здесь согласятся с тем, что советское общество – эта наша форма модерна, индустриального городского общества, что для меня гораздо важнее, чем «капитализм». В наших условиях «капитализм» – это не просто общественно-экономическая характеристика стадии развития, а, скорее, характеристика «дороги», по которой мы движемся, и, увы, не вперед.
Это значит, что разворот вектора развития, который необходим модерну в России, как воздух, должен быть не просто выполнением команды «кругом марш», что маловероятно даже исходя из физических аналогий (слишком велика сила инерции, чтобы сразу же двинуться в обратном направлении). Нет, наше движение от деградации к регенерации модерна возможно при движении в сторону советских рельс (не обязательно именно под красным флагом и с советской символикой, как раз символика второстепенна). Необходимо восстановить те ценности, которыми мы жили в 1980-е годы, чтобы получить новый импульс развития. Существенно, что возвращение на советские рельсы не означает и в сложившихся условиях не может означать возвращение к структуре СССР образца 1975 г. или 1945 г. (эту ошибку делает, например, С. Кургинян). Нельзя «догнать» XXI в., снова проходя все перипетии XX в. Необходимо «срезать угол», двигаться не к стене, через которую когда-то не смогли перемахнуть, а в обход, туда, где СССР был бы, если бы уцелел, – к элементам постиндустриального общества, к регенерации промышленного потенциала, к созданию политико-управленческих структур, адекватных XXI в., победившей перестройке.
Если мы в период перестройки, разогнавшись, «ударились» в стену перехода пусть не в постиндустриальное, но в позднеиндустриальное общество, то и вернуться к движению вперед мы, вероятно, сможем, только вернувшись к тем проблемам, которые оказались не по зубам стране в период перестройки. Только решив их с учетом накопленного опыта, мы сможем продолжить то движение, которое было прервано и сменилось деградацией в 1990-е годы. Альтернативой этому советскому возрождению может стать лишь дальнейшее погружение в архаику – уже не поверхностное, а глубокое и катастрофичное.
© Шубин А., 2012II. Организация жизни: советская модель
Павел Кудюкин ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КВАЗИОБЩИНА КАК ЦЕНТР ЖИЗНЕННОГО МИРА
Жизнь большинства советских людей структурировалась их рабочим местом. Советское общество было чрезвычайно производственно-центричным. Для чего мы существуем? Чтобы производить. И это заставляет всерьез задуматься о природе советского общества. В этом смысле оно оказывалось куда более капиталистичным (хотя и антибуржуазным при этом), чем классический капитализм. Действительно, апофеоз производства ради производства – это вполне капиталистическая черта. Напомню идеологему, которая присутствовала с самого рождения советского общества: общество – это единая фабрика, управляемая из одного центра. Не полнота жизнедеятельности, не самореализация человека, не человеческое творчество, а фабрика, которая поглощает собой все.
На самом деле, конечно, жизнь не сводилась к этой идеологической формуле. Она всегда богаче, интереснее и разнообразнее. Обратим внимание на то, что начало формирования индустриального общества в капиталистических рамках (по крайней мере, на ранних стадиях индустриализации) лишь зарождает разрыв между местом работы и прочими местами реализации жизнедеятельности. Промышленный рабочий уже не работает на дому, но его жилье максимально близко расположено к заводу или фабрике: фабричные казармы, фабрично-заводские пригороды, заводские слободки разрастались вокруг предприятий так же, как средневековый город мог возникнуть вокруг замка или монастыря. Советская индустриализация не только воспроизвела, но и усугубила эту тенденцию.
А для многих стран это еще и приход фабрик и заводов непосредственно в сельскую местность. В России классический пример – это Иваново-Вознесенск, который растет из промышленного села. Таких сел и деревень по Центральной России, где до сих пор еще не вполне умерли эти заводы, создававшиеся в 80-90-х годах XIX в., наверное, несколько сотен. Причем это не поселки городского типа, а именно села и деревни.
И этот ранний индустриальный капитализм крутится вокруг предприятий с гигантской продолжительностью рабочего дня; когда у работника после 14-, 16– или 18-часового рабочего дня остаются силы разве что на то, чтобы добраться до своей койки, иногда только что освобожденной человеком, ушедшим на другую смену, и упасть в изнеможении, забыться тяжелым сном, а утром снова пойти на тот же завод. В известном смысле та же модель начала воспроизводиться и при советской индустриализации.
На «великих стройках социализма» созданию социальной инфраструктуры уделяли минимальное внимание, и вокруг предприятий и небольших островков приличного жилья (главным образом для начальства) разрастались «нахаловки», «шанхаи», «копайгорода», в лучшем случае – бараки. Все усилия были направлены на создание цехов. Конечно, строились и поселки для начальства и иностранных специалистов, а иногда и для рабочих, порой очень выразительные, с интересными архитектурными решениями, как, например, в Кемерове. Там до сих пор – конечно, в сильно разрушенном виде – сохранилось свидетельство попытки создания голландским архитектором социалистического города. В СССР ведь приезжали идеалисты, видящие здесь будущее человечества, возможность реализовать творческие идеи.
Причем в бараках и землянках жили не только спецпоселенцы из «раскулаченных», но и вольнонаемные рабочие, включая комсомольцев-добровольцев. Такие же бесчеловечные условия были у всех. Недостроенные, с непокрытыми крышами бараки перед уходом в зиму, палатки чуть-чуть утепленные, землянки…
Получается, что кроме как на работе и жизни-то нет, а с нарастанием где-то с конца 1930 г. продовольственных трудностей, которые в деревне быстро переросли во всеобщий голод, предприятие становится довольно важным и как средство выживания в чисто физическом смысле. Формируется система отделов рабочего снабжения, закрытых распределителей в привилегированных отраслях (например, в железнодорожном транспорте). Предприятие становится институтом предоставления средств для жизни не только в рыночном смысле (мы тебе платим деньги, а ты их обращаешь в товары), но и в самом прямом: мы тебе даем этот остродефицитный продукт, которым ты питаешься, пусть в недостаточной мере, когда не хватает на простое физическое воспроизводство, но ты живешь гораздо лучше, чем гигантская крестьянская масса вокруг.
И отсюда сразу привилегированность. Действительно, старый рабочий класс, имевший сформированные революционные традиции, размыт – сначала Гражданской войной (а она означала почти уничтожение традиционного российского пролетариата, вспомним слова Ленина про «пролетарскую власть без пролетариата»), а потом новыми волнами индустриализации, когда началось «захлестывание» обломков этого рабочего класса выходцами из деревни, для которых переезд в город был парадоксальным явлением. Это можно рассматривать, с одной стороны, как восходящую мобильность, а с другой – как явную потерю. В деревне какая-никакая, а изба была своя, хозяйство свое. А тут приехал – и можешь в лучшем случае снять угол или получить койку в бараке.
Каково же здесь соотношение индустриализации и урбанизации? Видимо, мы страна, которая урбанизацию так толком и не прошла. Мы, скорее, переживали процесс всеобщей слободизации. И дело не только в том, что промышленность в городах захлестывает этой волной выходцев из крестьянства. Человек, ушедший из одного положения и перешедший в другое, – маргинал. У нас получилась маргинализованная, люмпенизированная страна.
И этот люмпен переваривается в фабричном котле, если вспомнить формулу 90-х годов XIX в., переваривается мучительно, очень медленно осваивая, так до конца и не освоив, культуру производственной дисциплины.
Вместе с тем свойственная для первых лет «социалистической реконструкции» чрезвычайно высокая подвижность рабочей силы (на многих предприятиях доходящая до 50–60 %) начала постепенно заменяться «индустриальным крепостным правом», когда перейти на новое рабочее место можно было лишь с разрешения начальства, вполне соответствовавшим «второму крепостному праву большевиков» в деревне. Оно было окончательно закреплено июньским указом 1940 г., который действовал до 1956 г.
Ситуация стала меняться только с конца 1950-х годов. Жилье начали строить в массовом порядке после 1957 г., когда было принято постановление ЦК и Совмина о массовом жилищном строительстве, и особенно после экономической «косыгинской» реформы 1965 г., когда предприятия получают возможность строить жилье за счет собственных фондов, а не только за счет централизованных капиталовложений.
Начинается великая социокультурная революция переезда советских граждан в отдельные квартиры. А перед этим произошел тоже гигантский перелом в конце 1950-х годов. СССР, и РСФСР в том числе, наконец-то становится городской по формальным показателям страной.
Городское население начинает превышать сельское. Интересно, что такая европейская страна, как Швеция, проходит этот рубеж абсолютно в те же самые годы, но по-другому.
В послесталинском СССР начинается постепенное смягчение, а потом – отмена «крепостного права» в деревне, в промышленности же этот процесс начинается несколько раньше. Но именно жилищное строительство и создание инфраструктуры вокруг предприятия, особенно в малых и средних монопрофильных городах, создает новые механизмы привязки работника к предприятию.
Общая либерализация системы после смерти Сталина привела и к либерализации правовой стороны трудовых отношений. Но тут в действие вступили экономические факторы. На смену административной зависимости работника от предприятия/учреждения пришла зависимость экономическая. Предприятия все больше становились не только местом, где зарабатывали на жизнь, но и институтом, удовлетворявшим многие другие потребности человека, особенно в монопроизводственных малых и средних городах. Жилье от предприятия, ясли и детский сад от предприятия, заводской клуб или дом/дворец культуры с его танцами/кино/кружками по интересам, школа, подшефная предприятию, и т. д. Наконец, гроб, сделанный в «столярке» предприятия, и ограда на могилку, изготовленная в одном из цехов или в мастерских. Жизнь буквально «от яслей до гроба» зависела от предприятия. По мере нарастания товарного дефицита к этому добавлялись продовольственные заказы и очереди на товары длительного пользования.
Вот тебя включают в очередь на квартиру – это большая радость. Но оказывается, что, пока ее ждешь, ты привязан к предприятию: если уйдешь с него, теряешь и очередь.
И даже получив жилье, человек не так уж сильно повышал степень своей свободы. Да, в СССР существовал скрытый рынок жилья в форме обменов, но возможность переезда в другой город с обменом квартиры была ограничена существовавшей системой прописки и лимитов в целом ряде крупных городов и некоторых других местностей. Причем разрешение на прописку строго обусловливалось наличием работы. Человек легко мог попасть в замкнутый круг: не берут на работу потому, что нет прописки, прописку не дают потому, что нет работы.
Предприятия и учреждения становились своего рода «индустриальными общинами» (точнее, квазиобщинами), а советское общество все больше становилось обществом с мелкогрупповой социальной структурой вертикально-корпоративного типа. «Свой» начальник оказывался куда ближе, чем собрат по классу. Все более массовым типом работника становился «почтительный работник» (deferential worker), ожидавший в ответ на свою почтительность патерналистскую заботу от «начальства» и в общем-то такую заботу получавший. Формально свободный работник по своей психологии и поведению оставался полукрепостным.
Каждое предприятие превращалось в некую замкнутую корпорацию, очень иерархизированную внутри, но с некоторым сознанием «я – прежде всего работник своего предприятия» (в меньшей степени – учреждения, там это несколько слабее проявлялось). Микрокорпорации сливались в большие корпорации так называемых отраслей. Это были, по сути, группы предприятий, подведомственных тому или иному отраслевому министерству, на самом деле – крайне разнородных. Там были свои системы ведомственных наград, свои ведомственные праздники, какие-то слеты передовиков, соревнования. Но тут важно отметить очень характерную особенность, которая перешла и в нашу постсоветскую реальность: вертикально-корпоративные связи резко преобладали над горизонтально-классовыми.
Свой директор был гораздо ближе, чем такой же, как ты, токарь на соседнем предприятии. Несмотря на то что постоянно провозглашалось: «Мы – рабочий класс, мы – соль земли», – классовое сознание отсутствовало. Не было представления о единстве жизненной судьбы с другими рабочими, не говоря уже в целом обо всех работниках наемного труда. Два токаря с разных предприятий, наверное, могли найти общий язык, но это не был язык классовой общности.
С началом постсоветского перехода в известном смысле ситуация даже усугубилась. К концу советского периода система полукрепостных отношений все-таки стала размываться, и в крупных городах появилась возможность выбирать место работы. Опять же (как одно из следствий реформы 1965 г.) началась довольно заметная дифференциация оплат. Тарифные ставки и оклады определялись централизованно совместными постановлениями Госкомтруда СССР и ВЦСПС (Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов). Но предприятия получили возможность платить премии: месячные, квартальные, тринадцатую зарплату по итогам года, и началась дифференциация, своеобразное соревнование руководителей предприятий за дефицитный ресурс – рабочую силу. А рабочих в СССР не хватало, хотя бы потому, что предприятия вынуждены были держать ее избыток. На предприятие возлагали довольно много несвойственных ему обязанностей, включая шефство над селом: знаменитые поездки на картошку или на овощную базу. Это тоже была характерная черта советской жизни…
Если рабочих не хватает, значит, их надо переманивать у других предприятий. Если работник считался особо ценным, ему можно и квартиру пообещать вне очереди, у директора всегда был какой-то фонд.
В условиях новой волны дефицита, который начинает нарастать с конца 1960-х годов, поскольку постепенно нарастает разрыв между денежной и товарной массами, работа на предприятии опять становится очень важным источником получения благ, не только таких, как квартира, но и вполне текущих – продовольственные заказы, очередь на многие товары длительного пользования. Автомобиль, к примеру, нельзя было приобрести на первичном рынке иначе, как встав в очередь на предприятии или в организации. На вторичном рынке машину можно было купить, иногда, кстати, дороже, чем новый автомобиль, в силу дефицитности товара. Парадокс советской жизни: подержанный автомобиль, но без очереди, мог стоить значительно больше нового, который покупали официально.
Изменения в постсоветской России парадоксальным образом отразились на микросоциальном уровне трудовых отношений. Если в крупных городах с достаточно диверсифицированной экономической структурой у работника (по крайней мере, высококвалифицированного) действительно появилась несколько бо́льшая свобода выбора, то в малых и средних городах зависимость от предприятия даже возросла. Во вновь возникающих уже частных организациях работник изначально рассматривался (за исключением не слишком частых случаев коллективов-партнерств) как лицо подчиненное и бесправное. Характерен ответ одного знакомого предпринимателя в конце 1990-х: «Что ты будешь делать, если у тебя появится профсоюз?» – «Дам поручение своему заму по безопасности».
Архаические, полукрепостнические черты трудовых отношений усилились. Этому способствовало и расширение сферы неформальных трудовых отношений, построенных на устных договоренностях между работодателем и работником, которые попросту сводили на нет писаное трудовое право.
В то же время ситуация сильно отличается от «классического» времени формирования пролетариата в Западной Европе, Северной Америке или дореволюционной России. Наши «объективные пролетарии» включены в массовое общество, подвержены воздействию массовой культуры и идеологической обработки, включены хотя бы частично в структуры и процессы «общества потребления». Сохраняется и отчасти усиливается преобладание вертикально-корпоративных связей над горизонтально-классовыми. Без преодоления этих тенденций мы обречены на крайне архаичную социальную модель, являющуюся основой неэффективной экономики «дешевого труда» и авторитарной политической системы.
В постсоветский период вроде бы наступила экономическая свобода. Но поскольку эта экономическая свобода оборачивается существенной потерей рабочих мест, таким массовым явлением, которое стало возникать очень рано, весной 1992 г., как задержки с выплатами зарплаты, получается, что значительная часть работников начинает еще сильнее зависеть от предприятия. Ведь если там даже не платят зарплату деньгами, то ее, может быть, выдают продукцией. Вспомним картины девяностых: в некоторых населенных пунктах вдоль дороги стояли длинные ряды людей с сантехникой, хрусталем и стеклом.
Экономическая свобода в большей степени начинает проявляться в крупных городах, но для российской глубинки, для малых российских городов – это лишь усиление зависимости. А к этому добавляется еще то, что в трудовых отношениях стремительно нарастают неформальные элементы. Отношение работника с работодателями все чаще определяется устными договоренностями. Зарплата, ее основная часть, платится не через кассу, не по ведомости, а в конверте либо через какие-нибудь иные «серые» или «черные» схемы, и это резко усиливает зависимость работника от работодателя.
Это не крепостничество – это, скорее, кабальная зависимость. Опять воспроизводятся какие-то очень архаичные формы «соединения непосредственного производителя со средствами производства».
И еще в советские годы, когда это первоначальное проваривание в фабрично-заводском котле отчасти произошло, когда прошли тоже достаточно бурные 1950-е с их хулиганскими войнами, с массовыми беспорядками в целом ряде советских городов, преобладающим типом работника становится упомянутый уже почтительный рабочий. Это рабочий, который считает, что с начальством не надо ссориться, начальству виднее.
Девяностые годы XX в. резко усиливают тенденцию к формированию такого рода работника. Ему проще выживать. Эта стратегия более выигрышная, чем стратегия протеста. Ну, а в противовес ей развивается как раз уже новое явление 1990-х годов, гораздо более массовое, чем в советский период, – стратегия сугубо индивидуалистическая: «Я – молодой, здоровый, высококвалифицированный. Я найду себе хорошее место, и плевать мне на всех остальных». Мы видим такое расслоение, при котором преобладающей массой являются «почтительные рабочие», но существует и малый слой активных индивидуалистов, живущих по принципу «гулаговского либерализма»: умри ты сегодня, а я – завтра.
В настоящее время возникла интересная ситуация: многие наши проблемы социально-экономического характера – в частности, экономика дешевой рабочей силы, авторитарная политическая система – коренятся в том, что у нас так и не сложился рабочий класс, который заставил бы господствующие классы считаться с собой, со своими интересами, который мог бы «надавить» и тем самым создать предпосылки для несколько иного капитализма. Действительно, если рабочая сила дешевая, то зачем технический прогресс? Зачем модернизация, нанотехнологии и прочие красивые идеи? Да не нужны они. Вот и будет примитивный капитализм с примитивными архаичными полуфеодальными формами эксплуатации.
Тут возникает другой вопрос: если рабочая сила дорога, то не стоит ли на ней сэкономить благодаря техническому прогрессу? Соответственно, тот самый почтительный работник, которого очень легко заставить в день выборов выйти на работу и опускать бюллетени под присмотром начальства, что мы массово наблюдали совсем недавно, не будет особенно протестовать, потому что он не привык, он не умеет. В этом смысле один из ключей к прогрессу российского общества – формирование современного рабочего класса, хотя бы на уровне середины прошлого века в западных странах или на уровне 1990-х годов прошлого века в наиболее развитых странах третьего мира типа Бразилии или Мексики. А препятствия к этому достаточно велики.
© Кудюкин П., 2012Татьяна Круглова К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ КОНЦЕПТА «СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВИЗМ»[8]
В условиях модернизации человек всегда сталкивается с проблемой переозначивания привычного соотношения личных и общих интересов. Теоретики модернизации указывают на то, что продуктом процесса ломки традиционного общества и сопутствующих практик должен стать новый человек, наделенный такими качествами, как самостоятельность и рациональность в принятии решений, автономность, умение контролировать себя или дисциплинированность. Иначе говоря, он может появиться только в результате отрыва от своей прежней общности, ее влияния. Культурно-антропологическое содержание модернизации состоит в продуцировании новой субъектности, в которой рост индивидуации обеспечивается навыками сотрудничества, умения защищать свои права и осознавать общие корпоративные интересы. Проект модерна предполагал, по замыслу его идеологов, что практики солидарности и сотрудничества не только не противоречат свободе и автономности индивида, но и способствуют их утверждению. Это и называется гражданским обществом. И, безусловно, такой субъект, органично сочетающий в себе самодостаточную личность и умение жить исходя из корпоративных интересов, в мире появился.
В то же время модернизационные процессы везде сопровождаются возникновением такого явления, как конформизм, и генерированием соответствующего психотипа. В СССР также формируются специфические черты советского конформизма. Выделим те признаки советского конформиста, которые, на наш взгляд, обязаны своим происхождением сложившимся в 1930-е годы практикам коллективной адаптации к реалиям мобилизационного общества:
дистанцирование от «большой политики»; доминирование «ближних» интересов: семья, дети, дом, друзья, профессиональное окружение;
удивительная способность к выживанию и приспособляемость при отсутствии умения защищать свои интересы (как точно сформулировал В. Беньямин, «стремление выразить себя, но не реализовать свои права»);
многогранные формы и разнообразие практик сопричастности: смотреть, участвовать, «закрывать глаза», держаться в отдалении, получать небольшую выгоду.
Наша гипотеза заключается в том, что способом производства советского конформизма был социалистический коллективизм. Социалистический коллективизм – это прежде всего идеологически нагруженный концепт, поэтому необходимо разделить задачи:
во-первых, рассмотреть семантику этого концепта и понять, как он работал в контексте советского мобилизационного варианта модернизации;
во-вторых, выявить особенности практического кооперирования советских людей, которые складывались в специфические формальные и неформальные коллективности.
Концепт «коллективизм советских людей» – один из самых устойчивых в том наследстве, которое оставила социалистическая эпоха. Зачастую он является основным антропологическим аргументом в споре о том, что положительного оставила после своего крушения советская эпоха. В ностальгических воспоминаниях, а также в упованиях на «продуктивное использование» советского символического капитала именно коллективизм советских людей расценивается как главный ресурс для сохранения и развития российской идентичности. При всех дискуссионных моментах по поводу того, чем, по существу, наполнена современная российская действительность: обломками, следами разложения советских ценностей, символов и практик, или что ее характерные признаки рождены абсолютно новыми реалиями рыночной экономики, влиянием американской культуры и сетевых информационных систем, ясно одно: необходимо разобраться в том, что содержательно и функционально представлял собой советский коллективизм как концепт и как практика, чтобы понимать, с чем мы на самом деле имеем дело в постсоветской реальности.
Особую остроту этой проблеме придает тот факт, что актуализация интереса к коллективизму как положительной ценности исходит со стороны поколения тридцатилетних, тех, чье детство пришлось на последние годы существования СССР. Любопытно, что они успели пройти начальную школу, побывать пару лет в октябрятах и пионерах, но у них отсутствует опыт социализации, вписывания в советскую систему, практики взрослой жизни со всеми сложностями адаптации, успехов, потерь, травм и падений. Авторы художественных произведений, принадлежа к этому поколению, выстраивают образ советского прошлого, сложно сочетающий в себе документальную достоверность и игровую условность, иронию и веру. Они ощущают внутреннее родство с советским опытом и в то же время дистанцированы от него. Например, режиссер Сергей Лобан, рассказывая о своем фильме «Шапито-шоу», объяснил газете «Взгляд»: «Мы испытываем тоску по общности, по коллективному движению, по всем этим вещам, которые так или иначе присутствовали в советское время и были отражены в советских фильмах. Понятно, что это время было душное и ничего хорошего по большому счету в нем не было. Но было ощущение совместного проживания под знаком какой-то надежды».
Пытаясь разобраться в содержании концепта «коллективизм», исследователь прежде всего сталкивается с двусмысленностью этого понятия и феномена. Семантическое ядро концепта «коллективизм» включает, например, солидарность, товарищество. Эти коннотации отсылают к практике совместной борьбы с властью, насилием, тиранией, несправедливостью. Чаще всего отмечается, что генетически они восходят к периоду, когда власть и социальные общности «недовольных» были по разные стороны. Для России это был период революционной борьбы, рабочих стачек, подпольного и конспиративного партийного движения с характерной бинарной риторикой «спайки» или «предательства». Но позже, когда начала складываться система социальных отношений на производстве и в общественно-политических организациях, в концепте «коллективизм» стали преобладать другие семантические комплексы: сознательность, взаимовыручка, дисциплина, идейность. Коллективизм постепенно превращался в канал трансляции воли власти, в средство управления личностями.
Эта двусмысленность на самом деле была очень удобной для власти на разных уровнях (заводское начальство, учителя, пионервожатые и т. п.), так как предоставляла большие возможности для манипулирования такими чувствами, как долг, вина, дружба, честность, в зависимости от ситуации. Человек, имеющий мнение, отличное от мнения большинства членов своего коллектива, был обречен чувствовать вину, а если он недостаточно активно принимал участие в коллективных делах, получал клеймо «серой», пассивной личности, становился неинтересен своим товарищам, постепенно превращаясь в изгоя. Сплоченный коллектив должен был стать проводником решений сверху, производить послушных, точно выполняющих нормативы личностей. Безусловно, это описание идеального коллектива, но многое свидетельствует о том, что этот проект коллективности был реализован.
Важно отметить, что такой коллектив совершенно не умел защищать своих членов и не был заточен на сопротивление.
Амбивалентность концептов «коллективизм», «товарищество» сказалась и на исследовательской традиции. Либеральные аналитики тоталитаризма резко противопоставляли солидарность сопротивляющихся режиму с практиками сплочения тех, кто режим поддерживал, разделяя «согласие» и «соглашательство», «терпимость» и «примиренчество», «верность принципам» и «конформизм». (Интересно, что подобное разделение зеркальным образом обнаруживается и в советской идеологической риторике.) Например, говоря о «спасительной роли товарищества», X. Арендт считает, что дружеские связи могут удерживать людей от насилия, которое является наиболее характерной чертой тоталитарных режимов. «Представляется, что здесь ее собственные моральные принципы могут в определенной степени ограничивать исследовательскую продуктивность ее подхода. Тщательный анализ форм и значений социальных связей подтверждает присущую им амбивалентность. Семейные связи или товарищеские отношения на работе или в армии не только обеспечивали поддержку, но и давали последнюю надежду в трудные времена. Таким образом, сама интенсивность подобных связей обусловливала возможность применения насилия против “других”»– считают современные исследователи, авторы труда, посвященного поиску ответа на вопрос, почему большинство людей при нацизме и сталинизме поддержало эти режимы[9].
Знакомство с культурно-антропологическими работами Н. Козловой, исследованиями немецкой и советской повседневности 1930-1940-х годов, осуществленными А. Людтке и Ш. Фицпатрик, заставило нас обратить внимание на генезис практик, составивших основу советского коллективизма и его внутреннюю раздвоенность и нестабильность. При внимательном взгляде на факты, устные истории, воспоминания, художественные тексты обнаруживаются следующие особенности советской коллективности и риторики, оформляющей ее. Членам трудовых, школьных и студенческих коллективов предъявляются взаимоисключающие, на взгляд постороннего наблюдателя, требования: быть честным перед лицом своих товарищей, хранить верность слову – и в то же время быть готовым сообщить о проступках своих коллег в вышестоящие инстанции, выдать для совершения наказания провинившегося; работать эффективно, внося свой вклад в общее дело трудового коллектива, получая от этого реальные материальные и символические выгоды, – и в то же время быть готовым пожертвовать этими выгодами ради далеких и неясных интересов отрасли производства, района, государства. Человек постоянно раздваивался внутри разных типов коллективов – малых и больших, лавируя между ближайшими прагматическими целями, для реализации которых необходимо вступать в отношения сотрудничества с другими людьми, и так называемыми высшими целями масштабных общностей – завода, класса, государства.
Анализ «человеческих документов» показывает удивительные результаты того, как в сознании людей происходила адаптация к этим противоречивым требованиям. Почти в каждой советской устной истории, в которой речь идет о сталинских временах, присутствует по крайней мере одно воспоминание об испытанных когда-то гордости и чувстве отождествления себя с коллективом: во время получения наград, после выигранных соревнований, от признания результатов своей работы, при виде советских символов победы и т. п. Исследования А. Людтке и Ш. Фицпатрик доказывают, что оба режима активно использовали такие символические ресурсы для сплочения больших масс трудящихся, которые оказывались неучтенными в предыдущие исторические периоды: в царской России и Веймарской Республике. В случае с Германией это было интенсивное использование идеологем «честь труда», «рабочая гордость», «качественная немецкая работа». «Нацисты пытались стимулировать в каждом работнике старательность и чувство преданности своим рабочим обязанностям»[10]. В СССР была совершенно другая ситуация. Статус рабочего был «плавающим», существовал резкий разрыв в габитусе новых рабочих, выходцев из крестьянства, со старыми потомственными мастеровыми. «Настоящие, дореволюционные рабочие тем временем переживали кризис “пролетарской идентификации”: их материальное благосостояние серьезно ухудшилось, их профессиональная квалификация могла пострадать из-за резко увеличенных норм выработки, а лидерство этих рабочих в цехе и статус “рабочей аристократии” оспаривались их относительно недавно работающими коллегами и партийными работниками»[11]. Немецкий фактор индивидуальной качественной работы в СССР отсутствует: «там упор делается либо на коллективном преодолении трудностей в выполнении плана, или же на индивидуальные рекорды»[12].
Сопоставляя различные способы сплочения коллективов, авторы сравнительного исследования выявляют общие черты: во-первых, рабочая солидарность и наличие тесных дружеских и социальных связей взаимовыручки, сотрудничества сильно преувеличены пропагандой, «трудности и радости повседневной борьбы за выживание почти всегда перекрывали у исторических акторов нормы солидарности и человечности – с их точки зрения, по “уважительным причинам”»[13], во-вторых, эффективным средством генерирования чувства общности является «изгнание чужих».
Если оставаться на теоретической позиции, разделяющей коллективы на формальные и неформальные, мы не схватим специфику коллективности, уходящей корнями в тоталитарную эпоху. В том-то и дело, что, конструируя коллективы как организации, существующие в рамках формальных нормативов, уставов, где люди связаны выполнением определенных задач, то есть общим делом, идеология и власть используют риторику «дружбы», «товарищества», то есть человеческие, межличностные, по сути – неформальные связи для усиления сплоченности и единства. Коллектив должен стать семьей, а его члены – подружиться друг с другом. В результате – способность сопротивляться власти и защищать корпоративные интересы резко снижается.
История генерирования советской личности посредством коллектива подробно рассмотрена О. Хархординым в его работе «Обличать и лицемерить»[14]. Суть его концепции заключается в том, что основной метод действия коллектива есть горизонтальный контроль, где все надзирают над всеми. Коллектив инвестирует в личность свою волю, а она, в свою очередь, реализует ее как собственную, выполняя в идеале требования коллектива вполне добровольно, искренне и с энтузиазмом. В этом месте хотелось бы вступить с Хархординым в полемику. Бесспорно, контроль является ведущим способом конструирования коллектива и его важнейшей социальной функцией. Хархордин, привлекая в качестве исторического источника практику и педагогическую теорию А. Макаренко, убедительно показывает необходимость и неизбежность использования его методов. Привлекаемые им исторические факты свидетельствуют об огромном количестве подростков-беспризорников и молодых людей, которые сбивались в банды, привыкли к нравам криминогенной среды, не имели навыков нормированной социальной жизни, не были пригодны к учебе в образовательных учреждениях и к работе на производстве. Макаренко поставил себе задачу превратить этих молодых людей в дисциплинированных, умеющих себя контролировать и выполнять инструкции членов трудовых коллективов. Для решения этой задачи он и создал систему коллективного контроля и его обратную сторону – коллективную ответственность, отряды с большими полномочиями по наведению внутреннего порядка, поощрения и наказания своих членов. Ему удалось достичь своей цели – его «выпускники» не только легко смогли вписаться в индустриальную систему труда, но и привнесли в нее навыки жизни в трудовой колонии военизированного типа.
Выведение системы Макаренко из конкретной исторической ситуации, обрисованной Хархординым, не вызывает возражений еще и потому, что диагноз этой ситуации подтверждается и другими исследователями. Россия, в отличие от Германии, после Первой мировой и Гражданской войн, революций представляла собой аморфное общество с «плавающими» идентичностями, с распавшимися социальными связями, с отсутствием неформальных организаций и общностей, связанных устойчивыми (конфессиональными, национальными, экономическими, возрастными и т. д.) интересами. В ситуации разрухи, постоянного голода, как показал И. Орлов[15], стихийно возникали различные формы самоорганизации, тяготеющие к практикам насилия, произвола, жестким иерархическим объединениям вокруг сильных лидеров. Происходило, как пишет Н. Козлова[16], сильное упрощение социальных связей. Опасность расширения зоны криминогенных объединений была вполне реальной. Вспомним 1990-е годы, когда рост криминальных структур и способов решения проблем создал почву для упования на «сильную власть», жажду порядка любой ценой. Исследователям тоталитаризма хотелось бы посоветовать помнить высказывание С. Аверинцева о том, что тоталитаризм имеет дело с реальными вопросами, но дает на них неверные ответы.
Тем не менее наша претензия к концепции Хархордина заключается в том, что в выбранной им оптике, где на первый план выходит контроль как основная функция коллектива, невозможно разглядеть другие, не менее важные вещи. Иной ракурс анализа трудовых коллективов предложил А. Людтке[17]. Он попытался увидеть идеологический проект идеальной общности, идущий от власти, в связке с практиками совместного выживания. Иначе говоря, в его оптике энтузиазм не противостоит прагматизму, пропагандистские образы идеального рабочего, воина, гражданина определенным способом используются для достижения земных, вполне эгоистических интересов. Говоря проще, повседневный, можно сказать, вынужденный, героизм тысяч людей, мобилизованных на гигантские стройки сталинских пятилеток, был оборотной стороной конформизма. Ударничество, сверхурочный труд, взаимовыручка в бригадах – все это прикрывало огрехи планирования, разбазаривание природных и человеческих ресурсов, неэффективность экономических решений.
Так или иначе видим, что во вновь формирующихся коллективах возникало сложное переплетение практик вынужденного сотрудничества, направленных на выживание, связанных с защитой от чрезмерных требований начальства. Члены трудовых коллективов демонстрируют разнообразные формы сделки, торга с администрацией, круговой поруки, сокрытия виновников, враждебное отношение к новичкам и рекордсменам, нежелание делиться секретами мастерства с молодыми, стремление «прокатить начальство». История труда и рабочих советского времени может быть переписана с позиции истории постоянной борьбы власти с разнообразными формами коллективного сопротивления, уклонения, лукавого саботирования и проваливания стремлений администрации установить порядок, навести дисциплину, да и просто заставить людей слушать голос власти и выполнять ее приказы беспрекословно.
В то же время очевидно, что верхушке власти удалось мобилизовать огромные массы людей, готовых с энтузиазмом сделать даже больше, чем требуют власти. Последнее касается не только выхода на работу сверхурочно, но и практик исключения инакомыслящих на собраниях, составления списков по 58-й статье, писем в различные инстанции с требованиями «разобраться» с писателями, поэтами, режиссерами, и других подобных инициатив с мест. Социалистический коллективизм обеспечивал сильный эмоциональный подъем, стимулируя социальный пафос, побуждая к энергичным действиям.
В итоге можно констатировать, что трудности построения гражданского общества в современной России связаны, кроме прочего, с устойчивым воспроизводством практик, сформированных опытом жизни в советских коллективах. Каждый раз, когда мы наблюдаем, как быстро люди объединяются, находя общие интересы, распределяя функции и полномочия в ситуации, когда нужно сэкономить усилия по выполнению требований «сверху», с наименьшими затратами времени получить от начальства наибольшую выгоду, распределить общую прибыль, выразить недовольство действиями администрации, – перед нами бывшие советские люди, имеющие огромный опыт и навыки пассивного противостояния эксплуатации системой. Установка на выживание доминирует и не дает хода установке на развитие. Видимость послушания оказывается выгоднее открытого протеста и готовности противостоять общему мнению и сложившемуся порядку вещей. Ностальгия по советскому есть тоска по утраченному символическому обеспечению того привычного способа совместности, который назывался «социалистический коллективизм».
© Круглова Т., 2012Роман Абрамов МАССОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ПРОСТРАНСТВА СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ (на примере анализа воспоминаний жителей микрорайона Западная Поляна города Пензы)
Экономический и социально-демографический профиль современной Пензы стал результатом действия двух исторических факторов: эвакуации предприятий и организаций во время Великой Отечественной войны и оттепельной социально-экономической политики массового строительства и промышленного развития. Все послевоенное время происходило быстрое увеличение населения города: со 160 тыс. в 1939 г. до 374 тыс. человек в 1970 г. Рост количества городских жителей стабилизировался только в 1980-е гг. на уровне 510–530 тыс. человек – примерно такова численность населения Пензы и в 2011 г. Размещение предприятий среднего машиностроения и многочисленных отраслевых НИИ с ориентацией на разработки для нужд ВПК предопределило социально-профессиональный состав городских жителей послевоенной Пензы: это были представители инженерно-технической интеллигенции и рабочие высокой квалификации. Система вузовского распределения способствовала привлечению в Пензу молодых специалистов из других городов. Промышленный и научно-технический расцвет пришелся на 1960-е – первую половину 1970-х годов, за которым последовала унылая стагнация 1980-х и быстрый распад сложившейся структуры занятости в 1990-х. Эра благополучия массовой советской интеллигенции была недолгой – примерно охватывающей двадцатилетие с 1960 по 1980 г. При этом, по свидетельству участников исследования, смена общественной атмосферы, духа времени произошла в 1973–1974 гг., когда затхлый воздух застоя вместе с ухудшающейся экономической ситуацией вытеснил последние романтические настроения интеллигенции.
«В первые два года учебы в институте (1974–1975 гг.) преподавателям можно было задавать острые вопросы, затем стало ясно, что это бессмысленно. Интеллигенция, в том числе живущая на Западной Поляне, ушла в себя, в разговоры на кухне, в чтение Конецкого… Соответственно, среди западнополянской интеллигенции угасли романтические настроения эпохи 60-х годов, появились обреченность и ожидание конца режима, при котором Западная Поляна как феномен появилась, но который не смог удовлетворить чаяниям общества того переломного, как теперь оказалось, времени» (Б. Мануйлов, журналист).
Данная статья основана на вторичном тематическом дискурс-анализе транскриптов интервью с жителями одного из районов г. Пензы – Западной Поляны. Эти интервью на протяжении 2010–2012 гг. публиковались в областной еженедельной газете «Улица Московская» в рубрике «Краеведение». Инициаторами этого краеведческого медиапроекта стали главный редактор газеты В. Мануйлов и молодой пензенский историк и журналист Е. Белохвостиков, которые в разные годы были жителями микрорайона Западная Поляна. В настоящее время публикация воспоминаний жителей района Западная Поляна г. Пензы продолжается, в открытом доступе находится более 30 нарративов. Необходимо отдельно подчеркнуть, что информантами являются две группы: пенсионеры – представители местной интеллигенции (инженеры, преподаватели вузов, управленцы, журналисты), которые как молодые специалисты получили жилье в новом районе в период 1959–1965 гг., а также дети первого поколения жителей Западной Поляны (1962–1975 гг. рождения). Сначала я выступил в качестве информанта[18], а затем меня заинтересовали нарративы жителей этого пензенского района.
Район Западной Поляны г. Пензы стал первой площадкой реализации комплексной массовой застройки. До начала строительства на этой пригородной территории находились лесной массив, ипподром и областная сельскохозяйственная выставка. Строительство нового района, получившего название Западная Поляна, началось в 1958 г., и в 1960 г. уже были сданы первые два дома. В отличие от московских Черемушек, застроенных панельными пятиэтажками «лагутенковской серии», на Западной Поляне возводились кирпичные 4-5-этажные 2-3-подъездные дома по проекту гипрогора.
К 1964 г. основная часть района была построена. В дальнейшем она стала называться Старой Западной Поляной, поскольку в 1967–1973 гг. в сторону леса был построен микрорайон пятиэтажных кооперативных домов из силикатного кирпича, получивший название Новая Западная Поляна. В пензенской неофициальной топонимике середины 1970-х годов Старая Западная Поляна получила шутливое название ГДР, а Новая Западная Поляна – ФРГ[19]: если в первом случае почти все квартиры были ведомственными и бесплатно предоставлялись государством, то во втором преобладала кооперативная застройка, финансирование которой осуществляли будущие жильцы. Соответственно Старая Западная Поляна – плод социалистического распределения жилья, а Новая Западная – результат «капиталистической» активности горожан.
«ГДР и ФРГ – так в 80-х называли в народе Старую Западную и Новую Западную Поляны. Вроде бы и один район. Но как бы и не совсем один. Брежневки на Новой Западной, построенные в 70-80-х, все-таки посовременнее и покомфортнее хрущевок. Комнаты хотя бы изолированные. На Новой Западной имелись и другие “буржуазные” удобства: ресторан “Сосны”, гостиничный комплекс “Ласточка”»(С. Пономарев, радиожурналист).
Как отмечает К. Кобрин, «некоторые черты викторианской эпохи оказались созвучны позднесоветскому времени. Все эти обстоятельства создали совершенно уникальный культурный феномен, который можно было бы назвать «позднесоветским викторианством»[20]. И если сравнивать ординарную застройку поздневикторианской Англии и кирпичные 4-5-этажные дома Западной Поляны, то, как ни кощунственно это звучит для англофилов, между ними можно проводить параллели, относящиеся не к качеству строительства или архитектурных решений, но к атмосфере пространства. Во-первых, и там и здесь такое жилье создавалось для крепкого среднего класса, и при всех социокультурных различиях между кастой британских буржуа и профессионалов и немного призрачной советской оттепельной интеллигенцией в этом жилье есть некоторая основательность, соответствующая настрою на обретение достойного качества жизни. Во-вторых, фактура серого силикатного и красно-желтого кирпича Западной Поляны и red brick британских районов заставляет зрение настраиваться на общий формат, несмотря на видимые различия в качестве кирпичной кладки. В-третьих, и в том и в другом случае это – скромная архитектура, соизмеримая с человеком. Кирпичные пятиэтажки Западной Поляны вовсе не выглядят уныло на фоне своих панельных собратьев, и там даже есть некоторые намеки на декор, как и в викторианских домах сдержанность сочетается со стилем. Следует подчеркнуть, что эти сравнения отсылают к схожести впечатлений, а не архитектурных решений. Впрочем, превращение района Западная Поляна в благополучный район среднего класса не состоялось: состарившиеся, подрастерявшие былой оптимизм и задор в застойное время, прототипы героев ранних Стругацких получили последний удар в начале 1990-х годов, когда лавинообразный распад системы НИИ привел к уничтожению среды обитания советской интеллигенции.
«В 70-х было ожидание, что Западная Поляна станет замечательным, благоустроенным, образцовым районом, “городом будущего”: цивилизация рядом с природой. Западная – своего рода символ несбывшейся мечты шестидесятых. Тогда думали, что все лучшее впереди, что вся неустроенность временна. Увы» (Л. Рассказова, музейный работник).
Рефреном воспоминаний большинства информантов является указание на то, что Западная Поляна исходно выросла как «интеллигентский район». Этому способствовало несколько факторов. В первую очередь само территориальное расположение района обусловило социальный состав жителей Западной Поляны. На территории, примыкающей к району, расположились кампусы двух старейших пензенских вузов – Политеха (сейчас – Пензенский государственный университет), Педагогического института (теперь тоже ставшего университетом), а также Пензенского артиллерийского училища. Во второй половине 1950-х годов все три вуза активно расширялись и остро нуждались в научно-педагогических кадрах, поскольку Пенза никогда ранее не была центром науки и высшего образования. Приток новых преподавателей обеспечивался, в том числе за счет предоставления им новых квартир в строящемся микрорайоне. Для многих это было первое «свое» жилье с удобствами. Вот как описывает своих соседей по дому на Западной Поляне сын первого в Пензе доктора экономических наук крупный бизнесмен А. Андреев:
«В Архангельске жили в квартире на первом этаже, с печным отоплением. И когда приехали в Пензу, словно попали в другую цивилизацию: третий этаж, балкон, централизованное отопление, колонка, горячая вода. В доме жили и вузовские, и военные, и сносчики[21]. Сверху – подполковник Ю.Л. Щигорец, старший преподаватель артучилища… Снизу – такая же семья полковника В.И. Папшева, заместителя областного военкома. С этими двумя семьями особенно сдружились, встречались по выходным, отдыхали вместе. На Западной было много преподавателей Политеха, и к отцу приходили многие. В нашем же доме, в первом подъезде, жил Б.Р. Езерский, он долгое время заведовал кафедрой иностранного языка Политеха. На улице Мира, 6 жил Н.И. Гордиенко – доктор наук, профессор, сначала он преподавал в артучилище, а в последние годы заведовал кафедрой теоретической механики Политехнического института».
Конец 1950-х годов – время создания системы научно-исследовательских институтов. Многие из них были расположены в Пензе, они остро нуждались в инженерах-конструкторах, а поэтому молодым специалистам, приехавшим на работу в «ящики», почти сразу выделялись квартиры в новом западнополянском районе.
«На Западной Поляне построили несколько домов. Строили на паях два-три института. На Ленинградской, 1 первый подъезд и половина второго принадлежали ПНИЭИ, а другая половина второго, третий и четвертый – НИИВТ. Дома на Попова, 22 и на Ленинградской, 2 заселили сотрудники ПНИЭИ и “Эры”. На Пацаева, 7 построили общежитие: один подъезд был от ПНИЭИ, один от НИИВТ и один от НИИЭМП. Дома на Попова, 14а, 16 и 20 полностью заселили сотрудники ПНИЭИ. На Ленинградской, 3 в основном поселились инженеры НИИЭМП, но и у ПНИЭИ здесь тоже были квартиры» (Б. Битюцкий, инженер).
Анализ интервью показывает, что первые жители Западной Поляны акцентируют внимание на особых взаимоотношениях между жителями района, которых отличали искренность, открытость, совместный досуг.
«Во дворе, вокруг дома, кипела жизнь. Взрослые выходили и играли в шахматы, или выпивали, или что-то сажали. Мальчишки гоняли в футбол, играли в чики, катались на велосипедах. Многие приехали сюда из коммунальных квартир. Если у кого-то был телевизор, естественно, к нему приходили смотреть его. Какую-то пищу друг другу носили. И это было постоянным. Так что отношения были как в большой, веселой коммунальной квартире» (Б. Завадский, художник).
Исследователи советского прошлого отмечают противоречивую роль массового строительства в производстве приватного и публичного. С одной стороны, вселение в отдельные квартиры стало революцией в повседневной жизни миллионов граждан СССР, впервые избавив их от вынужденного коммунального быта, где отсутствовало приватное[22]. С другой стороны, типовая пятиэтажная застройка перевела публичное на уровень подъезда и двора, когда «приватное пространство счастливых обладателей отдельных квартир в многочисленных новостройках отгораживается от универсально-всеобщего лишь тонкой дверью»[23]. И в этой ситуации «промежуточное пространство подъездов и дворов неизбежно превращается в маргинальное»[24], становясь пристанищем алкоголиков и других персонажей теневой стороны советского мира. Только с самого недавнего времени – с появлением института консьержек и попыток самостоятельного управления своим подъездом в новостройках бизнес-класса – возникают признаки возрождения соседских сообществ. Впрочем, в случае пензенской Западной Поляны в ранние 1960-е годы произошел расцвет соседских сообществ, основанных на общих профессиональных, культурных, возрастных интересах, сменившийся их распадом в 1970-е годы, когда страна стала стремительно деколлективизироваться. О расцвете соседского сообщества информанты вспоминают с заметной ностальгией.
«Споры на инженерских кухнях 60-х об искусственном интеллекте – самая модная тогда была тема. Другие были запросы и амбиции у тогдашней интеллигенции. Главным для нее был не быт, а работа. Решение задач, связанных с профессией. И разговоры на кухнях и лавочках были о том же – на стыке между техническими достижениями и философией. Что-то было во всех этих отношениях домашнее, непосредственное, раскованное, бескорыстное, без двойного дна» (Д. Мануйлова, преподаватель философии).
«Вообще, на Западной Поляне люди дружно жили. В волейбол в лесу играли, зарядку выскакивали вместе делать во дворе. Все были молоды, все работали в одних и тех же НИИ. Первые западнополянцы – это в первую очередь инженеры» (А. Рыков, руководитель СМУ, строившего район).
Действительно ли интеллигентский мир Западной Поляны жил такой безоблачной жизнью? Большинство информантов делятся позитивными воспоминаниями о советском прошлом, сетуя лишь на неудобства, связанные с отсутствием благоустройства в районе первых лет его существования, товарным дефицитом, транспортными проблемами.
«Уже в 1973 г., когда мы с мамой вернулись в Пензу из Москвы, в Западной Поляне ассортимент молочных изделий стал скуднее. Дефицитом стал не только Никольский хрусталь, но и многие виды продуктов. Стали расти очереди, единственным способом повышения благосостояния, в смысле отоваривания законно заработанных денег, стал блат». (В. Мануйлов, журналист).
«Самое интересное, что, зайдешь в “Товары для женщин” и “Товары для мужчин” на Мира, 6 и 7 – везде примерно одно и то же, и глазу остановиться не на чем. Интересно, если я, ребенок, понимал, что глазу не на чем остановиться, что там покупали взрослые?» (А. Астафичев, звукорежиссер).
Между тем в нарративах встречаются упоминания и о проблемах, которые становились более острыми к концу советской эпохи, – о пьянстве, постепенной деградации офицерства.
«Я вырос в раю – в военном городке. Тут у всех были несметные деньги. Все хвастались купленными гарнитурами, шубами. Строго блюли иерархию: водились только с равными. И детям тоже велели. Спесь цвела: папахи, шляпы, важные проходы с “приемов” и “праздничных концертов”, посещение театра. Правда, полковник в полной форме в грязной луже тоже было обычным явлением: как же – День артиллерии! Верховодили тут мужьями жены. Они откуда-то всех их когда-то вытащили и воспитали-вылепили “в людей” им известными способами, создав себе рай. В домашней обстановке глав семейств не было ни видно, ни слышно, пока не натянут на уши папаху. Только жены! В общем, водились в нашем раю совсем не ангелы, скорее, наоборот. Истории за глухими стенами случались жуткие: это вам не милая интеллигенция, пьянство мужей казалось невиннейшим из пороков» (С. Ульянов, внук первого начальника Пензенского артиллерийского училища).
И все же в сознании участников медиапроекта Западная Поляна в первую очередь является районом с относительно более высоким уровнем культуры, особыми соседскими отношениями и воспоминаниями о коротком расцвете советской интеллигенции в период оттепели. Практически никто из информантов старшего поколения не упоминает о диссидентских практиках или даже о разговорах о политической ситуации в стране. Вполне возможно, они были последним искренним поколением советских людей, которое испытывало детскую радость от получения первой отдельной квартиры и увлекательной работы в «ящике».
Начиная с 1970-х годов подросшие дети первых жителей Западной Поляны постепенно уходят из советского мира. Увлечение западной рок-музыкой, поиск заработков, исключающих жесткий контроль системы, фарцовка, алкоголизм – все это, безусловно, не являлось формами политического протеста, столь непопулярного в поволжском провинциальном центре. Скорее, это стало тактикой уклонения от административного и идеологического влияния стремительно дряхлеющей, но все еще надоедливой системы. Впрочем, траектории этой тихой миграции в приватное находились во все той же логике действия разочарованной советской интеллигенции, которая в конце 1970-х, подобно вампиловскому Зилову в исполнении О. Даля[25], перестала радоваться получению новой квартиры в пятиэтажке.
«Под нами, в такой же двухкомнатной квартире № 12, жил Саша Спасский, он был на несколько лет старше. Отец у него работал преподавателем в Политехе, мама – экономистом на заводе. Поскольку стены у нас были то ли фанерные, то ли картонные, то мое первое приобщение к музыке получилось именно благодаря Саше. У него был кассетный магнитофон, и году в 1973-1974-м я впервые услышал Deep Purple, Nazareth, Beatles, хотя тогда еще и не знал, кто это такие. А потом, когда началась эпоха винила, щели приоткрылись более масштабно, мы переписывали диски ABBA, Демиса Руссоса. Помню, как таскался к Спасским с магнитофоном» (Д. Кусков, радиожурналист).
Анализ нарративов жителей Западной Поляны показывает, что этот район в какой-то момент стал микромоделью заповедника советской интеллигенции, поскольку там почти в репрезентативном виде оказались представленными ее основные подгруппы: от журналистов местного телерадиоцентра, преподавателей вузов, инженеров засекреченных НИИ, врачей городской больницы до управленцев среднего звена и офицеров, работавших в артиллерийском училище. Тем более и телерадиоцентр, и вузовские кампусы, и военный городок, и институтские корпуса располагались неподалеку, образуя, по сути, общее пространство. Впрочем, по-своему тонкая советская жилищная политика стремилась минимизировать риски геттоизации, стараясь преодолеть естественное стремление представителей различных классов жить в социально близкой среде. Поэтому жилье распределялось таким образом, что даже в номенклатурных домах рабочие-передовики также получали квартиры. Информанты старшего возраста, поселившиеся на Западной Поляне, будучи молодыми специалистами, не обращают внимания на «классовые различия», тогда как для их детей, встречавшихся со своими сверстниками из других социальных групп в школе и во дворе, это нередко становилось болезненным опытом.
«Первый квадрат[26] на нечетной стороне улицы Мира, например, был такой пролетарский, там еще общага строителей была. Люди серьезные жили: и тетки хорошо дрались с мужьями, и многие потом оттуда садились по малолетке. Квартиры на Западной опять-таки давали не всем подряд рабочим, а только лучшим, ударникам. Другой вопрос, что строителями-то они, к примеру, были хорошими, но при этом – жуткие пьяницы. И порой в двухкомнатной квартире ударника были только один стул, одна табуретка и одна кровать без матраса. А жили здесь муж, жена и двое детей. Люди пропивали все. Получали зарплату, 2–3 дня гудеж на глазах детей, а потом – на работу в фуфайке, класть кирпичи на той же Западной. Детям из таких семей жилось тяжело. Они постоянно чувствовали себя не в своей тарелке, их окружали совсем другие дети. Им родители говорили: с этими не дружи, у них папы плохие. В школе не справлялись с программой, в том числе в силу родительской пьянки. А родители за ними не следили, они считали: мы класс-другой закончили – и ничего, на водку нам хватает, значит, детям хватит» (Ю. Ткаченко, скульптор).
И все же информанты, представляющие разные поколения, до сих называют Западную Поляну пространством с особой атмосферой: неспешности, спокойствия, интеллигентности, «культурности» и т. п. Помимо интеллигентской мифологии, этому способствовала констелляция факторов: уникальное пространственное расположение, близость к природе, отсутствие промышленных предприятий и атмосферы рабочих слободок, а также само время возникновения этого района – оттепель как высшая точка надежд интеллигенции на возможность возникновения нового социализма «с человеческим лицом», когда интересы государства, общества и отдельной личности могут находиться в гармонии. Этим надеждам не суждено было осуществиться, но память о них осталась.
© Абрамов Р., 2012III. Национально-культурное строительство в СССР и постсоветский мир
Елена Галкина РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ НАЧАЛА XXI ВЕКА И СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Тридцать лет кровавого беззакония. Погиб цвет народа. Сталинский режим окончательно убил в нас представления о нормальной жизни и волю к свободе… Чиновники ни за что не отвечают….
…Сегодня пассивность и равнодушие стали национальным бедствием, угрозой существования страны…
…Мы были и остались рабами, и теперь я знаю: в России все возможно.
Федор Абрамов (1920–1983). ДневникиСлова Федора Абрамова выявляют один из эмоциональных корней современного русского национализма. Это память потомков крестьян о предательстве их интересов советской властью. Второй эмоциональный корень, с первым не связанный и объективно ему неизбежно противоречащий, – это мифологизированная жажда реванша, жившая в сохранившихся дворянских коленах и впоследствии проецированная советской элитой, сначала интеллектуальной, а потом и бюрократической, на себя. Идейные ростки этих двух основ переплелись в позднем СССР, как дерево и обвивающий его плющ, и дали сейчас то причудливое растение, которое именуется русским национализмом[27].
Национализм, как показывает исторический опыт, прекрасно уживается и с правыми, и с левыми идеями. Это происходит даже не в силу его теоретической бедности, а потому, что как идеология он занимает место на другой координатной оси. Если сословная идеология, национализм, космополитизм находятся на условной оси абсцисс, то консерватизм, либерализм и социализм – на оси ординат декартовой системы. Так, сочетание национализма и социализма составляет ядро идеологий баасистов, движения арабских националистов, насеритских групп на Ближнем Востоке, перонизма в Аргентине и многих других движений в развивающихся странах. Фронт национального освобождения в Алжире изначально включал представителей всех экономических воззрений, после изгнания французов левое крыло победило, но алжирский гражданский национализм остается краеугольным камнем партийной идеологии.
В Российской же Федерации в силу вышеуказанных корней русский национализм в конце 1970-х – начале 1980-х годов предполагал не то чтобы привязку к определенным социально-экономическим взглядам, но безусловный антимарксизм и антисоветское[28] диссидентство, а также симпатии к православию и антисемитизм. Немногочисленные отщепенцы осуждались. Показательна запись в дневнике за 1982 г. одного из националистов той волны – главного редактора журнала «Человек и закон» С.Н. Семанова, которая содержит квинтэссенцию почвенных воззрений позднесоветской эпохи: «Аполлон[29] сошел с ума… всю жизнь с позиции патриотизма и диамата. На мое осторожное возражение, что под знамя диамата он соберет мало народу, он даже голос повысил, возражая. И вообще, махал рукой, говорил о классовой непримиримости… дурак. Он и в самом деле не вполне нормален (жуткий атеист к тому же!)… И все же студентов он воспитывает хорошо и с Сионом борется»[30].
При этом собственно идеология как система концептуально оформленных взглядов русскими националистами только начинала разрабатываться и пребывала в состоянии младенческого синкретизма национализмов гражданского и этнического, с элементами ксенофобии и расизма. Политические события конца 1980-х – начала 1990-х годов привели национально-патриотические организации к коалиции с левой оппозицией либеральным реформам. Резкое неприятие политики Ельцина, а также работа в рамках Фронта национального спасения, совместная оборона Белого дома в сентябре – октябре 1993 г. привели к формированию феномена национал-патриотизма, сочетающего апологетику советской системы с декларированием особой миссии русского народа и часто православием.
Отношение к советской эпохе – один из наиболее болезненных вопросов для современного русского национализма. Именно он является одной из точек, через которые пролегает тщательно охраняемая граница между национал-демократами и национал-патриотами, а его решение является для тех и других безусловным основанием отнести оппонентов к «псевдонационалистам». Нацдемы, как правило, весьма эмоционально винят Советскую Россию в уничтожении крестьянства, традиций самоуправления, в национальной политике, направленной на подавление русской этничности[31], в диктате государства и тоталитаризме. Национал-патриоты по убеждениям обыкновенно «православные сталинисты». Наиболее заметный промежуточный тип представляют так называемые национал-монархисты, которых роднит с нацдемами неприятие советской модели, а с национал-патриотами – сакрализация власти. Монархисты и сталинисты вместе входят в более широкую группу, которую сторонники называют «имперцами», а противники – все чаще «ордынцами».
Естественно, между перечисленными формами существуют многочисленные переходные виды, часто очень противоречивые внутренне, вроде национал-монархизма или казачьего русского национализма, представители которого по неизжитой традиции продолжают себя мыслить в идеале привилегированным сословием русского национального государства.
Если определять национализм с помощью научных методов анализа, на основе принципа историзма, то бесспорно, что это – идеология Нового времени, индустриального общества. Массовое распространение он может получить только в урбанизированном ландшафте, при условии всеобщей грамотности и/или широком распространении средств массовой информации, создании развитой транспортной инфраструктуры и значительной социальной мобильности, по крайней мере, горизонтальной. Иначе не состоится, не будет воспринята обществом массовая агитация, а без нее и массовая мобилизация на строительство национального государства. В отсутствие этих факторов невозможно при всем желании насадить националистическую идеологию «сверху», как показали печальные судьбы светских национализмов во многих развивающихся странах на протяжении XX в.
Сама идея нации – как высшей формы общественного единства и самоорганизации – не предполагает обязательного сопоставления с другими нациями и не включает имманентно шовинизм и ксенофобию, хотя и бывает часто с ними сопряжена. Соотношение же конкретной националистической идеологии с социально-экономическими учениями зависит от того, кого ее разработчики считают полноправным членом нации с точки зрения социального статуса и финансовой состоятельности.
Русский национализм развивался в специфических исторических условиях. К началу XX в. как интеллектуальное движение он заметно отставал по степени глубины и разработанности от социально-экономических идейных течений, поскольку нерешенными и неизмеримо более острыми являлись базисные проблемы. В массовое движение он не мог материализоваться в силу глубокой доиндустриальности российской экономики, низкой урбанизации и грамотности русского населения, резкого классового антагонизма, усугубленного пережитками сословной системы. В известных тогда формах национализм являлся мелкобуржуазной идеологией и по причине откровенной слабости этого слоя также не имел перспектив широкого распространения в ближайшем будущем. Свидетельство тому – судьба черносотенных организаций.
Свою массовую социальную базу русский национализм начал обретать уже в Советском Союзе с появлением городских средних слоев и занятием ими доминирующего положения в общественном производстве. Немало способствовал этому процессу и поворот государства с середины 1930-х годов к идее «русский народ – старший брат» в официальной пропаганде, с широким освещением в массовой культуре и образовательных программах. Но национальная политика СССР содержала в себе противоречие, которое уже к 1960-м годам могло быть снято только крушением советского проекта.
Государственная политика превращения народов Советского Союза в нации включала политическую автономию для всех крупных этносов страны, кроме русских. Более того, в национальных республиках имела место практика этнических квот при назначении на должности в органы власти. В то же время власть одновременно пыталась конструировать в границах государства советскую нацию, для которой русские должны были стать основным «строительным материалом». Этнополитическое неравенство, дискриминация русских в СССР последних десятилетий его существования являлись секретом Полишинеля и весьма болезненно воспринимались социально активной частью государствообразующего народа Советского Союза[32].
Поэтому генезис националистических идеологий народов СССР не был одинаковым. Национальные чувства титульных наций союзных республик поддерживались местными элитами и эксплуатировались ими как аргумент в диалоге с центром, в котором к середине 1980-х годов началась уже проба сил[33].
Русский же национализм изначально формировался не как регионалистское, а именно как антисоветское движение, аккумулировавшее почвенников-деревенщиков-интеллектуалов, как правило, с крестьянскими корнями, монархистов и тайных симпатизантов нацизма. Кроме того, специфика структуры советской гуманитарной интеллигенции и форм ее взаимодействия с властью привела к тому, что на этом этапе постоянным спутником формирующегося русского национализма стали антисемитизм и борьба с ветряными мельницами масонских заговоров. Показательно, что в «нулевые» эти когда-то любимые темы практически забылись и сохраняются только в форме анахронизмов в трудах патриархов русского движения.
Принципиальная разница между гражданским национализмом, этнорасизмом с его элитарностью и православным монархизмом, сакрализующим персонифицированную власть, была на той стадии непринципиальна для самих почвенников. Их объединяли общие враги: антирусская советская власть[34], большевистская идеология и КПСС, где этнические русские теряли связь с народом[35].
Распад Советского Союза, ликвидация Советов в результате государственного переворота и отход левого мейнстрима от марксизма к ностальгически-идеалистическому этатизму – эти вехи 1990-х годов и привели к началу неизбежного размежевания почвенников-славянофилов на имперцев и нацдемов. Процесс формирования идеологий этих двух направлений был и по сей день проходит в диалектической взаимосвязи. И антисоветизм национал-демократов во многом связан с тем, что советский период был взят на вооружение национал-патриотами. Этот водораздел прекрасно прослеживается, например, в материалах круглого стола «Русское завтра: национальное государство, империя или рассеяние?», где были представлены почти все ведущие идеологи обоих направлений[36].
Отношение к СССР стало причиной притяжения национал-демократическим лагерем тех, для кого антисоветизм был принципиален в связи с абсолютным неприятием социализма как идеи, базирующейся на принципе социальной справедливости. Речь идет о сторонниках этнорасизма и социал-дарвинизма, хотя, по существу, такие воззрения относятся к охранительно=этатистским.
Рефреном национально-демократического дискурса звучит: «Имперско-советская пропаганда приписывает русским роль бессловесных и бесправных рабов в коммунистической империи. Будьте аскетами, говорит русским Кургинян – миллионер с хорошим загаром и в дорогом пиджаке, из автомобилей, по слухам, предпочитающий “Бэнтли”». Наблюдение это в общих чертах правильное, и это особенно очевидно в последние месяцы, когда этатизм национал-патриотов окончательно вышел на первый план, ностальгируя по социальным благам СССР, и принял откровенно охранительные черты.
Интересно, что изменение политической ситуации заставляет эволюционировать и националистический дискурс. Если еще год назад трудно было представить, что в ближайшее время будет дискутироваться отношение хотя бы к П.Н. Краснову и Локотской республике, которое бы объективно отсекло патриархов-этнорасистов и этатистов, то сейчас этот вопрос начинает решаться сам собой в рамках отношения к последним событиям (этатисты так или иначе считают, что «Путин лучше Навального»).
В представлении этнорасистов, которые составляли заметную часть «интеллектуального класса» русского националистического движения в 1990-е годы, равноправие граждан, контроль общества над властью и демократия являются основными причинами разложения современного «белого мира», а образцом для идеального русского общества может стать индийская система варн. Интересно, что большинство этих людей уже сошли с вершины «националистического Олимпа», не вписавшись в современное информационное общество, но дело их живет, а идеи эффективно оседают в мировоззрении федеральных госслужащих и региональной элиты, в том числе из силовых структур, а также их детей. То есть происходит процесс оформления двухэтажной охранительной идеологии: внизу – с православным сталинизмом и ностальгией по всемогущему социальному государству, наверху – с богоугодным аристократическим краниометром.
Резкий антисоветизм национал-демократов идеологически обосновывается неприятием национальной политики и фиктивности демократических институтов СССР. Но такая критика, в целом справедливая, не объясняет замалчивания национал-демократами завоеваний советского периода. Лидеры современного национал-демократизма все еще четко не артикулировали отношение к недавнему прошлому. Логика развития русского национализма в XX в., присутствие в статусе ветеранов движения этносоциальных расистов, высказывающихся за поражение большей части граждан в правах и даже установление де-факто кастового строя, – именно это не позволяет относиться к советской эпохе диалектически и признать такие очевидные успехи, как построение социального государства, высокий уровень вертикальной мобильности, экономический и научно-технический прогресс и многое другое. Парадоксально, но русские националисты до сей поры не могут признать высшее достижение русского народа.
© Галкина E., 2012Олег Кильдюшов СССР КАК МАШИНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАЦИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (с примерами из советского спорта)
Прежде чем перейти к некоторым аспектам советской теории и практики национального строительства – а чтобы осветить их в полной мере, не хватит никакой конференции, – я хочу сделать первое замечание на тот счет, что они сохраняют свою релевантность для нас именно потому, что сегодняшняя Россия является институциональным последствием тех далеких дебатов столетней давности. По сути, все мы до сих пор являемся заложниками исторических заблуждений небольшой группы русских марксистов…
Второе замечание связано с необходимостью признать, что национализация политики в России не является изобретением большевиков, и первые опыты в деле институционализации этничности имели место, например, в дореволюционной Государственной Думе, где уже имелись фракции, образованные по этническому и конфессиональному признакам: польская, польско-литовско-белорусская, а также мусульманская.
Если оценивать советскую практику нацстроительства в целом, то можно выдвинуть следующий тезис.
Если для западного модерна на протяжении последних двух веков характерен процесс, который условно можно назвать «национализацией политического» – когда борьба за власть ведется в рамках гомогенного сообщества по идее принципиально равных компатриотов, т. е. внутри политической нации, то большевики избрали иной путь, который условно можно назвать «этнизацией социалистического», т. е. реализация советского проекта шла рука об руку с созданием моноэтнических протогосударств для еще не существовавших тогда нерусских наций, которые должны были стать противовесом русскому «великодержавному шовинизму» (Ленин).
Как многое другое в рамках советского проекта, носившего ярко выраженный идеократический характер, национальное строительство в СССР осуществлялось в соответствии с партийной доктриной, в свою очередь, разработанной в рамках традиции европейской социал-демократии. При этом одновременно эта доктрина опиралась на практику сотрудничества с новыми политическими субъектами – национал-предпринимателями, «представлявшими» нерусские народы, национальное чувство было «разбужено» в период революции. То есть для национальной политики большевиков изначально была характерна эта двойственность: с одной стороны, ее доктринальный и даже доктринерский характер, а с другой – своеобразный прагматизм, постоянная коррекция курса в соответствии с политическими задачами, трудностями реализации и т. д.
Несмотря на амбивалентное отношение к национализму, который в рамках марксизма всегда рассматривался не просто как форма ложного сознания, навязываемая реакционными силами пролетариату и мешавшая трудящимся осознать свои истинные классовые интересы, большевики рассматривали его в то же время и как дискурсивного конкурента, способного мобилизовать энергию масс на решение ложных задач.
Эта напряженность сохранялась на протяжении всего советского периода – со всей его уникальной внутренней периодизацией, включающей и борьбу с буржуазным национализмом, и политику «“коренизации” и упора на местные кадры», и борьбу с «безродным космополитизмом», но также борьбу с «великорусским шовинизмом», которая велась прежде всего посредством институциональной поддержки нерусских национализмов.
Именно в рамках этого дискурса в конце 1922 г. Ленин разработал своеобразную теорию хорошего и плохого национализма:
«Необходимо различать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, национализм большой нации и национализм нации маленькой. По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве [совершенного] насилия»[37].
Не может не удивлять этот оппортунистический альянс большевизма и нерусского национализма, реализовавшийся в СССР. Как верно замечает Терри Мартин в своей книге «Империя позитивной дискриминации», стратегия большевиков заключалась в попытке оседлать процесс деколонизации и национального освобождения инородцев бывшей Российской империи и тем самым сохранить территориальную цельность революционного государства[38]. Именно для этого большевики пошли не только на создание 12 протогосударств в виде национальных республик, но и на создание нескольких десятков других этногосударственных образований, образовавших причудливые иерархии: союзная республика – автономная республика – автономная область – автономный округ – автономный район. Более того, в 20-е годы массовой практикой стало образование еще меньших единиц – национальных сельсоветов!
Стоит ли напоминать, что распад исторической государственности России в 1991 г. произошел именно по тем линиям, что были прочерчены большевиками в виде республиканских границ, т. е. советские протогосударства успешно выполнили свою историческую функцию.
Именно об этом говорят сегодня те, кто называет ленинско-сталинскую национальную политику миной замедленного действия, взорвавшей пространство российской государственности именно 20 лет назад.
Более того, все дезинтеграционные процессы или попытки сецессии, предпринятые уже в постсоветских республиках, также проходили по линиям границ, в данном случае административным. Причем это касается как стран, в результате утративших часть территории «своей» бывшей союзной республики: Грузия (Абхазия, Южная Осетия), Молдавия (Приднестровье) и Азербайджан (Нагорный Карабах), так и стран, формально сохранивших территориальную целостность, но утративших на время или уже навсегда фактический контроль над территорией: Украина (Крым), Россия (Чечня и все больше Дагестан и другие северокавказские республики, а также Тува).
Таким образом, существовавшие в рамках СССР национально-государственные образования и здесь выступили в качестве институциональной основы для учреждения альтернативной государственности.
Возвращаясь к главной теме конференции – жизнь советских форм после смерти СССР, – следует признать: у нас нет никаких оснований считать, что нынешние российские этнократии, ведущие свой торг с федеральным центром за ресурсы в обмен на лояльность (достаточно вспомнить поразительные для здравого смысла цифры голосования за «Единую Россию» в нерусских регионах), выполняют для «своих» народов какие-то иные функции, помимо кокона будущего национального государства для титульной нации. В любом случае это очевидно применительно к той же Чечне, а также к Татарстану и Башкирии.
При этом очевидно, что ни одна нация из существующих сегодня на пространстве СНГ в виде народов суверенных государств 100 лет назад просто не существовала. Все они были созданы в результате систематической аффирмативной политики советского руководства, поддерживавшего нерусские национализмы на разных уровнях. Но прежде всего огромные усилия и ресурсы были затрачены в сфере образования и выдвижения местных кадров – так называемых «нацменов», а также активной культурной политики, направленной на изобретение национальных традиций, составление местных канонов и пантеонов и т. д. То есть все то, что в Восточной Европе делали национал-предприниматели в упорной борьбе с имперским дискурсом (например, в Австро-Венгрии), в СССР осуществлялось в рамках целенаправленной государственной политики!
В позднем СССР на экраны вышел фильм «На острие меча», основанный на реальных событиях. Речь идет о спецоперации ОГПУ 1923 г. с целью склонить к отказу от подрывной деятельности и явке с повинной одного из руководителей украинского контрреволюционного подполья в Польше генерал-хорунжего Ю. Тютюнника. Последним доводом, убедившим генерала в бессмысленности борьбы с большевиками, в фильме стал пионерский отряд, который шел по Киеву с плакатом «Знай ридну мову». То есть на Украине периода «коренизации» Тютюнник своими глазами увидел, что большевиками вовсю реализуются все программные цели украинских националистов.
Единственное, что ускользнуло в этой трогательной истории от создателей фильма, – эта несколько странная семантика лозунга: родной язык по определению является первым языком, который человек осваивает в ходе первичной социализации в семье. И если кого-то призывают учить родной язык, то понятно, что речь идет уже не о родном языке, а о политической манипуляции, что в реальности и происходило на Украине во время так называемой «коренизации»…
Уже упоминавшийся Терри Мартин говорит в этой связи об уникальном эксперименте, не имеющем аналогов ни с одним мультиэтническим государством (за исключением Индии)[39]. Трудно сравнивать советский опыт с индийским, но очевидно, что эта поразительная империя позитивной дискриминации нерусских народов имела все же один объект негативной дискриминации – самих русских, которым – уже в силу численного преобладания – было отказано в статусе хотя бы одной из титульной нации и которые сами стали ресурсом и средством «подтягивания» отсталых народов до уровня «социалистических наций».
В этой борьбе большевиков с буржуазным национализмом посредством национализма социалистического, т. е. практики национального самоопределения нерусских народов в рамках советской федерации, примечательны импликации, указывающие на теоретический оппортунизм вождей мирового пролетариата (Ленина и Сталина): с точки зрения марксизма сам феномен национализма является идентитарным панданом капитализма. То есть это исторически определенный этап в истории коллективного самосознания, который будет неизбежно преодолен путем социалистического и коммунистического строительства и приведет к интернациональному сообществу планетарного масштаба.
В этом смысле в рамках марксистской парадигмы гораздо убедительнее представляется позиция так называемых «интернационалистов» (Г. Пятаков, Н. Бухарин), выступивших в 1919 г. на VIII съезде РКП(б) против «националистов» Ленина и Сталина. Так, Георгий Пятаков требовал отказаться от лозунга о праве наций на самоопределение, поскольку тот подходил, скорее, контрреволюционным силам. Ведь если революционная власть победила, говорил он, то национальное самоопределение стало теперь избыточным заигрыванием с этническими культур-предпринимателями: «Это или просто дипломатическая игра, или это хуже, чем игра, если мы берем это всерьез»[40].
Однако Ленин и Сталин делали это всерьез, пытаясь подводить под свой оппортунизм в области национальной политики своеобразное теоретическое обоснование. Еще в 1916 г. в статье «Социалистическая революция и право наций на самоопределение» Ленин утверждал, что «к неизбежному слиянию наций человечество может прийти через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций»[41]. Сталин расшифровывал это парадоксальное заявление следующим не менее парадоксальным образом:
«Мы гарантируем максимальное развитие национальной культуры для того, чтобы она исчерпала себя полностью и тем самым создала основу для формирования интернациональной социалистической культуры»[42].
Кроме того, Сталин известен как автор не менее загадочной формулы, описывающей советские национальные культуры как «национальные по форме, социалистические по содержанию»[43], которую он озвучил в 1925 г. в Университете народов Востока в речи «О политических задачах Университета народов Востока».
Однако с высоты исторического опыта можно сделать вывод: надежды большевиков инструментализировать, приручить и тем самым деполитизировать нерусские национализмы провалились. Скорее, это нерусским национализмам удалось инструментализировать советский режим в своих целях создания собственных государств, что и было успешно реализовано ими в момент очередного ослабления союзного центра в 1991 г.
В этом смысле практика нынешних властей России, например, применительно к Кавказу или поволжским этнократиям показывает, что эта советская матрица продолжает действовать до сих пор…
Между тем интерес – не только политический, но и теоретический – сегодня представляет не только практика советского национального строительства, но и сами теоретические дебаты большевиков, которые они вели в рамках европейского социал-демократического дискурса.
Как уже говорилось, заявленная Лениным и Сталиным политика признания права народов на самоопределение и их деятельная борьба с «великорусским шовинизмом» (Ленин), уже тогда встретила резкую критику как внутри самой партии большевиков, так и со стороны некоторых европейских левых теоретиков, среди которых особое место занимает Роза Люксембург, провидческие строки которой звучат сегодня настолько современно, что заслуживают быть приведенными в виде развернутой цитаты:
«Вместо того чтобы как раз в духе чисто интернациональной классовой политики, которую большевики обычно проводили, стремиться к самому тесному сплочению революционных сил на всех просторах Российской империи, защищать зубами и когтями ее целостность как территории революции, противопоставить – в качестве высшего завета политики – сплоченность и нераздельность пролетариев всех наций в сфере русской революции любым националистическим сепаратистским устремлениям, большевики, напротив, громкой националистической фразеологией о “праве наций на самоопределение вплоть до государственного отделения” дали буржуазии всех окраинных стран самый желательный, самый блестящий предлог, прямо-таки знамя для ее контрреволюционных устремлений. Вместо того чтобы предостеречь пролетариев окраинных стран от любого сепаратизма как чисто буржуазной ловушки и в зародыше подавить сепаратистские стремления железной рукой, использование которой в этом случае соответствовало бы истинному смыслу и духу пролетарской диктатуры, они, напротив, вызвали своим лозунгом замешательство в [народных] массах всех окраинных стран и дали простор демагогии буржуазных классов. Таким содействием национализму они [большевики] сами вызвали, подготовили распад России и этим вложили в руку собственных врагов нож, который те намеревались вонзить в сердце русской революции»[44].
Не менее актуально звучит следующая цитата:
«Большевики несут часть вины за то, что военное поражение России превратилось в крушение и распад страны. Они сами же в большой степени обострили объективные трудности положения своим лозунгом, который поставили во главу угла своей политики, так называемым правом наций на самоопределение или тем, что в действительности скрывалось за этой фразой, – государственным развалом России».
При этом она прямо указывала на противоречивость этой политики:
«Поражают прежде всего упорство и жесткая последовательность, с которой Ленин и его товарищи держались за тот лозунг, который резко противоречит и их обычно ярко выраженному централизму политики, и их отношению к прочим демократическим принципам. В то время как они проявили весьма холодное пренебрежение к Учредительному собранию, всеобщему избирательному праву, свободе печати и собраний, короче, ко всему ареалу основных демократических свобод для народных масс, образующих в совокупности “право на самоопределение” для самой России, они обращались с правом наций на самоопределение как с сокровищем демократической политики, перед которым должны умолкнуть все практические возражения реальной критики».
«Увы, в обоих случаях расчет совершенно не оправдался. В то время как Ленин и его товарищи, очевидно, ожидали, что они как защитники национальной свободы “вплоть до государственного отделения” сделают Финляндию, Украину, Польшу, Литву, Балтийские страны, кавказцев и т. д. верными союзниками русской революции, мы наблюдали обратную картину: одна за другой эти “нации” использовали только что дарованную им свободу для того, чтобы в качестве смертельного врага русской революции вступить в союз с германским империализмом и под его защитой понести знамя контрреволюции в саму Россию. Образцовый пример – интермедия с Украиной в Бресте, обусловившая решающий поворот в этих переговорах и во всем внутреннем и внешнеполитическом положении большевиков. Поведение Финляндии, Польши, Литвы, Балтийских стран, наций Кавказа самым убедительным образом показывает, что мы имеем здесь дело не со случайными исключениями, а с типичным явлением».
Особую «любовь» Роза Люксембург заслужила на «оранжевой» Украине за следующий тезис против ленинской национальной политики:
«Украинский национализм в России был совсем иным, чем, скажем, чешский, польский или финский, не более чем просто причудой, кривляньем нескольких десятков мелкобуржуазных интеллигентиков, без каких-либо корней в экономике, политике или духовной сфере страны, без всякой исторической традиции, ибо Украина никогда не была ни нацией, ни государством, без всякой национальной культуры, если не считать реакционно-романтических стихотворений Шевченко. Буквально так, как если бы в одно прекрасное утро жители “Ватерканте” вслед за Фрицем Рейтером захотели бы образовать новую нижненемецкую нацию и основать самостоятельное государство! И такую смехотворную шутку нескольких университетских профессоров и студентов Ленин и его товарищи раздули искусственно в политический фактор своей доктринерской агитацией за “право на самоопределение вплоть” и т. д. Первоначальной шутке они придали значимость, пока эта шутка не превратилась в самую серьезную реальность».
В рамках позитивной дискриминации нерусских «наций» огромные ресурсы тратились на поддержку «культурно отсталых народов», которые выбивали для себя отдельные бюджеты на борьбу с отсталостью, кстати, очень напоминающие сегодняшние программы развития Северного Кавказа. Рассмотрим кратко эту политику на примере советского спорта.
Именно в такой институциональной рамке оказался российский спорт, которому пришлось также адаптироваться к условиям советской насильственной этнизации всей общественной сферы. Приведу несколько примеров.
Прежде всего спортсмены и команды – как правило, русские, – оказавшиеся на территории национальных республик, автоматически превратились в спортивных представителей титульных наций. При этом для некоторых республик директивно введенный спорт из маргинального института, низко оцениваемого в традиционных обществах, получив религиозное или квазирелигиозное значение, стал важным источником идентификации и смысла. Иногда это принимало формы, находящиеся по ту сторону здравого смысла.
Так, на пике сталинизма в 1948 г. в Тифлисе вышла книга, доказывающая, что футбол не был британским изобретением, а имел корни в народной грузинской игре лело, а также в русской шалыге. Причем авторы были русские[45].
При этом с точки зрения социологии спорта советский спорт претерпел важные изменения неспортивного характера. Помимо традиционных для спорта фигураций, включающих: а) спортсменов или команды, соревнующиеся в дружеской конкуренции; б) спортивные контрольные инстанции (судьи, федерации, спортивные организации (общества); в) зрителей; г) организации или предприятия, поддерживавшие спорт финансово и организационно, сюда добавляется новое – этнополитическое – измерение: национально-республиканское, а точнее, этническое, в интересах титульной нации. Это тут же усложнило всю систему внутриспортивных отношений в СССР.
Более того, некоторые проблемы, вызванные этнизацией советского спорта, актуальны до сих пор. Достаточно вспомнить о матчах нынешней российской футбольной Премьер-лиги с участием кавказских команд…
Причем манипуляции с этническим фактором в советском спорте начались довольно рано – еще в 1920-е годы. Так, уже во время первой Спартакиады народов СССР команды были разбиты на две группы. В первую вошли все иностранные команды вместе с командами союзных республик (!), а во вторую – команды от РСФСР[46].
Здесь нужно сделать объяснение: до революции основное соперничество в спорте, например в футболе, проходило между командами Москвы и Санкт-Петербурга. Сильные команды были также в Харькове и Одессе. Но, естественно, никто не считал тогда эти команды украинскими. Спартакиада 1928 г. внесла в советский спорт этот новый элемент – противостояние республиканских сборных Украины и России[47].
Неудивительно, что высокопоставленные болельщики из числа руководителей республик старались как могли помочь своим командам. Так, одним из страстных болельщиков тбилисского «Динамо» был Лаврентий Берия. В полуфинале Кубка СССР 9 сентября 1939 г. московский «Спартак» выиграл у подопечных всесильного наркома со счетом 1:0, а затем 12 сентября победил в финале ленинградский «Сталинец» со счетом 3:0 и на глазах 70 тысяч болельщиков получил кубок.
Неожиданно через несколько дней было принято решение переиграть полуфинальный матч 30 сентября, поскольку руководство «Динамо» (Тбилиси) опротестовало результат матча, посчитав, что после удара игрока «Спартака» Протасова вратарь Шавгулидзе выбил мяч с линии ворот, и гол был засчитан неверно. В повторном матче 30 сентября вновь победил «Спартак» (3:2), но почему-то финальный матч решили не переигрывать. Так впервые в истории мирового футбола был сыгран полуфинал после финала![48]
Стоит ли говорить, насколько это близко к тому, какими усилиями руководство, например, кадыровской Чечни обеспечивает успехи грозненского «Терека», который в 2004 г. неожиданно для всех стал обладателем Кубка России, получив, помимо этого, серебряную саблю от Владимира Путина.
Стоит ли говорить, что абсурдность такого вмешательства высокопоставленных национал-предпринимателей в сферу спорта дискредитирует саму идею честной конкуренции, что, собственно, и делает спорт привлекательным в качестве последнего убежища для благородного агона, свободного от манипуляций.
Кроме того, это дополнительное – националистическое – измерение превращало в головную боль и без того непростую проблему формирования советских сборных по игровым видам спорта. Хотя победы сборных представлялись в той же советской прессе как некое идеальное воплощение огромного многонационального союза.
Оставим здесь эти дифирамбы дружбе народов без комментариев. Отметим лишь то, что и здесь налицо неспортивное измерение в советском спорте, который сам был вписан в рамку институализированного национализма по-советски. Сегодня в этой же рамке продолжает существовать спорт российский. Поэтому нам остается только гадать, чем закончится очередной матч московского «Динамо» в Махачкале или ФК «Краснодар» в Грозном…
© Кильдюшов О., 2012Олег Неменский СОВЕТСКИЙ МУЛЬТИНАЦИОНАЛИЗМ И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (СССР и Российская Федерация как фабрика наций)
Любые рассуждения о том, почему распался Советский Союз, должны, на мой взгляд, исходить из того простого факта, что СССР был совсем не тем, за что себя выдавал.
Что создала партия большевиков?
Большевики были самой западной по мысли и по форме партией в дореволюционной России. Они несли с собой западные технологии политического действия и общественной организации. В числе прочего, они привнесли в сферу государственной политики актуальные западные понятия «нация», «национальное государство». Большевики были не только «строителями коммунизма», но и «нацио-строителями», и, к сожалению, именно в сфере nation-building а оказались действительно успешны.
В то время в западной общественной мысли было два основных деления общества – классовое и национальное. На деле в дореволюционной России наций почти не было (две, к тому времени уже в целом сложившиеся, – польская и финская – получили независимость), да и классового самосознания, в отличие от Запада, тоже почти не наблюдалось. Чтобы подогнать российское общество того времени под эти западные категории, надо было проводить большую кампанию по формированию соответственно национального и классового самосознания.
С одной стороны, большевики делали упор именно на классовом делении, а национальный вопрос был для них боковым. Однако будущее советское общество мыслилось как бесклассовое (и довольно быстро было таковым объявлено), а вот национальное деление оставлялось – более того, советская система именно его создавала и утверждала. Социализму отводилось социально-экономическое содержание, национализму – форма. В качестве господствующей заявлялась идеология интернационализма. У нас часто ассоциируют ее с чем-то, отрицающим национальное деление, что в корне неверно. Inter-natio – совсем не a-natio, т. е. она не отрицает, а утверждает национальное деление, дополняя его лозунгом дружбы между народами. Эту систему можно смело назвать еще и «мультинационализмом», так как она не столько контролировала отношения между уже созданными нациями, сколько создавала их.
Кстати, СССР не был и советским обществом. Оригинально русская советская система власти, сложившаяся в 1905–1907 гг., была полностью подчинена партийной власти большевиков уже с 1918 г., а потому стала фикцией. Окончательно она была упразднена по Конституции 1936 г. и заменена принципами западного парламентаризма, разве что парламент назывался по-прежнему Верховным Советом. Конституция 1936 г., помимо уничтожения советской системы власти, ввела в обиход и понятие наследуемой от родителей «национальности», которую стали записывать в паспорта. Корни этого понятия те же, что и у «нации» в нацистской идеологии, – немецкая нациологическая мысль конца XIX – первой половины XX в. Его утверждение в советском обществе означало разрушение традиционной русской идентичности. Это социо-биологическое понимание национальности вошло в сознание и, к сожалению, господствует до сих пор, блокируя русскую идентичность через культурный нигилизм и идею «смешанной крови». На Западе от такого понятия национальной идентичности полностью ушли после Второй мировой, а у нас оно господствует по сей день.
Так, несмотря на, казалось бы, идейное оппонирование Западу, Советский Союз был гигантским вестернизационным механизмом, и проводившаяся в нем силовая модернизация во многом была направлена на приведение местного быта в соответствие западным образцам. И в первую очередь это касается национального принципа. Наравне с декларируемым интернационализмом, важнейшей целью, реализуемой Союзом все время его существования, было переформатирование общественной жизни на всем пространстве бывшей Российской империи по национальному принципу. СССР был своего рода националистической фабрикой: вобрав в себя огромное, поначалу бесформенное скопище разнообразного «этнического материала», Советский Союз за несколько десятков лет создал на его основе максимальное количество вполне западного типа наций.
При этом у Советского Союза как у системы была еще одна вспомогательная цель. Еще В.И. Лениным была осознана опасность преобладания гигантского русского народа, а тем самым подрыва национальных проектов «малых наций». Эта опасность побудила его сформулировать доктрину сдерживания «старшего брата», «великодержавный шовинизм» которого был признан «в 1000 раз опаснее буржуазного национализма» других народов страны. От русских отделили этнографические массы населения западных регионов для реализации нерусских национальных проектов Украины и Белоруссии, а великороссов оставили именно на положении «населения»: им единственным было отказано в создании своей национальной республики. Центральная союзная республика – РСФСР – была лишь вторым этажом СССР, не являясь, в отличие от всех других, национальным формированием. Так, при торжестве националистической мысли в масштабах всего Союза был найден способ не допустить создания единственно русской нации как несоразмерно большой и традиционно воспринимаемой как вечно опасной для цивилизованного мира.
Распад СССР был абсолютно закономерным явлением. Он был предрешен логикой действия самого механизма: процесс создания нации неизбежно приводит к постановке вопроса о ее суверенитете и независимости. Только добившись их, нация реализует себя, оформляется как полноценный nation-state. Распад СССР не был завершением действия «советской» фабрики наций, а, наоборот, был ее победой, ее утверждением: с конвейера сошла основная партия новых наций. То есть революции в 1991 г. не было, система не сломалась, ничто не рухнуло. Разве что распалось пространство исторической России, но над этим работали все 70 лет. Можно даже сказать, что декабрь 1991 г. – не поражение Советского Союза, а его победа, победа заложенного в нем механизма. СССР распался не из-за того, что был неэффективен (как это нередко пытаются представить). Наоборот, он распался именно из-за своей эффективности как мультинационалистического образования.
Экс-РСФСР, современная Российская Федерация, представляет собой ровно ту же систему национальной политики, что была и в СССР, – она ее в прямом смысле слова продолжает. С отпадением вроде как дозревших до самостоятельной жизни наций в ней остались старые «автономии», в которых процессы нациообразования еще идут, но, хотя и развиваются по нарастающей, все же далеки до завершения. А русские по-прежнему не имеют каких-либо своих органов самоуправления даже на уровне культурной жизни, благодаря чему создание их нации просто невозможно – по крайней мере, до той поры, пока все малые народы РФ не созреют до отделения от «матки». В результате Российская Федерация представляет собой довольно странный политический организм: исторически огрызок империи, она является государством и не архаичным, и не национальным, а потому и по-прежнему не описываемым ни языком западной политологии, ни понятиями старой русской культуры.
Фабрика наций продолжает работу в виде Российской Федерации. РФ – та же фабрика, которая была запущена в 1920-х годах, и работает с тем же успехом. То есть СССР по-прежнему жив в виде Российской Федерации. Но следует понимать, что сам этот механизм настроен не на вечное существование, а только на временную программу производства: на полную переработку населения 1/6 суши по националистическим лекалам.
Однако есть и проблема с бывшими союзными республиками: СССР распался раньше времени, его поторопили – в результате нации не успели достаточно «пропечься» в его печке, полностью сложиться. Вначале это не было заметно, но потом стало очевидно: даже несмотря на долгий период подкармливания (все 1990-е годы и несколько позже), во всех бывших республиках СССР наступил кризис внутренней интеграции. Нации остались недоделанными, и теперь это дает себя знать в наблюдаемом кризисе каждой из них. Нынешние проблемы постсоветских республик свидетельствуют о том, что «инкубатор» развалился раньше времени, – им приходится «дозревать» самостоятельно.
СССР был обречен на распад (в этом и была его самореализация), но он мог бы просуществовать и несколько дольше. Собственно, именно поэтому и возникла система спонсирования Москвой экономик новых независимых государств: в Москве хорошо понимали (и не раз заявляли об этом), что к самостоятельной жизни в условиях международного рынка они еще не готовы. С этим же связана и лояльность Москвы к значительному ущемлению прав русского населения в этих государствах. СССР был в своем проекте центробежной конструкцией, т. е. по принципу организации он работал на будущий распад. Таковой стал и СНГ, который не зря назвали в Москве же «формой цивилизованного развода» бывших союзных республик. Даже нынешняя попытка реинтеграции ничего кардинально в этом не меняет.
Процесс постсоветского подкармливания бывших союзных республик был во многом прекращен извне, через череду «оранжевых» революций. Они были организованы Западом по причине плохого понимания того, что здесь происходит. Современный Запад верит в собственную пропаганду, он верит, что СССР был великорусским шовинистическим государством, а отколовшиеся республики добились своей независимости, и теперь важно избавить их от московского неоимпериализма. Но при этом брать на себя обязанность кормить эти молодые нации и улаживать их внутренние конфликты Запад не готов.
В результате сложилась ситуация, когда Российская Федерация получила возможность ставить свои условия: либо мы вас кормим и растим дальше, либо вы уходите из нашей зоны ответственности. Новые интеграционные процессы на постсоветском пространстве, запускаемые в 2010–2015 гг., именно в этом и заключаются: недозрелые нации пытаются временно вернуться в породившее их лоно, чтобы набраться сил, дозреть и отсоединиться, наконец, окончательно. Таким образом, новые попытки реинтеграции связаны с незрелостью национальных республик, что прежний фабричный механизм никак не нарушает.
К чему все это нас ведет? Чем все это может закончиться? Скорее всего, дальнейшим утверждением принципа nation-state, который на каком-то этапе обязательно захватит и русских – точнее сказать, остатки русского населения, не переваренные другими национальными проектами. Но русскому национальному государству позволят сформироваться только тогда, когда победит и утвердится максимальное число других национальных проектов. Оно будет максимально маленьким. Таков механизм, такова стратегия его работы.
Какие есть пути выхода из этой весьма несимпатичной ситуации?
Их два. Первый путь: полностью откатить все назад к досоветской реальности, восстановить донациональную структуру общества России XIX в., убрать национальную форму мысли из сознания людей, тихо и незаметно уничтожить все национальные движения и идеологии. Второй путь: перевернуть ситуацию в пользу русского большинства, т. е. утвердить русское национальное государство в максимально широких границах расселения русского народа, а дальнейшие отношения с прочими народами бывшего СССР строить на основе принципа национальных интересов и в формате межнациональных контактов. Первый путь предлагается чаще всего, но представляется совершенно нереальным. Второй путь теоретически вполне возможен, на практике же очень труден.
Касательно новых интеграционных проектов. Есть основной принцип политической организации обществ эпохи современности, который пока никак не отменен: политические формы должны совпадать с культурными. Любой интеграционный проект должен объединять что-либо на основе не бизнес-интересов привластных кланов или фантомных болей жителей бывшей империи, а этнокультурной, языковой, цивилизационной близости населения. По сей день Россия не предлагает постсоветскому пространству никакого идентитарного проекта интеграции. Это в полной мере относится и к такому проекту, как Евразийский союз, в который предполагается включить на равных такие культурно чуждые друг другу государства, как, например, Белоруссия и Киргизия. Главное – нет интеграционного проекта, который был бы самоцелью, той стратегической задачей, которая может давать мотивации политическим действиям независимо от соображений экономической выгоды тех или иных кампаний.
Однако следует понимать, что предложить что-то иное Россия и не может, ведь она – это мини-СССР, и у ее государственно-политической системы совсем другие задачи. Интеграция, основанная на особой идентичности, может быть осуществлена только тем политическим центром, который сам обладает определенной идентичностью и культурной цельностью, а не является просто фабрикой производства прочих наций.
Возможность идентитарного проекта постсоветской интеграции могла бы открыться только при реализации второго из описанных сценариев. Формирование Русского национального государства могло бы поставить задачу воссоединения всей территории господства русского языка, русской культуры. А это, кроме большей части Российской Федерации, еще и Белоруссия, большая часть Украины, Приднестровье и значительная часть Казахстана. Собственно, это и есть то историческое пространство, которое можно назвать Русской землей.
© Неменский О., 2012IV. Советские социально-культурные практики
Анна Рябова СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И СОВРЕМЕННОСТЬ: АРХЕОЛОГИЯ ПАМЯТИ ИЛИ КРИТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ?
Для ответа на вопрос: «Как изучать “советское”: археология памяти или критическая реконструкция?» – проанализируем гражданско-правовой институт и экономическое явление «рынок ценных бумаг» через призму норм советского уголовного законодательства на примере РСФСР и сравним с настоящим временем (хотя следует понимать, что сравнение является относительным).
Дата образования СССР – 30 декабря 1922 г.[49] Поэтому первым уголовным законом РСФСР советского периода следует считать Уголовный кодекс 1926 г., который обладал юридической силой до 1961 г.[50]
Им вводилась ответственность за подделку металлической монеты, государственных казначейских билетов, государственных ценных бумаг и иных документов, так или иначе сопряженных с государством (ст. 59.8). Деяние каралось лишением свободы на срок не менее трех лет. В том случае, если подделка учинена по предварительному соглашению нескольких лиц или в виде промысла, мерой социальной защиты (заметим: термин «наказание» не использовался[51]) выступал расстрел с понижением при смягчающих обстоятельствах до лишения свободы со строгой изоляцией на срок не менее пяти лет, с конфискацией всего имущества. Расстрел, как следует из ст. 21 УК РСФСР 1926 г., применялся для борьбы с наиболее тяжкими видами преступлений, угрожающих основам Советской власти и советского строя, в качестве исключительной меры охраны государства трудящихся. Этим объясняется принадлежность подделки ценных бумаг (имеется в виду государственных) к числу преступлений против порядка управления[52]. Хотя, например, Б.М. Леонтьев пишет, что их можно отнести к хозяйственным преступлениям[53].
К ответственности привлекались лица, совершившие данное преступление как на территории РСФСР, так и за ее пределами (в том числе за пределами СССР). Например, в 1926 г. были приговорены к расстрелу трое членов преступной группы за изготовление обозначенных предметов в Польше и доставку их на территорию СССР контрабандным путем[54].
В 1930 г. ст. 59.8 указанного кодекса подверглась изменениям[55]. Они состояли в следующем:
наряду с подделкой государственных ценных бумаг установлена ответственность за альтернативно совершенный сбыт в виде промысла, наказываемый высшей мерой социальной защиты. Получается, за сбыт, совершенный не в качестве промысла, в отношении лица не применялась мера социальной защиты;
криминализирована подделка в виде промысла вкладов в ценные бумаги.
К ценным бумагам относились государственные займы, выпуск которых регламентировался постановлениями ЦИК и СНК СССР о пятилетке в четыре года[56]. Охране подлежали только документы, сопряженные с государством, автономия и имущественная самостоятельность юридических лиц вытеснялись планированием и жестоким регулированием со стороны государства. В конце 1920-х – начале 1930-х годов акционерные общества реорганизованы в государственные объединения, акции перестают использоваться в обороте[57]. Можно сказать, корпоративные ценные бумаги, существовавшие в гражданском обороте ранее, «вымерли».
Проанализированные нормы Уголовного кодекса РСФСР от 1926 г. можно назвать первым элементом исследуемого явления.
Вторая составляющая имеет принадлежность к 1958 г. и связана с принятием Закона СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления»[58]. Им криминализированы изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных государственных ценных бумаг (ст. 24). Охране подлежали также поддельные государственные казначейские билеты, билеты Государственного банка СССР, металлические монеты, иностранная валюта. Деяние наказывалось лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.
С 1961 г. совершение этих действий в виде промысла признавалось преступлением. К виновному лицу в таком случае применялось лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества[59].
Спекуляция ценными бумагами запрещалась по ст. 25 указанного Закона. Она наказывалась лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки. Лицо, совершившее деяние в крупном размере или уже имеющее судимость за это преступление, каралось лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.
Во исполнение Закона СССР 1958 г. принимается новый Уголовный кодекс РСФСР[60]. Он был введен в действие с 1 января 1961 г.[61]
По нему к преступлениям, совершаемым на рынке ценных бумаг, принадлежали изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 87) и нарушение правил о валютных операциях (ст. 88). Эти преступления посягали на нормальное функционирование денежной системы и нормальный товарооборот[62]. Они входили в группу иных государственных преступлений. П.Т. Некипелов рассматривает эти преступления как хозяйственные, поскольку ущерб в результате их совершения причиняется таким социалистическим общественным отношениям, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности советского государства и связаны с ее осуществлением[63].
Предметом преступления, предусмотренного ст. 87, выступали только государственные ценные бумаги (деньги не являются составляющей рынка ценных бумаг, поэтому о них не говорим). В законодательстве того периода их дефиниция отсутствовала. В юридической науке они определялись по-разному.
Под государственными ценными бумагами предлагалось понимать выпускаемые и обеспечиваемые государством ценные бумаги, в которых выражено то или иное имущественное право; к ним относились облигации государственных займов СССР, чеки и другие госбанковские платежные документы в рублях и иностранной валюте. Не относились к ним выпускаемые государством лотерейные билеты[64].
По мнению Н.С. Пономарева, государственные ценные бумаги – это выпускаемые Государственным банком СССР документы, опосредующие на условиях возвратности кредитные отношения между гражданами и государством, предоставляющие его владельцу права по получению дохода в форме выигрыша[65].
Встречается и такая дефиниция государственных ценных бумаг, как выпускаемые государством бумаги, удостоверяющие право их обладателя на получение денег или иного имущества (облигации государственного займа и т. д.)[66].
Эти интерпретации позволяют выделить существующие и в настоящее время юридически значимые признаки таких ценных бумаг:
1) их выпуск осуществляется государством;
2) они предоставляют владельцу определенное имущественное право.
За укрывательство или недонесение о совершении данного преступления наступала уголовная ответственность по ст. 189 и 190 УК РСФСР соответственно[67]. Законодатель отнес эти деяния к преступлениям против правосудия.
По ст. 88 УК РСФСР наказывалась спекуляция ценными бумагами, т. е. их скупка или перепродажа с целью наживы. Уместно привести статистические сведения, согласно которым в 1989 г. за спекуляцию было осуждено 10 человек, в 1990 г. – 12[68].
В связи с ратификацией международных договоров, наметившейся тенденцией смены идеологии 19 июня 1990 г. принимается постановление Совмина. Согласно данному документу ценными бумагами признавались удостоверяющие право владения или отношения займа денежные документы, определяющие взаимоотношения между лицом, выпустившим эти документы, и их владельцами и предусматривающие, как правило, выплату дохода в виде дивидендов или процентов, а также возможность передачи денежных и иных прав, вытекающих из этих документов, другим лицам[69]. К ним относились акции, облигации, казначейские обязательства государства, сберегательные сертификаты и векселя. Постановление Совмина обозначило дальнейший вектор развития экономических отношений, при котором статус государственных ценных бумаг был приравнен к иным ценным бумагам.
На этом история советского периода в вопросе об охране рынка ценных бумаг заканчивается. Последующие нормативно-правовые акты уже хронологически не относятся к СССР.
В настоящее время законодатель такие ценные бумаги, как акции, векселя, чеки и др., не имеющие государственной природы, признает легальными и регулирует их оборот. Однако гражданско-правовой регламентации недостаточно. На нем зачастую совершаются правонарушения[70]. Поэтому способом поддержания функционирования рынка ценных бумаг выступают, как и в советское время, уголовно-правовые запреты. Однако, если сравнивать объем предшествующей сферы охраны с действующей, разница очевидна. Так, общественно опасными деяниями, наказываемыми по Уголовному кодексу РФ, признаются преступления против порядка: эмиссии ценных бумаг; обращения ценных бумаг; соблюдения прав владельцев ценных бумаг; учета прав на ценные бумаги.
Кроме того, меры государственного принуждения, применяемые к виновным лицам, не настолько суровы.
Подводя итог, можно сделать вывод, что разница между современным законодательством и советским вообще и уголовным в частности очевидна. Проведенный исторический экскурс по уголовно-правовым и сопутствующим в связи с исследованием иным нормативным правовым актам России советского периода показывает меняющееся направление его охраны, что вызвано сменой идеологии, ценностной ориентации со стороны государства. Если ранее интересы государства доминировали над частными, то в настоящее время система интересов и благ, в том числе охраняемых уголовным законом, базируется на конституционной триаде «личность – общество – государство». Следовательно, имеет место критическая реконструкция.
© Рябова А., 2012Мария Вагина СОВЕТСКИЙ СПОРТ И ПОЛИТИКА РЕКОРДА
В 1947 г. глава Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту Николай Романов направил служебное письмо на имя члена Политбюро ЦК ВКП(б) Андрея Жданова, в котором сообщил о том, что в 1948 г. будут проведены Олимпийские игры: зимние – в Сен-Морице, летние – в Лондоне. В письме говорилось: «На Олимпиадах ведется неофициальный счет медалей и очков по странам. Учитывая последнее обстоятельство, представляется целесообразным наиболее полное представительство советских спортсменов во всех видах программы Олимпийских игр 1948 г.»[71].
Рассмотрение предложения Романова участвовать в международных соревнованиях много времени не заняло, тем более что подготовку спортсменов следовало начинать незамедлительно. Уже 18 июня 1947 г. шведская газета «Свенска Дагбладет» опубликовала сенсационную новость: «Русские могут участвовать в Олимпийских играх 1948 г.!». Как говорилось в заметке, Исполнительный совет Международного олимпийского комитета получил информацию о вступлении СССР в четыре международные спортивные федерации. Кроме того, на тот момент Советский Союз уже вел переговоры с намерением стать членом и других организаций, в частности, федераций пловцов, боксеров, стрелков и легкоатлетической федерации.
Но, несмотря на все попытки руководства физкультурного движения включить Советский Союз в список стран-участников, советские спортсмены так и не приняли участие в Олимпиаде 1948 г. На каком-то этапе подготовки к Олимпийским играм партийный аппарат затормозил реализацию всех планов Н. Романова. О причинах такого поступка можно говорить только предположительно, но существует легенда, что Сталин лично настоял на том, чтобы участие в Олимпиаде было отложено – до тех пор, пока безоговорочную победу Советского Союза не смогут гарантировать[72].
Фактически именно здесь проходит водораздел советской политики по отношению к спорту: изоляционная стратегия сменяется воинственной, а спортивные соревнования становятся ареной для международной борьбы.
Тому, как складывалась спортивная система в СССР и какую роль для ее формирования сыграло понятие «рекорд», и посвящена эта статья. В политике СССР по отношению к спорту наблюдается четыре ключевых периода.
В 1917–1920-е годы рождаются сциентистские теории спорта. Проводятся съезды работников физической культуры и спорта и врачей. Пьедестал завоевывает концепция физкультуры, «содействующая задачам коммунистического воспитания и подготовки масс к труду и обороне», если следовать букве Большой советской энциклопедии[73]. Немаловажную роль в формировании этой концепции сыграл Николай Александрович Семашко (1874–1949), народный комиссар здравоохранения РСФСР, известный советский партийный деятель и один из основоположников системы здравоохранения в СССР. С 1923 г. он являлся первым председателем Высшего совета по делам физической культуры и спорта.
1930–1940-е годы характеризуются объединением труда и досуга в физкультуру. Спорт внедряется в массы через соревновательные и театрализованные практики физкультуры, самыми яркими примерами которых являются футбольные турниры и физкультурные парады.
В послевоенные годы политика Советского Союза кардинально меняется. 1950-1960-е годы ознаменованы стремлением к укреплению позиций страны на мировой арене, спортивные победы мыслятся как средство утверждения коммунистической идеологии. Упор делается на развитие спорта высоких достижений в противовес раннему культивированию идеалов физкультуры. В этот период советские спортсмены устанавливают мировые рекорды, и достижение каждой новой планки становится орудием «холодной войны». Фактически именно в этот период были заложены основы для современной системы спорта.
1970–1980-е годы, последние два десятилетия Советского Союза, оказываются одними из самых плодотворных для спортсменов. «Гонка за рекордами», начатая в 1950-е, дает весомые результаты. Спорт развивается через разветвленную систему «взращивания» спортсменов и представления их на соревнованиях – спортсмены завоевывают все больше побед и устанавливают все больше рекордов, по сути, уже представляя часть грандиозного механизма, состоящего из тренеров, врачей, костюмеров и т. п. Высокие идеалы выступать за коммунизм и за СССР заменяются голым стремлением устанавливать рекорды, из профессионализации спорта следует его коммерциализация, что вполне закономерно приводит к массовой эмиграции спортсменов за рубеж. Эту эмигрантскую волну по аналогии с отъездом интеллигенции называли «утечкой мускулов».
Рекорды дореволюционных лет
Обозначенные четыре периода Советского Союза показывают, как изменялась политика по отношению к спорту. Думается, ключом к пониманию основ современной спортивной системы может стать понятие рекорда, которое кардинально изменило представление о спортивном соревновании и оказалось определяющим для спорта XX в.
Рекорд переворачивает представление о спортивном соревновании как о состязании ради победы. Рекорд олицетворяет собой предельную точность, рациональность, объективность. Установление рекорда становится возможным из-за масштабного распространения технического оснащения, позволяющего фиксировать спортивные достижения.
Что принципиально отличает рекорд от победы, так это его темпоральность: позволяющий сопоставлять результаты спортсменов во времени, рекорд становится основным репрессирующим инструментом спортивной системы. С XIX в. оказывается важным не просто прибежать к финишу первым, а прибежать быстрее, чем кто-либо когда-либо прибегал. Кроме того, соревнования с рекордами фактически не требуют реального присутствия соперника, а установление рекорда позволяет зафиксировать себя в истории.
«Доступной формой бессмертия» называет рекорд американский исследователь Аллен Гуттман[74], на чью книгу «От ритуала к рекорду» хотелось бы обратить внимание. В ней он описывает ключевые характеристики современного спорта, уделяя внимание обозначению спортивной игры как таковой[75]. На русский язык переведена третья глава этого труда, которая вполне способна функционировать в качестве полноценного исследования, хотя и не слишком детализированного[76].
Кроме этой работы, существует ряд небольших исследований, в основном статей, посвященных проблеме рекорда. Большинство авторов, не рассматривая основания системы современного спорта высоких достижений, ориентируются на исторический обзор, возникновение спорта как такового.
На рубеже XIX и XX вв. значимость рекорда понимает уже большинство стран, в том числе и Россия. Проводятся международные спортивные соревнования, некоторые рекорды устанавливают и спортсмены Российской империи. Когда французскому барону Пьеру де Кубертену приходит мысль возродить олимпийское движение, практически тут же к его работе подключаются представители России.
Решение о создании Олимпийского комитета в России возникает практически сразу после идеи Пьера де Кубертена возродить Олимпийские игры. Инициатором выступил генерал-майор А.Д. Бутовский, командированный с высочайшего соизволения во Францию для ознакомления с опытом зарубежных коллег по спорту и оказавшийся в гуще событий по возрождению олимпийского движения. На Международном атлетическом конгрессе 1894 г., более известном как Первый Олимпийский конгресс, был образован Международный олимпийский комитет. Как известно, Пьер де Кубертен лично внес А.Д. Бутовского в состав участников, несмотря на то что тот не смог принять очного участия[77].
Идею принять участие в международном спортивном движении поддерживает и российский император. Он отправляет Бутовского в трехмесячную командировку в Афины, где тот активно помогает в подготовке к первой Олимпиаде 1896 г. Настолько активно, что его отмечает греческое правительство: оно награждает А.Д. Бутовского Командорским крестом греческого ордена Спасителя. Император Николай II «высочайше разрешает принять и носить» этот орден.
В целом можно отметить бурное развитие спорта в дореволюционные годы. Подданный российского императора вошел в первый состав Международного олимпийского комитета. Российский Олимпийский комитет, образованный значительно позднее – в 1911 г., стимулировал работу всех спортивных и гимнастических организаций, чтобы подготавливать спортсменов к Олимпиадам. Россия принимала участие в Играх 1900, 1908 и 1912 гг. и в других международных соревнованиях. Спортсмены не только побеждали на состязаниях, но и устанавливали новые рекорды. Например, выдающийся конькобежец Александр Никитич Пашин на Открытом чемпионате Австрии в 1887 г. установил мировой рекорд, после чего еще на протяжении трех лет становился победителем этих соревнований.
Кроме того что в России при царе функционировал Олимпийский комитет, а в МОК входили представители России, так еще у страны в дореволюционные годы был свой олимпийский чемпион. Николай Панин-Коломенкин завоевал золотую медаль в фигурном катании в соревнованиях по мужским специальным фигурам (этот вид программы вскоре был отменен).
Большевики, пришедшие к власти в 1917 г., отрицали заслуги дореволюционной государственной политики и нивелировали ценность спортивных достижений. Стремясь перестроить страну согласно коммунистическим идеалам, они применили другую, прямо противоположную, стратегию по отношению к спорту – изоляционистскую. И пока продолжается почти тридцатилетняя изоляция, зарубежным спортсменам ничего не остается, как соревноваться с установленными при царе российскими рекордами. Например, мировой рекорд Николая Струнникова, установленный в 1911 г. в беге на 5000 м – 8 мин 37,3 с, – никто не мог побить целых 17 лет.
Рекордсменство и рекордизм (1917–1920-е годы)
После Октябрьской революции перед руководством страны встают вопросы: каким образом оценивать достижения спортивных организаций предыдущих лет (в частности, того же российского Олимпийского комитета) и как осуществлять спортивную подготовку граждан? В 1917-1920-е годы проводятся различные конференции и съезды, на которых формируется концепция физической культуры.
Основной характеристикой физической культуры для этого времени является массовость проводимых мероприятий. Ключевой задачей физкультуры считается подготовка советских граждан к войне и повышение трудового потенциала. Объектом для критики, противоположностью физической культуры становится стремление к установлению рекорда. Появляются такие специфические неодобрительные термины, как «рекордсменство» и «рекордизм».
Уничижительная критика рекордсменства и рекордизма позволила новому советскому государству откреститься от дореволюционного царского прошлого и наметить новый путь коммунистического общества, сопоставимый с крылатой фразой «в здоровом теле здоровый дух». «В буржуазных государствах физкультура отождествляется со спортом, а под спортом разумеют обыкновенно рекордсменство»[78], – пишет идеолог советского физкультурного движения Н. Семашко.
Олимпийские игры, отождествлявшиеся мировым сообществом с вершинами спорта, также были раскритикованы и представлены в качестве буржуазной, губительной для советского гражданина практики. Заместитель председателя Комитета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР Б.А. Кальпус, например, считал Игры в Амстердаме в 1928 г. «праздником национализма и шовинизма и враждебных пролетариату сил капиталистического общества»[79].
Для повышения военной и трудовой мощи большевики вводят различные системы норм и стандартов. Так, в 1918 г. был создан Всевобуч (всеобщее военное обучение), предполагавший систему нормативов обязательной военной подготовки граждан, что позволило создать мобилизационный резерв для Красной Армии.
Колоссальные физкультурные возможности (1930–1940-е годы)
«Физкультурная мы страна или нет? Нет, еще не физкультурная. Но мы – страна с колоссальными физкультурными возможностями»[80].
1930–1940-е годы характеризуются широким распространением театрализованных практик. Это было связано со стремлением руководства страны к максимальному распространению физической культуры.
В 1931 г. состоялся первый физкультурный парад. Он был проведен в честь физкультуры и норм программы «Готов к труду и обороне» (ГТО), введенной в том же году. С этого года масштабные уличные празднества обретают новый характер – растущий масштаб и тщательная режиссура спланированных парадов становились метафорой провозглашаемых идеалов планирования, эффективности и самоотдачи. Марширующие по Красной площади спортсмены свидетельствовали о самоотверженности и подготовке советской молодежи и были призваны привлечь внимание населения к спортивным программам[81].
Принятая в 1931 г. программа состояла из двух частей: «Готов к труду и обороне» и «Будь готов к труду и обороне СССР». Первая была рассчитана на советских граждан старше 16 лет, вторая – на школьников 1–8-х классов. За наградные значки «ГТО» и «БГТО» боролось все население. Такой знак был даже воспет в стихотворении С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». Смысл его легко считывается: все советские граждане – потенциально герои, и каждый из них готов к подвигу.
Ищут пожарные, ищет милиция, Ищут фотографы в нашей столице, Ищут давно, но не могут найти Парня какого-то лет двадцати. Среднего роста, плечистый и крепкий, Ходит он в белой футболке и кепке. Знак «ГТО» на груди у него. Больше не знают о нем ничего. Многие парни плечисты и крепки Многие носят футболки и кепки. Много в столице таких же значков. Каждый к труду-обороне готов.Массовые театрализованные зрелища 1930-х годов – не новшество для советской публики. Не стоит забывать о том, что парады проводились регулярно: массовые зрелища с участием военной техники организовывались дважды в год – на 1 ноября и 1 Мая. Важно то, какую роль играл в этих зрелищах спорт: традиционно он не был основной темой парада, а составлял только его часть. Так, в 1919 г. большая группа атлетов прошла вместе с военными колоннами по Красной площади, а в 1928 г. – при проведении первой Спартакиады – 30 тысяч спортсменов колоннами после парада направились к только что открытому стадиону «Динамо».
С 1930-х годов становится возможным проведение мероприятий, посвященных только спорту. С 1931 г. физкультурные парады становятся регулярными и все более масштабными. В 1932 г. в параде участвовали 70 тысяч физкультурников (против первоначальных 40 тысяч), а в 1933 г. – 150 тысяч. Именно физкультурный парад породил ставший крылатым лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» – его пронесли по Красной площади спортсмены парада 1936 г.
Проведение чисто спортивных парадов означало серьезный сдвиг в общественном восприятии физкультуры. Вовлечение множества спортсменов в яркое и зрелищное мероприятие способствовало распространению идеи широкого участия в физкультуре. Тщательно продуманное действо содержало и «живые скульптуры» (аэропланы, флаги, слова и целые фразы, образуемые большими группами спортсменов), показательные выступления гимнастов и однажды – даже отрепетированный футбольный матч.
Футбол появляется не случайно: в это время он был одновременно и гордостью, и позором советской культуры. В 1930-е годы футбольные болельщики считались одной из самых опасных и неконтролируемых социальных групп[82], а футбольный матч на Красной площади должен был свидетельствовать о подконтрольности этого вида спорта. В физкультурном параде 1937 г. на Красной площади были поставлены ворота, расстелен зеленый ковер и разыгран футбольный матч. Действие было заранее отрепетировано, потому этот футбол не содержал в себе черты непредсказуемости и стихийности, имел форму спектакля и был необходим только для обозначения популярности футбола в 1930-е годы[83].
О большом значении спортивных зрелищ свидетельствует и организация городской жизни. Как отмечает американский исследователь Майк О’Махоуни, метро служило не только средством связи между центром и окраинами, но и маршрутом от центра к пространству культуры и спорта. По станциям метро можно определить важные городские места. Так, первая ветка тянулась от Парка культуры и отдыха им. Горького к Парку культуры и отдыха в Сокольниках, а вторая проходила от площади Свердлова рядом со стадионом «Динамо» к аэропорту.
В это время не утихают и рассуждения о рекордсменстве. Жесткая критика «буржуазной» практики сменяется спорами о мотивировке граждан. С одной стороны, рекордсменство и заодно чемпионство кажутся буржуазной практикой. В преддверии Спартакиады 1928 г. М.С. Кедров в статье «За физкультурную самокритику» предложил «повести широкую пропаганду в том смысле, что спортивные выигрыши или победы никакой заслуги перед республикой не составляют»[84].
В словаре Ушакова, составленном в период с 1928 по 1940 г., как пример употребления слова «рекордизм» заявлено утверждение, определенно носящее неодобрительный оттенок: «вредный профессионализм и рекордизм буржуазного спорта».
С другой стороны, возникают и попытки привлечь рекорд для распространения пролетарской физической культуры. Рекордсменство, преследующее разные цели, заслуживает и различные оценки: «Есть два вида рекордсменства: одно – как средство вовлечения масс в физкультуру, другое – как основная, индивидуальная цель данного спортсмена»[85].
Николай Семашко уже начинает поддерживать соревнования в спорте, хотя все еще и отрицает необходимость рекорда. В 1927 г. он пишет: «Наивны были те противники соревнований, которые думали, что можно держать громадные массы физкультурников на “манной кашке” нормальных уроков, гимнастики и т. п. Соревнование – это самое яркое, самое привлекательное в физкультуре, выбросить эту “изюминку” из физкультуры – значит опреснить, сделать невкусной физкультуру для масс»[86].
Со второй половины 1930-х годов понимание физкультуры вновь меняется. Раньше оно связывалось с наращиванием трудового потенциала, теперь оно все сильнее ассоциируется с военной мощью и обороной советских границ. У военных задач спортивных программ были глубокие исторические корни: уже в XIX в. государства начинают внедрять спортивные программы для поддержания военной мощи. Существует даже тезис, что во Франции идея Пьера де Кубертена об Олимпийских играх была поддержана, поскольку укладывалась в развитие культа здоровья и хорошей физической формы, отражала страх перед вырождением французской нации.
Физкультурно-спортивный дискурс подвергается стремительной милитаризации. Образу спортивной советской молодежи с середины 1930-х годов противостоит капиталистическая логика, представляющая опасность и угрозу. Спортивные персонажи переосмысливаются как защитники Отечества, в это время распространяется метафора вратаря-пограничника.
Эй, вратарь, готовься к бою, Часовым ты поставлен у ворот! Ты представь, что за тобою Полоса пограничная идет!Эти слова песни, впервые прозвучавшей в кинофильме «Вратарь», стали известны на всю страну как «Спортивный марш»[87]. Образ вратаря как символического защитника советского государства встречается и в музыке, живописи и литературе.
В 1930–1940-е годы меняется отношение партии к спорту и к спортивным достижениям. Газета «Правда» от 24 июля 1934 г. писала: «Стремление к мировым рекордам не есть пустое рекордсменство. Мы радуемся каждому успеху советских спортсменов, каждому их рекорду, потому что это – результат борьбы самих трудящихся, свидетельство роста нашей спортивной техники, доказательство правильности нашей советской системы физического воспитания».
Стоит отметить, что спор о рекордах продолжался и в разговоре о коллективных видах спорта, которые тоже тяготели к объективности оценок результата и вполне подвергались подсчету (голы, минуты, очки). В футболе, хоккее, например, также не поощряется гонка за рекордами. Вот как пишет об этом в книге «Играет ЦСКА» Василий Сысоев: «В команде давно сдали в архив односторонний подход к оценке хоккеиста, голое рекордсменство. Там ценят не только то, как спортсмен владеет клюшкой, но и его моральные качества, его гражданственность. Естественно, поэтому команда не могла остаться безучастной, когда ей стало известно, что В. Полупанов со своими дружками отдался “увеселительным мероприятиям”, забыл дорогу в институт, заметно сбавил активность на занятиях по марксистско-ленинской подготовке. То, что он неплохой бомбардир, усердно тренируется и старательно играет, – этого было явно недостаточно. От него, как и от остальных игроков, коллектив требовал примерного поведения и вне команды, проявления жадности к знаниям, к повышению общеобразовательного и культурного уровня»[88].
Быстрее, выше, сильнее! (1950–1960-е годы)
В послевоенные годы советская политика по отношению к спорту кардинально меняется. Спортсмены начинают действовать в рамках известного выражения: «Citius, altius, fortius!», ставшего по предложению Пьера де Кубертена олимпийским девизом. Все действия власти по спортивной политике были направлены на то, чтобы представители СССР состязались за право быть лучшими, бегали быстрее всех и прыгали выше всех.
Новая политика СССР – догнать и перегнать! – не соотносится с установками молодого советского государства 1910–1920-х годов, провозгласившего победу пролетариата. Спортивные победы мыслились как средство утверждения коммунистической идеологии, орудие борьбы в международной политике. Пожалуй, более наглядным примером успехов коммунизма в мире стали только достижения в космосе.
С этого периода начинается новая эпоха в истории советского спорта. Власть похоронила утопические надежды, которыми характеризовались физкультурные программы ранних советских лет. По-прежнему провозглашая те же задачи, власти сосредоточились на подготовке талантливых спортсменов-профессионалов.
В 1947 г. физкультурный парад, ежегодно проводимый на Красной площади, был перенесен на стадион «Динамо». В 1951 г. его разбили на отдельные спортивные соревнования, проводимые в различных частях города. Теперь в спортивных мероприятиях преобладал состязательный, а не театральный аспект. В спортивной политике акцент начал ставиться на точечный, специализированный подход к подготовке профессиональных спортсменов, а не на вовлечение в физкультурные мероприятия все больших масс людей.
Советские спортсмены начали побеждать на международных соревнованиях и устанавливать новые рекорды – теперь это стало возможным, поскольку советские спортивные организации стали членами международных федераций. Дебютировав на летних Олимпийских играх 1952 г. в Лондоне, СССР тут же завоевал лидирующие позиции в спортивных состязаниях, но победителем не стал. «Холодная война» между Соединенными Штатами и Советским Союзом в спорте была начата: СССР занял только второе место, уступив США 5 медалей в командном зачете.
После первой неудачи (а именно так расценивался этот крайне высокий результат) все усилия были направлены на достижение победы советских спортсменов. Это принесло плоды: в 1956 и 1960 гг. СССР побеждает на Олимпиадах с грандиозным отрывом – 24 и 32 медали соответственно составляют перевес по отношению к достижениям Соединенных Штатов.
Гонка за рекордами (1970-1980-е годы)
Тенденция к политизации Олимпийских игр и спортивных состязаний наблюдается по всему миру. Вероятно, началась она еще с 1936 г., когда на берлинских Олимпийских играх так явно отдавались почести национал-социализму, звучали фашистские приветствия, каждое отдельное спортивное зрелище использовалось в пропагандистских целях. Классикой агитационного кино стала хроника тех Игр «Олимпия», снятая легендарной Лени Рифеншталь. Считается, что именно с этого момента Олимпийские игры оказались в тесной связке с политикой[89].
Когда в 1948 г. Международный олимпийский комитет не допустил к участию в Олимпиаде Германию и Японию как инициаторов Второй мировой войны, был создан прецедент политического влияния спортивного движения. Когда в 1980 г. США и еще 55 стран отказались участвовать в московской Олимпиаде в знак протеста против советского вторжения в Афганистан, а в ответ на это в 1984 г. Советский Союз отказался от участия в Олимпиаде в Лос-Анджелесе, спорт и международная политика существовали неразрывно. Как отмечают Петр Вайль и Александр Генис, именно в этот период фраза «победила дружба» переходит в разряд юмористических[90].
В конце 1960-х – начале 1970-х годов СССР начинает оказывать значительную финансовую, экономическую и политическую поддержку Кубе. Кроме политического и экономического содействия, Советский Союз принимает также участие в спортивной подготовке кубинцев. В 1969–1972 гг. более 50 советских тренеров помогают тренировать кубинских атлетов для Олимпийских и панамериканских Игр, что незамедлительно приводит к последующим успехам кубинцев на обоих турнирах[91]. Достижения спортсменов были призваны наглядно продемонстрировать другим латиноамериканским государствам преимущества социалистической системы.
Некоторые рекорды советских спортсменов остаются непревзойденными до сих пор: в тяжелой атлетике, в стрельбе из малокалиберного пистолета, в женских прыжках в длину, в эстафетах 4 × 400 м, в мужских прыжках с шестом, в толкании ядра и метании молота.
Одну из ключевых ролей в установлении этих рекордов сыграл допинг – прием стимулирующих веществ, позволяющих добиться улучшения спортивных результатов. Он был запрещен Медицинской комиссией МОК только в 1993 г.
Достижение этих рекордов свидетельствует о грандиозных изменениях в подготовке спортсменов. Фактически в 1970–1980-е годы возникает феномен коммерческого спорта. Другими словами, спортсмены, тренеры, врачи становятся частью колоссального механизма, приобретая свою рыночную стоимость. Это уже не просто физкультурники, это единицы квалифицированного состава, ставящие перед собой производственные задачи. И весьма логично, что на это же время попадает так называемая «утечка мускулов» – во времена перестройки лучшие советские спортсмены стали уезжать из СССР.
Постсоветская персонализация спорта
Стоит отметить, что в профессионализации спорта олимпийское движение весьма далеко ушло от своего предшественника – античных Олимпиад. Можно ли представить, что сейчас олимпийским чемпионом станет не профессиональный бегун, а, скажем, учитель или продавец? Едва ли. А легенда гласит, что победителем на первых известных Олимпийских играх 776 г. до н. э. стал повар[92]. Это предание, хотя, вероятно, и недостоверное, указывает на абсолютное равенство участников соревнований – в античных соревнованиях участие мог принять любой человек, если он не являлся варваром, рабом или женщиной.
Сейчас спорт, особенно спорт профессиональный, – удел весьма ограниченного круга лиц. Он связан с большим количеством любопытных биографических историй, так или иначе показывающих травматичность и трудность этого пути.
В современности установление новых рекордов – один из самых трудоемких вопросов, поскольку человек уже подошел к границам своих физических возможностей. Так, например, в 1968 г. американец Дик Фосбери установил олимпийский рекорд в прыжках в высоту – 2,24 м. В дальнейшем он больше никогда не мог прыгнуть на 2,24 м, но его техника, названная Фосбери-флоп, используется сегодня подавляющим большинством прыгунов. Фактически этот спортсмен, перелетая через планку спиной вперед, произвел революцию.
Современный спорт – с уже установленной хроникой рекордов, просчитанными техниками и разработанной системой выступления на соревнованиях – стал не более чем одной из социальных институций, предлагающих рутинную работу для множества мужчин и женщин[93].
В конце XX в. профессионализация и коммерциализация спорта привели к возросшей роли личности, и особым образом это отразилось на странах, входивших в Советский Союз. Если в XX в. мы наблюдаем борьбу и соревнование в коллективных зачетах по идеологическим мотивам, то в XXI в. страны – бывшие участницы Советского Союза вынуждены соревноваться между собой. Сергей Бубка, признанный спортсмен в прыжках с шестом, с 1984 г. устанавливает все новые мировые рекорды. Первый рекорд был установлен под представительством Советского Союза, последний – уже от Украины.
Спортивная публика хочет наблюдать за прежними героями вне политического контекста, они все также остаются личностями. И в борьбе за внимание публики столь насыщенное прошлое даже является преимуществом, тем более что в логике развития спорта теперь вновь побеждает не рекорд, а массовое зрелище[94]. Профессиональный спортсмен становится профессиональным рассказчиком собственной истории успеха, вместе со своими партнерами он продает «переживания» и становится актером шоу-бизнеса. Рекорд победил физкультуру, чтобы быть погребенным под зрелищностью.
© Вагина М., 2012Александр Павлов «ВИДЕОДРОМ»: ФОРМИРОВАНИЕ ВИДЕОКУЛЬТУРЫ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1980-1990-е ГОДЫ
Проникновение в (пост)советскую Россию видео является на сегодняшний день одной из самых любопытных, но и самых неизученных проблем культурной и социальной истории России. Историки и социологи либо игнорируют вопрос о том, как этот – тогда еще совсем новый – продукт влиял на формирование восприятия артефактов искусства и феноменов массовой культуры, либо уделяют ему незаслуженно мало внимания.
С одной стороны, подобное невнимание к недавней истории видео в позднем СССР и новой России связано с трудозатратностью исследования подобных тем. Почти все свидетельства повседневной жизни жителей СССР и постсоветской России остаются личными воспоминаниями, а потому тщательное изучение заявленной темы требует наличия ресурсов – временных, профессиональных, людских. Ведь даже поиск респондентов, готовых поделиться своими воспоминаниями, подчас представлятся непосильной задачей. Иные же формы получения информации имеют ограниченный характер. Существующие документы, доступные исследователям как в библиотеках, так и в архивах, не дают должного понимания народного восприятия видеокультуры. Воспоминания же профессиональных критиков, киноведов и журналистов для подобного исследования менее полезны, поскольку оказываются «профессиональной точкой зрения», в то время как повседневная культура требует «народного подхода». С другой стороны, далеко не всем исследователям социальных процессов интересно заниматься вопросами повседневности, несмотря на то что на Западе эта область социологии уже давно стала едва ли не основным направлением работы социологов. Однако чем дольше эта тема будет упускаться из виду, тем сложнее будет изучить вопрос. Ведь, как известно, финальной функцией памяти является забывание полученной информации. Тем не менее пока Советский Союз, даже спустя двадцать лет после своей смерти, продолжает жить во всевозможных формах – в том числе в виде западных картин, ставших в (пост)советской России весьма специфическим феноменом эпохи видео (VHS).
Исходя из этого, чтобы достаточно широкий пласт культурной истории России не был безвозвратно потерян, мы взяли на себя труд провести первичное исследование того, как формировалась видеокультура в России, и выявить основные проблемные узлы этого процесса, поставить вопросы, которые, безусловно, требуют отдельного и подробного исследования. В данной статье речь главным образом пойдет о конкретных вопросах, таких как проблема перевода в СССР западных фильмов на русский язык, формирование среди зрителей любви к жанрам типа ужасы и т. д. В качестве основного метода исследования был избран метод классического глубинного интервьюирования респондентов на конкретные темы. В ходе исследования было опрошено около 40 человек разных возрастов и из различных городов России (при цитировании респондентов в дальнейшем будут указаны их возраст и место жительства). Не все из опрошенных являются просто зрителями. Часть из них были активными деятелями подпольного видеорынка в СССР и стояли у истоков формирования системы распространения видеопродукции. Отметим: чтобы узнать, когда и каким образом в СССР проникло видео, пришлось потратить много сил и времени – были найдены люди, которые смогли рассказать о феномене от первого лица.
В качестве философского основания исследования была избрана феноменология, откуда было позаимствовано понятие «интерсубъективность». Личные истории тысяч людей оказались сплетенными в один большой клубок «видеокультуры» (или VHS-культуры). Так или иначе культурными символами второй половины 1980-х и 1990-х годов стали персонажи и актеры западных фильмов, и часто истории респондентов посвящены одним и тем же героям и артефактам культуры. В процессе интервью одна молодая девушка отметила: «Как можно не смотреть и не любить кино? Оно окружает нас повсюду!». И эта укорененность кинематографа в личной жизни людей делает исследование особо интересным: ведь у каждого на один и тот же продукт видеокультуры свой особый взгляд и личная точка зрения.
Наконец, эвристически полезной для описания того, что происходило на глазах общественности в разрушающемся Советском Союзе, мы считаем концептуальную метафору «Видеодрома», которая полностью отражает суть явления. «Видеодром» – американская картина режиссера канадского происхождения Дэвида Кроненберга (1983). Главный герой фильма Макс Ренн (роль которого играет Джеймс Вудс) работает президентом кабельного канала, который транслирует в эфир эротические шоу и фильмы с большим содержанием насилия. Один из сотрудников Макса ловит сигнал шоу под названием «Видеодром», в котором пытают, насилуют и убивают молодых женщин. Макс начинает искать возможность получить видеотрансляции шоу. В итоге его жизнь оказывается тесным образом переплетена с видео, и он уже не может разобрать, где реальность, а где – его галлюцинации. В конце концов, выясняется, что «Видеодром» – шоу, которое психологически и физически влияет на всех, кто его посмотрел (у людей, увлекающихся им, в мозгу образуется опухоль, и они умирают). Оно является стратегией ряда озабоченных членов общества, желающих избавиться от извращенцев, которым может понравиться подобная видеопродукция. Особо необходимо отметить два ярких момента фильма, которые помогут в дальнейшем объяснить ряд культурных феноменов, связанных с видео в СССР. В одном из эпизодов герой прислоняет свое лицо к экрану телевизора и фактически заглядывает в него; в другом – у персонажа Джеймса Вудса в животе образуется отверстие (которое, как уверяют западные исследователи, является символом вагины), куда ему вставляют видеокассету. Если использовать этот образ как метафору, фактически то же самое сделали и многие граждане Советского Союза, приняв в себя видеокассету с определенной информацией. Очень долго их дальнейшую культурную жизнь будут определять впечатления, полученные от просмотра западных картин конкретного содержания. В дальнейшем мы опишем, что это были за картины и как они влияли на зрительское восприятие.
Видео проникло в СССР в 1979 г., и до 1985 г. эта сфера оставалась фактически недоступной большинству граждан СССР. Видео оставалось возможным способом проведения досуга и осуществления предпринимательской деятельности лишь для узкого слоя советской элиты, которая имела доступ к VHS в домашних условиях, и для будущих нелегальных профессионалов, связавших свою жизнь с видеокультурой, которые могли производить и распространять видеопродукт. Производить – т. е. «доставать» VHS (чистые или с уже записанной на них информацией), находить переводчиков и технически организовывать перевод и перезапись фильмов. Начиная с 1985 г. видеомагнитофоны и видеокассеты стали получать все более широкое распространение, и с каждым годом количество зрителей, наслаждавшихся западными видеофильмами, увеличивалось.
В 1980-х годах Дмитрий Николаевич Яузов (60 лет, Москва) был одним из распространителей видеокассет. Он и рассказал нам, каким образом ему удавалось «доставать» фильмы и как он участвовал в выборе конкретных картин:
«К 1979 г., когда я приобрел первый видеомагнитофон, я уже был состоявшимся членом советского общества. Преподавал экономику в МЭСИ. Был членом КПСС. В качестве хобби коллекционировал виниловые пластинки. В 1977 г. моя жена ушла на “Мосфильм” и вошла в группу “Просмотров Лавренева”, организовывала просмотры. На эти просмотры приходила вся московская элита. Это было главное культурное явление 1970-х годов. И тогда я уже вращался в мире кино. Видеомагнитофон стоил очень дорого, как и видеокассеты, а потому мне нужно было каким-то образом вернуть хотя бы часть затраченных денег.
Мой источник фильмов находился в США, где распространен формат кодирования телевизионного сигнала NTSC, который не мог быть воспроизведен на телевизорах отечественного производства. Поэтому, “отбивая” затраты на видео, я был вынужден заказывать видеомагнитофоны, поддерживающие формат NTSC, и продавать их “в нагрузку” к фильмам, переводом которых и занимался. У меня была фантастическая возможность пользоваться услугами переводчиков с “Мосфильма”. Одним из первых переводчиков стал Алексей Михалёв. Вообще, я работал с тремя переводчиками, которых считаю лучшими в России и истории нашего кино, – это Алексей Михалёв, Андрей Гаврилов и Григорий Либергал. Те фильмы, которые они переводили, – настоящие шедевры переводческого искусства. Параллельно со мной другие люди работали с Володарским. И переводы Володарского получили в то время большее распространение по одной простой и объективной причине. Фильмы, которые переводил Володарский, были закодированы в системе PAL, более воспроизводимой в Советском Союзе. Поэтому любая картина в переводе Володарского мгновенно распространялась по всей Москве. Я же, к сожалению, не имел возможности свободно распространять переведенные по моей инициативе фильмы в Москве. И большая часть картин, сделанных в моей “студии”, уходила в регионы».
Отсюда и проистекает уникальное для России культурное явление – авторский одноголосый перевод. Часто на форумах и трекерах можно встретить обсуждение «заслуг» и «подвигов» тех или иных переводчиков. Таким образом, сегодня существование «одноголосого авторского перевода» является формой ностальгии. Хотя в этом есть и что-то большее, чем просто ностальгия. Сегодня довольно большое количество людей повторяют и воспроизводят опыт советских мастеров, таким образом, составляя третье поколение переводчиков: первое – 1980-е (Михалёв, Гаврилов, Володарский, Либергал, Кузнецов, Горчаков), второе – 1990-е и начало 2000-х (Карцев, Санаев, Сербии, Алексеев), третье – вторая половина нулевых и по сегодняшний день (многие пользователи Интернета). Существуют целые форумы любительских переводов, где пользователи, обсудив достоинства картины, договариваются перевести тот или иной новый фильм. Примеров сегодняшнего трепетного отношения к переводам довольно много. Некоторые зрители даже не могут смотреть фильмы в дубляже, о чем обязательно сообщают в рамках форумов. Например, Алексей (27 лет, Воронеж) говорит:
«Я предпочитаю именно одноголосый перевод. Могу посмотреть в многоголосой “озвучке”, а вот дубляж (за исключением советского) не приемлю. Люблю, когда слышна оригинальная речь актеров. Любимые переводчики времен VHS: Михалёв, Карцев, Дохалов, Визгунов, Арсеньев, Толбин, Дольский, Горчаков. Собственно, мне нравятся почти все авторские переводчики того времени. А вот современные (за редчайшим исключением) вызывают только негативные эмоции».
Итак, в начале 1980-х годов относительно небольшим потоком западный кинематограф полился в домохозяйства любителей развлечений. Почему же зрители стали активно смотреть все, что им предлагалось отечественными «пиратами»? И что именно они смотрели? Вспоминает отечественный публицист Сергей Митрофанов (58 лет, Москва):
«Вкус 1980-х, а для меня – вкус 1970-х, сформировался в процессе отрицания советской цензуры. Возникал интерес ко всему, что подвергалось идеологической критике. Например, неоднократно сообщалось, что Клинт Иствуд реакционен, проповедовал культ насилия и пренебрежение законом. Или когда появлялась статья типа “Куда нас ведут зуботычины маркиза де Сомбрей?” (“Парижские тайны”), хотя этот маркиз де Сомбрей по моральным качествам – ну, просто настоящий “Тимур и его команда”. Вместе с тем в советское время сложилось представление о культовых именах – Антониони, Пазолини, Бертолуччи, Куросава… – которое не претерпело изменений даже после смены нашего политического строя. Тут надо еще сказать, что советская цензура пропускала через себя только то, что уж никак невозможно было пропустить. Например, “Спартак” или “Великолепную семерку”. Отчего создавалось впечатление чрезвычайной успешности западного кино, которое конечно же не было таким успешным».
Разумеется, для тех, кто смотрел кино уже в 1970-х годах – а возможность посмотреть хорошие западные фильмы, пускай и старые, существовала (например, в рамках закрытых показов), – ситуация была проста: они имели определенное представление о современном западном кинематографе, которое позволяло им сформировать представление о том, что стоит смотреть, что – нет; что является высоким искусством, а что – нет; почему и чем именно элитарный кинематограф отличается от массового. И даже тем, кто уже привык смотреть качественные картины и был хорошо осведомлен в области кино, было любопытно увидеть что-то новое, до тех пор недоступное. Дмитрий Яузов считает:
«В первый период классика была доступна на кинофестивалях и, как следствие, во время появления видео была неинтересна. Были интересны “Кошмар на улице Вязов”, “Полицейская академия”, “Эммануэль” и т. д. Кроме того, на лазерных дисках, с которых мы делали высококачественные копии, классики не было, а голливудские фильмы выпускались именно на лазерных дисках».
В любом случае в массе своей зритель 1980-1990-х годов был плохо образован, а потому предпочитал развлекательные фильмы. Причем не просто развлекательные, а те, которые могли удивить. Поэтому популярностью пользовались три жанра: ужасы, экшен (восточные единоборства, боевики и т. д.) и эротика (начиная от самой мягкой и заканчивая наиболее жесткой, включая распространенные тогда эротические мультфильмы).
Обратим внимание на то, что любые авторские картины, переведенные в Советском Союзе на подпольных «студиях», в большинстве своем воспринимались как принадлежащие к одному из трех заявленных жанров. Таким образом, ленты Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже» или Серджо Леоне «Однажды в Америке» были интересны исключительно из-за присутствующего в них эротического содержания и, следовательно, считались «эротикой», а никак не авторским кинематографом. Вспоминает журналист Яков Шустов (58 лет, Москва):
«Первое кино, мной посмотренное на “Электронике ВМ-12” было черно-белое [в начале 1980-х многие смотрели видеофильмы в черно-белом варианте по причине несовместимости стандартов кодировки сигнала PAL или NTSC и принятого в Советском Союзе стандарта SECAM. – А.П.] “Однажды в Америке”. На просмотре присутствовало много родственников. Две дамы пятидесятилетнего возраста были возмущены, когда героиня стала мерить половые органы бандитов, ее ограбивших, чтобы определить, кто ее изнасиловал во время нападения. А вот я испытал к этой сцене жуткое любопытство и был немного разочарован, что не показали всего… Правда, в первые годы был больший интерес к рок-концертам и рок-операм “Иисус Христос – суперстар”, “Кошки”. Хотя смотрели и порнографию. Но “порнуху” не покупали, ею менялись. Причем порнофильмы смотрели в салонах, а для дома была какая-то адская нарезка из порноклипов и порномультфильмов».
Самыми популярными и даже культовыми, причем в значении слова, принятом в Западном киноведческом дискурсе[95], эротическими фильмами в СССР стали «Эммануэль», «Греческая смоковница», чуть позже «9½ недель» и продукция режиссера Залмана Кинга (мягкая эротика), а также легендарная и не менее культовая немецкая картина «Екатерина Великая и ее дикие жеребцы» (также известная как «Екатерина, обнаженная Царица», «Екатерина Великая, царица дегенератов», «Екатерина – Голая царица», «Великие извращения», «Извращения аристократов», «Екатерина, Садо-Царица, не знавшая милосердия» и т. д.). Сам феномен культового фильма был зафиксирован на Западе в середине 1970-х годов. К культовым относили кинокартины, которые могли отвергаться критиками, не собрать кассы, но которые боготворили зрители и при первой возможности отправлялись в кинотеатр смотреть. Зритель мог посещать показ культового фильма более десятка раз, а потому в зале возникала особая атмосфера его просмотра. Некоторые откровенно порнографические картины также могли стать культовыми – например, «Глубокая глотка», «За зеленой дверью», «Кафе “Плоть”» и «Дебби едет в Даллас». Вне всякого сомнения, «Екатерина Великая и ее дикие жеребцы» стала одной из самых легендарных картин в Советском Союзе: ее пересказывали, пересматривали, засматривали[96]. Причем действительно засматривали: на сегодняшний день ни у одного из тех, кто в советские времена коллекционировал VHS, не осталось полной версии фильма с голосовым переводом.
Одновременно были фильмы, которые не вызывали интереса у зрителей даже при наличии в них откровенных сцен. К таковым, например, относится скандально известная лента Пьера-Паоло Пазолини «Сало, или 120 дней Содома». Антон Тафинцев (около 50 лет, Москва), который впоследствии организовал пиратскую контору «Артвидео» и стал одним из очень популярных продавцов на «Горбушке», еще во времена своей работы в сфере науки (в конце 1980-х годов), откуда он и ушел в видео, с трудом достал этот фильм и решил просветить публику, жаждущую зрелищ:
«“Сало” Пазолини воспринимался жутко. Это очень тяжелый фильм. Я его даже показывал в МИФИ, был аншлаг. Те, кто его посмотрел, потом сильно ругались. Они не понимали, зачем он снял это. Да я и сам проматывал куски. И до сих пор проматываю. Это крайние фильмы. Их надо один раз посмотреть, и хватит».
А как принимала эти «крайние фильмы» тогда еще совсем молодая аудитория, если вдруг они ей попадались? Вспоминает Сергей (36 лет, Тамбов):
«Видео – это детский интерес. Тетка жила в Германии. И когда в 1984 или 1985 г. приехала к нам в свой отпуск, привезла два чемодана – один с видеомагнитофоном, второй с кассетами. Все кассеты были с переводом. Голос был Володарского. Возможно, были и еще чьи-то переводы, но в общей массе Володарского. Не вспомню всех названий фильмов, но сами понимаете, кассеты были не только для меня, но и для родителей. Среди прочего была и скандальная лента “Империя чувств”. Она и была просмотрена в кругу одноклассников. Мне не понравилось: рано такое кино смотреть в четвертом классе. Но, несмотря на то что на меня она впечатления не произвела, разговоров в школе хватало. Друзья были более продвинутыми, и интересовала их в первую очередь, естественно, эротика… Что еще может заинтересовать пацанов? А вот меня же больше увлекали фильмы других направленностей – боевики, ужасы. Что-то типа картин “Убийца сегуна” или “Вой”. Я смотрел их дома, вечером, в полной темноте. А заинтересовали они меня нестандартностью. Ничего подобного я тогда не видел, было реально страшно! Я ведь воспитывался на фильмах “Верная рука”, “Танцор диско”. Откровенность убийств и обилие крови смущали, пугали. Причем я бы не назвал те фильмы “плохими”, просто они были совсем другими в отличие от тех, что я привык смотреть. Я даже не мог себе представить, что бывают монстры типа Фредди Крюгера или Джейсона. Впечатления от них были яркими. Бывало, ночами после просмотра “Нечто” я просыпался в ужасе, как сейчас помню сцену с откусанными руками!».
Фильмы, перекочевавшие из Советского Союза в постсоветскую Россию, производили сильное впечатление на юных зрителей. Несмотря на то что ужасы, увиденные ими в качестве первых западных картин, их жутко пугали, впоследствии они начинали смотреть фильмы именно этого жанра. Познакомившись с лентами в жанре хоррор в относительно раннем возрасте, повзрослевшие зрители до сих пор смотрят и любят подобное кино. Примечательно и то, что знакомиться с западным кинематографом многие начинали с ужасов, среди которых наиболее популярными были “Зловещие мертвецы” и “Чужой”». Рассказ Алексея (38 лет, небольшой город под Новосибирском):
«“Зловещие мертвецы” были, кажется, первым фильмом ужасов, который я увидел. В те дни понятие ожившего мертвеца в СССР было практически неизвестно, фильмов про них почти никто не видел. И вот, когда я посмотрел в нашем первом видеосалоне какие-то фильмы с Брюсом Ли и триллер “Каратель” про экс-вьетнамского мстителя, мне сказали, что тут как-то крутили фильм про живых мертвецов. Это меня искренне восхитило, поскольку концепция живого мертвеца казалась мне чем-то совершенно невиданным, она ошарашивала. Но в том видеосалоне такой кассеты уже не оказалось, увы, так что я посмотрел этот фильм парой месяцев позже в другом видеосалоне. Сейчас мне большинство этих фильмов совершенно неинтересны по разным причинам».
История Алексея (27 лет, Воронеж):
«Помню, что именно в начале 1990-х впервые увидел фильм “Реаниматор” на видеомагнитофоне нашего производства (марку не скажу, но хорошо запомнил, что кассета вставлялась через верх). Мне тогда было лет 6, и я был оставлен наедине с двумя частями этого фильма: соседи включили видео, чтобы я не бедокурил, и ушли на кухню что-то праздновать с моими родителями. После просмотра я был дико напуган, и у меня случилась чуть ли не истерика, после чего родители ограничили мне просмотр подобного кино. Но потом я все равно к нему вернулся… Собственно, с этого фильма и началось мое знакомство с кино и видео».
А вот воспоминания современной переводчицы Юлии (22 года, Ростов), которая, правда, ценит и стандартное «женское кино»:
«Как можно вообще определить, когда я увлеклась кинематографом, если кинематограф окружает всех нас со всех сторон с самого детства? Хотя я помню, как мама поставила мне “Чип и Дейл спешат на помощь”. А потом в восемь я посмотрела фильм “Чужой” и поехала крышей. Крыша у меня поехала на ужастиках, я их очень люблю. Но не только их… Очень люблю и сопливые девчачьи фильмы про сказки посмотреть и порыдать от счастья за других».
Александр (36 лет, Белоруссия) делится своими воспоминаниями:
«Первый мой фильм был “Чужой” с хорошей актрисой Сигурни Уивер. А потом фильмы про Чаки и Фредди Крюгера. Впечатления были сильные. Я очень боялся этих персонажей. Я даже боялся спать. Но потом уже привык и “подсел” на ужасы».
Но было и наоборот. Например, один из переводчиков молодого поколения Никита Севастьянов (23 года, Подмосковье) с малых лет смотрел «экстримное» кино и воспринимал его адекватно:
«Я рос на кинематографе. У родителей было около 200 пиратских кассет, которые я смотрел с раннего возраста. Благодаря им, кстати, я и заинтересовался переводами, а именно – Михалёвым. Причем это были не только “Бэмби” и “101 далматинец”, но и фильмы Тинто Брасса, Верховена и различные эротические триллеры. У нас был интересный договор: мы смотрели совместно все фильмы из составленного мною списка по очереди – даже если это было “родительское кино”. Вечером я брал список и объявлял: так, сегодня на очереди “Калигула”, и мы смотрели его вместе. Лет в семь я уже увидел “Подглядывающего” Тинто Брасса и очень хвастался этим в школе».
Таким образом, восприятие детьми «взрослых» фильмов во многом зависело и от родительской стратегии воспитания.
История киноведа Ивана Денисова (37 лет, Москва) также хорошо иллюстрирует личностное увлечение кинематографом:
«В 1986 г. меня по ряду причин обуял интерес к Америке. С ходу вспоминаются две причины: сильно впечатлившая книга Джозефа Хеллера “Уловка-22” и присущая мне тогда (да иногда и сейчас) привычка влюбляться в девочек из телевизора. Если кто помнит, в 1986-м по всем каналам показывали посланницу СССР в США Катю Лычеву. В общем, потом про нее (Лычеву) я, каюсь, забыл, а вот Америка в голове застряла. А увиденный в мае того же года “Секретный эксперимент” Стюарта Рэффилла (в оригинале – “Филадельфийский эксперимент”) окончательно обратил мои интересы в сторону Америки, особенно кинематографа этой страны».
Если вернуться к метафоре «Видеодрома» и тем галлюцинациям, что преследовали главного героя ленты, то можно вспомнить об одном весьма интересном феномене, характерном для СССР. В Советском Союзе существовали западные картины, которых не было в реальности. Воображение работало столь сильно, что зрители сами придумывали фильмы, а потом их друг другу пересказывали. Главным образом это касалось многочисленных сиквелов, которые так хотели посмотреть видеофанаты. Хотя этих сиквелов никогда и не было, а если они и были, то появились значительно позже, чем о них повествовалось поклонниками. Например, это касается выдуманных картин «Хищник-3» (с Арнольдом Шварценеггером) или «Безумный Макс-4».
Кроме того, – и здесь мы снова возвращаемся к «Видеодрому», в котором герой в прямом смысле слова вставлял в себя видеокассету – существовал и такой феномен, как пересказ фильма одним счастливцем, посмотревшим кино, другим людям, его не видевшим. Фактически зритель, воспроизводивший кино, точно так же вставлял в себя кассету с фильмом, пусть и метафорически, и пытался воспроизвести его. Правда, подобное «воспроизведение» было не всегда точно, и очень часто картины приобретали дополнительные детали, сюжеты, героев. Еще чаще содержание лент изменялось рассказчиками до неузнаваемости. Так, еще один переводчик молодого поколения Акоп Акопян (30 лет, Ереван) сильно удивился, когда спустя 10 лет после того, как «прослушал фильм» «Красотка», не обнаружил в нем практически никаких эротических сюжетов и уж тем более порнографических, в то время как ему пересказали это кино с откровенными сценами. Это далеко не единичный случай. Алексей (38 лет, небольшой город под Новосибирском), который долгое время работал в видеосалонах, вспоминает:
«Многие люди ходили на фильмы типа “Полицейская академия” несколько раз подряд; эти фильмы постоянно пересказывали друг другу. Какой-нибудь счастливец мог видеть такую часть “Полицейской академии”, которую другие не видели, и всем гордо про нее рассказывал… Народ требовал ее от видеосалонов. И когда фильм появлялся, порой его ставили несколько сеансов подряд. В пересказе фильмы порой сильно искажались, а часто люди вообще фантазировали. Например, один парень мне авторитетно “втирал”, что он смотрел где-то на севере в видеосалоне “Videodad 3” и говорил, что там действие происходит в космосе. Рассказывали мне и про третью часть “Зловещих мертвецов” еще за год до того, как она появилась на свет».
В том, что новые картины в Советском Союзе придумывались, нет ничего удивительного. Сергей Митрофанов точно ухватил суть интереса к западному кинематографу того времени:
«Сами по себе жанры не имеют для меня особого значения. Вообще, долгое время мы с друзьями превращали просмотр кино в спорт – соревновались, кто больше посмотрел, узнал. Нам интересны были как приемы кино, так и сценарные ходы. Интересно потом было обсуждать, кто, что и как сделал, в чем преуспел, а в чем провалился. В этом смысле и полная ерунда могла быть интересна для обсуждения».
Справедливости ради следует заметить, что данный феномен существовал и на Западе. Однако там он не получил подобного развития. Алексей (27 лет, Воронеж) рассказывает следующую историю:
«Да, такие фильмы действительно были. К сожалению, не все из них помню, но об одном расскажу. В 2000-х годах я активно общался с иностранными коллекционерами и, бывало, менялся с ними редкими фильмами. Так вот, в те времена очень многие искали запрещенный индонезийский фильм ужасов “Penanggalan”, который якобы выпустили в 1967 г. и который был запрещен к показу 40 лет. Но постепенно наши знания о кино росли, и ряд серьезных западных любителей кинематографа пришли к выводу, что этого фильма никогда не было. Теперь это уже почти подтвержденный факт. Но в те времена эту картину много кто искал. Я знаю, что некоторые писали DVD-издателям с просьбой найти его, а страничка в IMDB до сих пор висит, и на ней даже есть оценки и небольшой обзор. Кто-то в свое время очень умело ввел в заблуждение коллекционеров по всему свету».
Где-то в 1988 г. по всему Советскому Союзу стали появляться видеосалоны, в которых люди, не имевшие средств для того, чтобы смотреть фильмы в домашних условиях, могли приобщиться к западному кинематографу, все к тем же ужасам, боевикам и порнографии. Фактически наступило то, что удачнее всего можно было бы назвать «демократизацией культуры». Каждый мог выбрать жанр, героя или актера, которого бы он хотел увидеть. Хотя в 1985 г. еще трудно было говорить о демократичности видео, зрители со сформировавшимся вкусом к «элитарному кинематографу» (к Пазолини и Бергману, например) легко могли смотреть «массовое кино» и даже полюбить его. А зрители, у которых вкус еще не сформировался, могли полюбить его точно так же. Тем более что с 1988 г. благодаря салонам видео стало широкодоступным. Алексей (38 лет, небольшой город под Новосибирском) рассказывает о своей зрительской эволюции:
«В эпоху видеосалонов и примерно до 1995-го я смотрел только жанровое кино, отдавая предпочтение ужасам, фантастике и боевикам. Собственно, в видеосалонах в основном такие и крутили, потому что драмы или комедии у нас и так показывали, а тут внезапно рухнула киноплотина, и в страну хлынули фильмы “низких жанров”. Характерно, что после долгих лет поиска “своего кино” в итоге мои интересы сместились в сторону эксплуатационного кино, хотя смотрю я не только его, конечно. Но в общем и целом дешевый жанровый кинематограф периода 1960–1995 гг. у меня приоритетен. Люблю забавные экспериментальные фильмы из каких-нибудь небольших стран в том числе».
Фактически видеосалоны в СССР стали аналогом существовавших в 1960-1980-е годы в Соединенных Штатах грайндхаусных кинотеатров[97], в которых демонстрировали «экстримное» кино, т. е. дешевые развлекательные фильмы, содержащие много насилия, секса, часто просто драк, гонок и т. д. Примерно то же имел возможность смотреть и советский зритель. Примечательно, что грайндхаусы показывали два фильма по цене одного, так называемый double feature. Аналогом чему в салонах СССР и новорожденной России была кассета Е-180, т. е. пленка продолжительностью 3 часа, на которую помещалось два фильма средней длительности полтора часа. Хотя фильмы, демонстрируемые в салонах и в грайндхаусах, разумеется, были разными, важен сам процесс коллективного просмотра видео «низких жанров». Нельзя выделить какие-то специфические черты у публики, которая ходила на просмотр подобных фильмов, поскольку «низкие жанры» в те дни были в диковинку, и посмотреть на такое вначале шли все. Алексей (38 лет, небольшой город под Новосибирском) вспоминает:
«Постепенно, мне кажется, контингент молодел, видимо, потому, что у взрослых людей были другие жизненные приоритеты, и западные фильмы вызывали у них интерес лишь до тех пор, пока они только появлялись. Помнится, практически на всех вокзалах тогда были видеосалоны, и их посещали любые пассажиры, которым нужно было просто скоротать время перед поездом. Постепенно видеосалоны становились обычной деталью быта, так сказать, и в них стало больше молодежи, чем взрослых. Но на поздних сеансах в основном крутили эротику, и подростков на них не всегда пускали. Зато, помнится, в один видеосалон чуть ли не на все сеансы подряд ходил дедушка лет семидесяти, с огромным интересом впитывающий буржуазную кинопродукцию. Вообще, видеосалоны вначале были для многих людей чем-то возвышенно-элитарным вроде церкви. Поэтому многие стремились познакомиться с их владельцами, чтобы бесплатно смотреть фильмы, и эти люди как бы тоже приобретали некий полубожественный ореол в глазах обычной публики. Всякие “крутые пацаны” и постпацаны тоже стремились приобщиться к прекрасному и посещали видеосалоны. Помню, один такой пришел на сеанс с мусорным ведром: жена послала его вынести мусор, а он ушел в ближайший видеосалон смотреть фильм и бухать с владельцем».
А вот как Алексей описывает сами салоны:
«Душные, переполненные залы с несколькими цветными телевизорами на небольшом расстоянии друг от друга. Некоторые телевизоры плохо показывают. Громкий звук порой трещит, и ничего не слышно. Народ сидит с чуть ли не высунутыми от счастья языками».
Новинкой был и видеопрокат. Опять рассказывает Алексей:
«Большинство видеосалонов были организованы частными лицами, которые арендовали помещения, а какая-то часть работала от комсомольских организаций. Один такой “комсомольский” видеосалон открыли как раз в моем доме, и мне было очень удобно туда ходить. Иногда пускали бесплатно, когда я приносил им закуску под выпивку. Многие видеосалоны где-то добывали кассеты сами, но некоторые брали фильмы в видеопрокатах, которых тоже в те дни было немало. Как и у ранних видеосалонов, у видеопрокатов была своя элитарная атмосфера, и люди, которые там работали, пользовались всеобщим уважением. В ранние видеопрокаты ходили работники видеосалонов и те счастливцы, у которых уже имелся видеомагнитофон. В том видеопрокате, который в основном посещал я, на каждую кассету с двумя фильмами была заведена отдельная карточка с аннотациями. Все эти карточки стояли в какой-то коробке, и именно так и нужно было выбирать необходимую кассету. Кажется, стоимость проката одной кассеты в сутки была 1 рубль, т. е. такая же, как стоимость одного сеанса в видеосалоне. Таким образом, можно было прибежать из видеосалона в прокат, взять кассету, прокрутить ее на два сеанса и вечером уже вернуть. В прокатах были очень востребованы порнография и эротика (видимо, потому, что смотреть на голых людей в домашней обстановке зрителям приятнее, чем смотреть на них вместе с кучей других людей разных возрастов и степени опьянения)».
Обратим внимание на тот «элитизм», который постоянно упоминает респондент по отношению и к прокату, и к салону. Фактически интеллигентская элита, которой были доступны просмотры еще в конце 1970-х годов, очень быстро сменилась новой элитой, социально и экономически совсем не похожей на старую. И воспитание, и вкус, и образование у новых держателей тайного знания были совершенно новыми. Однако те, кто пришел на смену старым киноманам, были в значительно большей степени «народными». И многие были готовы это принять. Сергей Митрофанов говорит:
«Я не считаю пиратское кино 1980-х плохим. Оно было демократичным. Не знаю, как в глубинке, но в Москве все-таки была продвинутая аудитория, которой видеорынок дал возможность демократически выбирать из десятилетий киноистории. Поэтому первое, что сделал советский зритель, – снял сливки массовой культуры, а массовая культура Запада, в основном Америки, в то время была достаточно пуританской и гуманистичной. Культовые фильмы 1980-х – это, как правило, очень простые истории (“Рембо: первая кровь”) с зарядом героизма и примитивного морализаторства, которые, хоть убей, улучшать – только портить, отчего они и стали классикой. Можно ли их смотреть сегодня? Наверное, можно».
Но не всем нравилось «демократически выбирать из десятилетий». Например, Яков Шустов вспоминает:
«Видео смотрел в салоне, когда скучно было. Посещал и рынки, чтобы найти нужные видеокассеты. Но сегодня я по ним не скучаю, и смотреть повторно фильмы, которые смотрели тогда, сейчас не стал бы. Кинотеатры были омерзительны. Особенно “Художественный” и “Пламя”. Салоны больше напоминали общие камеры Бутырской тюрьмы, особенно запахом. А эксклюзив, продаваемый тогда на рынке, можно скачать сейчас забесплатно. Запретная буржуазная культура оказалась блефом».
При этом весьма любопытно, что молодое поколение иногда испытывает по «временам видео» больше ностальгии, нежели старшее. Так, молодой кинокритик Антон Кораблев (25 лет, Донецк) вспоминает:
«Я посещал все – и прокаты, и рынки. В среднем – раз в неделю. Скучаю по ним, потому что раньше, в отсутствие Интернета, это был целый ритуал. Просмотр фильма – мистерия. Нужно было охотиться за ценным релизом на VHS, порой заказывать, чтобы записали. То, что Фрейд называет отсроченным удовольствием. Вот этого не хватает сейчас. Гигабайты фильмов копятся на жестких дисках, и нет уже бывалого удовольствия».
С чувством некоторой ностальгии описывает свои видеоувлечения и Алексей (27 лет, Воронеж):
«Пиратское кино, доступное зрителю в 1980-1990-х, я оцениваю очень высоко. Любимые фильмы и те, которые просто нравятся, уже давно есть у меня в коллекции с максимально доступным количеством переводов. Сейчас это кино мне нравится так же, как и тогда, и вызывает только приятные чувства и ностальгию. И, посмотрев очередной такой фильм, понимаешь, что раньше снимали намного лучше, и оригинальных, добротных лент было очень много. А сейчас кино превратилось в сплошные блеклые римейки либо в рисованные на компьютере “поделки”, которые лично я смотреть не могу. Того же старого “Бэтмена” я люблю, а современного “Темного рыцаря” даже не досмотрел до середины… По-прежнему люблю фильмы “Чужой”, “Терминатор”, “Зловещие мертвецы” и “Маску”. Помню, что в 1990-е многие сходили с ума по “Терминатору”, по Шварценеггеру, Сталлоне и другим подобным актерам. Персонально я предпочитал и предпочитаю сейчас Чака Норриса. Его фильмы мне ближе и кажутся более живыми и реалистичными. Да, это была хорошая эпоха, которая, увы, закончилась. Тот олд-скульный старый экшен больше неактуален, он был востребован именно в те времена. Сейчас на смену ему пришло совсем другое и очень чуждое мне кино».
Таким образом, западный кинематограф, распространявшийся по СССР в последние годы его существования, жив и сегодня. Правда, теплую память о нем хранят главным образом молодые люди, которые фактически были на нем воспитаны. Многие зрители старшего возраста почти отказались от былых увлечений, хотя некогда и были фанатами видео. Но вот с материальным напоминанием об ушедшей эпохе они расстаются с большим трудом. В качестве артефактов культуры 58-летний Сергей Митрофанов расставил на стеллажах на балконе несколько тысяч видеокассет. А вот 36-летний Сергей топит ими печку и вскоре сожжет все. Но VHS сегодня еще собирают, правда, ради почти утерянных голосов переводчиков, столь сильно полюбившихся отечественному зрителю. Однако следует помнить, что разлагающийся Советский Союз дал жизнь целой «культуре видео», странным образом сохранившейся и сегодня, пускай и в сильно мутировавшей форме.
© Павлов А., 2012Анна Ганжа ЗВОНКОЕ, ГЛУХОЕ, ТРАВЕСТИЙНОЕ: ТЕМБРОАКУСТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ СОВЕТСКОГО ЭТОСА
Для того чтобы говорить о советском этосе в положительных терминах и пояснить, что мы имеем в виду под его «темброакустическим конструированием», необходимо начать с самого конца и обратиться к стадии его «темброакустической деконструкции». Важной особенностью этой стадии следует считать принципиальную исчерпанность конструктивных возможностей построения некоей альтернативной сонорной сферы, которая могла бы вытеснить и заменить советское пространство звуков и голосов. Это идеальное пространство, предельно искусственное и сложно организованное, должно было постепенно раствориться в стихийной, становящейся бесформенной постсоветской реальности. Новая реальность конечно же не была лишена голосов и звуков. Напротив, внезапно обнаружилось, что обволакивавшее нас до тех пор акустическое облако куда-то исчезло, и мы очутились лицом к лицу с лавинообразной, хаотичной массой шумов, скрежетов, завываний, всхлипываний, стонов, шепотов и криков, в которой не было ни порядка, ни смысла, но только ничем теперь уже не сдерживаемое и исходящее из множества конкурирующих источников желание завладеть нашим слухом. Однако в этой сонорной инвазии, разрушительной для нашей социальной восприимчивости, уже нельзя было усмотреть каких бы то ни было оснований и поводов для конструирования нового, постсоветского этоса. Нормативно-этическая модель советской аудиальной утопии трансформировалась в пеструю картину нравов и образов жизни, стремящихся во всеуслышание заявить о своем праве на существование. Смысл произошедших изменений в конце концов оказывается представлен характерными сонорными новообразованиями, обозначившими точки фрактуры и катастрофической мутации советского темброакустического этоса.
Этим мутациям и катастрофам предшествовала череда последовательных и сложноконструируемых действий по трансформации старых и новых идеальностей и налаживанию особых механизмов взаимодействия их с собственно человеческим. Новые технические возможности, заграничная мода, лучшие образцы для подражания – все это становилось невидимым материальным фоном производимого идеального конструкта, языком, с помощью которого обрисовывались контуры нового целого. Генеалогия порождаемого голосом смысла становится несущественной, когда новые типы темброакустического вступают в зону актуализированного этоса.
Обратимся к трем эпизодам конструирования советского этоса.
Первый – культивирование лирических теноров в 1920–1950-е годы Звенящее, разгульное, неуправляемое (Вадим Козин, Петр Лещенко) эволюционирует поначалу в доверительное, теплое и ликующее (Сергей Лемешев, Иван Козловский), превращаясь в 1940-е и 1950-е в аполлоническую разновидность сладкоголосого утешителя тех, кто устал от грохота и шума войны (Георгий Виноградов, Владимир Нечаев). В 1960-е годы обладатели высоких певческих голосов начинают отыскивать у себя скрытую баритональность или переходят в разряд законсервированных образцов. И именно в 1960–1970-е годы ведутся активные поиски применения мальчишечьим дискантам и девчоночьим сопрано, в досекулярное время ассоциированным с «ангельским пением». Теперь этим голосам в качестве преемников отводится роль носителей романтической и экзальтированной устремленности к бесконечному («в голубой океан улетаю… жизнь отдам я за то, что люблю»; «и мчит меня олень в свою страну оленью»; «я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханьем Землю обогрею»).
Между тем – и это второй важный эпизод – под предлогом новых возможностей, предоставляемых техникой дубляжа, происходит экспроприация живого детского голоса в пользу профессиональных травестийных голосов женщин и бабушек. Травестийными голосами начинают говорить почти все герои от 1 года до 13 лет, а также все герои мультипликационных фильмов, даже если они представляют мелких зверушек или фантастических (но не крупных) персонажей. Иногда делаются исключения, но только в отношении евнухоидных тембров. Так формируется этос полуребенка-полувзрослого, серьезного маленького человека, чуть ли не с рождения берущего на себя бремя ответственности за все тяготы мира. С травестийными закадровыми героинями его объединяет способность мечтать и сопротивляться природным данностям. С начала 1980-х годов наблюдается неуклонное возвращение детям их тембров.
Третий удивительный пример сколачивания желаемого этоса обнаруживается в дублированных художественных фильмах киностудий союзных республик – от «Таджикфильма» до Рижской киностудии. С конца 1960-х годов здесь начинают «собирать» нового героя – рефлектирующего и интеллигентного, способного в непростых ситуациях сделать правильный моральный выбор. Поскольку акустическое, как правило, выступает по отношению к визуальному как его смысл, то глухой, надтреснутый, разочарованный, нервный и усталый закадровый голос московского или ленинградского актера производил работу рождения национальной интеллигенции эффективным и незатратным способом.
Эти примеры, будучи осмысленными в их неочевидной взаимосвязи, помогут нам охарактеризовать структурную определенность советского этоса как такого сложного целого, которое не просто больше суммы своих частей – отдельных явным образом поименованных этических добродетелей и императивов, – но в каком-то смысле противостоит им в качестве их непроговариваемой и неосознаваемой основы. Для того чтобы разместить «этос» и «этическое» в горизонте общезначимого и традиционного истолкования этих понятий, обратимся к самому началу «Большой этики» Аристотеля: «Всего короче будет сказать, что этическое, по-видимому, – составная часть политики. В самом деле, совершенно невозможно действовать в общественной жизни, не будучи человеком определенных этических качеств, а именно человеком достойным. Быть достойным человеком – значит обладать добродетелями. И тому, кто думает действовать в общественной и политической жизни, надо быть человеком добродетельного нрава. Итак, этика, по-видимому, входит в политику как ее часть и начало (archē); и вообще, мне кажется, этот предмет по праву может называться не этикой, а политикой»[98]. Цитирование этого общеизвестного места необходимо нам еще и потому, что, на наш взгляд, советский этос строится в согласии с аристотелевской моделью этического, в том смысле, что этическое здесь без остатка принадлежит области общественного: любые частные, рефлексивные, «келейные» практики нравственного самосозидания находятся «за гранью» конструируемого пространства реализации этических– т. е., строго по Аристотелю, внеразумных – добродетелей советского человека. Специфика этоса советского человека – по сравнению, например, с этосом гражданина афинского полиса – заключается в том, что центральным моментом здесь является вовсе не положительный идеал разумного и устремленного к благу действования в полной мере дееспособного субъекта на гражданском поприще. Очевидно, в XX в. такой простой и ясный идеал невозможен. Он воспринимается как архаичный, досовременный, относящийся к примитивной и давно забытой стадии истории субъекта. Очевидно также, что причиной такого восприятия античного гражданского идеала является во многом несовместимый с ним и в то же время сформировавший «современного человека» в его окончательно взрослом состоянии христианский аскетический идеал. Принимая во внимание этот факт, можем заметить, что подлинным нервом советского этоса является негативный идеал отречения от всего того, что формирует меня как личность, – от всего «внутреннего», «частного» и «субъективного», – причем именно такого «частного» и «субъективного», которое возвышает меня над частностью моей природной, телесной ограниченности и субъективностью моих слишком специфических, слишком приватных социальных привычек. Можно сказать, что смысл такой самокастрации заключается в том, что звучавший из сокровенной глубины человека голос совести – голос, формировавший внутреннее акустическое пространство самоисследования, самособеседования, самоистолкования и самоосуждения, – теперь если и не заглушается совсем, превращается в эхо, простое повторение извне звучащих сиреноподобных голосов коллективной, обобществленной, готовой совести.
Здесь мы должны сделать важную оговорку: в действительности определенный таким образом этос советского человека – этос самоотречения, принесения себя в жертву, растворения в социальном – мало чем отличается от этоса европейца или американца эпохи «восстания масс» и господства «культуриндустрий». Ссылка на принципиально иной характер соотношения приватного и публичного в западной культуре по сравнению с культурой советской в данном случае не работает: отчуждение человека от собственной сущности не может быть восполнено – ну, разве что мнимым, иллюзорным образом – наличием «частной жизни» и «частного пространства», если это пространство не является пространством молчания и вдумчивого вслушивания в свой внутренний голос, если оно наполнено голосами извне. По сути, именно эту ситуацию безоговорочной капитуляции перед массовой культурой с ее деморализующим этосом описывают в «Диалектике Просвещения» М. Хоркхаймер и Т. Адорно: «Нужно только полностью признаться в своей собственной ничтожности, только расписаться в своем поражении, и сразу все станет на свои места. <…> По сути дела, речь при этом идет повсюду о самоосмеянии человека. <…> Поведение отдельного человека… приобретает своеобразные мазохистские черты. Манера держать себя, которая навязывается каждому для того, чтобы позволить ему все вновь и вновь доказывать свою пригодность для этого общества, напоминает тех мальчиков, которые в ритуале приема в племя под ударами жрецов, стереотипно улыбаясь, двигаются по кругу. Существование в условиях позднего капитализма есть не что иное, как непрерывно длящийся обряд инициации. Каждый обязан демонстрировать, что он без остатка идентифицирует себя с властью, ударами его осыпающей. Это заложено в принципе синкопы в джазе, одновременно высмеивающем запинки и возводящем их в норму. Евнухоподобный голос исполнителя сентиментальных песенок на радио [курсив мой. – А.Г.], привлекательной наружности поклонник наследницы, в смокинге падающий в плавающий бассейн, – таковы образцы для подражания для тех людей, которым самих себя надлежит превратить в то, чего добивается система, их ломая. Каждый может быть подобен всемогущему обществу, каждый может быть счастливым, если только капитулирует целиком и без остатка, поступится своим правом на счастье»[99]. На примере этого отрывка хорошо видно, что авторы «Диалектики Просвещения» усматривают прямую связь между формируемым массовой культурой пораженческим этосом и определенными темброакустическими феноменами, в частности, «евнухоподобным голосом». В данном случае эмфатическая характеристика лирического тенора совершенно не случайно основывается на мотиве кастрации.
Из этого же отрывка можно почерпнуть отдельные мотивы, которые помогут нам обозначить разницу между условно «советским» и условно «западным» этосами. Нетрудно заметить, что слова о «признании в собственной ничтожности» и «осыпании ударами», будучи отнесены к советскому человеку, обретают пугающе буквальный смысл. Однако разница не только в несравнимо большей радикальности и жестокости тех требований, которые советская власть предъявляет к своим подданным. Разница заключается еще и в том, что должен принести в жертву человек, чтобы стать «человеком достойным». Если западная «культуриндустрия» обещает человеку комфортное существование в обмен на отказ от самосознания, от осознания конститутивного трагизма собственного существования и неснимаемой противоречивости общественного бытия, то советская «культуриндустрия» предлагает такой обмен: «Отказаться от рефлексии, от способности отыскивать противоречия в себе и в окружающей действительности – этого мало. Откажись от себя целиком, без остатка, откажись от той сокровенной глубины, в которой ты мог бы сохранить себя, откажись от совести, от души, от жизни – и взамен ты получишь все то, о чем просишь: тебе будет дано испытать сладострастный экстаз страдания и манящий мрак абсолютного небытия»[100]. Другими словами, необходимо отказаться от всего человеческого в себе самом, чтобы получить право рассчитывать на нечеловеческое отношение к себе.
Несомненность связи советского этоса – этоса сакральной жертвы и наркотической самообездвиженности – с перечисленными выше примерами темброакустического конструирования может быть проиллюстрирована многочисленными частными случаями. Одним из наиболее характерных является случай Вадима Козина, ставшего в последнем – наиболее продолжительном – акте своей жизни певцом «магаданских бульваров». Что касается общей парадигмы такого конструирования, необходимо указать в первую очередь на характерные черты лирического тенора – голоса, который является темброакустическим эквивалентом добродетели эротической беспомощности, кастрации собственной воли и предоставления себя в полное распоряжение чему бы то ни было. Этот высокий голос при условии соблюдения технических норм постановки и «эксплуатации» обладает такими качествами, как гибкость, звонкость, подвижность, управляемость. Во многих отношениях он, несмотря на относительную редкость, является более универсальным, чем низкие и средние голоса или высокие драматические голоса. При этом техническая и выразительная универсальность вовсе не означает, что этот голос апеллирует к высшим способностям разумной части человеческой души. Скорее, наоборот: чаще всего именно низкие голоса нуждаются в рассудочных, логических подпорках для успешного конструирования внутреннего акустического пространства. Низкий голос взывает к разуму и в то же время аффицирует какую-то конкретную эмоцию – например, тревогу, гнев, спокойную сосредоточенность. В этом смысле лирический тенор не способен актуализировать ни одной определенной, если можно так сказать, «рациональной» эмоции. Эмоциональность, возбуждаемая звуками лирического тенора, скорее, иррациональна и дискурсивно неспецифицируема. Это некая непроизвольная и обобщенная чувствительность, направленная не на конкретный предмет, но на самого погруженного в акустическое пространство индивида. Таким образом, этот голос способствует не концентрации, но, наоборот, рассеянию душевных сил и эмоций. В состоянии сентиментального разлития и размягчения субъект достигает все-таки необходимого – в плане этического конструирования – момента всеобщности и универсальной значимости, а именно всеобщности утраты внутренней сознающей себя определенности – «трезвения», как можно было бы сказать на ином языке – и универсальной значимости эротического растворения в чем-то безличном и текучем.
Итак, низкий голос – это голос рассудка, которому нельзя не внимать и который вместе с тем в большей степени подвержен рациональной критике. Ложь, доверенная низкому голосу, осознается именно как таковая, тогда как ложь, мягко пропеваемая лирическим тенором, воспринимается как греза, как дремотносладостное видение: загипнотизированный визионер не в силах осмыслить грезу логически, он способен лишь в состоянии полной утраты воли позволить грезе полностью окутать его и овладеть им. В этом смысле низкий, текстурно насыщенный, индивидуализированный голос нуждается со стороны слушающего субъекта в развитой социально-акустической восприимчивости. Тогда как преобладание высоких мягких тембров – проводников сковывающего и обволакивающего наркотического эроса – способствует повсеместному распространению социально-акустической глухоты – глухоты, которая становится важной составляющей эффективного темброакустического конструирования советского этоса. Можно сказать, что глухота, проявляемая в отношении лирических теноров, – как неспособность соотнести голос и его носителя, неспособность критически осмыслить социальное содержание послания, доверенного лирическому тенору, – становится модусом восприятия слушателями самих себя: убаюканные непрерывно звучащими голосами любимых певцов, они теряют способность к слышанию собственного внутреннего голоса.
В 1970-е годы в репертуаре голосов, которые можно квалифицировать как лирические тенора (Геннадий Белов, «Песняры», Валентин Дьяконов), появляются песни, тексты и аранжировки которых содержательно оказываются в полной мере созвучными социальному смыслу лирического тенора как такового. Это песни о природе и Родине, точнее, о Родине, воспринимаемой эротически и эстетически в качестве природы, влекущей субъекта в свои объятия и обещающей ему полное в них растворение («Беловежская пуща», «Березовый сок», «Травы, травы»). Голос, и без того не укорененный в материальном, – и, кстати, почти не использующий грудной резонатор, – инфантильный, бесплотный, беспочвенный – обнаруживает предмет своей конститутивной устремленности к универсальному в утопии природно-социальной пантеистической цикличности: истончиться, исчезнуть, умереть, стать капелью, живительным ручьем, лучом света, дуновением ветра.
Несколько иначе социально-акустическая глухота проявляется во втором упомянутом нами эпизоде. Ребенок, говорящий не своим голосом, – это ребенок, не опознанный в качестве такового. Собственный голос мальчика или девочки среднего школьного возраста слишком индивидуален, неуправляем, несет слишком явственный отпечаток приближающегося взросления, это голос в изменении, голос, отсылающий ко времени, к становлению и, следовательно, к негативному. Консервация детского голоса посредством замещения его травестийным, искусственно сконструированным голосом взрослого человека приводит к консервации социального смысла, выразителем которого голос является. Становясь обобществленным медиумом фиксированной социальной интонации, травестийный голос, соединенный с образом ребенка, погружает зрителя в состояние сна наяву, субстратом которого является уже не процесс эротического растворения во всеобщем, как в случае с лирическим тенором, но, скорее, непроизвольное течение свободной и бесцельной игры способностей воображения и рассудка. Мир, населенный персонажами, отчужденными от собственного голоса и, таким образом, глухими к тому социальному смыслу, который мог бы быть выражен посредством этого голоса, – это и есть образ общества, в котором достоинство человека определяется мерой отрицания им себя самого. (В качестве одного из многочисленных примеров здесь можно упомянуть фильм с характерным названием «Приключения в городе, которого нет» (1974), в котором действуют более 20 наиболее известных героев мировой детской литературы, и при этом ни один детский персонаж не говорит своим голосом.)
Очевидно, третий из упомянутых эпизодов – русскоязычный дубляж художественных фильмов киностудий союзных республик – с точки зрения выявляемых нами закономерностей близок ко второму, только отчуждается здесь конечно же национальный характер персонажа. Впрочем, здесь следует сделать поправку на то, что, говоря о национальном характере, мы часто имеем в виду искусственную конструкцию, одним из средств продуцирования которой является темброакустический «перевод» персонажа в чуждую языковую среду. В этом смысле мы, скорее, склонны принять за «немца» русского актера, который говорит в фильме на подчеркнуто немецком языке – т. е. обозначает немецкий язык – или с подчеркнуто немецким акцентом, нежели природного немца, не стремящегося в своей речи акцентировать факт ее «немецкости». Если же речь идет о среднеазиатских актерах, то в силу особенностей национального звукоизвлечения и интонирования мы, возможно, и вовсе не смогли бы считать «социальный смысл» персонажа, говорящего в кадре на родном языке, если бы смотрели фильм с субтитрами. Можно сказать, что в перспективе подобной темброакустической несоизмеримости культур «национальность» таджикского или киргизского актера становится в один ряд с «детскостью» персонажей фильма «Приключения в городе, которого нет», а собирательный образ советского человека, представленный 15 национально-республиканскими ипостасями, оказывается не меньшей утопией, чем образ 12-летнего отрока, говорящего голосом Елены Камбуровой.
© Ганжа А., 2012V. Рожденное в СССР: становление потребительского общества
Иван Куликов ВЕЩЬ В СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ И ФУНКЦИЙ
Процесс потребления товаров и услуг в Советском Союзе, как и в любой другой стране, имел свои особенности. На него оказали влияние не только такие факторы, как ментальность и творческая жилка русского человека, но и ориентированность советской экономики на оборонную промышленность. К тому же закрытость от капиталистических стран и тотальный дефицит большинства товаров повседневного спроса, которые были так необходимы советскому гражданину в быту, только развили эти черты. Безусловно, были люди, которые имели доступ к любым благам, предлагаемым тогдашним миром, однако таких людей было немного. Большинству же приходилось пользоваться теми товарами и услугами, которые были представлены в магазинах. А когда они не находили необходимого, начинали мыслить творчески, переделывая для своих нужд разного рода продукцию. Речь в данном случае идет не просто о единичных случаях такого использования вещей, а о целом феномене, который характерен именно для той эпохи, а именно о многоразовости.
Под многоразовостью здесь понимается многократное использование любого изделия независимо от приписываемого ему срока службы и назначения. Изделие может как использоваться по своему первоначальному назначению (бутылки, банки), так и получать новое (коробка из-под конфет превращается в хранилище для ниток). Дальнейшая жизнь предмета определяется не его изготовителями, а самим потребителем.
В своей книге «Общепит. Микоян и советская кухня» И. Глущенко пишет о том, что «в условиях постоянного дефицита любой тары всякая емкость рассматривалась как потенциальное вместилище. В коробках из-под печенья хранились лекарства. В стеклянные банки засыпали сахар, крупу. Все, что можно было заворачивать, заворачивали в грубую и толстую оберточную бумагу, а за неимением ее – в газету»[101]. Действительно, такое потребление было характерно почти для каждой семьи. Если вспомнить, то полвека назад самой популярной профессией в Советском Союзе был инженер. Он шел на работу, чтобы конструировать разные детали и приборы для нужд советской промышленности. А приходя домой, уже оптимизировал для своих нужд то, что не было должным образом произведено на заводах и фабриках страны. Примеры такого поведения можно видеть не только в повседневной жизни, но и в кинематографе. В частности, в фильме «Москва слезам не верит» (режиссер Владимир Меньшов) было показано, как герой Алексея Баталова с помощью пылесоса и пластмассовой емкости с резцами сделал приспособление для измельчения зелени.
Буквально каждый предмет, который мог еще хоть как-то использоваться, шел в дело. Доходило до смешного: некоторые люди, исписав шариковые ручки, изготавливали на дому, в кустарных условиях, свою пасту-наполнитель на основе меда и промышленных красителей. Существовала целая индустрия – письма читателей в различные газеты и журналы, публиковавшиеся в специальных рубриках, в которых давались советы, как дополнить конструкцию какого-либо предмета, чтобы увеличивались возможности его использования. Такие колонки были как в газетах, так и в журналах. Советы, которые давали читатели, имели разносторонний характер. Их можно условно разделить на две группы:
1) вторичное использование вещи после небольшой доработки или ремонта в случае поломки;
2) вторичное использование вещи, не требующее доработки.
Рассмотрим еще один интересный феномен, который тесно связан с многоразовостью, – феномен «другой жизни» вещей.
Стоит признать, что практически все, что производила советская промышленность, делалось, как говорится, «на века». Так как флагманом была военная индустрия, многое из производимого непременно подстраивалось под нее. Недостаток технологий компенсировался долговечностью этих изделий. И даже когда вещи переставали служить по прямому назначению, их не выбрасывали. Изделия перепрофилировались людьми под свои нужды.
В ход шло абсолютно все. Простой треугольный дорожный знак становился лопатой, треснутые колесные диски – хорошей антенной, коробки из-под спичек использовались как ящички для хранения мелких бытовых принадлежностей домашнего мастера. Этот феномен оказался настолько ярким, что некоторые из таких вещей стали произведениями современного искусства. Художник Владимир Архипов известен тем, что занимается коллекционированием переделанных вещей[102]. Вещи, которые он собирает, не отрефлексированы их авторами, в том числе и эстетически. Когда человек задумывается об эстетике, его непосредственность замутняется представлениями о том, как это должно быть, и «чистота эксперимента» пропадает. Самодельные вещи – уникальная часть материальной культуры, официально не существующая, поскольку их производство не было санкционировано. Эти самоделки сохранили ауру своего создания, они поражают невозможной честностью в эпоху поп-культуры. Никто не слышал о вещевом фольклоре, а он – в этих предметах. Самодельные вещи существуют в широком диапазоне – от загадочных до совершенно понятных.
Для раскрытия указанного феномена были использованы два типа источников: устные и письменные. К письменным источникам относятся номера журнала «Наука и жизнь» с 1970 по 1979 г. (впрочем, такие колонки печатались и в журналах «Здоровье», «Химия и жизнь», «Наука и техника», «Техника молодежи» и др.). В рубрике «Письма читателей», присутствовавшей в каждом номере издания, публиковались советы, которые предприимчивые сограждане давали другим читателям[103].
Вот лишь некоторые из них.
Вторичное функционирование предмета при небольшой переделке (или в сочетании с другими предметами).
Использование бельевой прищепки:
вместе с чулком – как самодельное устройство для проявки фотопленки;
несколько прищепок, прикрепленных к рейке, – удобный сушитель для полотенец.
Пробка от бутылки набивается на конец ручки долота – используется для защиты от скалывания.
Можно получить щуп для измерительного прибора для тока, если конец оголенной проволоки через пустой стержень просунуть к наконечнику ручки.
При склейке спичечных коробков получаются целые «шкафчики» для хранения разной мелочи.
Колготки и чулки можно использовать вместо губки. Непременно отдельную губку надо использовать для мытья посуды из-под подсолнечного масла.
Если взять футляр от губной помады и засунуть в него кусочек мела, то получается удобный держатель для мела как для письма, так и для раскройки тканей.
Старые валенки можно нарезать квадратиками и использовать их в качестве набоек на ботинки при гололеде.
Можно самому сделать замену пульверизатору, если взять два отрезка от пустой трубочки или два использованных стержня и соединить их пластилином.
Разбитая елочная игрушка и немного фосфорицидного состава, наклеенные на кнопку выключателя, позволят «не потерять» его в темноте.
Тонкие полоски резины, наклеенные на плечики, предохранят брюки от соскальзывания.
Полиэтиленовый пакет, разрезанный лентами, служит хорошим материалом для заклеивания щелей между дверью и дверным проемом.
Две узкие полоски поролона, наклеенные на дно полки, – прекрасное средство для того, чтобы книги на книжных полках не скользили.
Кусок ластика с несколькими надрезами, закрепленный в старой кисти, сможет послужить отличным плакатным пером.
Кусок пористой резины, вставленный в портфельный замок, будет хорошей заменой сломанной в нем пружины.
Устройство, сделанное из лески или веревки, натянутое на реечки, может стать прекрасным приспособлением для сушки белья.
Очень много советов дается по использованию старых автомобильных покрышек:
покрышка с деревяшкой – изоляционная подставка при работе с током;
инструменты, необходимые для работы с автомобилем, можно разместить на старой покрышке непосредственно рядом с местом работы;
покрышка с установленными в нее деревянными распорками может служить импровизированным вольером для цыплят;
из куска покрышки можно сделать сушку для белья;
покрышка с надрезами на ее фронтальной части – прекрасный держатель для ботинок с коньками;
из покрышки можно сделать крепление к стене для банок с краской;
кусок покрышки, прикрепленный к деревянному брусу, – отличный держатель для велосипеда;
если положить покрышки друг на друга, можно облегчить колку дров – отколотые куски не будут разлетаться в стороны;
с помощью покрышки можно сделать буксирный трос упругим.
Вторичное использование изделия, не требующее доработки.
Использование бельевой прищепки в качестве: изделия для поддержания растущего цветка; длинного пинцета; защелки;
рычажка для заливки трещинок клеем; автомата для включения радиоточки; закрепления фильтровальной бумаги в воронке;
крепления для ручки; держателя гвоздя при его забивании; страховки от предохранения пальца руки от удара молотком;
крепления для воронки из бумаги; приспособления для резки острых кустарников и цветов (например, чтобы срезать розу, не уколовшись).
Использование пробки из-под вина в качестве поплавка на рыбалке.
Использование газеты для утепления цветов на даче.
Картонная упаковка от лампочки надевается на скрученные чертежи, чтобы они не раскручивались.
Полиэтиленовые пробки от бутылок, резиновые пробки от пузырьков из-под пенициллина – прекрасный резиновый уплотнитель для электрического чайника.
Использование сломанного дверного ключа в качестве открывалки для бутылочных пробок.
С помощью спицы удобно переливать жидкость из одного узкого горлышка в другое.
Ненужные кусочки ткани предохранят чертежный лист от деформации.
Куски ткани забиваются в щели – для предотвращения сквозняков.
Полиэтиленовый мешочек, натянутый на масленку, защитит руки от масла.
Для предотвращения копоти сковороду с внешней стороны натирают мылом.
Толстая проволока используется в качестве подставки для стакана в полевых условиях.
Сломанный стул легко приспосабливается под нужды художника в качестве мольберта.
Спичечный коробок можно использовать в качестве плоской катушки для хранения ниток.
При отсутствии ключа или ручки вантуз прекрасно подходит для выдвижения ящиков из стола.
Лист пластмассы, сложенный гармошкой, может послужить прекрасным устройством для хранения и сушки посуды.
Остатки плотной бумаги (полосками) могут служить крепежом для ватмана, чтобы не портить углы бумаги.
Из старой автомобильной камеры можно сделать ведро.
С помощью резинки и пластмассового стаканчика можно сделать миниатюрное и декоративное приспособление, служащее для маскировки дырки из-под перевешенного на другое место светильника.
Пластилин прекрасно подойдет для закрепления гвоздя под углом[104].
Параллельно с изучением письменных источников автор статьи в 2010–2011 гг. проводил интервью в реабилитационном центре «Доверие» г. Обнинска, в обнинском протезно-ортопедическом предприятии, в обнинской городской поликлинике (среди пациентов, находящихся в очереди к кардиологу), в общежитии № 6 НИУ ВШЭ г. Одинцово. Эти устные источники дали автору уникальную возможность расширить информационную базу за счет свидетельств очевидцев той эпохи. Без этих ценных сведений исследование было бы неполным.
В данном случае это были неформализированные интервью, длительные беседы по общей программе, но не стандартизированные. Было опрошено 30 человек с целью установить: действительно ли имело место постоянное использование упаковки товаров после того, как тот продукт, для которого она предназначалась, был употреблен. К тому же требовалось выяснить, какие способы нетривиального использования разных товаров применяли опрошенные респонденты. Они подбирались по возрастному критерию, т. е. с учетом того, что большую часть своей жизни они прожили в Советском Союзе. Поэтому самому молодому респонденту на момент интервьюирования было 49 лет. Каждому из них были заданы следующие вопросы:
• «Какие виды упаковки вы можете вспомнить в Советском Союзе?»
• «Какие из них встречались чаще всего (каких было больше, а какие были в дефиците)?»
• «Какие случаи нетривиального использования упаковки, а также других предметов вы могли бы вспомнить?»
• «Каково, по вашему мнению, количество мусора, выбрасываемого в Советском Союзе, по отношению к сегодняшнему времени?»
Некоторые примеры были указаны только несколькими опрошенными. Среди них – приспособление красивой бутылки под вазу, а также использование ее в качестве предмета интерьера. Дело в том, что при всеобщей стандартизации красивая форма бутылки была редкостью, поэтому при первой же возможности такую бутылку приобретали и после употребления напитка ставили на видное место. Не выбрасывались также железные баночки из-под пищевых продуктов. Леденцы монпансье, некоторые сорта чая, конфеты и даже баночки из-под малознакомой тогда пепси-колы шли в дело.
«Были такие конфеты – монпансье, вот их покупали, конфеты съедали, а потом складывали туда всякую всячину. Да и сейчас, когда остаются от масла пластиковые банки, от майонеза или еще от чего – отношу все это в гараж, а туда складываю гаечки, болтики – мало ли что пригодится» (Виктор Васильевич, 60 лет)[105].
Как уже говорилось, экономика Советского Союза была ориентирована в основном на военную промышленность. Приведем еще один пример, полученный из устного интервью. Этот случай произошел на севере, близ поселка Уват Тюменской области:
«В нашем районе с определенной периодичностью падали остатки отработанных ракетных ступеней. Не знаю, из чего они были сделаны. Скорее всего, это титановый сплав. Что представляли собой эти ступени? Это большая труба длиной метров пять. Так вот, летом – когда она падала – толку не было, местность-то болотистая. А вот когда зимой – тут другой разговор. Если ты нашел в снегу ступень – это сродни кладу. В наших краях и так ничего нельзя было достать – а тут такое… Так вот брали мы эту ступень, распиливали на несколько частей вдоль и поперек. Получалась отличная волокуша. А приспосабливалась она везде. Кто загнет конец и привяжет к упряжке собачьей или к снегоходу, чтобы легче было перевозить всячину всякую. Кто на забор ее пустит или на крышу. Кто как трубу оставит. В общем, что хочешь, то с ней и делай» (Людмила Ивановна, 70 лет).
Материалы, из которых производили упаковочные изделия, по большей части были либо из металла, чтобы сохранить долговечность продукта, либо из стекла или других прозрачных материалов, которые давали представление о том, какой товар берет покупатель. Если сравнить упаковку, которая была в Советском Союзе, и ту, в которой привозили товары из-за границы, увидим некоторые отличия.
«Я сама работала в торговле. Мыло вообще шикарное было. Привозили из Польши и из Болгарии. Немецкое мыло было очень качественное. Оно в коробках было, и коробки такие необычные. У нас мыло было в бумаге – обычный кусочек, а в Германии это настолько стильно завязано, настолько завернуто красиво! Бралась обычная коробочка, ну, как сейчас можно купить – в них кошельки продаются, – а сверху прозрачная крышечка. А какое мыло было! И овальное, и квадратное – и какого только не было» (Людмила Ивановна, 70 лет).
Действительно, если рассматривать упаковку, то она не играла никакой роли. Если это мыло, то оно не имело эстетической ценности и было предназначено исключительно для того, чтобы им мыться, иными словами, использовать по назначению. Мыло было всего нескольких видов: обычное белое, хозяйственное, дегтярное. Все они были сделаны в виде брикетов. Никакого фигурного мыла не предполагалось. То же можно сказать и насчет запаха. Респонденты никогда не вспоминают запахи советских изделий. Однако за отсутствием красителей и красивой упаковки скрывалась именно натуральность этого продукта. В этом случае у советского человека не оставалось другого выбора, как использовать этот продукт только по основному назначению. Одна из респонденток подтверждает этот тезис:
«Среди упаковок – тебе это расскажут все тетеньки за пятьдесят – для нас лучший подарок, если кто-то из-за границы привезет мыло и останется эта коробочка от мыла, иностранная. Потому что русское мыло никогда в таких коробочках прямоугольных не было. А самое главное – оно так вкусно-вкусно пахло! Им не мылись, на него любовались, девочки между собой хвастались, у кого какое. Впервые в Москве появились магазины “Прага”, “Варна”, которые торговали иностранными товарами, и туда привозили импортную косметику» (Александра Семеновна, 78 лет).
То же касалось и шампуней. Они продавались в железных тюбиках, в пластмассовых упаковках, которые не имели эстетической привлекательности. Другое дело – иностранные шампуни.
«Баночки от иностранных шампуней… Мы тогда впервые увидели, что шампуни могут быть не в стеклянных банках, а в пластиковых. У них они уже дозированные были. Яичный шампунь был, что-то еще… В основном шампуни были болгарские, польские. Раньше шампуни были в металлических тюбиках, их выдавливали – какие там у них были ароматы» (Светлана Александровна, 69 лет).
Приведем любопытный факт – на советских упаковках шампуня была надпись: для мытья волос (для мытья головы).
В то время как советская упаковка не выделялась яркостью и цветом, в западных странах отлично понимали ее роль в продвижении товара. Главной составляющей упаковки стал именно дизайн. Продавался не столько сам товар, как это было в Советском Союзе, сколько приятные эмоции, которые были связаны с ним. Этому как раз и способствовала красочная упаковка продукции. С уверенностью можно утверждать, что в Советском Союзе содержание было важнее формы, в то время как на Западе – наоборот, форма превалировала над содержанием. Яркой иллюстрацией данного факта служит упаковка сока в СССР. Это была стеклянная банка различного объема, в то время как на Западе уже использовалась упаковка типа тетра-пак с красочными дизайнерскими рисунками на внешней стороне.
Хотя упаковка в Советском Союзе и не была представлена в таком масштабе, как сейчас, но без нее, конечно, нельзя было обойтись. Первый вопрос, которым мы открывали интервью, звучал так: «Какие виды упаковки вы можете вспомнить в Советском Союзе?» Большинство респондентов признавали, что упаковки как таковой в СССР они встречали очень мало. В основном они указывали, что пищевые продукты продавали на развес. Эти продукты упаковывали в бумагу, которую специально, именно для этих целей, привозили в магазины рулонами. Ее отрезали, упаковывали в нее взвешенный товар, и после оплаты покупатель забирал его.
«Упаковки были бумажные. В бумагу заворачивалось абсолютно все. Даже мусор, который выбрасывали, – и тот заворачивали в бумагу. Селедка заворачивалась в бумагу, бутерброды мужу на работу в газету заворачивала. Еще у нас в магазине, когда без банок приходили, творог в бумагу завертывали» (Евгения Валерьевна, 67 лет).
Похожая ситуация наблюдалась и с жидкой продукцией. Из основной массы ответов следует, что жидкие продукты доставлялись в специальных бочках, которые привозились прямо с ферм или из совхозов либо к магазинам, либо к месту проживания людей. Для таких продуктов были специальные бидоны, а также трехлитровые банки, в них разливались молоко или квас.
«Из жидких продуктов, помню, квас в бочках продавался. Стояла бочка, ты приходишь с трехлитровой банкой или чаще всего со своим бидоном, потому что надо было взять на всю семью, отстаиваешь очередь, и тебе в них наливают. То же самое было и с молоком. Рано утром занимаешь очередь, из совхоза к нам прямо во двор приезжала большая цистерна с молоком. Покупали его, дома кипятили и использовали кто как хотел» (Михаил Викторович, 57 лет).
Среди жидких продуктов отдельно следует выделить подсолнечное масло. Поход за маслом имел свои особенности.
«В одной семье хождение за подсолнечным маслом было обязательным, но неприятным ритуалом. Это была “грязная работа”, от предчувствия которой портилось настроение. Сначала намечался день. С утра отец с сыном-подростком готовили себя к неизбежному: бутылки складывались в специальную сумку, надевалась “плохая” одежда, потому что хорошую было жалко. И вот, оттягивая этот момент до невозможности, они, наконец, шли в магазин, подставляли бутылки, часть масла обязательно проливалась, затем ставили их в кошелку и брели домой, оглядывая себя и отмечая новые масляные пятна на куртках и пальто»[106].
Среди конкретных упаковок, которые вспоминали респонденты, чаще всего можно выделить треугольные пакеты из-под молока. Их помнит большинство. Фигурировали также железные банки из-под тушеного мяса или сгущенного молока, стеклянные бутылки из-под пива либо лимонада. Стеклянная посуда сдавалась в специальные пункты приема стеклотары. Впрочем, сдать можно было не только ее, но и макулатуру.
Острый дефицит упаковки в Советском Союзе породил такую типичную для того времени особенность потребительского поведения, как покупка того или иного продукта исключительно ради его упаковки. Это могло происходить в двух случаях. Во-первых, когда покупателю необходима была упаковка как емкость. В основном к такого рода приобретениям относилась покупка продуктов в стеклянных банках.
«В стеклянных банках продавались компоты, соки, иногда варенье – в общем, все то, что не нужно было. Покупали такие продукты только из-за банки. У нас банки не продавались, и мы вынуждены были так их “доставать”. Мы вообще все тогда “доставали”, не только банки» (Игорь Алексеевич, 75 лет).
Во-вторых, продукт покупался исключительно из-за красивой упаковки тогда, когда товар был дефицитный. Такое случалось, например, с коллекционными шоколадными конфетами.
«Это же редкость – большая коробка конфет, особенно шоколадных. Это же целый праздник был, если их купить. Коробку, конечно, ни в коем случае не выбрасывали – нельзя такому добру пропадать было. В ней обычно жена хранила нитки, ну, или дочка что-нибудь свое положит. Но нет – ни в коем случае не выбрасывать» (Игорь Алексеевич, 75 лет).
Среди нетривиальных случаев использования упаковки можно выделить несколько характерных для большинства опрошенных. Среди них: высаживание цветов в упаковках из-под молока, оклеивание старыми газетами стен для их выравнивания перед поклейкой обоев, вырезание цветных картинок из оберток из-под конфет. Стоит отметить, что у некоторых опрошенных эта практика до сих пор продолжается.
«А вот я сейчас использую металлические баночки из-под пепси. На даче. В них хорошо сажать рассаду. Вдавливаешь банку в землю, потом в нее сажаешь семена на пророст. Через пару недель, месяц вынимаешь их и пересаживаешь на другую почву» (Серафима Степановна, 70 лет).
Встречаются очень интересные кейсы, когда люди находили самое неординарное применение тем упаковкам, с которыми имели дело. Особое отношение было к простым полиэтиленовым пакетам. Это может прозвучать немного странно для нашего времени, но тогда это был предмет особой роскоши. Они «проживали несколько жизней», а доставались с очень большим трудом.
«Мы ходили с ними, форсили. Красивые такие, с машинами. Они ж по тем деньгам были дороги – где-то пять рублей, что ли, стоили. Ходили их, искали. А вот что касается маленьких пакетов упаковочных, то их тогда вообще не было. Большие пакеты – даже если и что-то было в них – мы не выбрасывали, мы собирали их. Мы освободим их, помоем, высушим, сложим и этими пакетиками пользовались. Мало ли что-то надо завернуть, упаковать. Мы их не выбрасывали – эти маленькие целлофановые пакеты, в которых сейчас фасуют товары в продовольственном магазине. Лет-то сколько прошло. А так много вещей интересных было» (Ирина Евгеньевна, 70 лет).
Другой респондент тоже описывает аналогичную практику:
«А вот пакеты с надписью Marlboro или еще что-то… А тут вот пакет купил! На рынке! У фарцовщика! Ты его бережешь! Не дай бог его поцарапаешь! В магазин ты с ним не ходишь! Стирали! Да… В основном их можно было купить только у фарцовщиков. Своих у нас не было красивых» (Светлана Александровна, 69 лет).
Еще показателен случай, когда одна женщина, будучи продавщицей, взяла с работы несколько ящиков, в которых привозились куриные яйца. Это были большие ящики.
«Ну, я помню, яйца привозили в таких больших коробках. Они были деревянные, и их не сдавали обратно. Тогда я взяла парочку таких к себе на дачу, ведь ничего же не было тогда. Вот и соорудила себе сарайчик!» (Мария Ивановна, 76 лет).
Последним был задан вопрос: «Каково, по вашему мнению, количество мусора, выбрасываемого в Советском Союзе, по отношению к сегодняшнему времени?» Стоит отметить, что абсолютно все опрошенные респонденты признали тот факт, что в Советском Союзе мусора было значительно меньше, чем сейчас. Это обусловлено не только тем, что в условиях современной рыночной экономики предлагается больше видов товаров, чем в условиях командной. Как было показано выше, каждый человек старался использовать с максимальной пользой те предметы, которыми он располагал. Этим и отличается советский человек от современного. Люди, которые прожили большую часть своей жизни в СССР, пережив эпоху застоя и всеобщий товарный дефицит, до сих пор остались верны привычке использовать вещи повторно.
Современная экономика России обеспечивает людям более разнообразное потребление по сравнению с экономикой СССР. Открытый рынок способствовал тому, что российское население получает большое количество товаров из числа тех, которые ранее считались дефицитными. Выбор товаров стал больше, а потому, борясь за потребителя, производители пытаются привлечь его разными способами. Одним из них является богатое разнообразие упаковки. Так как на ее производство уходит много материала, а сама она не предполагает дальнейшего использования, ее производят по большей части из полиэтилена, картона и других малопрочных материалов. После использования продуктов такую упаковку предполагается выбрасывать. Однако и упаковки из более прочных материалов тоже выбрасываются, кроме исключительных случаев. Сегодня для повторного использования вещей просто нет необходимости. Производство современной упаковки растет колоссальными темпами. Над ее видом работают дизайнеры, и нередко она представляет собой буйство красок, которых так не хватало советскому потребителю.
Практики «советского» типа потребления сохраняются лишь у небольшого числа опрошенных. На смену многоразовости приходит противоположный феномен – одноразовость. Упаковка уже не делается такого качества и из таких прочных материалов, как раньше. Теперь не нужно покупать продукты исключительно ради их упаковки. Необходимые товары всегда можно найти в достаточном количестве в любом магазине. Однако возникают проблемы другого характера. Во-первых, это качество упаковки и продукции. Складывается впечатление, что вещь производится вовсе не для того, чтобы служить максимально долго. В технологии производства появилось даже такое направление, как «параметризация», когда изделие начинает резко терять свои качества сразу после того, как на него истекает гарантийный срок.
Во-вторых, как следствие, увеличилось количество мусора. Советский человек старался использовать любой предмет по максимуму. Мусора было немного, и его выносили один раз в два, а то и в три дня. Теперь же количество мусора возросло в несколько раз. Большую его часть составляет как раз одноразовая упаковка из полиэтилена и картона. В большинстве случаев она уже не может использоваться повторно.
Советская система породила своеобразную незапланированную экологичность, которая недоступна в условиях современной рыночной экономики. Парадокс в том, что эта экологичность, до известной степени выступавшая преимуществом советского образа жизни, оказалась результатом как раз недостатков и слабости советского планирования, не способного обеспечить население разнообразными товарами, удовлетворявшими весь комплекс его потребностей.
© Куликов И., 2012Гиляна Басангова ПСИХОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ПОКУПАТЕЛЯ 1960-х ГОДОВ НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ А. РЫБАКОВА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША»
Повесть Анатолия Рыбакова «Приключения Кроша», написанная в 1960 г., рассказывает о московских девятиклассниках, которые проходят производственную практику на автобазе. Это первый опыт столкновения ребят со взрослым миром.
Писатель показывает процессы социализации подростков, живущих в относительно спокойное время, когда большие исторические проблемы сменяются более частными. Однако и здесь есть свои трудности. Взаимодействие мира взрослых с миром подростков не всегда происходит гладко: отношения с рабочими, начальством автобазы оказываются сложнее, чем с родителями и учителями…
Подростки, работающие на автобазе, приобретают ценный социальный опыт, у них формируются понятия самостоятельности и ответственности. Именно на автобазе школьники получают свою первую в жизни зарплату. В книге показаны переживания, связанные с первой попыткой распорядиться собственными деньгами. Однако специфику ситуации определяют отношения и практики, характерные для Советского Союза рубежа 1950–1960-х годов, когда только начинает складываться потребительское общество. В этом плане художественный текст, описывающий не только факты, но и отношение к ним людей, становится ценным источником для изучения культуры повседневности.
Я выбрала для анализа одну главу из книги – сцену в универмаге. Здесь необычайно точно и подробно показано, как поведение ребят воспроизводит общие механизмы поведения людей в магазине и в очереди, их отношение к покупкам и деньгам. Сцена поучительна еще и потому, что здесь (не такой уж частый случай в художественной литературе), как в задачнике по арифметике, указаны цены за все товары, которые покупает или собирается купить главный герой, и из них складывается бюджет его покупок. Покупки и траты Кроша дают возможность представить себе уровень цен, характерных для начала 1960-х годов, и отношение людей к деньгам[107]. На примере этой сцены видно, как у подростка складывается определенный тип потребительского поведения: критерий выбора товара, последовательность действий при попытке ориентироваться в магазине.
Но сначала мы получаем массу подробных сведений: по какому механизму выдают зарплату, что такое ведомость, расчет и аванс. Можно понять, какую роль играет первая получка в жизни подростков.
«Каждый раз это большое событие. Люди, привыкшие получать зарплату, и те чувствуют в этот день какой-то подъем. О нас и говорить нечего. Ведь это первая получка в нашей жизни»[108].
Так рассказывает об этом Крош. Далее мы узнаем, что зарплату на автобазе выдавали два раза в месяц: аванс – половина зарплаты, остальные деньги выдавались в конце месяца – в расчет, который зависел от того, сколько люди зарабатывали. Он может быть больше или меньше. Сначала кассир уезжал в банк за деньгами, и затем люди собирались у кассы, где через окошко выдавали зарплату. Получивший расписывался в ведомости. Для того чтобы получить зарплату, нужно, чтобы тебя «включили в ведомость». Фамилии ребят «занесли в список», по которому выдавалась зарплата.
Если даже взрослые рабочие «чувствуют какой-то подъем», то что говорить о ребятах! Первая зарплата Кроша составила 16 рублей 20 копеек. Посмотрим, как распорядился ею Крош.
Получив деньги, герой отдает 1 рубль – долг за обед – своему однокласснику Вадиму. У него остается 15 рублей 20 копеек. Крош решает сразу пойти в универмаг и купить подарки родителям. Принято было на первую получку покупать родителям подарки. Крош берет с собой своего друга Шмакова Петра, потому что одному ему было идти скучно, хотя Петр никаких подарков родителям покупать не собирался – они работали в Индии на строительстве завода.
В универмаге герой подмечает: чем нужнее отдел, тем выше он находится. Например, на первом этаже рядом с писчебумажным, спортивным и отделом игрушек находился отдел парфюмерии, нужный для Кроша отдел. А обувной – на четвертом этаже. Он делится этим наблюдением со Шмаковым, который, подумав, отвечает: «За духами на четвертый этаж никто не полезет, а за ботинками полезут. А кто идет на четвертый этаж, купит мимоходом на первом этаже какую-нибудь ерунду. Магазин выполняет план. Работники прилавка получают премию»[109].
На первом этаже ребята останавливаются у спортивного отдела. Крош решает купить спортивные штаны, которые стоят 3 рубля, но его одолевают сомнения из-за нехватки денег. Он размышляет, на что потратить оставшиеся деньги: если он потратит 2 рубля 20 копеек родителям на подарки, то у него останется ровно 10 рублей. Таким образом, если он в расчет получит 20 рублей, то у него соберется 30 рублей, на которые он сможет «сделать что-нибудь капитальное». Спортивные штаны – это первая и на самом деле ненужная покупка Кроша.
Шмаков же, пощупав штаны, решает не покупать их, заявив, что трикотаж плохой, через два дня вытянутся. Для Кроша важно, покупает ли Шмаков тот же товар, что и он. То, что несколько человек купили товар одновременно, воспринимается как доказательство правильного выбора, и наоборот. Потребительское поведение неиндивидуализированно и неконкурентно. Поскольку Шмаков штаны не купил, Крош расстраивается, что «погорел на трешку».
Крош решает «немедленно отправиться в парфюмерный отдел и купить маме духи». К сожалению, так не получается, поскольку ребята вынуждены пройти мимо писчебумажного отдела. Привлеченные самопишущими ручками и толстыми общими тетрадями в коленкоровом переплете, Крош с Петром задерживаются у прилавка. Крош решает подарить отцу ручку, которая стоит 4 рубля 50 копеек, но «тогда ему придется тронуть десятку». Снова он сожалеет о том, что купил ненужные брюки. Тем временем Петр Шмаков искушает его купить тетрадь за 35 копеек. Крош колеблется, но Шмаков спрашивает: «Ты какого цвета возьмешь?». После этого Крош решает купить тетрадь, подумав, что 35 копеек – мелочь по сравнению с истраченными тремя рублями. Тетрадь становится второй покупкой Кроша.
Но Шмаков снова отказывается покупать, на что Крош сердится еще сильнее, обозвав его «жмотом». Он злится из-за того, что сам сделал ненужные покупки. Здесь повторно фиксируется определенная норма поведения: когда кто-то из друзей приобретает такую же вещь, покупатель перестает сомневаться в ее надобности или качестве. Это служит неким доказательством того, что товар нужный и надежный.
В парфюмерном отделе Крош хочет купить духи маме. «Подарочные» стоят 5 рублей, которые к тому же продаются лишь в наборе с одеколоном. Отдельно их купить нельзя.
Кроша бросает в жар от растерянности и сомнений. Он боится, что сейчас потратит последние деньги. Поэтому он предлагает Петру купить мороженого, чтобы «охладиться». «И что такое девятнадцать копеек по сравнению с теми деньгами, которые я уже истратил?» Наверное, всем знакомо это чувство, когда кажется, что купил дорогую вещь, и все, что дешевле, не идет в сравнение с потраченной крупной суммой. Крош покупает мороженое за 19 копеек, Шмаков отказывается.
Съев мороженое, Крош покупает «Огни Москвы» за 2 рубля 60 копеек, совершая свою третью покупку. У него остается 9 рублей 6 копеек.
Теперь Крош планирует занять у мамы рубль до «круглой десятки», а со следующей получки вернуть долг и купить подарок папе. Здесь выявляется некое символическое значение конкретных купюр – например, «десятки». Сам факт разменивания десятки является серьезным событием, как и, наоборот, получение дополнительного рубля важно, чтобы восстановить «круглую десятку».
Он немного завидует Шмакову, так как у него все деньги сохранились. Крош утешает себя сознанием того, что Шмаков – «жмот», а он – нет.
Крош – падкий на покупки. Гуляя по магазину, ребята стараются воздействовать друг на друга, но Шмаков не поддается соблазнам. Он тщательнее выбирает товары и анализирует, что с ними может стать в дальнейшем; например, брюки вытянутся через два дня, значит, они некачественные.
Однако дальше события начинают развиваться неожиданным образом.
Вдруг ребята увидели машущего им Вадима.
«– Скорее занимайте очередь, – возбужденно прошептал Вадим.
Возле прилавка уже стояла очередь. Раньше ее не было. Мы стали за Вадимом.
За нами сразу стало еще несколько человек.
– Привезли подводные маски и ласты, полный набор! – зашептал Вадим. – Сейчас будут продавать»[110].
Рассмотрим этот эпизод подробнее.
Начнем с того, что Вадим, одноклассник Кроша и Петра, в представлении подростков что-то вроде мелкого спекулянта, дельца. Поэтому предположительно он разбирается в том, что является дефицитом, а что нет. Мальчики относятся к нему неодобрительно, но при этом доверяют. Поэтому одного лишь его призыва оказывается достаточно, чтобы они изменили свои планы. Ребята немедленно встают в очередь.
При этом люди, стоящие в очереди, толком не знают, что же такое интересное привезли. Понятно лишь, что «выкинули» какой-то товар. Вокруг царит возбуждение. Вадим говорит шепотом, чтобы не привлекать лишнего внимания. Здесь Крош задает нужный вопрос: зачем нужны маска и ласты? На что Вадим напоминает ему про книгу Жак-Ива Кусто «В мире безмолвия».
Крош понимает, что, в принципе, этот набор ему совершенно не нужен, по крайней мере, еще несколько минут назад он не думал о такой покупке. Но теперь он тешит себя мыслью о туристской поездке, где ему это может понадобиться, т. е. начинает подверстывать реальность под ненужную покупку: «Если я весной поеду в туристскую поездку, мне понадобятся маска и ласты, но если я их куплю, на какие деньги я поеду в поездку?». И снова он жалеет о покупке спортивных брюк: «И дернул меня черт купить эти дурацкие штаны!» Несмотря на то что его терзали сомнения, он продолжал стоять в очереди, которая быстро увеличивалась.
Очередь все растет. «Одни стояли потому, что им нужны были маска и ласты, другие потому, что стояли первые»[111]. «Подошли Игорь с Мишкой Тарановым и стали между мной и Шмаковым Петром. Сделали вид, будто они уже здесь стояли. Мы тоже сделали такой вид»[112]. Данный пример – обычная уловка в очереди со знакомыми. Чтобы оказаться впереди, люди использовали физическую силу, прибегали к хитрости и обману, пользовались привилегиями, подделывали льготные документы, давили на жалость.
Крош понимает, что это ему не нужно, но он все равно стоит, потому что жаль потерянного времени, а если не купит, то будет жалеть еще больше. Наконец, притащили маски и ласты. Очередь заволновалась. Задние боялись, что им не достанется. Вообще, стояние в очереди было занятием с неясным исходом: советский покупатель не мог быть уверен, что, когда подойдет его черед, ему что-нибудь достанется. Заметим, что до возникновения очереди у ребят было индивидуальное поведение, а сейчас, в очереди, – коллективное, где господствовали свои законы. Крош не знал, что делать, на что решиться. Он знает, что маска ему не нужна. Но он снова размышляет: «Если я окажусь на море, все будут нырять, а я буду сидеть на берегу, один как идиот. И я уже целый час стою в очереди. Не куплю, а потом буду жалеть»[113].
В продажу поступило всего 20 комплектов. Очередь волнуется. Вокруг ажиотаж. Некоторые чуть ли не плачут. Народ все равно стоит, несмотря на то что комплектов ограниченное количество. Все на что-то надеются, думают, что, может быть, достанется. Для очереди свойственно недоверие к ситуации. Крош не может отказаться от покупки, потому что, если ему достанется комплект, он попадет в число счастливчиков. Расплатившись, он получает маску и ласты. Это его четвертая покупка. Шмаков остается без комплекта. Крош чувствует себя виноватым, ведь ему этот товар не нужен, а Шмаков хотел купить.
«Я остановился и протянул Шмакову ласты и маску:
– Знаешь что, возьми. Мне они не нужны.
Шмаков отрицательно закачал головой. Не хотел лишать меня таких драгоценных вещей.
– Бери, бери! – настаивал я. – Я купил просто так, на всякий случай. Мне они совершенно не нужны»[114].
Но оказалось, Петру тоже не нужны были ласты, и на вопрос Кроша, зачем же он стоял в очереди, отвечает, что «стоял, потому что все стояли». Здесь показаны механика потребительского психоза и психология очереди. Ценность товара определяется его дефицитностью, по меньшей мере, так же, как и реальной потребности в нем. Цена в условиях всеобщего интереса к товару значения не имеет.
Если после того, как Шмаков разругал брюки, Кроша бросило в жар, то теперь он просто окоченел. «Выходит, я опять зря потратил деньги». Тогда Крош пригрозил Шмакову, что сдаст товар обратно. Тот ответил, что «эта вещь ненужная, простая резинка со стеклышками! А в ластах вообще неудобно плавать… Не нужно мне такое барахло!» Крош возвращается в магазин, очереди конечно же нет. Он хочет вернуть товар, но обратно не принимают. Он стоит у прилавка в надежде продать комплект с рук, но никто не берет. Ведь только что за ним стояла огромная очередь. Но ажиотаж прошел. Теперь комплект никому не нужен – вместе с очередью исчезает и спрос. Потребительский ажиотаж имеет собственную логику, и в этих условиях желания покупателей далеко не всегда отвечают реальным потребностям.
Сердце Кроша разрывалось от огорчения. Он истратил все деньги на ненужные вещи. Из всего того, что он купил, ему нужна только тетрадь. Теперь уже все равно. Он пошел в писчебумажный отдел и купил папе на оставшиеся деньги китайскую самопишущую ручку за 4 рубля 50 копеек. Это пятая и последняя покупка Кроша. А Шмаков все свои деньги сохранил!
С помощью точных цен, приведенных в этом отрывке, можно вычислить, сколько Крош заплатил за маску и ласты: 4 рубля 56 копеек.
Эта сцена, возможно, уникальная в литературе, сочетает в себе элементы арифметической задачи и психологического анализа, демонстрирующего переживания советского покупателя при столкновении с ситуацией мучительного выбора, порожденного крайней неопределенностью открывающихся перед ним возможностей. Крош испытывает и страх, и азарт, и растерянность, и угрызения совести. Он пытается рационально мыслить и вести постоянные расчеты, но при этом то и дело попадает в ловушки, расставленные ему советской торговлей, и совершает иррациональные поступки.
В целом покупатель оказывается бессилен перед системой, которая не оставляет возможности определить и выбрать то, что он действительно хочет. Перед нами предстают два типа покупателей: расточительный и сдержанный – Крош и Петр Шмаков. Первый тратит деньги иррационально и потом страдает, а второй преодолевает все соблазны, избегает ошибок, но ценой отказа от покупок. Такой вариант поведения фиксируется и советской экономической литературой, которая со второй половины 1960-х годов регулярно жаловалась на нежелание граждан тратить деньги и создание ими «избыточных сбережений».
© Басангова Г., 2012Елена Кужель ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ В 1960–1970-е ГОДЫ В ПУБЛИКАЦИЯХ ПРЕССЫ И ПИСЬМАХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Письма читателей в газеты – неотъемлемая часть советской культуры. С первых десятилетий существования советского государства общение через письма было для граждан важнейшим каналом диалога с властью. В своих обращениях люди высказывали одобрение и недовольство политикой страны, жаловались и просили каких-либо благ, порой предлагали решения проблем.
В 1960–1970-е годы, когда население почувствовало относительную свободу – по крайней мере, в сфере обсуждения и критики бытовых проблем, – эти письма становятся важным источником для понимания общественных настроений того времени.
Существовал отдел пропаганды ЦК КПСС, через который проходили многие письма, направлявшиеся в редакции газет и журналов. Часть вопросов, затронутых в письмах, разъясняли на своих страницах газета или журнал, другая часть направлялась для принятия мер в соответствующие учреждения, ведомства. Проблемы, затрагиваемые в письмах, и отношение к ним менялись с течением времени. Пик количества опубликованных писем в газетах приходится на 1960-е годы, в 1970-е годы динамика резко снижается. Однако это не говорит о том, что люди стали меньше писать, просто письма стали жестче фильтроваться. Все они перепечатывались и вшивались в дела под грифом «Совершенно секретно», и для сотрудников спецотдела пропаганды начиналась серьезная аналитическая работа с письмами. Эти дела рассекретили относительно недавно – в конце 1990-х. К некоторым из них до сих пор нет доступа. Многие документы недоступны из-за того, что не завершены их научное описание и обработка.
Материал, который используется в данной статье, был собран мною во время работы в Российском государственном архиве новейшей истории в фонде № 5 «Аппарат ЦК КПСС». Дополнением к архивному материалу стали номера газеты «Известия» за 1960-1970-е годы.
Для исследования было выбрано несколько отправных точек: 1960, 1967, 1975 и 1979 гг. 1960 г. – в обществе царит весьма оптимистическая атмосфера, значительно улучшается материально-бытовое положение населения по сравнению с первым послевоенным десятилетием; 1967 г. – юбилейный год, 50-летие революции; 1975 г. – самый пик застоя; 1979 г. – итоговый год исследуемого двадцатилетия.
При чтении писем прослеживается, как менялись темы и стиль. В письмах за 1960 и 1967 гг. практически не встречались жалобы на дефицит продовольственных товаров, их пик приходится на вторую половину 1970-х годов. Появляется понятие «искусственный дефицит». Количество писем с жалобами на махинации в торговле увеличивается с осознанием проблемы искусственного дефицита, т. е. со второй половины 1970-х.
В письмах читателей в 1960 г. затрагивались такие основные проблемы: торговля с нагрузкой, разнобой в ценах, расточительность, низкое качество товара, дефицит продовольственных и непродовольственных товаров. Обозначим их как проблемы первого уровня.
Приведем выразительный пример торговли с нагрузкой.
«Два воротника к одной шубе
В магазин поступили дамские шубы сорта “овчина под котик”. Фасон, отделка, качество нам понравились. Подходящей показалась и цена. Мы, две покупательницы, уплатили деньги в кассу… и не получили покупки.
– Извините, – вежливо склонился перед нами продавец, – но вы не уплатили за воротники.
– Как! Пришитые к шубам воротники расцениваются отдельно?! – удивились мы.
– Вы меня не поняли, – ответил продавец. – Заплатить нужно за запасные воротники.
Оказывается, работники одесских магазинов с разрешения Одесского горпромторга и областного управления торговли решили заработать на ходовых товарах. К каждой шубе приложили “нагрузки” в виде воротника из чернобурой лисицы стоимостью в 700–900 руб.
Шубы нам нравились, и мы пошли на жертву – купили лисьи воротники, которые нам совершенно не нужны».
Е. Орлова, С. Беккерман, г. Одесса[115]
Торговля с нагрузкой позволяла сбыть не пользующийся спросом товар. Как правило, нагрузка прилагалась к ходовым товарам. Таким образом, чтобы приобрести необходимую вещь, человеку приходилось делать незапланированную покупку.
В газете «Известия», в рубрике «Удивительные истории», находим еще один пример подобной практики, пересказанный журналистом.
«Старая пластинка
Одна женщина зашла как-то в промтоварный магазин и увидела на прилавке как раз такую ночную сорочку, о которой давно мечтала. Женщина, понятно, обрадовалась и говорит продавщице:
– Выпишите мне, пожалуйста, вот эту сорочку.
– Эти сорочки, – отвечает ей продавщица, – продаются только с грампластинками.
– Что? – переспрашивает женщина.
– С грампластинками, – говорит еще раз продавщица.
– Что, что? – снова переспрашивает женщина.
– Сорочки, говорю, продаются только с грампластинками, – уже раздражаясь, отвечает продавщица.
– Не слышу, – говорит женщина.
– Да вы что, глухая или издеваетесь?! – орет уже на весь магазин продавщица. – С грам-плас-тин-ка-ми!
– Вы что, не видите, что я глухая? – говорит женщина. – Если хотите, чтобы я услышала, говорите медленно и прямо в ухо.
Продавщица медленно и прямо в ухо сказала, что сорочка без пластинки не продается.
– A-а. А зачем же мне пластинка, если я глухая?
Но продавщица ей знаками объяснила, что иначе нельзя. Пришлось женщине покупать пластинку с сорочкой, вернее, сорочку с пластинкой. Принесла она свою покупку домой и говорит соседке:
– Хочешь, я подарю тебе эту пластинку? Мне она все равно ни к чему.
– Мне от нее не больше толку, чем тебе. Пластинка эта старая, слушать ее неинтересно.
Вот о каком случае написала нам москвичка Г-ва, которой всучили эту самую пластинку в универмаге Мосторга № 7»[116].
В такую порой анекдотическую ситуацию мог попасть советский человек.
Перейдем ко второй теме – к письмам, посвященным проблеме дефицита.
«Дефицитный товар – 15-ваттная лампочка
Коллективы многих предприятий и организаций страны успешно борются за экономию электроэнергии. Резервы такой экономии имеются и на производстве, и в быту.
Подсчитаю, что использование в домашнем хозяйстве для освещения подсобных помещений 15-ваттных лампочек вместо 25-ваттных может сэкономить только по Белоруссии свыше 2300 тыс. киловатт-часов электроэнергии в год.
Беда заключается в том, что промышленность не выпускает 15-ваттных лампочек. В магазине продаются только 25-ваттные лампы.
Рижский электроламповый завод и Латвийский совнархоз, преследуя сугубо коммерческие цели, упорно отказываются удовлетворять заявки “Белхозторга” на поставку ламп требующейся нам мощности.
Конечно, предприятие легче и быстрее выполняет план “по валу”, выпуская 25-ваттные лампочки вместо 15-ваттных. Но государство, безусловно, проиграет на перерасходе электроэнергии. Вот об этом в Риге, к сожалению, забывают».
В. Жук, заместитель начальника сектора «Белхозторга», г. Минск[117]
Вообще, писем с жалобами на дефицит товаров публиковалось много. Но подобные письма, в которых содержался такой детальный анализ и выдвигалось конкретное предложение, практически не встречались.
Следующий период – 1967–1975 гг. Читая письма этого периода, обнаруживаешь, что по сравнению с началом 1960-х годов ситуация усугубляется, проблемы нарастают. К перечисленным претензиям добавились следующие: блат, махинации в торговле, искусственный дефицит. Обозначим их как проблемы второго уровня.
«Дефицитные товары у нас в магазины не попадают, а продаются прямо с базы. Кримплен, шелк, мохер, туфли, сапожки, плащи, хорошие мужские костюмы, кофты, тюль, мужские шапки – все продается по блату. Все забирает начальство, райком партии, райисполком… Работники РПС на базаре продают – если не сами, так через старух. А люди стоят у магазинов в очереди. Выкинут метра 3, а остальное по запискам».
«Когда же наконец кончится извращение советской торговли? Настолько стало противно смотреть на все махинации и манипуляции, и даже наглость руководства, что поймите, нет больше сил. Неужели все вышестоящие руководители слепы?».
«Поймите меня правильно, я не завистливый человек и не клеветник, но когда все делается на глазах и тебя принимают за дурака, то поверьте, прямо скажем, гадко становится на душе и до слез обидно за свое бессилие».
«Растолкуйте: каким образом создается искусственный дефицит? Ведь явно, что он создается. Учитывается ли спрос покупателей? Кто и как планирует выпуск товаров такого рода?»
«Почему дефицитные товары не поступают на прилавки магазинов, а продаются “нужным людям”, непосредственно на складах и базах, вышестоящие же торговые организации не осуществляют должного контроля за правильной реализацией товаров народного потребления?»
«Кем установлен порочный порядок, когда дефицитные товары выбрасывают только в конце месяца, и когда он будет отменен?».
«Сплошь и рядом тот или иной товар становится дефицитным по вине работников торговли, так как он отпускается “с черного хода” разного рода знакомым продавцов, а точнее сказать – перекупщикам, спекулянтам. Давно пора поставить вопрос о жестком контроле над работниками торговли, о строжайшем их наказании за злоупотребления служебным положением».
«В городах понастроили магазины, а в них пустые прилавки, на полках одна бутафория»[118].
Значительная часть товаров припрятывалась работниками торговли для нелегальной реализации через рынки, а также для своих родственников и знакомых. По сравнению с письмами 1960 г. увеличивается насыщенность текста специфической советской «торговой» лексикой. В письмах часто появляются выражения: продажа «нужным людям», «по запискам», «по блату», «из-под прилавка», «с черного хода».
Большая часть текстов, публикуемых и обсуждаемых, относилась к городской жизни. Создавалось ощущение, что деревня предоставлена сама себе, и ее нарастающий упадок никого не волнует.
В докладе 1967 г. «О пятидесятилетии газеты “Известия”»журналисты признавали серьезные недостатки в своей работе:
«Мы получаем массу разнообразного, пожалуй, даже всеобъемлющего материала. В этом море верным компасом нам служат решения партии. Мы получили более широкий и оперативный фронт для действия, чем смогли занять. И в этом сказался своего рода «пережиток» в газетной психологии, когда вместо глубокого продумывания важнейших проблем мы принимаем за постановку темы повторение сказанного. Чем важнее тема – тем больше требует она от пропагандистов сил и раздумий. Нередко мы избираем более легкий путь, и это нам не к лицу. Мы невольно сужаем круг своего влияния и показа действительности: корреспонденция и очерки наши строятся чаще на городском материале. Половине населения Советского Союза мы отводим неоправданно малое место в газете»[119].
При переходе от материалов 1967 г. к материалам 1970-х обнаруживается, что жалобы на дефицит продовольственных товаров становятся более частыми. Во многих случаях этот дефицит связывается с махинациями в торговле.
Однако, несмотря на то что на прилавках магазинов часто отсутствовали необходимые товары, советский человек этого периода никогда не голодал. Но была какая-то потребность в образе заполненных прилавков. Этот образ был неким символом стабильности и благополучия. Курганский исследователь советской повседневности М. Федченко, описывая, правда, уже более поздний период, замечает: «В 1989 г. 74 % опрошенных интеллигентов сказали, что их убедят в успехе перестройки “прилавки, полные продуктов”. Аналогично ответили 52 % опрошенных лиц из различных социальных категорий населения. В этом ответе была выражена именно потребность в образе – в витрине. Эти люди в основном неплохо питались, на столе у них имелись мясо и масло. Им нужны были знаки, даже символы. «“Прилавки, полные продуктов” являются важным символом благополучия, изобилия, свободы – в любой момент захочу и куплю. Зачастую продукты отсутствовали лишь на витрине, а не на обеденном столе граждан. Полупустые прилавки магазинов создавали устойчивый образ дефицита. Был голод на образы товаров. И сегодня множество граждан, уже реально недоедая, не хотят возвращаться в советское прошлое с его голодом на образы»[120].
1979 г. – итоговый год исследуемого периода. Обнаружился третий уровень проблем: провалы снабжения населения, коррупция, неменяемые партийные кадры.
«Почему у нас не меняются руководящие партийные кадры на местах по 20–35 лет? Находясь у руководства десятилетиями, они привыкают к недостаткам, не борются с ними, становятся полновластными хозяевами, и никто не смеет их критиковать за недостатки и упущения, так как от них зависит участь каждого».
«Почему в нашей стране руководящие деятели имеют особые права на лучшие больницы, особое обеспечение питанием, санаторно-курортным лечением, квартирами?»
«Почему органы нашей пропаганды только хвалят нашу жизнь, а о возрастающих трудностях материального характера умалчивают?»
«Некоторые должностные лица за счет государства строят себе особняки, приобретают автомашины, ремонтируют их в ведомственных гаражах. Меры, применяемые к такого рода расхитителям, слишком мягки, недейственны. Не настало ли время наказать более строго, как того требуют партийный устав и наши советские законы?»
«В системе здравоохранения все шире стали распространяться взятки. Деньги берут за операции, за госпитализацию. Почему не пресекаются такого рода служебные злоупотребления?»[121]
«Маленькие» проблемы накапливались, нарастали, становились более комплексными. В сознании населения стал складываться устойчивый образ системного кризиса, включающего застой экономического развития, неспособность руководящих кадров вести страну вперед, отсутствие у самих граждан мотивации для труда и общественной деятельности.
А что произошло с читателем и с самой практикой письма? Если в 1960 г. рубрика «Письма читателей» существовала почти в каждом номере «Известий», то в 1967 г. писем уже гораздо меньше. А в 1970-х годах письма почти не встречаются. Однако это не значит, что советский человек стал меньше писать, просто содержание писем становится все более неприятным для системы, а потому они не доходят до публикаций. Послания трудящихся, адресованные в редакции газет, попадают в Отдел пропаганды ЦК КПСС, и там большая их часть оседает. Тем самым канал, ранее служивший для диалога власти и общества, перекрывается, превращаясь просто в источник закрытой информации для партийных кадров, которые не готовы конструктивно отвечать на критику населения. К концу 1970-х годов авторы писем стали более агрессивными, более разборчивыми, более аналитичными. От читателей газет поступало много критики в адрес печати, радио, телевидения за слабую пропаганду. Отдел пропаганды отвечал на это тем, что складировал подобные документы под грифом «Секретно».
Если в начале 1960-х годов письма трудящихся в газеты, по крайней мере, теоретически, выступали инструментом своеобразного контроля снизу по отношению к власти, которая должна была отчитываться если не за саму свою политику, то хотя бы за конкретные ее последствия, то к концу рассматриваемого периода становится очевидно, что этот канал перестает работать. Нарастание объективных проблем в экономике сопровождается не попытками их решить, а ростом противоречий между властью и обществом. Эти противоречия загоняются вглубь, чтобы потом взорваться открытым политическим кризисом в 1980-е годы.
© Кужель E., 2012Мария Мирская АВТОМОБИЛЬ В СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЕ
Несмотря на то что в больших городах многие практики трансформируются или уходят в прошлое вместе со снесенными гаражами, в провинции эта трансформация проходит менее динамично, и многие практики сохраняются до сих пор.
В СССР автомобильная культура развилась по своей собственной логике, отличной от той, что выявлена в развитых западных странах[122]. Специфика советской автомобильной культуры обусловливает многие нынешние особенности городской культуры и проблемы, связанные с владением собственным автомобилем.
Во всем мире автомобиль считался символом прогресса. Будучи изначально продуктом, предназначенным для престижного потребления, в эпоху массового производства («эпоху фордизма») автомобиль стал продуктом массового потребления и в то же время синонимом мобильности и свободы для любого человека[123].
Со временем развитая западная автомобильная культура, особенно в США, стала предлагать большое разнообразие машин, отличающихся ценой и ориентированной на разные запросы потребителя. В подобной модели автомобильной промышленности, особенно в процессе производства автомобилей для среднего класса, ключевую роль играл экономический фактор[124].
Стремление получить наибольшую экономическую выгоду заставляло производителей ориентироваться на вкусы и прихоти потенциальных потребителей. Совершенствованию технологий также способствовала экономическая конкуренция. Хотя, безусловно, в обеспечении широких слоев населения автомобилями определенную роль играл и политический фактор.
Распространение автомобиля повлияло на трансформацию городского пространства. В данном случае имеется в виду не только строительство автодорог, но и мощный технический комплекс. Питер Фреунд характеризует автомобильную культуру как комплекс, включающий «производство запчастей, аксессуаров; переработку и распределение топлива; дорожное строительство и техническое обслуживание; придорожный сервис и мотели; продажу автомобилей; ремонтные мастерские; пригородное домостроение; развлекательные центры; рекламу и маркетинг; градостроительное планирование и т. д.»[125].
Однако такие элементы «нормальной» западной автомобильной инфраструктуры, как услуги по ремонту, доступные запчасти, гаражи, оставались в Советском Союзе неразвитыми на легальном уровне, что обусловливало в некоторых случаях полуподпольный характер этой культуры[126]. Все это способствовало формированию весьма специфической автомобильной культуры (применительно к личному транспорту), связанной с особенностями хозяйственного уклада жизни крупных городов.
Советское массовое производство автомобиля и его распространение расширяло присутствие в советской культуре элементов личной собственности и своеобразных рыночных отношений, отход от идеологем и коллективистской риторики социализма в пользу частной собственности и личной свободы от некоторых ограничений[127].
Автомобиль позволял двигаться вне установленных железнодорожных направлений, в какой-то мере упрощал или создавал альтернативный способ выезда за город или на отдых. Однако его владелец сталкивался с такими затруднениями, как отсутствие дорожного сервиса и широкой сети заправочных станций. На легальном уровне возможности преодолеть большое расстояние без запасного бензина в канистрах, а порой и без набора инструментов практически не было.
Для советского общества автомобили являлись не только экономическим благом. Автомобиль был важнейшим символом статуса и определенного типа социального капитала. В зависимости от марки машины, как частной, так и предоставленной организацией, можно было судить о статусе ее владельца, о его профессии, благополучии[128].
Массовое потребление в автомобильной культуре оставалось связанным с практиками очередей и дефицита. Дефицитным был не только сам автомобиль как продукт, но и комплектующие, и даже сервис.
На рубеже 1940-1950-х годов началось массовое производство автомобилей «Москвич-400», «Победа» и «ЗиМ», на которые сразу образовалась очередь из желающих их купить (первоначально очередь формировалась в магазине, а не на месте работы).
Рассчитанный на массовое производство и потребление «народный автомобиль»[129] должен был стать символом процветания СССР и благополучия его граждан. Будущие «Жигули» должны были стать личным автомобилем для широкого круга людей, быть достаточно удобными и вместительными и, кроме того, экономичными и легкими в управлении. В отличие от «Москвичей» и «Волг», которые были как частными, так и служебными, в том числе использовались в такси, «Жигули» разрабатывались под нужды автолюбителей, которые стали его первыми владельцами[130]. В 1970-е годы начался выпуск ВАЗ-2101, который должен был стать «народным автомобилем», однако спрос намного превышал предложение. Чтобы приобрести его, необходимо было встать в очередь на месте работы. Эти очереди стали одной из характерных особенностей советской автомобильной культуры.
Люди вставали в очередь, которая могла подойти только через 10 лет. В связи со столь сложной системой покупки активно развивался неофициальный рынок автомобилей и услуг. Со временем автомобильная культура плотно закрепилась в теневой экономике и заняла в ней большую нишу. Зачастую подержанный автомобиль можно было продать дороже, чем он покупался. Этот сектор экономики имел существенно теневой или полутеневой характер.
На протяжении долгого времени основной категорией автовладельцев были мужчины. Это было обусловлено не столько гендерным неравенством, сколько спецификой обслуживания автомобиля: его владелец должен был разбираться не только в эксплуатации машины, но и в ремонте. Он должен был обладать определенной изобретательностью, навыками и иметь инструменты, чтобы самостоятельно подгонять детали под свой автомобиль (иногда запчасти, которые удавалось приобрести, могли не подходить к той или иной модели автомобиля)[131].
Пока автомобильная культура формировалась, ее трудно было контролировать. Владельцы автомобилей образовали своего рода субкультуру с собственным разговорным языком и межличностными отношениями.
Автомашина была не только средством передвижения. Обладание ею давало допуск в особую социальную группу автовладельцев, формирующую свой поведенческий габитус в гаражах, которые концентрировались в локализованных пространствах гаражных комплексов и нередко занимали большие площади.
Автомобиль ассоциировался с личной свободой, в том числе и от ограничений, налагаемых общественным транспортом. Однако обладание им требовало определенных забот, связанных с дополнительными вложениями в его безопасность. Покупая машину, люди старались обзавестись гаражом, в который ее ставили на ночь или даже на зиму. Если автомобиль оставался на улице, это было сопряжено с определенными рисками. В связи с дефицитом запчастей их цена на подпольном рынке резко возросла, поэтому с оставленной на улице машины могли снять стеклоочистители, боковые зеркала.
В отличие от европейской или американской практики, в СССР любой, даже, казалось бы, бюджетный «народный автомобиль» становился своеобразным элементом роскоши, хотя и несколько дифференцированным по маркам, которые, в свою очередь, отражали принадлежность к определенным видам деятельности или статусной группе.
Автомобиль, ставший символом экономической модернизации и личного благосостояния, отвечал и желанию правительства «перегнать Америку», и стремлению советских людей обладать определенными личными благами в формирующемся обществе массового потребления.
Автомобильная культура объединяла людей разных положения, уровня образования, профессий. Автомобиль был частью жизни советского общества и одним из наиболее желаемых благ наравне с собственной квартирой, дачей, импортной мебелью.
Таким образом, стремление приобрести машину выражало лояльность человека к существующим в обществе ценностям. Машина стала символом благополучия, устроенного быта, советским аналогом «американской мечты». В то же время прослеживается стремление «среднего класса» войти в определенную социальную группу. Конфликт «частников» и «пешеходов» во многом был связан с проблемами городского пространства, а именно с гаражами или стоянками во дворах домов[132].
Достаточно позднее распространение личного транспорта стало одной из причин неудобств, вызванных увеличением числа гаражей. Со временем стали появляться гаражные кооперативы (в основе лежала инициатива автолюбителей), однако это не решило проблему до конца, и во дворах по-прежнему оставалось большое число гаражей.
Несмотря на проблемы, связанные с покупкой, вождением, эксплуатацией автомобиля, он оставался одним из наиболее желаемых благ, доступных советскому человеку. Личный автомобиль являлся репрезентацией различных культурных практик советского общества, его предпочтений, устремлений, представлений об успехе.
Автомобиль приобретается и используется не как выражение классового различия (в случае с СССР – скорее, профессионального или статусного) или массовой индивидуальности, а как знак идентичности с одной или со множеством групп, представляющих различные образы жизни. Таким образом, автомобили олицетворяли определенный стиль жизни отдельной группы людей. Покупка автомобиля в личное пользование приписывала человеку качества, характерные для образа жизни определенного сообщества людей.
Особенности советской автомобильной культуры сильно повлияли на ее дальнейшее развитие в постсоветском пространстве. Нынешние проблемы, связанные с эксплуатацией машины в больших городах и с кризисом отечественного автомобилестроения, во многом являются следствием особенностей развития автомобильной культуры в СССР и резкого перехода в 1990-е годы от одной культурной и социально-экономической парадигмы к другой.
© Мирская М., 2012VI. СССР сегодня
Петр Мазаев ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
В последние 20 лет российские музеи переживают очень тяжелую и болезненную перестройку, связанную в первую очередь с ломкой старых советских институтов. Однако если в 1990-е годы главной задачей музея становились выживание и консервация или минимизация потерь среди уже имеющегося материала, то в 2000-е, когда «музейный бум» в Европе возвратил утраченный было поток туристов, перед музейным сообществом встает вопрос о путях дальнейшего развития. Попытки разрешить этот вопрос приводят к выработке различных стратегий поведения.
В данной статье автор не претендует на доскональный анализ музейной ситуации в постсоветской России. В ней отмечаются характерные черты изменений в существовании музеев, причем внимание концентрируется в первую очередь на провинциальных художественных и историко-культурных музеях, расположенных в рамках наиболее популярных туристских маршрутов. Такие рамки обусловлены тем, что музеи данного круга кажутся нам наиболее показательными. Во-первых, в отличие от музеев в крупных городских центрах, развивающихся и перенимающих зарубежный опыт более активно (что связано с отмеченной В.Л. Глазычевым[133] и Б. Гройсом[134] особенностью больших и преимущественно столичных городов, подчас более укорененных в глобальном пространстве, чем в национальном), провинциальные музеи все еще находятся под влиянием советского прошлого и вынуждены взаимодействовать именно с ним. Во-вторых, художественные и историко-культурные музеи – самый распространенный тип как в современной России, так и в СССР. В-третьих, музеи, расположенные на основных туристских маршрутах, ввиду появления дополнительных доходов не только заняты проблемой выживания, но и имеют хоть какую-то валентность к развитию.
В рамках данной работы сосредоточимся по большей части на музеях городов «Большого Золотого кольца», а также на некоторых музеях Русского Севера.
Исследователи ближайшего прошлого часто сталкиваются с серьезной проблемой – наличием нетрадиционных для академической науки источников. Так, часто мы вынуждены опираться на данные, которые сложно проверить (показания современников и опыт собственных наблюдений), к тому же и архивы документов, касающиеся последних десятилетий, нередко оказываются недоступными. При исследовании изменений музейных экспозиций проблем у исследователей становится еще больше. Хорошо, если сами музейные работники оставляют достаточно подробные свидетельства о перестройке экспозиций, но в большинстве случаев они не считают необходимым фиксировать текущие изменения иначе как в формальных отчетах, которые не всегда дают возможность оценить масштабы изменений. Они фиксируют не столько реальные изменения, сколько перемещение единиц хранения и экспонирования, для расшифровки этих отчетов вновь приходится прибегать к помощи сотрудников музеев. Мы не пытаемся дать сколь-нибудь полный обзор всех документальных свидетельств, ограничимся лишь собственными наблюдениями и несколькими записанными беседами с сотрудниками музеев и их воспоминаниями.
Безусловно, советская музейная традиция произрастает из опыта, наработанного еще во время расцвета империи. Именно во второй половине XIX – начале XX в. зародились основные направления музейной работы: собирание, хранение, исследование, демонстрация и обучение (разъяснение); а также основные типы музеев: музей изобразительных искусств, более характерный для первой половины XIX в.; художественно-ремесленный музей, активно развивавшийся во второй половине XIX в.; и культурно-исторический музей, появившийся в середине XIX в.[135] Но если в старорежимной России музей был, скорее, достоянием больших городов и явлением все же не столь широко распространенным, то первое десятилетие существования советского государства сопровождалось созданием огромного числа музеев. В первую очередь это происходило за счет экспроприации церковных зданий и ценностей, а также частных коллекций и особняков, принадлежавших семьям дворян и новой буржуазии. Так, на базе Ферапонтова и Кирилло-Белозерского монастырей силами семьи священников и ученых Бриллиантовых был организован единый музей-заповедник. Так появились Переславль-Залесский музей-заповедник, вобравший, помимо ценностей всех переславских монастырей, частные коллекции картин, мебели, вывезенные из ближайших усадеб уезда; ярославские Художественный и Исторический музеи, в основу которых были положены коллекции богатых горожан, местных учебных учреждений, монастырские собрания и документы городского архива; музей-заповедник «Ростовский кремль». На этом первом этапе развития советских музеев их главной задачей была организация хранения и систематизация полученного материала, экспонирование отходило на второй план, к тому же и места для экспонирования первоначально было совсем немного[136].
Однако уже в начале 1930-х годов функция музеев довольно резко изменяется: они становятся одним из основных центров пропаганды. Во главу угла ставится уже не столько экспонирование и исследование, сколько дидактический подход, где «подлинник» оказывается в одном ряду с другими способами воздействия на зрителя: плакатом, моделью, макетом, копией[137]. Музейная экспозиция с этого момента начинает строиться на принципах марксизма-ленинизма, главной ее задачей становится не простой «кунсткамерный» показ произведений искусства или предметов исторического быта, а разъяснение советскому народу сути исторического процесса и классовой борьбы на наглядных примерах. Музей здесь включается в ту же систему отношений с населением, что выставки и демонстрации, т. е. начинает представлять часть некоего почти ритуального действа[138]. Даже если не вдаваться в суть внутрикультурных механизмов и исторических предпосылок, видим, что советское музейное дело на данном этапе делает довольно большой рывок по сравнению с европейским, пойдя по пути максимального «обвеществления» экспозиции[139].
В послесталинский период происходит постепенный отказ от такого радикального перепрофилирования музеев. Большинство из них вновь принимает вид классической историко-культурной и (или) художественной экспозиции, хотя и сохранившей ориентацию на марксистско-ленинский стадиальный подход и огромное количество неподлинных экспонатов, реконструкций и моделей, но все же избавившейся от истеричной борьбы с «вещевизмом». За весь послесталинский период мы не обнаруживаем никаких качественных изменений в функционировании советских музеев – лишь техническое усовершенствование. Советский музей окончательно оформляется в особый тип учреждения, функции которого сводятся к классической музейной триаде «хранение, исследование, демонстрация», к ней спорадически прибавляется и просвещение.
В 20-летие после распада СССР музеи оказываются в довольно сложной экономической, кадровой, социальной, культурной ситуации, из которой ищут различные стратегии выхода.
Первой из таких стратегий стали банальный отказ от историко-культурной составляющей музея либо снижение ее значения, сопровождающееся выработкой новых дискурсивных практик и переосмыслением трактовок. В большинстве музеев двух самых популярных туристских маршрутов Европейской России – «Золотое кольцо» и «Русский Север» – мы обнаруживаем, что последняя кардинальная перестройка исторической экспозиции происходила в начале 1990-х годов, и с тех пор экспозиция либо вовсе не менялась, либо постепенно сокращалась. При этом основной акцент смещался в сторону выставки предметов, памятников зодчества и художественной экспозиции, являющихся максимальным воплощением подлинности. Здесь мы видим, как постепенно бывшие исторические и археологические экспозиции замещаются собраниями колокольчиков, изделий из золота и серебра, диковинных вещей и животных, предметов обихода, расположенных по тематическим группам. И единственное, что может задать здесь хоть какую-то хронологическую упорядоченность, – это речь экскурсовода.
Так, в музее-заповеднике «Ростовский кремль» историческая экспозиция исчезла еще в 1980-х годах, ее место заняла коллекция живописи, а ее функции отчасти были переданы экспозициям по истории ростовского музея и археологии Ростовской земли, которые не претерпевали серьезных изменений с начала 1990-х годов. По словам сотрудников музея, разговоры о восстановлении исторической экспозиции (в материальном или виртуальном виде) постоянно ведутся, но до реального воплощения дело не доходит. В большинстве других рассмотренных музеев исторические экспозиции замораживаются так же, как археологическая экспозиция в Ростове. Такая ситуация обнаруживается и в ГИАХМ «Угличский кремль», где даже подписи и «легенды» залов сохранились с советских времен, и в суздальском «музейном граде» в Спасо-Евфимиевом монастыре, и в Переславль-Залесском музее-заповеднике. Иногда происходит сокращение исторической экспозиции, как это произошло в музее фресок Дионисия в Ферапонтове, где с 2006 по 2011 г. она уменьшилась вдвое. Исключением здесь стала экспозиция ярославского музея-заповедника «Княжество. Уезд. Губерния», которая в ходе подготовки к 1000-летию Ярославля была кардинально перестроена (но до изменений также соответствовала всем основным идеям советской дидактической школы), зато без изменений осталась во многом дублирующая ее экспозиция в Музее города Ярославля, которая также в основе своей была создана в начале 1990-х годов.
Основными причинами трансформаций историко-культурных экспозиций являются, по нашему мнению, некоторая растерянность музейных работников перед лицом новых реалий, отсутствие единой стратегии существования музея, основной линии трактовки исторических событий, утраченной с крушением советского подхода к интерпретации истории, на котором были основаны советские исторические экспозиции. Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, музеи, которые после распада СССР помимо проблем чисто экономических (сокращение бюджета) и кадровых (до недавнего времени средний возраст музейного сотрудника составлял 40–50 лет) обнаружили проблемы еще и идеологические, отложили их решение до тех пор, пока не станет ясна государственная идеология. Поскольку к настоящему моменту кроме панпатриотизма никаких жестких систем государство не предложило, в ближайшее время, видимо, не следует ожидать всплесков активности в этом направлении.
Следует также отметить, что одновременно в политике практически всех этих музеев, как было сказано выше, происходит смещение акцента в сторону памятников архитектуры и коллекций предметов искусства. Так, основным экскурсионным пространством для туристов (даже поздней осенью и зимой) в Ростовском кремле становятся именно памятники архитектуры, летом к ним добавляется большой фресковый ансамбль, на зиму закрытый для посещений, а основными экспозициями – отдел древнерусского искусства и Белая палата. В Угличе, Борисоглебске, Юрьеве-Польском, Переславле-Залесском, Кириллове, Ферапонтовом монастыре, отчасти в Суздале, во Владимире, в Новгороде и Ярославле именно фресковая живопись, архитектура и художественные собрания становятся ключевыми в экскурсионном дискурсе[140]. Да и сами экскурсоводы теперь не стараются встраивать местную историю и местные памятники в общероссийский контекст, а принимают функцию рассказчиков исторических анекдотов, ретрансляторов мифов, легенд, поверий, часто создавая их заново и провоцируя экскурсантов на проведение определенного набора ритуальных действий «на удачу».
Эта внешняя бутафорская интерактивность при условии абсолютного запрета на прикосновение к подлинным экспонатам становится второй стратегией развития музеев. Во всех музеях обязательно создается развлекательный отдел. В длинных коридорах владимирских палат создана игровая экспозиция для всех возрастов, полностью основанная на технологии включения посетителя в игровое пространство. Здесь можно провести сватовство и свадьбу, написать грамоту, поучиться в земской школе, поучаствовать в старорусском чаепитии[141]. Аналогичные интерактивные экспозиции обнаруживаются и в Суздальском музее (Детский музейный центр), и в Переславле-Залесском («Переславль 100 лет назад»), и в Белозерске (Гридница), и в Ярославле («Ярмарка»), и в многочисленных музеях деревянного зодчества (в Торжке, Новгороде, Суздале и т. д.). Музей-заповедник «Ростовский кремль» предлагает посетителям нарядиться в костюмы персонажей комедии Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которая снималась в Ростове. Одновременно музеи становятся площадками для культурных мероприятий и акций различного масштаба: фестивалей колокольного звона, масленичных, рождественских, новогодних мероприятий.
Еще один важный элемент изменений – возрастающее значение художественно-ремесленной части экспозиций. Местные промыслы становятся одним из главных музейных брендов. Керамика различных техник, производство украшений, тканей, эмали, стекла – все это в музейном пространстве начинает играть неожиданно большую роль и становится одной из наиболее посещаемых частей экспозиции. В то же время за последние 10 лет повысился интерес к музейным сокровищницам. В экспозициях переславского, ростовского, ярославского, кирилловского, новгородского музеев появились большие собрания предметов из драгоценных металлов и тканей.
Таким образом, помимо основных четырех функций, у музеев появляется еще одна: развлечение и организация досуга. Причина этого не только в экономических трудностях, которые испытывают музеи, но и в нарастающей конкуренции с так называемыми частными музеями, о которых стоит сказать подробнее.
В 1990-е годы в основных туристских центрах появляются новые частные музеи на базе частных коллекций старинных предметов различного рода. Очень показательны музей «Музыка и время» в Ярославле и Народный музей в Мышкине, созданные раньше прочих. Они представляют собой тематически (в случае с мышкинским музеем – еще и хронологически) структурированную экспозицию коллекций, где в шпалерной развеске вперемешку висят, стоят и лежат часы, колокола, иконы, пластинки, утюги, гвозди, молотки, бутылки, телефонные аппараты и прочие предметы столетней давности. Встречаются также и более узкоспециализированные музеи: утюга (Переславль), валенок (Мышкин), огурца (Поречье), самовара (Тула) и др. Параллельно образуются частные музеи иного типа, построенные на просветительской и развлекательной функции, но не обладающие достаточным количеством подлинных вещей, чтобы именоваться коллекцией: Музей суеверий в Угличе, Музей народной смекалки в Переславле, Музей романовской овцы в Тутаеве.
Естественно, в основе и тех, и других музеев лежит коммерческий интерес, а во главу угла ставятся развлекательная функция и максимальная интерактивность. Часто это делает их несколько более привлекательными для туристов, чем академические музеи, поэтому последние вынуждены создавать в противовес развлекательные экспозиции.
Итак, в течение последних 20 лет советские провинциальные художественные и историко-культурные музеи пережили ряд следующих трансформаций: 1) были законсервированы, сокращены или уничтожены исторические экспозиции; 2) акцент в построении музейного пространства был смещен в сторону художественных экспозиций, памятников архитектуры и монументальной живописи и художественно-ремесленных экспозиций; 3) из экскурсионной риторики исчезли обобщающие повествования, возводящие местную событийную канву к общерусскому или мировому контексту, а функция экскурсовода стала сводиться постепенно к рассказыванию исторических анекдотов и трансляции мифов, легенд и местных поверий; 4) в связи с появлением частных музеев одними из основных функций государственных музеев стали развлечение и организация досуга при постепенном отступлении на задний план функций охраны и исследования.
© Мазаев П., 2012Елизавета Подшивалова «СОВЕТСКИЕ» БРЕНДЫ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
За прошедшие после распада СССР 20 лет отношение к «советскому» несколько раз достаточно сильно менялось. Чем дальше эпоха уходила в прошлое, тем более спокойным и даже заинтересованным становилось ее восприятие потребителями.
1990-е годы были ознаменованы всеобщим интересом к западной продукции. После падения «железного занавеса» появилась возможность купить дотоле незнакомые продукты, привезенные из-за границы. Естественно, спрос на эти продукты был огромен. Эти тенденции очень точно уловил бизнес. Основывая новую компанию, предприниматели стремились выдать ее за зарубежный проект, например, подбирая иностранное название (компания Green mama).
Однако с начала 2000-х годов ситуация изменилась, и сейчас западные компании, приходя на российский рынок, чаще всего стремятся представить себя как фирмы, основание которых пришлось даже не на российское, а на советское прошлое. Возросла популярность «советских» продуктов, т. е. современных товаров, сделанных под торговой маркой советской эпохи или стилизованных под подобную марку.
Попробуем проанализировать причины подобной популярности, а также механизмы позиционирования «советских» брендов. Прежде всего важно сделать несколько оговорок.
Во-первых, термин «бренд» употребляется только применительно к реалиям современного российского рынка. В Советском Союзе брендов не было и не могло быть в силу отсутствия конкуренции. Брендинг нацелен прежде всего на то, чтобы покупатель выбрал определенный продукт из набора похожих по целям и свойствам продуктов. Соответственно, если у товара нет необходимости конкурировать с другими, практически такими же товарами, брендинг просто не нужен. В отличие от юридического понятия торговой марки, бренд представляет собой некий комплекс информации о продукте, включающий узнаваемую символику, набор ожиданий потребителей и свойств, приписываемых товару. Продукты «советских» марок несут такой комплекс информации, легко отличимый от импортных товаров.
Во-вторых, предметом исследования становились продукты исключительно пищевой промышленности. Это связано с тем, что именно пищевые продукты «советских» марок смогли остаться конкурентоспособными в условиях рыночной экономики. Более того, они заняли определенную товарную нишу и в течение по меньшей мере 10 лет ее удерживают. Это связано со специфическим восприятием советских пищевых продуктов, одной из немногих сфер советского быта, вызывающих положительные эмоции у потребителей. Подобное восприятие точно используется компаниями, производящими продукты питания. В магазинах можно увидеть относительно большое количество продукции, сделанной под «советское» или использующей «советские» марки.
Популярность этих продуктов часто связывают с ностальгией по Советскому Союзу, присущей нескольким поколениям, с желанием, чтобы все стало «как было»[142] и т. п. Конечно, ностальгия по советскому – достаточно частое явление. Однако вопрос состоит в том, является ли она главной причиной потребления продуктов «советских» брендов, а также насколько эта ностальгия выражает желание вернуться в СССР.
Чтобы понять причины популярности нынешних «советских» брендов, необходимо проследить несколько взаимосвязанных факторов, формирующих их восприятие покупателями, а также их позиционирование на рынке.
Советские продукты ассоциируются прежде всего с отсутствием консервантов. Желание найти «те самые советские» продукты связано по большей части с размышлениями о натуральности продукта. Самые общие рассуждения на эту тему обычно сводятся к тому, что в советское время производители не добавляли консерванты в продукты, вот почему строго определенный вкус продукта «как тогда» в условиях современного рынка практически недостижим. При этом такая точка зрения совершенно не призывает прекратить поиски, напротив, надежда найти нужный вкус рождает достаточно многочисленные проекты по дегустации и анализу состава товара.
Хорошим примером может служить глазированный сырок. Несмотря на огромное количество разных брендов и разнообразие вкусов, «сейчас, как свидетельствуют цифры маркетинговых исследований, сырки, имитирующие сине-желто-белые упаковки тех времен, покупают лучше всего»[143].
По сути, главной характеристикой данного продукта считается комментарий: «такой же» либо «не то». Он исчерпывает весь комплекс ожиданий от вкуса и качества продукта. В Интернете можно найти достаточно большое количество репортажей об анализе вкусовых качеств глазированных сырков[144], а также отзывов обычных покупателей[145], в которых в качестве положительного отзыва преобладает фраза: «как в советском детстве».
При этом даже без анализа состава продуктов комплекс ожиданий от состава и вкуса «советского» товара является гораздо более благожелательным, нежели любого другого. Достаточно спорно, насколько «советские» продукты объективно вкуснее, всегда ли «тот самый вкус» действительно лучше.
В качестве доказательства можно привести мороженое – продукт, вызывающий ностальгию у большинства населения. При этом опять же главной причиной «неправильного» вкуса считается недостаточная натуральность продукта. Однако компания «Инмарко» провела специальное исследование, и оказалось, что «у советского мороженого особый вкус появлялся из-за того, что оно слегка пригорало к стенкам старых пастеризаторов. Теперь же оборудование современное, на нем ничего не пригорает – и мороженое получается «невкусным». Специально для того, чтобы удовлетворить потребности ностальгирующих покупателей, компания «Инмарко» выпустила пломбир 15 %-й жирности, имеющий тот самый «советский» вкус. При производстве этого мороженого движение смеси в пастеризаторе останавливается на несколько секунд, в результате чего мороженое «прожаривается»[146]. Получается обратная ситуация: в условиях производства продукта в более качественных условиях он кажется невкусным просто потому, что «не тот».
На желание найти товар «как в детстве» направлены и рекламные кампании подобных продуктов. Например, советский «индийский чай со слоном» сейчас попросту переименовали в «Тот самый чай».
Однако наиболее показательно в данном отношении исследование, проведенное компанией «Краской», которая по суду лишилась права производить конфеты под маркой «Птичье молоко». Уже сам факт судебных тяжб за «советские» названия продуктов демонстрирует, насколько выгодно поставлять товары уже известных покупателю марок. «Чтобы посмотреть, как отреагирует население на переименование конфет, производимых по той же рецептуре, провели эксперимент-дегустацию. Одни и те же конфеты положили в разные коробочки и предложили попробовать покупателям магазина традиционное “Птичье молоко” и якобы новую “Птичку молочную”. Конфеты из старой черно-коричневой коробочки с красными ромбами большинство покупателей посчитали более вкусными»[147].
Можно заметить, что на коробке новой версии «классических» конфет «Птичье молоко» приписано: «настоящее» и добавлена печать с надписью: «Производится с 1968 года». Тут показательна сама позиция, что есть некое «настоящее “Птичье молоко”», которое и вкуснее, и натуральнее, и делается правильным способом. Соответственно остальные «версии» автоматически заключаются в рамки «ненастоящего» и лишаются основных потребителей советского ретро.
Отсылка к «советскому» используется и в стилистике марок, не существовавших в СССР. Производители следуют все той же логике: несмотря ни на что, продукты, связанные в восприятии потребителя с советской эпохой, будут казаться более натуральными, а их вкус – более удачным.
Еще одним важным фактором, влияющим на восприятие «советских» продуктов, является отсутствие в советскую эпоху конкуренции между продуктами. Сформировалась специфическая ситуация, когда большинство продуктов было представлено под одной маркой. В итоге для покупателя название продукта как имя собственное сливалось с наименованием продукта как именем нарицательным. Подобная тенденция существует и на современном рынке: некий тип товара изначально представлен только одной компанией, его имя может стать именем этой компании (так копировальная машина стала «ксероксом» и т. п.). Соответственно в Советском Союзе, где монополией на продажу продуктов питания обладало государство, большая часть их имела одно или очень ограниченное количество рыночных наименований. По сути, это и есть идеал, к которому стремится брендинг: чтобы при мысли о продукте у покупателя сразу возникала определенная марка. Чтобы достичь этого, необходимо вложение больших денег и усилий. А продукты советских марок вошли в современный рынок как сформировавшиеся бренды; они не требуют никакой раскрутки и воспринимаются уже как данность. Это свойство «советского» использовала компания Nestlé, назвав мороженое «48 копеек». Мороженое, которое в советское время не имело никакого индивидуального названия, именовавшееся просто «пломбир», запомнилось покупателям фиксированной ценой в 48 копеек, чем и воспользовались производители.
Опять же на упаковке четко видна надпись «любимое с детства мороженое», апеллирующая к ностальгии покупателей и помещающая мороженое в ранг «того самого».
Насколько важен для потребителя соответствующий ожиданиям бренд, можно увидеть на примере неудачного ребрендинга «чая со слоном». В советскую эпоху существовало несколько видов чая, но «вкусным» считался только «Индийский чай». Соответственно после распада СССР чай продолжал оставаться достаточно популярным, так как воспринимался как «хороший чай» независимо от сравнения с иностранными конкурентами, обладал той же, что и раньше, упаковкой и позиционировался как некий осколок советской эпохи. Ребрендинг такого чая, вполне естественно, оказался крайне неудачным: «В 2006 г. агентство Depot WPF разработало новую версию упаковки. На ней был все тот же слон на фоне Тадж-Махала, но цвета стали более приглушенными, а бумага – тисненой. Судя по отзывам в Интернете, резонанс оказался велик, но большинство потребителей не поняли, зачем поменялась упаковка. Они увидели старый, знакомый чай, с которым теперь “что-то не так”»[148]. Производителю пришлось вернуться к старому варианту упаковки.
Удивительной особенностью «советских» брендов является то, что они практически не нуждаются в рекламе или могут использовать весьма незамысловатые образцы рекламной продукции. Эти бренды как бы противопоставляют себя обычной рекламе, обещающей все и сразу и, как следствие, вызывающей недоверие к товару. Кроме того, обилие разнообразных продуктов одинакового применения ставит потребителя в тупик: слишком много информации, слишком много обещаний и т. д. На этом фоне скромная реклама или отсутствие рекламы «советского» продукта лишь прибавляет ему достоинства. Общая схема рекламы «советского» бренда заключается именно в самой отсылке к эпохе, когда реклама была по большому счету не нужна, когда необходимость продуктов была очевидна и без нее. Екатерина Деготь так описывает советские вещи: «Как горничные в советских гостиницах, они все еще служат нам, но, не считая себя вовлеченными в конкурентные отношения, не хотят бороться за то, чтобы понравиться»[149]. То, что эти вещи не борются за наше внимание, делает их самоценными, они возносятся над всеми остальными продуктами, как товары, не требующие представления и честно заявляющие о своих качествах.
Важно отметить, что во многих случаях главной движущей силой у потребителя «советских» продуктов действительно является ностальгия. Однако эта ностальгия несет в себе, скорее, оттенок личных воспоминаний, нежели какого-то идеологического посыла. В ключевой для анализируемых продуктов фразе «как в советском детстве» главным словом является все-таки «детство». Точно так же нынешнее поколение двадцатилетних уже ностальгирует по каким-то видам сладостей (например, жвачка «Love is…», которую сейчас покупают за относительно большие деньги). Но именно советская эпоха оказывается настолько идеологически нагруженной, что любое положительное мнение о каком-то из ее аспектов становится выражением гражданской позиции.
Говоря о ностальгии, следует отметить, что она не только не стремится вернуть прежний уклад жизни, но, напротив, как бы окончательно отодвигает его в прошлое. Бодрийяр писал о стиле ретро: «Мода всегда пользуется стилем ретро, но всегда ценой отмены прошлого как такового: формы умирают и воскресают в виде призраков. Это и есть ее специфическая актуальность – не референтная отсылка к настоящему моменту, а тотальная и моментальная реутилизация прошлого»[150]. По сути, стиль ретро деидеологизирует советскую эпоху, формируя более отстраненное отношение, превращая ее в простой набор продуктов. Возрождение «советской» стилистики в последние годы говорит нам о том, что «советское» настолько отошло в прошлое, что может быть переосмыслено в отрыве от идеологии, как некий способ быта.
Линор Горалик выделяет несколько механизмов «ретроизации», которые позволяют достичь деидеологизации прошлого[151]. Первый – это механизм упрощения. Советская эпоха представляет собой уже не сложные комплексы противоречивых отношений, имеющие крайне неоднозначную проблематику, но набор простых и понятных ситуаций, предметов, отношений. Попросту говоря, «советское» перестает ассоциироваться со сложными взаимоотношениями с властью, постоянными опасениями за свою судьбу и начинает ассоциироваться, к примеру, с теми же глазированными сырками, полированными шкафами и собраниями сочинений.
С этим связан и второй механизм – «селекция», когда из всего набора символов, отражающих эпоху, используются только вызывающие у потребителя положительные эмоции, наиболее очевидные и однозначные. При этом в какой-то момент эти символы становятся самоценными, т. е. перестают отсылать к какой-либо конкретной, не обязательно связанной с положительными эмоциями, ситуации.
Популярность советской символики на рынке продуктов свидетельствует, скорее, о том, что Россия постепенно примиряется со своим прошлым. Чем дальше уходит советская эпоха, тем более гладко и удобно она начинает восприниматься на бытовом уровне. Проблемы истории никуда не исчезают, но они становятся работой профессионалов. Обычные же люди могут воспринимать свою историю, не относясь к ней положительно или отрицательно, но лишь как к набору предметов, ситуаций. А это значит, что советская эпоха в массовом сознании пока не обрела окончательного, целостного образа.
© Подшивалова E., 2012Арина Карпова ВОПЛОЩЕНИЕ СОВЕТСКОЙ МЕЧТЫ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ОБЩЕПИТЕ
Общепит для советского человека был неизбежной частью его жизни, далеко не всегда приятной. Система заведений общественного питания в целом сложилась к началу 1960-х годов и в этом виде почти неизменно просуществовала до конца советского периода. Несмотря на то что лишь немногие точки общепита были популярны среди населения, часто обстоятельства складывались таким образом, что альтернативы не находилось. Всем так или иначе приходилось сталкиваться с системой общественного питания на работе, учебе, в командировках и просто в те моменты, когда они выходили в город по делам. Наиболее распространенными видами такого рода предприятий в 1970–1980-е годы были столовые, кафетерии, чебуречные, шашлычные и пельменные. Популярность именно этих видов общепита была обусловлена их наибольшей распространенностью. Наряду с ними, однако, существовали также уличные палатки с выпечкой, бутербродные, чайные, рюмочные и автоматизированные питейные заведения, кафе-мороженое и т. д.
Столовая была самым массовым типом предприятия общепита – в 1960-е годы подобные заведения составляли около 45 % отрасли. В среднестатистической столовой осуществлялся конвейерный тип обслуживания: посетители брали пластиковые подносы и толкали их вдоль прилавка, попутно указывая раздатчице на приглянувшееся блюдо. Дойдя до конца прилавка, они упирались в кассу, где производился расчет. В те же годы в качестве эксперимента в некоторых столовых упразднили кассиров, вместо них в конце прилавка появились автоматы, куда надо было кидать деньги за обед, как правило, 30 копеек. По задумке, это нововведение должно было экономить время посетителей, но сыграло на руку лишь любителям дармовщины, и вскоре его упразднили. Что касается порядка самообслуживания в столовых, он всем хорошо известен, так как существует по сей день. Однако, стоит отметить, что так было не всегда. До прихода Н.С. Хрущева к власти во многих столовых работали разносчицы еды. И только в 1960-е годы все столовые СССР были переведены в режим самообслуживания.
Что касается меню столовых, то оно менялось в зависимости от экономической ситуации и правительственного интереса к этой отрасли. Как правило, меню среднестатистической столовой тех лет выглядело следующим образом:
П е р в о е
Борщ
Суп с лапшой
Рыбный суп (в знаменитый рыбный день – четверг)
В т о р о е
Котлеты с макаронами
Фрикадельки
Каши – рисовая, гречневая
Жареная картошка с сосисками
Т р е т ь е
Компот из сухофруктов
Этот приблизительный список блюд можно было найти практически во всех столовых на территории СССР. Как видно, ассортимент был достаточно ограниченный, что являлось одной из главных проблем советской столовой того времени и постоянным источником разочарования людей, мечтавших о разнообразии. «Всегда одно и то же» – важный элемент ощущений советских людей, причем не только в том, что касалось еды.
Советская пресса постоянно жаловалась на хищение продуктов. Работники общепита нередко придумывали хитрые уловки, пытаясь из меньшего количества сырья приготовить больший объем блюд, что, само собой, не могло не сказываться на вкусовых качествах еды. На высоких должностях были распространены коррупция, блат на получение прибыльных мест и другие подобные нарушения. Кроме того, начальники в этой структуре нередко обвинялись правительством в некомпетентности и непрогрессивном мышлении.
Однако самым большим недостатком советского общепита, который высмеивали тогда и о котором слагают легенды сегодня, было обслуживание. Как только не называли обслуживающий персонал: и хамским, и непрофессиональным, и ленивым.
К 1980-м годам пресыщение советским обслуживанием и ощущение того, что такая жизнь никогда не закончится, превратилось в навязчивую идею.
Стремление вырваться за пределы советской обыденности передано в статье Константина Крылова «Сбыча мечт», написанной в 2006 г.
Сначала Крылов во всех подробностях описывает свой поход с друзьями-студентами в типичную чебуречную начала 1980-х.
«Отстояв в длинной очереди перед почерневшим прилавком, мы получили жестяные тарелочки, на которых горкой лежало по пять чебуреков <…> Найдя относительно чистый стол (т. е. покрытый не жиром, а просто грязными разводами от недавно посетившей его уборщицкой тряпки), мы встали и начали жрать»[152].
Однако на этом неудобства молодых людей не закончились. Они увидели, что на столе нет солонки, и все эти переживания натолкнули их на размышления о том, как бы могла выглядеть идеальная чебуречная.
«И тут в этом маленьком раю возник свой змей-искуситель.
– Пивка бы сюда, – мечтательно сказал мой соученик и одногруппник Саша.
Мы, разумеется, посмотрели на него как на заоблачного мечтателя.
И тут нас захватила развращенная фантазия».
Молодые люди конца советской эпохи, уставшие от однообразного убожества, начали выстраивать Чебуречную Своей Мечты.
«Мы наперебой стали обсуждать, как выглядела бы Идеальная Чебуречная, лишенная всех и всяческих недостатков, небесный архетип Чебуречной. Которая, разумеется, невозможна в действительности, как сферический конь в вакууме, но параметры каковой можно вычислить»[153].
В этой Чебуречной были бы чистые столы и прилавок, вымытые окна и пол. К чебурекам можно было заказать пиво – на выбор предлагалось пять сортов – или холодную водку; кроме того, в меню были бы такие напитки, как «Тархун», «Саяны» и даже кока-кола. Быстрота обслуживания достигалась бы за счет дополнительной жаровни для чебуреков, на каждом столе была солонка и даже перечница, а персонал был вежливым и интеллигентным. Там были созданы все условия для соблюдения посетителями правил гигиены: в углу стоял кран с горячей и холодной водой, туалетным мылом и чистым полотенцем, которое постоянно заменяли; бумажные салфетки выдавались желающим в неограниченном количестве.
«Мы доедали чебуреки, с грустью созерцая очами души построенное нами величественное здание Идеала. Было слишком понятно, что такого не будет никогда. Ни при каких обстоятельствах. Потому что роскошный ресторан в Советском Союзе еще возможен (со всеми “но”), а вот описанная выше Чебуречная – это совершенно недостижимая мечта»[154], – вспоминает К. Крылов.
Однако этим мечтам суждено было сбыться. После крушения Советского Союза в 1991 г. Россия начинает знакомиться с западными типами общепита. Здесь всюду есть сидячие места, залы для курящих, вежливые официанты, разнообразное меню. В классе общепита средней и низкой ценовой категории это были новшества. Люди быстро привыкли к удобным новшествам и уже не хотят от них отказываться. Но вот в конце 1990-х годов начинают появляться первые заведения, использующие в оформлении и меню советскую тематику. Они синтезировали в себе черты западной ресторанной культуры и советского общепита. Шаг в сторону новых потребностей сделали и аутентичные советские заведения, пережившие перестройку.
С одной стороны, некоторые формы советского общепита – в основном столовые – продолжают свое существование в современной России, сохранившись в каких-то учреждениях, но, похоже, постепенно они изживают себя. С другой стороны, некоторые заведения советского общепита либо воссоздаются искусственным образом, либо не имеют никакого отношения к советскому общепиту, но используют советскую тематику и символику. Для среднего поколения «сбыча мечт» в неосоветском общепите имеет важное значение для преодоления травмы советского бытового обслуживания.
В современной России появляется некий синтез советского и постсоветского, который формирует новый образ современных ресторанных заведений. В антураже сегодняшних кафе и закусочных, выполненных в советском стиле, безусловно, присутствует некий театральный элемент. Так, к примеру, в ресторане, использующем символику НКВД, совсем не страшно.
Если попытаться классифицировать заведения общепита, выполненные в «советском» стиле, можно выделить следующие подгруппы.
Аутентичные точки общественного питания. Они существуют практически в неизменном виде с советского периода в плане как интерьера, так и кухни. К этим заведениям можно отнести такие, как чебуречная «Дружба», рюмочная «Второе дыхание» и некоторые другие, а также столовые в госструктурах и на предприятиях, в университетах, библиотеках, на заводах. К сожалению, этот тип заведений редко бывает открыт для широкого круга людей.
Стилизованные точки общественного питания. Это «как бы советские» заведения, воссоздающие атмосферу того или иного типа советского общепита в определенный момент истории. Чаще всего они апеллируют к 1950-м и 1970-м годам, реже – к 1930-м. В интерьере и меню подобных кафе и ресторанов используются стилевые штампы, которые могли бы легко считываться посетителями, а для привлечения большего числа людей им придают привычные европейские черты. К таким заведениям можно отнести 57-ю столовую ГУМа, Спецбуфет № 7 в Доме на набережной, ресторан «Главпивторг» на Лубянке.
Заведения «музейного» типа. Рестораны и кафе этого типа используют в интерьере советскую символику и предметы быта, относящиеся к различным периодам советской истории. Здесь артефакты советской повседневности, расположенные в хаотическом порядке, создают собирательный ассоциативный образ быта тех лет. Отнесем сюда клуб «Петрович», ресторан «Революция», ресторан «МариВанна», чебуречную «Советские времена».
Заведения, использующие тематику советских фильмов. В последние годы достаточно популярны рестораны, использующие в своем оформлении символику и эстетику культовых советских фильмов. Этот феномен стал настолько распространенным, что его можно выделить в отдельный тип. Примерами таких заведений являются рестораны «Джентльмены удачи», «У Покровских ворот», «Кавказская пленница», «Белое солнце пустыни», трактир «Черная кошка».
Вернемся, однако, к статье Крылова. Вот что он увидел, посетив в начале 2000-х чебуречную «Дружба» на станции метро «Сухаревская».
«Дверь была предупредительно распахнута, виднелся маленький тамбур, а за ним еще одна дверь. Я распахнул ее – и застыл на пороге.
Ибо передо мной была Идеальная Советская Чебуречная».
И хотя пространство было организовано так же, как и 30 лет назад – маленький предбанник, далее несколько высоких столов, за которыми посетители питались стоя, за деревянной ширмой прилавок и касса, а в углу перед входом кран для мытья рук, – все было другим.
«Я увидел чистые столы – чистые не по-нынешнему, а так, как они должны были бы быть чисты по-советски: без жира и мусора, но вытертые тряпкой, а не каким-нибудь там платочком или губочкой. Тут же обнаружилась и носительница тряпки – интеллигентного вида пожилая женщина, без особого угрюмства и отвращения на лице собирающая мусор. На столах стояли большие бутылки пива и маленькие водочные, с капельками влаги на боках.
Озираясь по сторонам, я увидел в углу кран с водой. Над ним, склоняясь, мыл руки какой-то интеллигентного вида господин в длиннополом пальто. В руках мелькал белый обмылок.
Я пошел брать чебуреки. Очередь была недлинной и шла быстро. Когда я подошел к прилавку, как раз меняли миску с чебуреками – опустевшую на полную. Все делалось ловко и быстро. Взяв три чебурека, я получил бесплатную салфетку. Более того, там же продавались импортные влажные рукотерки, а также пиво пяти сортов, водка и коньячок…
Я вонзил зубы в чебурек. Вкус был тот самый. У меня возникло ощущение, что масло, на котором жарили это изделие, не меняли с 1985 г. Из открывшейся снизу дырочки потек мясной сок и обжег пальцы…»[155]
Побывав в чебуречной «Дружба», я выяснила, что она была открыта в 1980 г. и с тех пор не претерпела никаких существенных изменений. В ней дважды делали косметический ремонт, однако повара и даже кассиры работают там со дня ее открытия. Стоит отметить, что чебуречная всегда полна посетителей, и найти себе место у стойки не так-то просто. «Дружба» относится к тому – к сожалению, редкому – типу заведений общепита, которые сохранились практически нетронутыми с советских времен.
История с чебуречной «Дружба», описанная К. Крыловым, является, пожалуй, наиболее показательным случаем «достраивания мечты». Непостижимым образом фантазии советских студентов были кем-то «услышаны» и воплощены.
Оказалось, что мечтали-то они о самой малости: кран с горячей водой, чистые столики, солонка, бумажные салфетки. Они это получили. Но самое удивительное то, что вкус чебурека остался прежним.
В 57-й столовой ГУМа происходит почти то же самое, что и в мечте об идеальной чебуречной. Здесь люди получают то, чего недополучили в советское время. И любопытно, что хочется прийти именно сюда, в столовую, заново выстроенную и стилизованную под советскую, с якобы советским меню, чтобы снова и снова получить все то же самое, но повкуснее, почище, получше, попросторнее, повежливее. Это – столовая из коммунистического рая, такая, какой никогда не было в СССР, но какую могли вообразить себе советские люди в своих мечтах. Еще раз провезти подносы – совершенно чистые – по металлическим прилавкам, заказать те же котлеты с макаронами, но вкусные. И спокойно съесть все это за столиком, покрытым скатертью, на котором красуются блестящие приборы с солью и перцем.
И не важно, что в советское время вы бы никогда не получили именно этих блюд, а плакаты, глядящие со стен, ненастоящие, и все это, в общем, мало напоминает настоящую советскую столовую, людей тянет сюда, как может тянуть в будущее, которое так и не наступило.
© Карпова А., 2012Ирина Глущенко «КРАЙ, ГДЕ НИ РАЗУ Я НЕ БЫЛ…»
«Порой, заходя в магазин, слышишь: “Это вообще СОВОК”. В детстве думала, что “совок” – это лопаточка детская, и никогда не понимала…»
(Из сочинения)Свое сочинение о том, что такое «советское», двадцатилетний молодой человек начал так: «Восемь утра. Мама надевает на меня шапку, которую друзья именуют “оленья задница”. Папа везет меня на санках к врачу, у нас талончик на 9 часов».
Курс по культуре повседневности советского периода в этом году я преподавала студентам, которые родились в основном в 1991 г. То есть как раз советского времени они и не застали. На занятиях я спрашивала, чем для них является «советское», что они о нем думают. В коротеньких сочинениях они пытались описать страну, в которой никогда не были.
У каждого студента сохранилась своя внутренняя память: она полна видениями, фантазмами. Откуда-то всплывает «трехлитровая банка черной икры», «густая сметана, в которой даже ложка стоит», «мамины кеды», «странная одежда». Где-то оказались «записаны» дворы «с вечной активностью в них: бабки на лавках, детский гул, развешанное белье на веревках», «селедка с кольцами лука и картошка с укропом, которую прямо в кастрюле ставят на стол», «советский карандаш “Конструктор”», который разрезали на три части, чтобы изготовить снаряды для игрушечной пушки»…
Есть и общие ощущения, которые могут быть коротко сведены к формуле: советский мир ни на что не похож.
«Это какое-то совершенно уникальное явление, которое невозможно описать в нескольких словах».
«Про советскую эпоху интересно узнавать, как про некий “мир наоборот”, когда люди жили по совсем другим законам, имели другие цели…»
«“Советское” – это особый тип мировоззрения, связанный с целым комплексом исторических проблем, идеологии и повседневных практик. Выделение “советского” как особого типа культуры связано прежде всего с уникальностью исторической эпохи».
«Для меня это что-то уникальное, которое требует тщательного внимания и изучения. Невозможно несколькими словами описать, что это такое».
«Когда я слышу слово “советское”, а обычно оно всплывает в позитивном смысле (“в советское время мороженое было вкуснее”), мне всегда кажется, что это какая-то загадочная эпоха».
Лишь в одном сочинении прозвучало, что «советское» принадлежит мировому историческому контексту: «Нельзя сказать, чтобы “советское” было абсолютно самобытным; ведь СССР не существовал в полном вакууме, но в то же время, кажется, заимствование и западные практики в силу разных обстоятельств переплавились и приобрели “аутентичные” советские черты». Самый большой контраст в сознании студентов между их представлениями о советской политической системе и тем, что они видят сейчас. Если многие явления относительно недавнего прошлого все-таки резонируют с опытом настоящего, то в политической и идеологической сферах разрыв осознается как очень резкий и принципиальный.
«Здесь на первом месте стоит слово “идеология”», – считает один.
«Из чего складывалось “советское”? Кажется, прежде всего из идеологии, которая захватывала и все остальные сферы жизни», – подхватывает другой.
«“Советское” также связано с двоемирием – миром официальной, кажется, сталинской, доктрины “ленинизма”, “марксизма” (в свою очередь, придуманной при Ленине) и господством бюрократизации всей жизни», – замечает третий.
«“Советское” для меня – это репрессии, страх и ужас, методичное избавление от мыслящих людей».
«Несправедливый политический строй с ужасными “вождями”».
«Репрессии, запрет на несогласие с коллективом».
Однако система состоит из людей. Сколько уже написано о том, что советская реальность породила особый тип – «советского человека». Посмотрим, какими качествами наделяют его студенты.
С одной стороны, советские люди готовы к переменам: «Удивляет, насколько резкими были перемены политических и экономических курсов, что создало совершенно особый тип “советского человека”, главной характеристикой которого, как мне кажется, можно назвать невероятную способность приспособиться к любым переменам, в любой момент жизни быть готовым к чему угодно, что, наверное, было залогом выживания в таких условиях».
С другой – консервативны и косны: «Большинство людей, взращенных советской системой, абсолютно несамостоятельны и немобильны. Им трудно даются какие-либо серьезные решения, поскольку они привыкли уповать на волю государства».
Кто-то отмечает «долготерпение»: «всё могущие стерпеть» советские люди».
Другие, в свою очередь, считают, что у советских граждан был скверный характер, и сложилась особая «советская» психология, которая «проявляется во всем, и даже у тех, кто не застал советский период. Работники разных контор: банков, продуктовых магазинов, бабушки в метро, продающие билеты, – все пытаются уличить тебя в неправильности твоих действий, они всегда чем-то недовольны». Нашлись, однако, и положительные качества: «Для меня “советское” – это в первую очередь характер людей. В моем представлении люди были более альтруистичные, заботливые и в целом были ближе друг к другу».
И все же некоторые черты кажутся студентам раздражающе-непонятными: «Меня всегда поражают люди, получившие советское воспитание, потому что у них есть одна общая особенность: хранить старый хлам со словами «а вдруг пригодится».
В памяти молодых «советское» имеет особый цвет. Это «черно-белый мир, наверное, из-за тусклости цветовой палитры вещей», «серо-черные люди», «мрачная одежда», «коричневые платья», «блеклые, серые, невыразительные здания». И лишь несколько раз мелькнуло красное: пионеры в красных галстуках, знамя.
Советское бытие обладает собственным пространством. «Это нечто объемное, масштабное». «“Советское” для меня почти то же самое, что огромное. Огромные территории, огромные масштабы производства, огромные ресурсы, как технологические, так и людские».
И временем: тягучим, тянущимся. «Это время длинных очередей»; «“Советское” – это долговечное»; «Жизнь менялась неспешно. Люди сохраняли свои вещи, были более привязаны к своей специальности, реже меняли семью».
Оно организуется в особый ритм: «Если попытаться представить себе утро в советском рабочем пригороде, то мне кажется, что мы увидим почти марширующих, спешащих на свое рабочее место одинаковых серо-черных людей». «Олимпиада в Москве для меня ассоциируется с некоей кульминацией идеи “советского”, “торжественные советские парады и стройки”, “парады, марши на 1 Мая”, “беззаботные дети с воздушными шарами в парках и парады военной техники”».
Советская жизнь – это что-то унифицированное, монотонное: «Для меня “советское” – значит однообразное». «“Советское” – это коллективизм, где не было места разнообразию, не было возможности выделиться». «Еда без всяких изысков»; «не отличающаяся оригинальностью одежда»; «“советское” – это все одинаковое у всех».
Всплывает слово «стандартное»: «стандартные вещи». «Очень интересное время красных галстуков и значков, одновременно страшное, заставлявшее людей стандартизированно мыслить».
Однако советские люди выкручивались как могли. «Все бабушкины истории из жизни в СССР были в основном комичные. Она рассказывала, какой приходилось быть изобретательной, чтобы хорошо выглядеть, сделать уютным дом, одеть мою маму».
Многие упоминают специфическую «тяжесть» советских предметов и явлений:
«“Советское” – тяжелое, кондовое»; «особая литература (в ней чувствуется тяжесть, прежде всего Солженицын)». «“Советское” – это надежное и прочное: одежда, оборудование, которое прослужит долго. Также «советское» ассоциируется с могущественным».
В разговоре о вещах доминирует тема неудобства и безобразия: «неудобная обувь»; «своеобразная посуда общепита». «Если говорить о советском товаре, то это некачественный, неэстетичный продукт. Вообще, бытовая советская жизнь некрасивая, на мой взгляд».
Кто-то вспоминает интерьер учреждений: «доисторический линолеум, старые грязные стены, затхлость и нищета»; устройство коммунальных квартир: «общая ванна, туалет, кухня, высокие потолки, паркет»; мебель: гардероб, сервант, софа.
И предметы, которыми заставлены квартиры: ажурные салфетки, подстаканники, железные банки со сгущенным молоком, алюминиевая посуда, граненые стаканы, кровать с пружинами, радио.
«“Советское” – это характерная философия вещей, отношение к ним, сформировавшееся на протяжении существования СССР и частично сохранившееся до сих пор», – полагает одна из студенток. «Погоня за шмотками, постоянные покупки, разговоры и размышления о потреблении», «вещи, которые покупались на всякий случай», – объясняют другие.
И вот тут-то, в разговоре о вещах, всплыла тема бабушек. «Для меня “советское” – это рассказы бабушки о своей молодости»; «то, что ассоциируется с бабушкой и ее квартирой»; «это предметы интерьера, некоторые вызывают умиление – они ассоциируются с детством, с бабушкой».
«“Советское” для меня всегда был мир моей бабушки, ее рассказы, ее вещи, которые она перевозит из квартиры в квартиру. Она родилась в 1945 г., жила в коммунальной квартире с родителями и четырьмя братьями и сестрами и всегда с упоением рассказывала про детство. Ее любимые воспоминания стали советским прошлым нашей страны для меня».
И когда выяснилось, что «советское» у многих ассоциируется именно с бабушками, я попросила студентов рассказать о них. В данном случае историю бабушек мы получаем в пересказе их двадцатилетних внуков, а не из первых рук. У молодых людей уже есть установка на некую рефлексию по поводу памяти поколения, культуры памяти. В сочинениях стали мелькать слова и понятия из прошлой жизни: студенты употребили их автоматически, машинально. Красный диплом, повышенная стипендия, машинистка, дом, построенный пленными немцами, кооперативное жилье, «почтовый ящик», круиз по Черному морю от работы, стройотряд, спортивный кружок. Мелькнули предметы: хозяйственное мыло, «закрутки», журналы “Крестьянка”», ковры, конфеты «Рачки», советские фарфоровые фигурки, хрусталь, швейная машина.
А затем хлынула большая история – ух, как прошлась она по бабушкам наших молодых людей! Здесь и коллективизация, и война, и бомбежки, и эвакуация, и сожженные дома, и угнанный скот, и ссылка.
«Моя бабушка родилась в 1937 г. в городе Новошахтинске. Ее главное детское воспоминание – о том, как во время войны всю ее семью отправили в эвакуацию прямо под Сталинград. Она хорошо помнит звуки взрывов, которые доносились до их поселка, где они вынуждены были остановиться».
«Обе мои бабушки родом из Белоруссии. Во время войны немцы забрали у них почти весь скот».
«Моя бабушка родилась в 1928 г. и застала множество важных событий, в том числе Великую Отечественную войну. Когда началась война, она была уже достаточно взрослая, и она хорошо помнит все события тех дней. Надо, однако, сказать, что, живя в Баку, она не испытывала страшных лишений, с которыми приходилось сталкиваться остальным, хотя она потеряла на войне своего отца».
«Моя бабушка родилась в 1947 г. в польской семье на Украине, которая до революции была кулацкой. Ее папа сидел в тюрьме по делу “о трех колосках”, потому что однажды во время Голодомора украл ведро картошки».
«Моя бабушка была очень строгой, но в то же время очень мудрой женщиной. Вся ее жизнь складывалась из одного принципа: “труд, труд, труд”. Она не любила, когда люди вокруг ничем не занимались, впустую проводили свое время. Внуков она всячески старалась мотивировать к работе физической. Конечно, это вполне объяснимо. Тяжелые годы жизни: война, затем ссылка в Сибирь (депортация калмыков)».
А потом выяснилось, что бабушки очень разные. Одни так и не привыкли к городскому обиходу. «Моя бабушка приехала из деревни в Москву. У нее оставались деревенские привычки – она любила посидеть перед подъездом вместе с другими старушками. Ее привычка есть из деревянной посуды мне очень запомнилась». Другие – вели богемный образ жизни. «Моя бабушка – коренная москвичка. Родилась в коммунальной квартире в центре Москвы, на Арбате. Часто я слышала от нее про постоянные очереди в ванную по утрам. Моя бабушка сама себя характеризовала как “арбатскую шпану”. И это с учетом того, что она никогда не показывалась без макияжа или заспанной. Она была нестареющей, ухоженной, утонченной, но при этом очень тонко умела материться. В 18 лет она вышла замуж за испанца и прожила с ним 50 лет».
Некоторые поднялись по социальной лестнице и были по-советски авторитарными. «Бабушка работала на руководящих должностях, и многие привычки управляющего сохранились до сих пор, и приходится ей подчиняться». «Моя бабушка была очень сильной женщиной. Она была ярой коммунисткой, работала на нашем стекольном заводе начальником цеха. В ее распоряжении и прямом подчинении находилось более 300 человек. Она была новатором и передовиком. Она была удостоена множества наград, включая ордена. В семье она тоже была жесткой женщиной. Своих детей она воспитывала строго и не пренебрегала ремнем. Благодаря ей, в пять лет я прочитал роман “Как закалялась сталь”».
А кто-то умудрился остаться «несоветским»: «Моя вторая бабушка абсолютно несоветский человек. Она даже с папы деньги брала, чтобы посидеть со мной и братом!»
Одни привыкли к тяжелому труду в ссылке, у других была прислуга:
«Во время войны семья моей бабушки уехала в эвакуацию, в Ташкент. Ее отец был директором хлебозавода, и даже в войну они жили очень хорошо. Был огромный дом с садом, прислуга. Бабушка была очень избалована, высокопоставленные друзья семьи привозили из-за границы одежду. Бабушку однажды чуть не выгнали из института, назвав стилягой. Летом она ездила на курорты, семья часто ездила в Москву, останавливались в гостинице “Россия”».
Прослеживается высокая горизонтальная мобильность. Постоянные перемещения – по стране, из деревни в город, из одного города в другой, иногда из Москвы – в провинцию.
«Моя бабушка родилась 26 февраля 1930 г. в деревне Потапково Уваровского района Можайской области. В деревне Самодуровка, сожженной в 1942 г., у нас был большой дом с двумя печками, отделанными голубыми изразцами. В период коллективизации вся семья переехала в Москву. Жили в Москве они на Песчаной улице. Моя бабушка закончила Московский авиационный институт и работала инженером».
Но в чем почти все бабушки похожи, так это в своей привычке делать запасы и ничего не выбрасывать. Страсть к сохранению вещей студенты считают безусловным проявлением «советского».
«У моей бабушки непреодолимая жажда накопительства. Она никогда ничего не выбрасывает, благо у них есть гараж и дача, где все это можно хранить».
«Главным в их жизни является дача, обеспечивающая продуктами и многочисленными запасами (в погребе еще с 1990-х годов есть закрутки)».
«Моя бабушка всегда все предусматривала на будущее, особенно в том, что касалось запасов продовольствия».
«В их семье было восемь или девять детей. Примечательно, что, хотя сейчас сестры бабушки живут далеко, практика пересылки от одной к другой одежды и обуви осталась – привычка уже».
«Гараж, который служит не для содержания в нем машины, а для хранения вещей».
Вообще, семейная «старая» этика и потребление оказались важными темами.
Молодые люди ассоциируют себя с мамой и папой, они порой солидарны с родителями «против» бабушек – поклонников старой модели потребления.
Бабушки для студентов – представители не только другого поколения, но и другого общества. И свое представление о «советском», по крайней мере, на уровне повседневности, они формируют именно через общение с бабушками. При этом родители, которые тоже прожили значительную часть времени в СССР, похоже, с советским обществом не ассоциируются.
«Моя бабушка – яркий представитель советского времени. Она не признает ничего нового, точнее, побаивается его. Ей неприятны продукты нашего информационного, постиндустриального общества. Она ругается, когда мы с мамой едим суши, ей не нравятся новые вещи из IKEA; они кажутся ей “бездушными”, некрасивыми и чересчур простыми».
«У моей бабушки очень много новых замечательных вещей: бытовая техника, посуда, одежда. Но все это она где-то прячет, предпочитает пользоваться старым. Мы с мамой недоумеваем, куда все это можно спрятать в ее небольшой квартире, ведь мы регулярно покупаем что-то новое для нее. Как только мы пытаемся заменить самостоятельно старую вещь на новую, бабушка начинает ворчать. Говорит, что старое привычнее».
Но бабушки могут иногда здорово удивить: «Странная вещь: у бабушки с дедушкой всегда есть деньги, сколько угодно. Раз – и купили машину! Меня это удивляет: они же давно на пенсии…»
Сейчас то и дело пишут, что современная Россия – это повторение Советского Союза. Но ощущения молодых людей свидетельствуют об обратном. Для них разрыв с советским прошлым не просто очевиден, он представляется пропастью.
«Но все это, вспоминая сейчас, я считаю уже очень далеким. Кроме того, я помню, что мама и бабушка часто твердили мне какие-то советские истины, хотя теперь мне трудно вспомнить их. Вообще, мое представление о “советском” достаточно смутное».
«“Советское” осталось в прошлом и, как мне кажется, никак не отразилось на современном поколении».
Разрыв не воспринимается ни как победа, ни как поражение: «Это не плохое, просто это прошлое».
Связь с советской эпохой зачастую не вполне осознается, даже когда свидетельства этой связи очевидны. Потребовалась некоторая рефлексия, чтобы соединить между собой два времени.
«Советское прошлое для меня – это мои бабушка и дедушка, истории об их семьях, об их жизнях. А вот моих родителей никак не могу отнести к Советскому Союзу, так как мне всегда казалось, что они – люди уже нового, моего времени. Но в действительности вокруг меня оказалось столько атрибутов прошлого века: начиная от собранной библиотеки, заканчивая хрущевками, мимо которых я хожу каждый день. Но, как период исторический, СССР остался для меня в законченном прошлом и проявляется во внешних атрибутах. Таким образом, именно материальная культура стала для меня советским, и от семьи – воспоминания, периодически воспроизводимые старшим поколением. Удивительным для меня является то, что мой отец, к примеру, ведет себя в отношении вещей и вообще материальной культуры именно по-советски, а я этого не замечала, следовательно, привычки моих близких, как оказалось, тоже часть советского прошлого, которое осталось рядом с нами».
Откуда двадцатилетние берут свои представления, или, точнее, ощущения, о «советском»? Можно предположить, что основных источников три:
рассказы родителей и коллективная память семьи, публикации прессы;
телевизионные передачи, содержащие изрядную долю пропаганды;
всевозможные предметы и факты советского времени, с которыми люди сталкиваются в своей повседневной жизни и сегодня.
Из этих пластов складывается мозаичная картина, полная деталей, но нередко лишенная целостности. Кажется, именно сочетание вещественной конкретности явлений и предметов с утраченным пониманием связи между ними создает налет загадочности. Источники находятся в конфликте друг с другом, но не объективно, а в сознании студентов, и связать явления между собой не так-то легко.
Впрочем, наше микроисследование не столько отвечает на вопросы, сколько ставит их.
Как на фоне слома социально-экономической и общественно-политической модели выстраиваются отношения между поколениями?
Можно ли сказать, что конфликт отцов и детей сменился конфликтом бабушек и внуков?
Можно ли считать, что репрессии и война являются тем «специфическим» советским опытом, которого у родителей нет и который, собственно, и определяет возникшую дистанцию?
В таком случае можно ли предположить, что линия разрыва проходит не по 1991 г., а где-то около 1960-го?
А пока что внуки продолжают размышлять о еле различимом уже времени, выстраивая свою версию советского Космоса.
«“Советское” для меня – это скорее наследие, чем список феноменов. Советская повседневность и советский быт, как я теперь четко понимаю, присутствуют в нашей жизни и сегодня, но в трансформированных формах. Вместе с тем “советское” – это еще и эпоха. “Маленький мир”, частная жизнь человека в эту эпоху представляет собой особую форму взаимоотношений между индивидом и миром. Советские вещи – они другие. “Советское” – это еще и особое отношение к труду. Советский рабочий, трудящийся – особый уже по тому, как он ощущает себя. Советского Союза нет уже двадцать лет, но система отношений, которая существовала между людьми и государством, просто между людьми, продолжает существовать уже в памяти. “Маленький мир” оказался более приспособленным к жизни, чем большое, идеологическое “советское”. И даже 1 января 2012 г., через двадцать лет после формальной смерти Союза, мы все снова, как и мои родные, и родители моих однокурсников, увидим “Иронию судьбы” на экране наших телевизоров. А в ней такой знакомый советский мир…»
© Глущенко И., 2012VII. Двадцать лет спустя, или «Второе крушение»
Татьяна Ворожейкина «ВТОРОЕ КРУШЕНИЕ» ИЛИ ХОЖДЕНИЕ ПО КРУГУ?
Если сравнивать происходящее в настоящее время с событиями 20-25-летней давности, то, с моей точки зрения, речь идет о двух стадиях одного и того же процесса – процесса исчерпания в России государственно-центричной матрицы развития. Я использую этот термин для характеристики такого типа развития, при котором государство (власть) играет центральную роль в формировании (структурировании) экономических, политических и социальных отношений. При этом государство (власть) претендует на то, чтобы быть единственной силой, интегрирующей общество сверху, препятствуя формированию собственно социальных, горизонтальных механизмов и способов интеграции общества[156]. Такой тип государства – всепроникающего и одновременно подавляющего самостоятельное развитие общества – сложился в России в конце XV–XVI вв., и сейчас, как представляется, мы имеем дело с очередной (и хочется надеяться – последней) фазой его разложения[157]. Будучи самодостаточным, государство в России было крайне плохо приспособлено к тому, чтобы, меняясь изнутри, адаптироваться к изменениям внешних условий. Реформы в России заканчивались, как правило, или контрреформами, или всеобщим кризисом и распадом государства, как в 1917 и 1991 гг. Кризис, слом, распад оказываются единственными механизмами его преобразования.
Каждый кризис государства в России оборачивался и распадом общества. Общество оказывалось неспособным нарастить собственные «мускулы» в периоды ослабления государственного контроля, создать собственные механизмы конституирования и регулирования. Поэтому кризис, распад общества до сих пор преодолевался в российской истории лишь в результате усилий государства и при его решающем участии. Каждый раз государство вновь «собирало» и консолидировало общество сверху.
На предыдущей фазе этого процесса – к концу 1980-х годов – государственно-центричная матрица развития казалась полностью исчерпанной в России. Это выражалось в многократно описанных процессах 1960–1980-х годов, приведших к утрате государством контроля за экономическим развитием (феномен «бюрократического рынка»), к становлению системы частных патрон-клиентских отношений, вовлекавших значительную часть населения в разветвленную систему обмена товарами и услугами на личной основе, помимо формальных каналов государственного распределения, к обветшанию механизмов социального и идеологического контроля государства за обществом. Если в сталинский период государство проявляло достаточно высокую способность проникать в общество, регулировать социальные отношения и перераспределять ресурсы, то в 1960–1970-е годы разросшееся, неповоротливое и перегруженное функциями, оно все меньше было способно достигать поставленных целей и успешно осуществлять намеченные стратегии. Ключевая для данного типа взаимоотношений государства и общества проблема – управляемость общественным развитием – становилась все менее разрешимой. Это и явилось одним из факторов кризиса середины 1980-х – первой половины 1990-х годов.
В этот период государство «отступило» в экономике, в контроле за социальными отношениями, полностью ушло из идеологической и культурной сфер, освободив тем самым пространство для общественной самоорганизации. Такая самоорганизация действительно происходила и достигла пика в 1987–1989 гг. Она развивалась в рамках тогдашнего неформального движения вокруг разнообразных экологических, социальных, культурных, политических и других наболевших проблем. Этот процесс демократической мобилизации снизу оказался, однако, очень кратковременным и, как это ни печально, не смог наложить какого-либо отпечатка на ход и исход политической борьбы 1990-х. Российское общество не смогло реализовать представившийся исторический шанс, не смогло ни заполнить освободившееся от государственного контроля пространство, ни структурировать самое себя в этом пространстве.
Причины этого многообразны[158]. Две из них мне представляются наиболее важными. Во-первых, это организационная слабость, недостаточность перестроечного общественного движения. События развивались стремительно, скорость, с которой все большее число людей вовлекалось в политическую мобилизацию, уже к 1989–1990 гг. превысила возможности неформальных структур по их организации. Сами структуры также оказались подхвачены этой волной и, втягиваясь во вновь образовавшуюся политическую сферу, отдавая ей своих наиболее активных участников, неизбежно ослабляли потенциал низового гражданского действия. Последствия этого и для политической демократизации страны, и для развития гражданского общества оказались отрицательными. Быстрая политическая реформа 1991–1993 гг., осуществлявшаяся в условиях глубокого политического кризиса и распада государства, не оставила времени ни для накопления сил в гражданском обществе, ни для его структурирования. В этих условиях российские неформалы не смогли стать гражданским обществом. Следствием этого стало выхолащивание демократического потенциала как политических институтов, так и неполитической публичной сферы.
Вторым фактором, объясняющим ослабление и спад массовой общественной мобилизации конца 1980-х – начала 1990-х годов, было, на мой взгляд, нарастающее расхождение либеральной и социальной тенденций демократического движения. Отношение либералов (демократов – по тогдашней терминологии) к самоуправленческим и тем более к перераспределительным тенденциям было с самого начала настороженно-презрительным: они рассматривались в лучшем случае как сила массовой поддержки, не обладавшая собственным демократическим потенциалом. Предполагалось, что демократия является естественным продуктом рыночных отношений и возникающих на их основе массовых средних слоев. Поэтому социальные требования низов рассматривались не только как антирыночные, какими часть этих требований действительно являлась, но и как антидемократические, поскольку связанный с ними потенциал самоорганизации и общественной самодеятельности не укладывался в эту вульгарную схему. Российским либералам 1990-х годов демократия виделась в шумпетерианском образе: как свободная политическая игра и смена «элит» у власти; вопрос об изменении отношений господства и устранения их социальных корней не возникал практически ни у кого. При этом для основной массы населения, которая стала главной жертвой экономического кризиса, не сложилось сколько-нибудь эффективных политических каналов и институтов отстаивания своих прав. Именно поэтому большинство населения России с полным безразличием отнеслось к свертыванию демократических институтов в 2000-е годы – они не были для большинства каналами эффективного представительства интересов.
С 1999 г. в России началась контрреформа, суть которой – в попытке восстановления традиционной модели взаимоотношений государства и общества, механизма вертикальной интеграции последнего, расшатавшегося за полтора десятилетия кризисного развития. Резко усиливается экономический контроль государственных, и особенно псевдогосударственных, структур, за которыми реально стоит частный интерес узкой группы правящих и господствующих групп. В политической сфере происходит последовательное выхолащивание представительных институтов, возникших в конце 1980-х – начале 1990-х годов, и установление полного контроля исполнительной власти над законодательной. Механизм передачи высшей исполнительной власти полностью выведен из зоны неопределенности, связанной с демократическими выборами.
С конца 1990-х годов политическая система России вновь возвращается к традиционному, привычному состоянию монополизации власти одной политической силой и исключения компромисса. Баланс различных интересов внутри правящих и господствующих групп достигается путем последовательного подчинения единственному центру, из которого проистекает реальная власть («вертикаль власти»). Реформа регионального управления – отмена прямых выборов губернаторов и мэров городов – фактически ликвидирует те зачатки вертикального разделения властей, которые сложились в первой половине 1990-х, а заодно и сам принцип федеративной организации власти, подразумевающий раздельную легитимность органов власти различного уровня и отсутствие соподчинения между ними.
На протяжении 2000-х годов режим Путина последовательно разрушает сложившуюся в 1990-е партийную систему, возможности неконтролируемого возникновения новых партий из общества полностью блокируются, а те миноритарные партии, которые могли бы реально оппонировать власти, распускаются, маргинализуются или подчиняются контролю власти. Такая же политика осуществляется в отношении независимых общественных организаций. Власть устанавливает жесткий контроль над телевидением и большей частью печатных СМИ, оставляя небольшие отдушины в виде независимых газет и радиостанций. В 2000-е годы резко активизируется деятельность репрессивных структур, как легальная, так и «экстраофициальная», направленная на восстановление социального, экономического и политического контроля над обществом. Фактической частью репрессивных структур становится судебная система, она является как орудием «избирательного правосудия» в отношении непослушных членов правящих и господствующих групп (М. Ходорковский), так и в растущей мере орудием подавления политического и социального протеста.
Несмотря на последовательный и всеобъемлющий характер контрреформы 2000-х годов в России, с самого начала было очевидно, что попытка восстановить традиционную для России модель взаимоотношений государства и общества была обречена[159]. Прежде всего потому, что государство в России больше не обладает административными, политическими и идеологическими ресурсами, достаточными для осуществления подобной стратегии. Оно полностью разложено изнутри доминирующими в нем партикуляристскими интересами. Можно с полным основанием утверждать, что государство как система публичных институтов в России практически отсутствует. На его месте в 1990-2000-е годы сложилась система частной власти, единственным ограничителем в которой выступают «оголенные, неинституционализированные властные отношения»[160]. При этом экономическое и политическое господство, по сути, сливаются, поскольку группа, контролирующая исполнительную власть в России, одновременно контролирует почти все наиболее прибыльные сферы экономической активности. Иначе говоря, экономические интересы наиболее влиятельной части правящих и господствующих групп полностью персонифицированы на политическом уровне.
Изъяны такой системы с точки зрения баланса интересов внутри правящих и господствующих групп очевидны. В ней отсутствуют какие-либо институциональные механизмы согласования интересов, она держится на балансе сил и личных договоренностях[161]. За фактически 12 лет путинского правления не удалось выработать институционального механизма передачи власти внутри авторитарного режима – задача, с которой успешно справлялись все устойчивые авторитарные режимы третьего мира – от мексиканского до китайского. Поэтому «рокировка» 24 сентября 2011 г., будучи вполне предсказуемой (марионеточный характер медведевского президентства был очевиден все четыре года его нахождения на этом посту), привела к видимому для общества нарушению консенсуса верхов. Важнейшая линия раскола проходит между системными либералами (А. Кудрин), заинтересованными в ускорении либеральных реформ, и теми, для кого основным источником доходов служит власть и соответственно непрозрачность существующей экономической системы[162].
Без сомнения, нарушение консенсуса верхов является важным показателем неустойчивости всей конструкции власти. Однако мне кажется неверным преувеличивать степень этого раскола или считать вслед за А. Сахниным, что «механизмом, приведшим в движение механику протеста, стал именно раскол элит»8. Я думаю, что гораздо более важным для возникновения нынешнего протестного движения стали изменения, произошедшие в российском обществе за последние 7 лет. Прежде всего, о появлении общества (с прилагательным «гражданское» или без оного) стали говорить практически все, даже те, кто пару лет назад крайне скептически относился к его наличию в России. Между тем нынешний всплеск очевидно подготовлен нарастанием общественных протестов в последние годы – начиная с выступлений против монетизации льгот в начале 2005 г. и включая многообразные движения в защиту жилищных прав, против уплотнительной застройки и принудительных выселений, экологические инициативы в защиту среды обитания, новые профсоюзы и забастовки, протесты против милицейского и судебного произвола, движение автомобилистов, марши несогласных, «стратегию 31» и многое другое. Речь идет об усилившемся в обществе процессе неполитической самоорганизации в защиту непосредственных жизненных интересов в самых разных сферах. Эти частичные движения и протесты последних лет создали и неуклонно расширяли ту неполитическую публичную сферу, независимую от государства и часто противостоящую ему, которая и является сферой гражданского общества. Именно на этом социально-политическом фоне стало возможным массовое протестное движение 2011–2012 гг. Спусковым механизмом этого движения стала крайне неудачная попытка власти, просмотревшей наличие общества в России, вести себя в новой ситуации по-прежнему. Наглая и тупая власть, не скрывающая, а демонстрирующая произвол, столкнулась с готовностью людей защищать свои права и достоинство.
Кто эти люди? «Средний», или «креативный», класс, как их определяют независимые СМИ и либеральные аналитики? «Вполне себе успешные люди, которые собрались на митинги, вдруг почувствовали, что все в жизни у них хорошо, но свободы маловато»[163]. Или же прав А. Левинсон, считающий, что это «не средний класс вышел с протестом. Это общество в целом выслало своих гонцов сказать, что оно собирается жить по-другому»[164]. Каждый, кто был на проспекте Сахарова 24 декабря 2011 г. и на Болотной площади 4 февраля 2012 г., по-видимому, согласится с данными опросов Левада-Центра, проведенных на этих митингах. «Средних» там было много, пишет А. Левинсон. Но «помимо средних там было много людей небедных и было немало бедных. Так, пенсионеров было столько же, сколько студентов. Среди женщин это вообще вторая по численности категория»[165]. Вместе с тем верно и то, что небедные составляют ядро складывающегося на наших глазах демократического движения и именно нехватка свободы вывела людей на улицу. Протестное движение объединяет не социальные интересы отдельных, тем более ущемленных социальных групп, а демократическое требование свободных выборов и – шире – политической реформы, которая (в идеале) должна сделать власть ответственной перед обществом. Будучи продолжением и мультипликацией общественных движений, возникших по более частным поводам, новое протестное движение не совпадает с ними, развиваясь в иной – более общей – плоскости.
Способность объединять людей разного социального статуса и разных политических взглядов, несомненно, составляет силу движения. Но нынешняя его широта представляет собой и его важнейшую проблему, которая будет становиться все более очевидной по мере его развития. Эта проблема заключается в интеграции социальных требований и социального протеста в протест демократический. На рубеже 1980-х и 1990-х годов демократический протест также «перекрыл» первоначальное социальное недовольство. Для многих демократия казалась тогда средством решения социальных и экономических проблем. После тяжелого опыта 1990-х годов таких наивных не осталось (или почти не осталось).
Между тем демократический протест все больше осмысливается общественным мнением – не столько самими участниками протестных митингов, сколько СМИ и независимыми аналитиками – преимущественно как протест среднего класса. Люди, вышедшие на проспект Сахарова и Болотную площадь, «понимают, что такое успех, что такое работа, своими руками и своей головой они сумели создать себе относительно неплохое положение, зарплату, возможность путешествовать, посидеть в кафе, пойти на хороший концерт и так далее. Важно, что это люди, которые у власти ничего не просят, в отличие от большинства населения страны. Большинство населения чувствует свою зависимость и, в общем, время от времени просит что-нибудь: «не оставь, батюшка, приезжай сюда, разберись, чего завод стоит». А людям с Болотной площади и проспекта Сахарова ничего подобного не нужно, они своими руками могут делать дело»[166].
В складывающейся картине продвинутый средний класс противостоит не только авторитарной коррумпированной власти, но и «огромному числу люмпенов, совершенно намеренно выращенных властью. Люмпенов, которые говорят: «А че? Мы тоже избиратели»[167]. В противоположность «люмпенам» («охлосу», по выражению К. Собчак), которые надеются на власть и нуждаются в ее патерналистской опеке, люди среднего класса защищают свою свободу и достоинство, отстаивают право на честные выборы. Гигантские пропутинские инсценировки на Поклонной горе и в Лужниках, незатейливые мотивы привезенных на них статистов («стабильность», «лишь бы не было хуже» и т. п.) еще больше утверждают участников движения за честные выборы в общей адекватности такого – двухполюсного – мировосприятия. «“Мы” – не они, “они” – не мы».
В этом противопоставлении заключается, на мой взгляд, большая опасность для будущего протестного движения. Его упрощенная интерпретация отталкивает тех, кто не чувствует, что «в его жизни все хорошо», а таких большинство. Следовало бы повнимательнее прислушаться к позиции тех, кто вынужденно поддерживает пока противоположную сторону. «Боимся перемен. Сейчас не очень хорошо, но пусть уж лучше так. Перемены – всегда потрясения. А у нас детки выросли при этой власти», – говорит женщина, пришедшая на митинг в Лужниках 23 февраля 2012 г.[168] За этими заклинаниями стоит не только путинская телевизионная пропаганда. Корни этого страха глубоки, писал в 1990 г. А. Фадин. «Они уходят в самую глубь российского исторического опыта – с его жестокими обвалами идущих сверху крутых преобразований, не считающихся ни с какой человеческой ценой… Каждая реформа таит в себе угрозу ухудшения тяжелого, но привычного уклада жизни, прогресс ассоциируется прежде всего с его непомерной ценой, с его бедами и лишениями… В этом горьком историческом опыте – сила низового народного консерватизма. Но в нем же и опасность для любой последовательной политики модернизации. При дурном обороте событий именно он становится основой идеологии реставрации»[169]. Эти слова оказались пророческими: горький опыт 1990-х годов заставил большинство населения поддержать ту, хотя и карикатурную, реставрацию, которую предложил ему путинский режим в 2000-х.
Очень не хочется снова наступать на те же грабли.
Чтобы быть минимально устойчивыми и не повторить судьбу, постигшую их в 1990-е годы, институты политической демократии должны включать интересы большинства населения страны. Современная демократическая альтернатива не может быть либеральной или только либеральной, она должна быть социальной. Демократия в России невозможна без интеграции социальных требований тех, кого экономическое развитие, ориентированное в основном в соответствии с требованиями мирового энергетического рынка, делает лишними и как потребителей, и как производителей. Без интеграции этих слоев и без учета их интересов, которые зачастую имеют антилиберальный характер, любое демократическое устройство будет верхушечным и обратимым. В этом смысле Россия стоит перед той же дилеммой, которая решающим образом определяла судьбу демократии в Латинской Америке во второй половине XX в. и в начале XXI в. Без включения социально «исключенных» в плюралистическую систему гражданского и политического представительства, в которой они чувствовали бы, что могут эффективно отстаивать свои интересы, демократические институты не воспроизводятся. В непроницаемой для «исключенных» политической системе всегда сохраняется опасность того, что недемократические, патерналистские тенденции социальных низов (и части средних слоев) сомкнутся с авторитарными, автократическими тенденциями господствующих групп. В таком случае демократическим путем, через выборы к власти приходят авторитарные режимы, которые сводят на нет, выхолащивают представительный характер институтов, их способность транслировать интересы общества (в том числе протест) в политическую сферу.
Мне кажется, что эту крайне сложную задачу демократическое движение должно решать уже сейчас, иначе оно будет обречено на то, чтобы оставаться верхушечным и поэтому слабым. В этом случае после каждого демократического подъема мы будем вновь и вновь возвращаться в привычную историческую колею, где слабое общество будет каждый раз опять уповать только на государство с тем, чтобы оно восстановило нарушенный порядок.
© Ворожейкина Т., 2012Анна Очкина ТЕНЬ СССР, ИЛИ УРОКИ ПРИКЛАДНОЙ ДИАЛЕКТИКИ
«Ад и рай – в небесах», – утверждают ханжи.
Я, в себя заглянув, убедился во лжи:
Ад и рай – не круги во дворце мирозданья,
Ад и рай – это две половины души.
Омар ХайямДействительно, социально-политическая система СССР осталась принадлежать XX в., но ушли ли в прошлое все его исторические и культурные завоевания, являющиеся сегодня вызовом не только современной России, но и всему «цивилизованному миру», все глубже уходящему в реверсивный феодализм?
Людмила БулавкаСегодня в России о крушении неолиберальной модели, о ее полной несостоятельности говорят с такой же убежденностью, с которой 20 лет назад говорили о провале «советского эксперимента».
Последнее столетие наша планета напоминала гигантский дворец детского творчества: каких только экспериментов не проводилось, какие только фантастические проекты не осуществлялись. Планы и размах были сказочными, эпическими даже, людские трагедии же оказались вполне реальными. Невероятными по масштабам, но все же свершившимися. Человечество научилось считать потери миллионами как раз тогда, когда развитие науки дало возможность миллионы жизней сохранять, отвоевывать буквально у смерти.
Человечество искало себя – и ужасалось цене, которую приходилось платить за минимальный шаг к разуму и справедливости. И немедленно отказывалось от поиска, а заодно от разума и справедливости, объявляя их самих первопричинами Зла. Но и за бездействие, и за веру в «естественные законы», за передачу управления «невидимой руке» приходилось тоже платить – пусть не разом, так в рассрочку.
А проблемы только накапливаются.
Фридрих Хайек, идеолог свободного рынка, говорил, что, начиная рассуждать об общественном порядке и пытаясь регулировать его сознательно, люди неизбежно приходят к социализму. С его точки зрения, большей беды быть не может. А вот мы вроде как сознательно отказались от социализма – так он нам надоел, столько претензий к нему за 70 лет накопилось. И репрессии, и «железный занавес», и высылка Солженицына, и дефицит. А еще нельзя было достать приличной обуви, за джинсы приходилось спекулянтам отдавать среднемесячную зарплату в промышленности (1980-е годы) – 200 руб. Ну, его, этот социализм, мы хотим жить, как в нормальных странах, в которых уровень бедности – наш уровень богатства.
Потом оказалось, что, оценивая свой уровень жизни, мы многое не считали, да и про уровень бедности знали далеко не все. Сегодня вошло в обиход понятие счетов за лечение, образование для детей – заметная статья расходов, а коммунальные платежи растут так же быстро, как чужие дети. Стало понятно, что раньше мы несколько прибеднялись. До сих пор трудно представить, что можно остаться без лечения, если у тебя нет денег. Но сейчас нам это сделать легче, чем 20 лет назад. Начинаем привыкать к нормальной жизни?
Вопреки утверждениям Хайека, россияне вроде как сознательно выбрали и с энтузиазмом начали строить именно капитализм, а возвращение (эмоциональное) к отвергнутому и заклейменному социализму происходит как раз совершенно стихийно.
Эта статья написана на основе выступления на круглом столе: «Второе крушение: от распада СССР к кризису неолиберализма», проводимом в рамках серии конференций «СССР: жизнь после смерти». «Второе крушение» – это, конечно, о неолиберальном капитализме, который все яснее обнаруживает свою несостоятельность и беспомощность перед вызовами кризиса. Но мне захотелось интерпретировать это название иначе, я увидела в этом намек на гораздо более интересную тему: «Второе крушение… СССР». Советский Союз вернулся спустя 20 лет в виде социально-политического призрака и уже в этом виде терпит крах.
Но почему вообще он вернулся? Не почудилось ли интеллектуалам это возвращение, одним – как кошмар, другим – как вспышка несбыточной надежды?
Нет, «возвращение СССР» – это, я убеждена, не только фигура речи или фантазии экспертов. Советский Союз вернулся, вошел в нашу реальность как набор, даже система мифов, как некая точка отсчета и образ прошлого, под которым можно «чистить» образы настоящего и даже будущего. Как важный фактор общественного сознания, без которого наша сегодняшняя – сугубо постсоветская – жизнь не может быть понята и оценена адекватно.
Советский Союз как государство закончил свое существование 20 лет назад, но только сегодня нам предстоит, наконец, расстаться с ним окончательно, предварительно поняв его, осознав и усвоив его уроки. Для этого и потому он и вернулся. А когда-то мы были уверены, что расстались с «совком» навсегда.
В январе-феврале 1992 г. я участвовала в большом социологическом опросе на пензенских и подмосковных промышленных предприятиях «Удовлетворенность социальной сферой». После сообщения из Беловежской пущи в готовую анкету был добавлен вопрос: «Как вы оцениваете образование СНГ?» Не «крушение СССР» – этого не поняли и не ощутили сами составители анкеты. А именно – «образование СНГ».
Вопрос предполагал выбор из нескольких оценочных вариантов (от «безусловно положительно» до «безусловно отрицательно»), а также строчку для развернутого комментария. Помню, что тогда никто из группы, занимающейся подготовкой опроса, не смог предложить варианты для так называемого «вопроса-меню», варианты ответа на который отражали бы как можно более полно спектр возможных реакций на событие или явление. Беда в том, что у нас самих в то время реакция была одна: изумление и растерянность. Дискуссии, самые яростные, разумеется, были, но они убедили нас только в одном: наши подсказки, скорее, собьют респондентов с толку, чем помогут им сориентироваться и найти адекватную собственному мнению формулировку в предложенном «меню». Слишком иррациональным и не сводимым к неким типовым, объективно обусловленным суждениям получился бы набор субъективностей, отражающих эмоциональное состояние, характер и личные жизненные обстоятельства членов группы, а не спектр социально-экономических, политических и культурных интересов, выражающихся в определенном суждении о событии, как положено при составлении «вопроса-меню». Мы просто-напросто не могли представить себе – точнее, более или менее обоснованно предположить, – как распределятся мнения респондентов. Кроме того, необходимо было учесть и неординарность такого события, связанную с ним растерянность (тем более что мы ее и сами чувствовали), которая может спровоцировать случайный выбор варианта ответа. Подсказывать нам не хотелось, а хотелось получить непосредственные суждения людей по свежему, так сказать, следу.
И ничего у нас не вышло.
Самым распространенным ответом-оценкой оказался «затрудняюсь ответить», а комментарии (которые встречались только примерно в каждой третьей анкете) выдавали ту самую растерянность, которая помешала нам самим составить закрытый «вопрос-меню». В интервью респонденты даже не стремились обсуждать эту тему, хотя кое-какие устные комментарии мы все же получили. Резкого осуждения событие не получило, но и горячей поддержки тоже. Поражало почти полное отсутствие прогнозов на будущее этого самого неведомого тогда еще СНГ. Многие респонденты вообще восприняли ситуацию так, что это переименование СССР, произведенное с целью избавиться от слова «социалистический». У троих респондентов вырвалось восклицание типа: «СНГ не СНГ, хоть бы Союз не развалился» (все трое, кстати, оценили образование СНГ «безусловно положительно»). Были высказывания, выражающие тот же тезис в более мягкой форме. Суть их сводилась к тому, что пусть будет СНГ, только бы не было таможен, национальных валют и разного гражданства. Короче, назови хоть горшком, только в печь не ставь. Поразительно, но никто из моих респондентов (а я лично опросила более 500 человек) не воспринял событие как судьбоносное, радикальным образом меняющее историю, социальную и частную жизнь в России. Никто! Всех гораздо больше волновали задержки (к тому времени уже хронические) заработной платы, ужасающая дороговизна (началась «шоковая терапия»), бедственное положение предприятий. Интересно, что никто не выразил опасения по поводу возможного разрушения хозяйственных связей, волновались только из-за возможных пограничных и таможенных неприятностей для частных лиц. А ведь опросы в Пензе я проводила на заводах, некоторые из которых являлись монополистами в Советском Союзе, да и комплектующие, сырье получали в основном также от монополистов. Не думаю, что это от недалекости или даже от пресловутой растерянности. Нет, просто в голову не могло прийти, что эта конструкция – СССР, казавшаяся всем железобетонной, вдруг развалится вот так, совсем и разом. Неприятности в частностях люди еще могли предвидеть: мол, кто знает, чего ждать от бюрократов, но за общее, за производство, никто и не думал переживать.
Вспомним, что «шоковая терапия» обрушила уровень жизни миллионов российских граждан беспрецедентно для мирного времени. В ответ – такое же беспрецедентное терпение. Мне уже тогда, во время соцопроса, пришло в голову, что люди просто не считали это время мирным, относились к нему если не как к военному лихолетью, то как к периоду сильного и затяжного стихийного бедствия, которое нужно просто пережить.
Были, кстати, отчетливые ассоциации с войной у тех, кто пережил ее, особенно у тех, кто пережил ее ребенком. Запомнилась фраза одного блокадника, сказанная им своему сыну в самом начале «шоковой терапии»: «Скажи мне правду: это приведет к голоду? Я должен знать, чтобы вовремя убить себя. Я не переживу этого во второй раз».
Страшно было, я точно знаю, что страшно было многим, но, как герой популярного романа Кабакова, российский народ, казалось бы, твердо вознамерился прорваться к лучшей жизни через «дикий капитализм», разруху, криминальный разгул и подступающую со всех сторон нищету.
И началось настоящее бегство от СССР – ритуальное и эмоциональное. Это бегство тогда заменило нам движение к свободе. Так подросток бунтует порой против несносных взрослых, отказываясь умываться и чистить зубы, не предпринимая по-настоящему ничего, чтобы стать действительно самостоятельным и независимым.
Не было слез по СССР, вошло в моду презрительное «совок» и «совки», все советское было объявлено безусловно темным прошлым. Изменились герб и гимн, не стало в 1993 г. Верховного Совета, появилась Дума, стало тут и там мелькать словечко «господа», поначалу многих очень будоражившее, которое должно было напрочь вытеснить «совковое» «товарищи». Но «господа», к слову, прижились ограниченно: в коммерческой сфере, особенно в банках, плодившихся в девяностые, как кролики весной. В 1995–1996 гг. я работала в коммерческом банке, созданном и управляемом моими бывшими сокурсниками по экономическому факультету МГУ, и наблюдала, как вчерашние комсомольцы и члены партии пробовали на вкус, с удовольствием катали во рту: «господа, господа, господа»…
Но сейчас как-то не очень в ходу это слово, если оно и произносится, то больше с ироническим подтекстом. Люди стараются найти ему заменителей, обращаясь друг к другу. На улицах остались универсальные «женщина», «мужчина», «молодой человек» и «девушка», в профессиональной среде в основном принято обращение «коллеги». Кстати, присказка «господа все в Париже» осталась, я несколько раз слышала ее даже от совсем молодых людей.
Тогда, в начале девяностых, бегство от всего советского было безоглядным. Улицы и города меняли названия, менялись школьная и вузовские программы, появлялись новые профессии и специальности, была отменена ненавистная школьная форма, пал могущественный ОВИР, и можно было ехать куда угодно, были бы деньги. Правда, визу все равно нужно было получать, теперь уже – въездную.
Шло постепенно и эмоциональное избавление – радостное, воспринимаемое как давно ожидаемое. То избавление, из-за которого, собственно, россияне так терпеливо и сносили все невзгоды и превратности первых лет рыночных реформ. Ведь если бы привлекательный образ СССР сохранился в начале «шоковой терапии» или возвратился сразу, после первых ее болезненных ударов, многое было бы по-другому. То поразительное народное терпение 1990-х и связано было с тем, что никто – точнее, подавляющее большинство – назад не хотел. Ни за что не хотели и ни за чем – вот что главное. Этот несносный строй вызывал у многих в лучшем случае насмешки, а нередко и откровенную ненависть.
В некоторых современных произведениях, рассказывающих о последних советских годах, хорошо переданы это всеобщее раздражение советских людей против советского государства, это безусловное отторжение всего, что от него исходило, хроническое недоверие к любой официальной информации. В фильме Владимира Меньшова «Зависть богов» герои обсуждают инцидент с корейским самолетом. Большинство жалеют корейцев, разделяют возмущение американцев и «всего просвещенного человечества». Те немногие, кто рискует защищать позицию советского правительства, оправдывают действия летчиков, говорят о диверсии, самолете-шпионе и т. п., подвергаются агрессивным нападкам, насмешкам, клеймятся как ограниченные, зомбированные пропагандой, косные и антидемократичные люди. Есть в фильме и эпизод, где герои смотрят кем-то добытое выступление Рональда Рейгана 8 марта 1983 г. во Флориде, в котором он произнес знаменитое: «Советский Союз есть империя Зла». Переводчица, повторяя эти слова, делает паузу и выразительно смотрит на собравшихся. Они понимающе кивают в ответ. На лицах отчетливо читается: «А то мы этого не знали…»
Ничему, что говорили официальные лица, советские люди не верили. И только спустя годы с изумлением обнаружили, что врали им далеко не так часто и далеко не во всем. Хуже того. Государство – любое – врет своим гражданам, если ему это выгодно, советское не было исключением.
Показательно, что герои фильма Меньшова – люди преуспевающие, и преуспевающие за счет идеологической поддержки советского строя, за счет работы на ту самую систему, на ту самую идеологию, над которой они так изощренно издеваются. Действительно, у советской власти после ее краха не было более ярых обличителей, чем бывшие преподаватели научного коммунизма.
Когда в СССР привезли американского безработного, советские люди хохотали над беспомощностью пропаганды: «Ой, насмешили, да на нем фирменные джинсы и кроссовки! Ой, умора, чтоб мы так загнивали!». Нужно было разрушить СССР, чтобы понять, что безработица на Западе, особенно длительная и особенно в США, где капитализм наиболее «нормальный», – это риск потерять жилье, будущее детей, которых не на что выучить, потерять медицинскую страховку, пенсию. Даже потерять жизнь, если вы будете так неосмотрительны и серьезно заболеете, не имея медицинской страховки. В США почти 50 тысяч человек ежегодно умирают потому, что не могут получить доступ к необходимой медицинской помощи. Не могут потому, что у них нет денег. А джинсы и кроссовки в Штатах стоят копейки, и никому не приходит в голову считать их ценностью, сопоставимой с бесплатными высшим образованием и медициной, с возможностью когда-нибудь получить бесплатно хоть какое-нибудь жилье. Говорили нам об этом? Может быть, да мы не верили.
Большой идеологической ошибкой был пресловутый «железный занавес», превращающий «заграницу» в запретный, а потому страстно желаемый плод. «Ах, Запад, не пот, а запах, не женщины, а сказки братьев Гримм. Мартини, бикини-мини и наслажденье, вечное, как Рим». Эта песенка ранних 1980-х, конечно, шутка, но в каждой шутке…
Мы недавно смотрели со студентами американский фильм «Погоня за счастьем». Симпатичный чернокожий парень, герой Уилла Смита, борется с нищетой и безработицей, пытаясь осуществить американскую мечту – стать брокером и разбогатеть. Он со своим пятилетним сыном проходит через разные испытания и все-таки добивается своего: зарабатывает миллионы – и, как рассказывают нам в конце фильма, умирает мультимиллионером.
Подозреваю, что нас, посмотри мы этот фильм лет 25 назад в СССР, в первую очередь поразило бы многообразие возможностей, восхитил бы успех героя. А мои студенты отреагировали иначе. Они радовались за симпатичного Криса Гардена, но дружно согласились с тем, что «не нужно обязательно миллионов, лишь бы не было голодных детей и безработных родителей. Он один прорвался, а там же сотня была кандидатов, которым не повезло. Победили труд и упорство? Да, на этот раз. Но так не всегда бывает. И вообще, проиграть не значит быть хуже. Проигравшие не должны платить такую цену».
После просмотра фильма Майкла Мура «Здравозахоронение» («Sicko») о медицинском страховании в США одна девочка печально произнесла: «Да, чистый капитализм – это вам не сахар…»
Они уже знают эти правила, знают, в отличие от нас двадцатилетних, что именно по таким правилам им самим предстоит жить. Новое поколение, взрослеющее в отсутствие СССР.
Но тогда, в девяностые, мы бежали прочь от «совка». Как социально-исторический факт такое бегство напоминало смену декораций в одном и том же стареньком театре. С утра играем сказку для детей, днем – концерт для ветеранов, вечером – пьеса «за жизнь» или «про любовь». Так и постсоветская Россия обновила декорации, во многом оставшись в «здании» СССР. Советский Союз остался – и остался как необходимая и неотъемлемая часть новой, «настоящей» жизни, остался прежде всего как важный фактор экономики. Большинство промышленных сооружений, объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, служащих нам сегодня, советского происхождения. Демографический кризис – трагедия современной России – неожиданно смягчил и даже отдалил неминуемый, казалось бы, жилищный кризис. Небогатый советский жилой фонд обменивается гражданами на квартиры в новых домах. Детей в семьях по одному-два, и бабушкины-дедушкины квартиры, полученные в советских битвах с «жилищным вопросом», до поры до времени решают проблему. Советский Союз во многом остался с нами, но эмоциональное бегство от него, изживание советского продолжалось почти все девяностые.
Самой большой, роковой проблемой СССР оказалось то, что его почти никто не захотел защищать – ни в 1991-м, ни в 1993-м. Тогда вся огромная Россия оказалась равнодушной к отчаянной борьбе немногих, защищающих Верховный Совет. Не у Верховного Совета, а собственно у Советского Союза не оказалось тогда сторонников. Верховный Совет был обречен.
Но парадоксальным образом, только став по-настоящему прошлым, Советский Союз вдруг возник в общественном сознании если не как полноценный вариант будущего, то, по крайней мере, как критерий для отбора таких вариантов. Став невозвратным прошлым, Советский Союз перестал отторгаться и вернулся – уже как фактор общественного сознания. Миф-страшилка, может быть, вскоре заменится мифом о «золотом веке».
В начале 2000-х, или, как часто весьма символично называют, «нулевых», годов началась культурная реабилитация СССР. Власти понадобилась культурноисторическая идентичность, отсекающая их от 1990-х, которые у журналистов получили название «лихие». Граждане «девяностым» никаких эпитетов не подбирали, предпочитая просто забыть.
Стыд – это главное ощущение, и индивидуальное, и коллективное, оставшееся от девяностых годов. Но это не был еще очищающий социальный стыд, «гнев, обращенный вовнутрь». Отношение к этому отрезку новейшей российской истории очень похоже на поведение участников грандиозной попойки на следующий день. Все было «серьезно», некоторым даже весело, но вспоминать не хочется никому.
У меня последнее время все чаще и чаще возникает ощущение, что в сегодняшней российской ситуации психоаналитик или даже хороший писатель, драматург разобрались бы лучше, чем экономисты или социологи. Эмоциональная, социально-психологическая составляющая мотиваций и поведения настолько существенна, что все процессы в обществе представляются развивающимися по законам личных, а не общественных отношений.
Да и отношения народа с государством сегодня в России напоминают отношения давних супругов, которые смертельно надоели друг другу, но развестись все не могут, потому что их многое связывает. Хотя бы общая загубленная жизнь.
Так или иначе, но эмоциональные переживания сегодня становятся чуть ли не более значимыми факторами социальной жизни, чем даже сама социальная жизнь. Отношение к выборам, кандидатам и депутатам, к политике вообще, восприятие реформ и реакция на них – все эти грани общественного сознания и социального поведения гораздо яснее понимаются «сердцем», чем умом, точно в соответствии с лозунгом предвыборной кампании Ельцина в 1996 г.
К 2000 г. усталость от 1990-х начала ощущаться значительно сильнее, чем даже прежде усталость от СССР. Уж очень трудные выдались годы, впору засчитывать год за три. И за это время россияне успели натешиться всеми недоступными прежде игрушками, включая предпринимательство, ночные клубы и магазины, «мыльные оперы», «изобилие» в магазинах, перестрелки на улицах, порнографические пресса и видео, свобода слова, – всем, чего так не хватало в «совке». Натешились и разочаровались. С предпринимательством везло далеко не многим, а многим как раз не везло, часто – смертельно. Изобилие, ночные клубы и магазины – дело хорошее, да только не всем доступное, «мыльные оперы» оказались скучноваты и длинноваты – что импортные, что появившиеся вскоре отечественные, порнография потеряла значительную часть привлекательности, став доступной. А в перестрелках, когда они под самым носом, а не на экране, ничего увлекательного нет.
Девяностые стали годами банкротства страны. И в нулевых это стало тем, что называют «очевидным фактом», когда по поводу чего-то складывается более или менее общее мнение, на которое ориентируются как при вынесении суждений, так и при принятии решений.
Банкротство констатировалось по всем статьям.
Банкротство экономическое. Статистика динамики доходов населения за 14 лет (с 1991 по 2005 г.) показывает, что, как минимум, до середины нулевых население, по крайней мере, в части «белых» доходов, не богатело. Несмотря на заметный рост среднемесячной заработной платы в рублевом и долларовом эквивалентах, ее покупательная способность не растет. Так, среднемесячная начисленная заработная плата (в ценах 1991 г.) в 2005 г. была почти на 100 руб. меньше, чем в 1991 г., – 447 руб. по сравнению с 548 руб. Ухудшилось также соотношение среднемесячной заработной платы и выплат социального характера к величине прожиточного минимума, в 1991 г. оно составляло 335 %, а в 2004 г. – 264 %[170]. Конечно, статистика не учитывает теневых доходов, но ведь они были и в 1991 г., и в 1995 г.
Доклад научного коллектива Высшей школы экономики «Уровень и образ жизни населения России в 1989–2009 гг.» при всей своей оптимистичности, связанной в основном с констатацией победы рыночной экономики, поведал о весьма скромных успехах по части благосостояния населения. Авторы доклада заявляют: «С 1990 по 2008 г. уровень среднего текущего рыночного потребления за счет средств домашних хозяйств в России вырос на 45 %». А «сводный индекс благосостояния, который кроме рыночного текущего потребления учитывает изменения в ценовой доступности жилья (т. е. важнейшие элементы накопления домашних хозяйств), а также нерыночные индивидуальные услуги (здравоохранение, образование и социальное обеспечение), дает более скромный результат – рост на 32 %»[171]. В то же время ученые признают: «Наше исследование позволяет сделать вывод, что пока в повышении благосостояния, ставшего возможным вследствие создания рыночной экономики, успешно участвуют только верхние, наиболее состоятельные 20 % населения. На долю верхних двух квинтилей приходится половина всего прироста доходов. Третий квинтиль только-только вышел на уровень 1990 г., а 40 % населения с наименьшими доходами получают меньше, чем до начала реформ»[172].
Проще говоря, от рыночных реформ, безусловно, выиграли 20 % населения, еще 20 % оказались более или менее «в плюсе», следующие 20 % остались при своих (но это в цифрах; статусные и моральные потери здесь не учтены), а 40 % проиграли. Нужно сказать, что большинство людей, даже из тех, кто считал себя в целом выигравшими от рыночных реформ, отчетливо осознавали незначительность своего выигрыша в масштабах истории и благополучия страны и в масштабах тех немногих огромных состояний, возникших в процессе всеобщей приватизации.
И все же экономическое банкротство не было бы так очевидно, если бы не было банкротства культурного и морального. Интересно, что экономические проблемы, связанные с необходимостью приспосабливаться к новым условиям, не говоря уже о лишениях, с которыми многим еще недавно советским людям пришлось столкнуться с началом «шоковой терапии», не оформились бы в такое очевидное для всех и хорошо осознаваемое ощущение огромных культурных потерь, культурной деградации в эпоху «отчаянного накопления». Культурное банкротство как следствие рыночных преобразований оказалось очевиднее экономического и легло в основу обобщенной оценки реформ.
Девяностым, какими бы «лихими» они ни были, спеть и показать по большому счету было нечего. А если и было, то слушать и смотреть это не слишком приятно и интересно. Картинка, с которой, по словам моего старшего сына, прочно ассоциируются девяностые годы: черный джип на обочине, открытые дверцы, из которых виден застреленный водитель, из приемника несется: «Белые розы, белые розы, беззащитны шипы…». Ночь, зима…
Постепенно, но все более уверенно, советские фильмы и песни возвращаются в эфир и на экраны. «Старые песни о главном», появившиеся на экранах страны под Новый 1996 г., были не только очень успешным телевизионным проектом, это было еще признание культурной несостоятельности «периода Большого хапка». В конце концов, Великая Октябрьская революция победила и утвердила советский строй не только силовыми и экономическими методами, но и за счет новой мощной культуры, ставшей массовой и вовлекающей массы в культурное развитие и культурное строительство. Великие перемены Октября были спеты, сыграны, описаны и нарисованы, они получили свой язык и свои образы. У девяностых и всего процесса «урынкования» (это рыночные реформы по-польски, а в русском языке и русской реальности словечко смотрится удивительно точным и метким) были колоритные и весьма узнаваемые типажи, а вот образов не было. Так и хочется скаламбурить: написав – разве что образины. Были фигуранты, но не было героев. Деньги, вообще, не романтичны, прибыль хороша сама по себе, без поэзии, это же не любовь. Для рынка нет трагедий и страдальцев, есть убыточные сделки и неудачники.
Не менее сокрушительным и очевидным стало моральное банкротство. Сеанс магии с разоблачением, проделанный новыми элитами и властью в период перестройки, не просто подорвал престиж власти вообще. Он лишил миллионы людей исторического, да во многом и личного, прошлого.
Разоблачения времен перестройки принципиально отличались от разоблачений времен хрущевской оттепели. Тогда обличали сталинизм сам по себе, клеймили его как отклонение от ленинского курса, который был-де безусловно правильным и который обеспечил советским людям множество побед и достижений. Мы шли в правильном направлении, но тролли потащили нас кружным путем, на котором было много чего некрасивого и горького. Теперь мы выходим на столбовую дорогу и продолжаем идти туда же, куда и раньше, но уже без прежних трагедий и потерь. Ошибки, как коллективные, так и индивидуальные, были локализованы вокруг причастности к репрессиям. Это не отменяло личных трагедий, но и не перечеркивало недавнюю историю. Перестройка доразоблачалась до того, что вся система ценностей и целей, в которых 70 лет жила страна, была объявлена ложной.
Перестройка еще предлагала что-то взамен: социализм с человеческим лицом, демократию. «Шоковая терапия» все это тоже отменила, предложив простой и ясный лозунг: «Обогащайтесь!». Человеческая жизнь утратила ценность, приобретя цену – весьма, кстати, невысокую.
Михаил Веллер, автор злой и безжалостной сатиры на советское общество, так писал о девяностых: «Мы живем сегодня в простом и понятном мире, где безоговорочно правят открытая сила, жадность и жульничество. Афера и кража стали нормой жизни – от министра и прокурора страны… Никто больше не вспоминает о морали, честности и долге. Все признали, что быть проституткой лучше, чем ткачихой. Слово «продажность» исчезло из словаря, ибо само собой подразумевается, что каждый должен продаваться за сколько сумеет. Преступник и представитель государства соединились в одном лице. Противостояние личности и закона исчезло. Личность обнялась с законом и пошла косить капусту. Мошенник рискует только тем, что его пристрелит другой мошенник»[173].
Лидеры, пришедшие во власть после Ельцина, хорошо понимали, что им необходимо избавиться от идентификации с девяностыми годами. От этих «проклятых лет» нужно было уйти, сначала хотя бы эмоционально. Но «вымарывать» из новейшей истории только что прожитое страной десятилетие следовало осторожно и аккуратно, сохраняя в сознании людей непрерывность истории. Обращение к дореволюционному периоду успеха не имело, как и пресловутое словечко «господа», не говоря уж о безнадежно экзотичных для нас сегодня «сударь» и «сударыня». Эффект масштабной вертикальной и горизонтальной социальной мобильности, обеспеченной годами советского прорыва, обусловил то, что подавляющее большинство граждан России отождествляют себя с советской социальной структурой, где они обрели свой статус, свою социальную и культурную идентичность. Кроме того, советский период создал беспрецедентно качественную массовую культуру и соответственно сформировал относительно высокие культурные запросы граждан. Советская массовая культура в своих лучших образцах по уровню художественных приемов, по нравственному пафосу, по провозглашаемым принципам и в целом по содержанию была близка к лучшим образцам мировой и русской гуманистической культуры. Система народного просвещения в СССР сделала много для того, чтобы так называемая высокая культура стала массовой. Этому во многом способствовало и знаменитое «бегство в культуру» советских людей в эпоху застоя, для которой характерна ситуация, когда «чем больше людей начинают загонять на партсобрания, заставляют голосовать по указке, осуждать врагов, тем больше люди начинают интересоваться стихами, покупать томики Ахматовой, читать поэзию Серебряного века, ходить в театры»[174].
И Советский Союз был признан официально как вполне достойное историческое прошлое. Началась его стремительная культурная реабилитация.
Но это нельзя назвать в полном смысле слова возвращением СССР.
Тут забавную шутку сыграла смена поколений. Ко мне сейчас приходят учиться студенты, родившиеся уже после крушения СССР. То самое поколение, о котором грезили «младореформаторы», поколение «чистого» капитализма, а не какие-нибудь там замшелые «совки». Но обнаруживается, что, не имея советского опыта, эти молодые люди не имеют и личных претензий к советскому строю. Единственный строй, которым они могут быть недовольны, – это существующий. И они, не знающие ежедневных мелких и досадных, раздражающих деталей советского быта, весьма положительно оценивают такие черты советского строя, как социальная защищенность, доступное и качественное образование, относительно невысокий уровень неравенства и т. п.
Почему вообще социально-культурная реабилитация СССР стала не только возможной, но и неизбежной? Советский Союз при всей агрессивности своих методов вовлек – даже втащил – в экономическое, социальное и культурное строительство огромные массы людей, и социальная структура советского общества строилась путем включения широких социальных слоев в активную социотворческую деятельность. Ограничения, репрессии, сопровождавшие первые десятилетия советской истории, были фактором маргинализации, исключения отдельных индивидов и социальных групп, но они были неким побочным следствием социального строительства, несущностной его характеристикой.
Социальная структура постсоветской России строилась в основном за счет исключения широких социальных слоев из социального, экономического и политического строительства, в значительной степени – и из процессов распределения общественного богатства. Формирование новой социальной структуры в России сопровождалось потерей или снижением социальных статусов для массы людей. И это стало основой социально-экономической реабилитации СССР в массовом сознании.
Сегодня можно говорить о возвращении СССР как феномена общественного сознания в виде если не образца, то, по крайней мере, варианта. Именно сейчас, а не в 1990-е, остро ощущается то, что российское общество подошло к некоему пределу социальной мобильности. Более того, вполне реальной стала нисходящая межпоколенческая мобильность, к которой большинство наших граждан психологически не готовы, и вряд ли вообще когда-нибудь они смогут это принять.
Неолиберальные реформы образования, медицины, сферы науки и культуры приводят к сокращению, даже к приватизации каналов социальной мобильности. Дифференциация по социальным возможностям, по жизненным шансам идет очень быстро, значительно быстрее, чем даже в 1990-е годы, и гораздо болезненнее ощущается. Этому способствует еще один эмоциональный феномен: разочарование в самой привлекательной приманке буржуазного строя – в существовании для единиц блестящей возможности неограниченно богатеть. В США социологические опросы все время фиксируют значительное число людей, свято верящих в то, что они когда-нибудь разбогатеют, и потому голосующих против законов, ущемляющих богатых и сверхбогатых людей. У нас эта вера исчерпалась довольно быстро, сказалось неплохое образование старших и средних поколений, даже некоторое знание политэкономии. Или, как минимум, знание благодаря «Золотому теленку» фразы: «Все крупные современные состояния нажиты бесчестным путем». Ну, а молодому поколению СМИ подробно докладывают, какие именно пути для этого используются. Конечно, про честных предпринимателей тоже рассказывают, даже снимают про них фильмы. Фильмы получаются еще менее убедительными, чем советские производственные саги и откровенные агитки. Состояния же реальных честных предпринимателей и фермеров ни в какое сравнение не идут с «нажитыми нечестным путем».
И вообще, права Марина Цветаева, сказавшая, что «сознание неправедности денег в русской душе невытравимо». И поговорку «от трудов праведных не построишь палат каменных» у нас знают слишком хорошо.
Наибольшее разочарование в идее «блестящего шанса», соседствующего почти со смертельным риском, наблюдается как раз у молодых людей. По крайней мере, у тех, кого я наблюдаю ежедневно, – у провинциальных студентов. Столичные студенты, особенно в престижных вузах, больше верят в себя, в связи и возможности своих родителей, в возможность уехать на Запад и т. п. В идею «большого шанса», распределяемого по способностям и трудолюбию вдумчивой Фортуной, замечу, и столичная молодежь, по-моему, не шибко верит. Просто они осознают, что в борьбе за шанс они оказались «равнее других».
Так почему все-таки возвращение? Потому, что СССР был отвергнут нами 20 лет назад как абсолютный «не-вариант». Отвергнут настолько решительно, что почти все страшные годы «урынкования» эта инерция действовала. Она сработала и в 1996 г., принеся победу Ельцину. «“Советское” – значит отвратительное», – думали мы, не анализируя и не сопоставляя. Не с чем было – девяностые годы воспринимались как временный тяжелый период, неизбежный перед наступлением «нормального капитализма». А вот с «нормальным капитализмом» уже можно стало сопоставлять.
Когда «нормальный капитализм» во имя еще большей нормальности пошел войной на социальные права, коммерциализируя образование и медицину, культуру и науку, сокращая общественный сектор и социальные программы, стало понятно, что СССР незримо присутствовал почти в каждом благосостоянии, в каждой семейной экономике в виде чего-то, полученного от советского социального государства, будь то квартира, земельный участок, высшее образование.
Моя сестра, 20 лет назад уехавшая с мужем работать в США, рассказывала, что ее американские коллеги часто говорят ей: «Вы осуществили Великую Американскую Мечту! Приехали в Штаты без гроша в кармане (что чистая правда – в 1991 г. были какие-то сложности с обменом, они так и полетели без валюты вовсе), сделали карьеру, теперь вы университетские профессора, у вас обоих лаборатория!». Мечта американская, и работали сестра с мужем истово, увлеченно и много. Но все же в этом осуществлении американской мечты им очень помогло образование, полученное в СССР, в МГУ. «Нам СССР дал задаром образование стоимостью 150 тысяч американских зеленых рублей», – приговаривал муж сестры, получая счета из Йельского университета за образование дочери. «Дал за просто так, а потом не захотел воспользоваться», – добавляют они оба часто и не без грусти…
Постепенно стала происходить уже и экономическая реабилитация СССР. Люди поняли, что многим из них не удалось бы ни за что «вписаться» в рынок, не будь у них чего-нибудь советского, если бы не продолжали все эти 20 лет худо-бедно скрипеть институты советского социального государства.
И вот тогда СССР окончательно вернулся – в виде социального образа, в виде заметного феномена общественного сознания.
Россияне получили своеобразный урок диалектики, на практике поняв, что это такое. За очень короткое время, на протяжении жизни одного поколения, пришлось наглядно сравнить два строя. И людям, не занимающимся социальным анализом, только за счет включения в повседневную социальную жизнь удалось увидеть всеобщее, осуществляющееся, по Гегелю, через детали. Буквально уткнувшись в детали сначала советского, а потом и постсоветского строя, россияне на собственной шкуре почувствовали всеобщие черты государства как верховной власти в обществе, как силы, стоящей над обществом. Все черты государства, свойственные ему как репрессивной машине, – подавление в той или иной степени свобод, манипуляцию общественным сознанием, сокрытие информации, бюрократию и т. п. – наивные советские люди связывали только и исключительно с советским государством.
Российское государство еще и очень успешно адаптировало самые неприятные, самые раздражающие черты советской государственной машины. Невольно вспоминается фраза, брошенная Дмитрием Быковым в романе «Списанные», что мы получили «совок», лишенный всего, что делало его переносимым. Постепенно становилось понятно, что есть некие сущностные черты государства, некое «государство вообще». Все, в чем обвиняли одно-единственное советское государство и одно-единственное Политбюро, оказалось некими всеобщими признаками государства.
Получили мы и более важный урок, связанный с пониманием всеобщего. В Советском Союзе был сделан рывок к осуществлению принципов, провозглашенных мировой гуманистической культурой. Конечно, СССР далеко не был идеальным обществом с точки зрения высочайших гуманистических идеалов, но мощное влияние массовой культуры, впитавшей высокую мировую культуру, способствовало распространению гуманистических идеалов как принципов реального повседневного поведения. Даже если это распространение нельзя признать широким и массовым, нужно согласиться с тем, что подобные принципы могли служить некоей планкой, критерием оценки своих и чужих поступков. «Общегуманистический идеал справедливого и неотчужденного общества, существовавший до революции как некая абстракция, стал не просто составной частью советской культуры (здесь мы говорим прежде всего о ее социалистической тенденции), но вошел в ментальность (психологию, духовную культуру) советского народа. Но по мере того как индивид переставал быть субъектом Истории, а затем и Культуры, постепенно происходило “размывание” самого этого общественного идеала»[175].
Сравнение культурной и повседневной жизни в двух противоположных социально-экономических системах позволило людям увидеть, что в культурной и – хотя бы отчасти – повседневной жизни советского периода были так или иначе воплощены всеобщие гуманистические принципы, когда «идеальное коммунизма (как мира неотчужденных отношений) в советском обществе было представлено советской художественной культурой»[176].
Итак, за последние 12 лет произошла социально-психологическая, социально-культурная, отчасти социально-экономическая реабилитация СССР. Да, конечно, дефицит, очереди и талоны ему поминают, но без прежнего гнева и энтузиазма.
Происходит сегодня и то, что условно можно назвать социально-правовой реабилитацией. Коррупция, разнообразные истории «распила» и «крысятничества», заполнившие сегодня пространство Интернета, позволяют думать о советских партийных и хозяйственных руководителях почти как об аскетах и бессребрениках. Да, воровали и взятки брали, но разве так?!
Так почему же все-таки второе крушение – вскоре после возвращения?
Вся та реабилитация СССР, о которой сказано выше, возвращение его образа в общественное сознание и в общественную дискуссию, стали поводом только к массовой рефлексии, а не к формированию социально-политической альтернативы, хотя бы в виде интеллектуального продукта.
Реабилитация СССР в общественном сознании при всей своей масштабности все-таки оказалась неполной, она не включала социально-политическую реабилитацию. Не произошло принятия и оправдания общественным мнением того, что и сделало Советский Союз Советским Союзом, – революции и последующего за ней прорыва через время, даже эпохи, ценой громадных социальных и человеческих потерь. Это до сих пор не только не принимается, но и отвергается общественным сознанием. Парадоксальным образом неприязнь к революции по мере роста недовольства в обществе только усиливается, точнее, превращается в страх катастрофы, ужас перед Окончательным Хаосом.
Возник некий эмоциональный ступор, препятствующий мобилизации людей для солидарного участия в необходимых социальных переменах. Даже до внутренней мобилизации, до эмоциональной готовности к переменам, при всем недовольстве настоящим, пока далеко.
И именно поэтому сейчас СССР потерпел крах второй раз – уже как образ желаемого будущего. Все, что сегодня вспоминается с ностальгией и умилением, все, чем мы сегодня с опозданием гордимся, все, что сегодня оправдывают и принимают в советском прошлом, о чем даже потихоньку начинают мечтать, все это было вызвано к жизни революцией. А она-то как раз и не принимается.
Поэтому сегодня, наверное, только эмоционального возвращения к СССР недостаточно. Необходим рациональный анализ советского опыта наряду с анализом кейнсианства, наряду с анализом всех альтернатив капитализму. В том числе необходим и анализ причин нежизнеспособности этих альтернатив.
© Очкина А., 2012Послесловие
Виталий Куренной «СОВЕТСКОЕ» КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА
Настоящий сборник, появившийся благодаря взаимодействию Института глобализации и социальных движений, Отделения культурологии философского факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», а также проходившей по случаю двадцатилетия распада СССР московской выставки «Искусство памяти», в некотором смысле является заявкой на обновление программы исследований советского прошлого и его отношения к нашему настоящему.
Выросло поколение, которое вовсе не знало опыта существования в СССР, что формирует специфическую дистанцию: советское общество трансформируется в объект истории по отношению к настоящему, прекращает свое непосредственное наличное существование в виде живого опыта и перестает быть почти исключительно точкой схождения непересекающихся идеологических и политизированных линий – как это было в прошедший постсоветский период.
Несомненно, «советское» давно бытует в настоящем как историческое – в рамках политической, эстетической и коммерческой ностальгии. И рано еще говорить о его окончательном дистанцировании и историзации – оно продолжает оставаться точкой прямого референтного соотнесения для тех, кто вырос в СССР. Но поколенческий слом уже произошел и будет все больше обнаруживать свои последствия. Именно поэтому нам так интересны те способы конструирования «советского», какими начинает пользоваться поколение, для которого подобной связи живого опыта не существует. Элементы советских практик, которые, безусловно, продолжают существовать в настоящем, уже неясны для нового поколения по своему наглядному генезису, основанному на живом опыте. А это ведет, среди прочего, к перестройке системы легитимации поведенческих норм и практик, к активному производству мифов. Рациональное разъяснение и выяснение, конечно, не сможет в настоящий момент конкурировать с поверхностностью и иррациональностью популярной культуры, но для него это также новый вызов.
Сказать, что «советское» не состоялось до настоящего времени как объект исследования, разумеется, невозможно. Существует развитая сеть в первую очередь славистов, имеющая критическую массу исследовательского сообщества. Но этот продукт – в силу исторических обстоятельств – сложился прежде всего как товар на импорт, спрос на который быстро пошел на нет после краха западной советологии, хотя, конечно, последствия этого события демпфированы защитным поясом академической и университетской среды. Но даже в этом продуктивном исследовательском сообществе «советское» все же больше напоминает недостроенную Звезду смерти – что-то грандиозное, но состоящее в основном из пока еще зияющих пустых каркасов.
Здесь я не стану останавливаться на вопросах практических: как нам изживать советский опыт или, напротив, какие практики стоит поддерживать и даже реанимировать. Несколько слов я хотел бы сказать о «советском» как остраненном объекте именно исследовательской работы.
Коль скоро так случилось, что «советское» является частью нашей истории, его следует оценивать по достоинству, а не бежать от него. Это тривиально, но это все еще факт. Один пример пояснит, что я имею в виду. Некоторое время назад мы работали в Максатихинском районе Тверской области. Совместно с журналом «Русский репортер» мы готовили летнюю школу для студентов и школьников. Это замечательное начинание, но я не о нем хотел рассказать. Один из проектов, который возник сразу, – идея путеводителя. Район туристы не балуют, Селигер далеко, а региональное руководство, конечно, понимает важность актуализации культурного наследия и любезно показало нам все интересные места и объекты. И при этом ознакомлении, и потом, в процессе летней работы студентов, сложилась весьма примечательная схема путеводителя. Там была культура этническая (тверские карелы все-таки!), была культура народная (следы местных колдунов), была православная, была языческая. Но ничего советского! Монументы, потрясающая позднесоветская колхозная архитектура клубов и школ, остатки колоссальных элеваторов – все это никто не замечает, это не является объектом, имеющим важность или заслуживающим внимания. Не говоря уже о сложном слое, стоящем за видимыми символическими артефактами, – архитектурная и культурная политика, советская политика памяти, каналы мобильности, экономика региона и т. д. Всего этого просто не существует – ни для приезжих, ни для местной образованной публики. Какой-нибудь камень-следовик заслуживает намного больше внимания и интереса, чем этот пласт культуры.
Но, конечно, именно советский пласт продолжает определять значительную часть жизни. В отношении «советского», в самом деле, действует аура особой негативной идентичности, оно отрицается даже в своей очевидной данности. Хотя оно все еще доступно – через очевидцев и участников формирования этой действительности, но доступ к этим свидетельствам быстро утрачивается.
Советская история – это богатейший исторический и исследовательский ресурс. Как бы мы ни относились к тому периоду, одно должно быть ясно: это уникальный общественный эксперимент, понимание и знание которого – несмотря на трагизм и драматичность – обогащают наше представление не только о современном обществе, но и о человеке как таковом. Трезво оценить провалы и удачи этого проекта – первоочередная исследовательская задача.
Советский эксперимент был одним из вариантов модернового общества – он не есть нечто внеположенное этому проекту. Советский Союз основывался на определенных, выработанных именно в культуре модерна представлениях об истории, политике, культуре, обществе, экономике и человеке. И это общество стремилось подогнать себя под эти представления, предпринимало колоссальные усилия – часто не считаясь со средствами, – чтобы кроить себя по определенным лекалам. Советская культура раскрывает эти грани проекта современности, их надо понимать, а не табуировать этот интерес политическими ярлыками.
При рассмотрении «советского» необходимо учитывать колоссальный разрыв между нормативно-идеологическим интерфейсом и процессами, которые шли за его фасадом. Известное различие С.Г. Кордонского между тем, что «в реальности», и тем, что «на самом деле», – наше сегодняшнее наследие этой культуры с двойным дном. Именно поэтому тренд на исследование повседневности столь продуктивен и перспективен в отношении «советского». Но при этом не следует пренебрегать очевидным: в том обществе нормативное было прямо инсталлировано в действительность, было конститутивной частью повседневных практик – от публичного дискурса до выбора молодым человеком своей будущей профессии.
Советское общество позиционировало себя как «другое» – по отношению к буржуазному. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что оно генерировало – явным или теневым образом – практически все элементы этого самого буржуазного общества: рыночный обмен, формы собственности, потребительскую культуру, сферу развлечений, религиозность, автомобильную культуру и т. д. Любые обобщающие, устоявшиеся штампы на этот счет – грубое заблуждение. Историю СССР невозможно рассматривать изолированно от тех общих процессов, которые протекали в развитых современных странах в это время, а значит, она может рассматриваться и с помощью тех аналитических инструментов, которые выработала современная теория, – с указанной поправкой на культуру двойного дна, а также на отсутствие сформировавшейся традиции понятийной локализации (за некоторыми исключениями, например, теории административного рынка).
Из этого следует, что «советское» не может быть отделено от «постсоветского». Советская инфраструктура продолжает работать не только в промышленности, но и в обществе, и в культуре. Более того, существуют такие формы жизни, где эта смена вообще не была замечена. В период слома, приспособления и осваивания новых правил жизненной игры множество людей продолжало воспроизводить свои прежние практики – даже в очевидном противоречии с экономической рациональностью. Ходить на работу, учить в школе, приходить в научный институт. Этот факт можно оценивать по-разному – как деградирующий негативный отбор или, напротив, как реакцию самосохранения культуры, без которой процессы обрушения шли бы быстрее, чем в сфере ЖКХ, – но он остается фактом.
Сфера культуры, безусловно, представляет здесь особый интерес, так как политика, общество и культура живут в разных режимах темпоральных изменений. Многое изменилось на телеэкранах – но так ли скоротечны изменения в казарме или тюремной культуре? Политика меняется быстрее всего, общественная жизнь трансформируется медленнее, а культура – самая неторопливая. Без изучения советского прошлого в современной российской культуре понять что-то очень трудно, если вообще возможно. Современные средства коммуникации интенсифицируют кровеносную систему культуры, но не ее содержание.
Анализ современного общества невозможен без антропологического измерения, анализа субъекта. Благодаря Элиасу и Фуко нам хорошо известна история формовки индивида «нормального» западного общества. Советский человек здесь все еще белое пятно: при наличии на первый взгляд колоссального репрессивного и воспитательного аппарата советский индивид все никак не интериоризировал вменяемые ему нормы поведения.
Советские социальные и культурные практики заслуживают особого внимания. Несмотря на давление нормативности, это общество никогда не было гомогенным. Советская культура – уникальный набор практик противостояния дисциплинарным и идеологическим аппаратам. Приходится только удивляться, как быстро они способны к восстановлению: политические события, последовавшие за декабрем 2011 г., тут же подняли на поверхность публичного дискурса все понятия и схемы мышления советской интеллигенции и используемых ею оппозиций – например, «интеллигенция и власть», «интеллигенция и народ». Хотя весь предшествующий период эта тема, казалось бы, была не единожды торжественно погребена в прошлом.
Наконец, но не в последнюю очередь, СССР не был замкнутой в себе монадой – он оказывал колоссальное воздействие как на политику, так и на культуру других стран, далеко не только «социалистического лагеря». «Советское» следует рассматривать в глобальном контексте взаимодействий и взаимовлияний, включая и последствия для глобального мира исчезновения этой модели общества.
Разумеется, данный перечень не исчерпывает возможных тематических и исследовательских срезов обращения к советскому прошлому. Он лишь призван напомнить, что в этой области еще огромное пространство для работы.
© Куренной В., 2012Авторы
Борис Кагарлицкий – директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО)
Ирина Глущенко – доцент кафедры наук о культуре отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ
Евгений Добренко – профессор Шеффилдского университета (Великобритания), филолог и историк советской культуры
Александр Шубин – доктор исторических наук
Павел Кудюкин – доцент кафедры теории и практики государственного управления НИУ ВШЭ
Татьяна Круглова – доктор философских наук, профессор кафедры эстетики философского департамента УрФУ
Роман Абрамов – кандидат социологических наук, доцент кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ
Елена Галкина – историк, политолог, доктор исторических наук, профессор кафедры истории МПГУ
Олег Кильдюшов – независимый аналитик, переводчик, публицист, политический обозреватель журнала «Сократ»
Олег Неменский – научный сотрудник Института славяноведения РАН
Анна Рябова – аспирантка кафедры уголовного права НИУ ВШЭ
Мария Вагина – студентка магистратуры отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ
Александр Павлов – кандидат юридических наук, доцент кафедры практической философии философского факультета НИУ ВШЭ
Анна Ганжа – кандидат философских наук, доцент кафедры наук о культуре отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ
Иван Куликов – студент IV курса отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ
Гиляна Басангова – студентка IV курса отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ
Елена Кужель – студентка IV курса отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ
Мария Мирская – студентка IV курса отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ
Петр Мазаев – аспирант исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Елизавета Подшивалова – студентка IV курса отделения культурологии НИУ ВШЭ
Арина Карпова – студентка IV курса отделения культурологии факультета философии НИУ ВШЭ
Татьяна Ворожейкина – независимый исследователь
Анна Очкина – заведующая кафедрой социальных теорий и технологий Пензенского государственного педагогического университета. Социолог, сотрудник ИГСО
Виталий Куренной – профессор, заведующий отделением культурологии НИУ ВШЭ, научный редактор журнала «Логос»
Примечания
1
Цитата из интервью автора с О. Балла.
(обратно)2
Работник народного питания. 1919. № 5–6. С. 17.
(обратно)3
Работник народного питания. 1919. № 5–6. С. 18–19.
(обратно)4
См.: Gronow J. Caviar with Champagne: Common Luxury and the Ideals of the Good Life in Stalins Russia. Oxford, N.Y.: Berg, 2003.
(обратно)5
Луначарский A.B. Социалистический реализм. В сб.: A.B. Луначарский о театре и драматургии. М.: Искусство, 1958. Т. 1. С. 735.
(обратно)6
Щеглов Ю. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. 3-е изд. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. С. 12.
(обратно)7
Коэн С. Жизнь после ГУЛАГа. М., 2011.
(обратно)8
Статья подготовлена в рамках Госконтракта № П 433 от 12 мая 2010 г. «Нравы как социокультурный феномен в модернизирующейся России». ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».
(обратно)9
Фицпатрик Ш., Людтке А. Социализация // За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования сталинизма и нацизма. М.: РОССПЭН, 2011. С. 350.
(обратно)10
Людтке А. История повседневности в Германии: новые подходы к изучению труда, войны и власти. М.: РОССПЭН, 2010. С. 378.
(обратно)11
Хархордин О. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.: Европейский ун-т; Летний сад, 2002. С. 318.
(обратно)12
Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010. С. 383.
(обратно)13
Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005. С. 62.
(обратно)14
Хархордин О. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.: Европейский ун-т; Летний сад, 2002.
(обратно)15
Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010.
(обратно)16
Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005.
(обратно)17
Людтке А. История повседневности в Германии: новые подходы к изучению труда, войны и власти. М.: РОССПЭН, 2010.
(обратно)18
Абрамов Р. Западнополянский форпост урбанизации // Улица Московская. Еженедельная газета. Июль 2011. № 400. URL: -penza.ru/index.php?option=com_content-8mew=article&id=3090:-400-&catid=35:-
(обратно)19
Обыгрываются названия социалистической Восточной Германии – Германская Демократическая Республика (ГДР) и капиталистической Западной Германии – Федеративная Республика Германия (ФРГ).
(обратно)20
Кобрин К. Человек брежневской эпохи на Бейкер-стрит. К постановке проблемы «позднесоветского викторианства» // Неприкосновенный запас. 2007. № 3.
(обратно)21
Термин «сносчики» нередко упоминается в исследуемых нарративах и на языке локального сообщества обозначает тех, кто получал отдельную квартиру после сноса ветхого и индивидуального жилья.
(обратно)22
«Ясно было, что и приватное наше – маленькое, суженное до комнатенки в коммуналке, а то и до коечки, если не шконки. Потом стало полегче, приватное разрослось до двухкомнатной в пятиэтажке» (см.: Левинсон А. Предварительные размышления о приватном // Новое литературное обозрение. 2009. № 100); «Из пространства отдельной квартиры горожане 1960–1980-х годов уже могли критически оценивать пространство публичное, властное, зависимость от которого становилась все более опосредованной. Родившиеся в 1960-х и последующих годах пермяки, выросшие в хрущевках и “брежневках”, получившие приличное образование и усвоившие вполне “западную” систему потребностей, могли бы стать тем самым “испоротым поколением” – первым поколением настоящих горожан» (см.: Кабацкое А.Н., Казанков А.И. Новая жизнь советского города // Мир России. 2010. № 2. С. 131–147).
(обратно)23
Горин Д. Теневые пространства советского общества: «Бриллиантовая рука» в социальных контекстах 1968 т. II Неприкосновенный запас. 2008. № 4 (60).
(обратно)24
Там же.
(обратно)25
Речь идет о двухсерийном художественном телефильме «Отпуск в сентябре» (1979 г., «Ленфильм», режиссер В. Мельников), снятом по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота» (1967 г.).
(обратно)26
В локальной неофициальной топонимике жителей Западной Поляны «квадратами» называлось дворовое пространство, ограниченное тремя-четырьмя домами поставленными под углом 90° друг к другу.
(обратно)27
Были и иные факторы советского времени, повлиявшие на генезис и эволюцию русского национализма. Среди них и сталинская политика «русификации» идеологии и культуры, и этническая конкуренция в среде интеллектуалов, в основном имевшая место в гуманитарной сфере.
(обратно)28
Но не антигосударственное, ценность Советского Союза как державы, продолжения Российской империи не подвергалась сомнению.
(обратно)29
А.Г. Кузьмин (1928–2004) – историк, публицист, общественный деятель, лидер движения «Отечество», профессор МПГУ, в 1969–1975 гг. – заместитель главного редактора «Вопросов истории», в 1982–1991 гг. – член редколлегии общественно-политического и литературного журнала «Наш современник», много печатался в журнале «Молодая гвардия»; оба издания в тот период придерживались почвеннической направленности.
(обратно)30
Семанов С.Н. Дневник 1982 года // Вопросы национализма. 2011. № 8. С. 169.
(обратно)31
Соловей Т.Д., Соловей В.Д. Несостоявшаяся революция. М.: Феория, 2009. С. 18.
(обратно)32
Это ярко и полно отражено в рассказе В. Астафьева «Ловля пескарей в Грузии» (1984 г., опубликован в 1986 г.) и в современной серии статей «Русские ответы» К. Крылова – одного из идеологов национал-демократического направления. Концентрированное выражение: «Редкий русский… не понимал, что нацмен в СССР несравненно выше великоруса» – можно найти в монографии: Соловей Т.Д., Соловей В.Д. Несостоявшаяся революция. М.: Феория, 2009. С. 179.
(обратно)33
В декабре 1986 г. замена Д.А. Кунаева на должности первого секретаря ЦК компартии Казахской ССР русским Г.В. Колбиным привела к националистическим волнениям в Алма-Ате.
(обратно)34
Например: Севастьянов А.Н. Выступление // Русское завтра: национальное государство, империя или рассеяние? Круглый стол в Институте динамического консерватизма. 22 марта 2011 г. URL: / articles/512/
(обратно)35
Соловей Т.Д., Соловей В.Д. Несостоявшаяся революция. М.: Феория, 2009. С. 184.
(обратно)36
URL: /
(обратно)37
Ленин В.И. К вопросу о национальностях или об «автономизации». Полн. собр. соч. М., 1970. Т. 45. С. 358–359.
(обратно)38
Мартин Т. Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР. М.: РОССПЭН, 2011. С. 17–19.
(обратно)39
Мартин Т. Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР. М.: РОССПЭН, 2011. С. 10–11.
(обратно)40
VIII съезд РКП(б). 18–23 марта 1919 г. Протоколы. М., 1933. С. 82.
(обратно)41
Ленин В.И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение. Полн. собр. соч. М., 1969. Т. 27. С. 256.
(обратно)42
Цит по: Мартин Т. Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР. М.: РОССПЭН, 2011. С. 16.
(обратно)43
Сталин И.В. О политических задачах Университета народов Востока // Марксизм и национально-колониальный вопрос. М., 1934. С. 158.
(обратно)44
Здесь и далее цитаты приведены по: Люксембург Р. О социализме и русской революции. Избранные статьи, речи, письма. М.: Изд-во полит, лит-ры, 1991.
(обратно)45
Тарасов H., Тихонов С. Футбол. Историко-спортивный очерк. Тбилиси, 1948.
(обратно)46
Эдельман Р. Серьезная забава. М., 2008. С. 75.
(обратно)47
См.: Там же. С. 84–85.
(обратно)48
Эдельман Р. Серьезная забава. М., 2008. С. 108.
(обратно)49
Орлов A.C., Георгиев В.А. История России: Учебник / Орлов A.C., Георгиев В.А. и др. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби – Проспект, 2004. С. 361; История России: Учебник / под ред. М.Н. Зуева, A.A. Чернобаева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2004. С. 389.
(обратно)50
Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. «О введении в действие Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 г.» (вместе с «Уголовным кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.
(обратно)51
По Уголовному кодексу 1926 г. меры социальной защиты применялись помимо преступников к лицам, представляющим опасность по своей связи с преступной средой или по своей прошлой преступной деятельности. Как правильно рассуждал В.Н. Кудрявцев, за что наказывать бывшего царского чиновника, купца, дворянина, ни в чем не провинившихся перед советскими законами? Это было не наказание, а просто ликвидация потенциальных противников. Подробнее об этом см.: Кудрявцев В.Н. Избранные труды по социальным наукам: В 3 т. Т. 3: Политология, идеология, этика. М.: Наука, 2002. С. 239–286.
(обратно)52
Преступлением против порядка управления признавалось всякое действие, которое, не будучи направлено непосредственно к свержению Советской власти и рабоче-крестьянского правительства, тем не менее приводило к нарушению правильной деятельности органов управления или народного хозяйства и было сопряжено с сопротивлением органам власти и препятствованием их деятельности, неповиновением законам или с иными действиями, вызывающими ослабление силы и авторитета власти.
(обратно)53
Курс уголовного права. В 5 т. Т. 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C. Комисарова. М.: Зерцало, 2002. С. 15.
(обратно)54
Глоба H., Невский С. Фальшивомонетничество как средство ведения войны. URL: (дата обращения: 28.01.2012 г.).
(обратно)55
Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 10 февраля 1930 г. «Об изменении ст. 59.8 Уголовного кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. 1930. № 8. Ст. 94.
(обратно)56
См., например: Постановление ЦИК, СНК СССР «О Государственном займе «Пятилетка в четыре года» от 21 февраля 1930 г.; Постановление ЦИК, СНК СССР «О Государственном внутреннем займе второй пятилетки (выпуск четвертого года) и о конверсии ранее выпущенных внутренних займов» от 1 июля 1936 г.
(обратно)57
Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М.: Волтере Клувер, 2006. С. 25.
(обратно)58
Закон СССР от 25 декабря 1958 г. «Об уголовной ответственности за государственные преступления» // Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. Ст. 8.
(обратно)59
Закон СССР от 25 декабря 1958 г. (ред. от 2 апреля 1990 г.) «Об уголовной ответственности за государственные преступления» // Свод законов СССР. Т. 10. 1990. С. 537.
(обратно)60
Для краткости в данной работе рассмотрим первоначальные редакции статей без учета последующих изменений.
(обратно)61
Закон РСФСР от 27 октября 1960 г. «Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР» (вместе с «Уголовным кодексом РСФСР») // Свод законов РСФСР. Т. 8. 1988. С. 497.
(обратно)62
Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / отв. ред. Г.З. Анашкин, И.И. Карпец, Б.С. Никифоров. М.: Юридическая литература. 1971. С. 189.
(обратно)63
Некипелов П.Т. Понятие и система норм об ответственности за хозяйственные преступления // Советское государство и право. 1963. № 5. С. 129.
(обратно)64
Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР: по состоянию на 15 декабря 1993 г. / отв. ред. В.И. Радченко. М.: Вердикт, 1994. С. 163.
(обратно)65
Цит. по: Петрянин A.B. Развитие уголовного законодательства об ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в Советской России, 1917–1991 гг. // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2005. № 3. С. 444.
(обратно)66
Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / отв. ред. Г.З. Анашкин, И.И. Карпец, Б.С. Никифоров. М.: Юридическая литература. 1971. С. 188.
(обратно)67
Закон РСФСР от 27 октября 1960 г. «Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР» (вместе с «Уголовным кодексом РСФСР») // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591.
(обратно)68
Лунеев В.В. Смертная казнь в России: пора определиться. URL: (дата обращения: 15.11.2011 г.)
(обратно)69
Постановление Совмина СССР от 19 июня 1990 г. № 590 «Об утверждении Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью и Положения о ценных бумагах» // СП СССР. 1990. № 15. Ст. 82.
(обратно)70
Антибумажный регламент. Комментарий руководителя ФСФР России В.Д. Миловидова. URL: (дата обращения: 15.12.2011 г.); ФСФР борется с «пустышками». Комментарий руководителя ФСФР России В.Д. Миловидова. URL: (дата обращения: 27.12.2011 г.).
(обратно)71
Цит. по: Секретный архив Акселя Вартаняна // Спорт Экспресс. 2 сентября 2002 г.
(обратно)72
О’Махоуни М. Спорт в СССР. М.: НЛО, 2010. С. 210.
(обратно)73
Физическая культура // Большая советская энциклопедия. 1-е изд. Т. 57. М., 1936. С. 304–305.
(обратно)74
Гуттман А. От ритуала к рекорду // Логос. 2009. № 6 (73). С. 187.
(обратно)75
Guttmann A. From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports. New York: Columbia University Press, 1978.
(обратно)76
Гуттман А. От ритуала к рекорду // Логос. 2009. № 6 (73). С. 147–187.
(обратно)77
Финогенова Л.А. Первый член Международного олимпийского комитета (МОК) для России А.Д. Бутовский // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии. М.: Физкультура, образование, наука, 1998. Т. 2. С. 87–97.
(обратно)78
Семашко Н. Физкультура и спорт в СССР // Советский спорт. Л.: Изд-во Красной газеты, 1928. С. 9.
(обратно)79
Кальпус Б. Советский спорт за границей // Советский спорт. Л.: Изд-во Красной газеты, 1928. С. 256.
(обратно)80
Стариков В. Спорт в рабочем быту // Советский спорт. Л.: Изд-во Красной газеты, 1928. С. 47.
(обратно)81
О’Махоуни М. Спорт в СССР. М.: НЛО, 2010. С. 111–113.
(обратно)82
Edelman R. Serious Fun: a History of Spectator Sports in the USSR. N.Y., 1993. P. 53–54.
(обратно)83
О’Махоуни М. Спорт в СССР. М.: НЛО, 2010. С. 116.
(обратно)84
Кедров М.С. За физкультурную самокритику: Об уродливых явлениях в советском физкультурном движении и их причинах// Теория и практика физической культуры. 1928. № 6. С. 6–12.
(обратно)85
Какие мастера нам нужны (о «чемпионстве»)? // Физкультура и спорт. 1928. № 39 (29 сентября). С. 1.
(обратно)86
Семашко H.A. Десять лет советской физкультуры // Теория и практика физической культуры. 1927. № 5. С. 7.
(обратно)87
Кинофильм «Вратарь» был снят в 1936 г. режиссером Семеном Тимошенко. Прозвучавший в нем «Спортивный марш» был написан Исааком Дунаевским на слова Василия Лебедева-Кумача.
(обратно)88
Сысоев В.Д. Играет ЦСКА. М.: Воениздат, 1982.
(обратно)89
Cashmore E. Sports Culture. London, New York: Routledge, 2002. P. 212.
(обратно)90
Вайль П., Генис А. Мир советского человека. М.: НЛО, 1998. С. 212.
(обратно)91
Riordan J. Soviet Sport and Soviet Foreign Policy Soviet Studies. Vol. 26. No. 3 (Jul., 1974). P. 322–343.
(обратно)92
Gardiner E.N. Greek Athletic Sports and Festivals. L.: Macmillan, 2010. P. 54.
(обратно)93
Guttman A. From ritual to record. New York: Columbia University Press, 1978. P. 157.
(обратно)94
Безусловно, такая тенденция связана с влиянием средств массовой информации и сопутствующей ей коммерциализации спортивного движения, причем во всех видах спорта. О коммерциализации футбола, в частности, пишет Кристиана Айзенберг: Айзенберг К. Футбол как глобальный феномен: исторические перспективы // Логос. 2006. № 3 (54). С. 101.
(обратно)95
О культовом кино см.: Mathijs E., Mendik X. The Cult Film Reader. N.-Y.: Open University Press, 2008; Mathijs E., Sexton J. Cult Cinema. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.
(обратно)96
Более того, ее, как, впрочем, и другие порнографические ленты немецкого производства, показывали в некоторых видеосалонах. Подобный коллективный регулярный просмотр конкретных картин, что и делало их популярными среди зрителей, в кинозале фактически полностью соответствует явлению культовых фильмов, выше упомянутых. Таким образом, особенно примечательно то, что, хотя и незадолго до смерти, исключительно американский феномен культового кино все-таки появился и в Советском Союзе. Характерно, что в России его уже не будет.
(обратно)97
О грайндхаусе см.: Landis В., Clifford М. Sleazoid Express. N.-Y.: Fireside Books, 2002; From the Arthouse to the Grindhouse / ed. by Cline J., Weiner G. Robert. Lanham-Toronto-Plymouth: The Scarecraw Press, 2010.
(обратно)98
Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 296.
(обратно)99
Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М. – СПб.: Медиум; Ювента, 1997. С.192–193.
(обратно)100
Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М. – СПб.: Медиум; Ювента, 1997.
(обратно)101
Глущенко И.В. Общепит. Микоян и советская кухня. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. С. 201.
(обратно)102
Коллекция Владимира Архипова – на сайте проекта галереи Марата Гельмана «Русское бедное». [. ru/arkhipov.html]
(обратно)103
Наука и жизнь. М.: Правда, 1971–1979.
(обратно)104
Все советы приведены из рубрики «Домашнему мастеру на заметку» журнала «Наука и жизнь». В выборку включены номера с 1970 по 1979 г.
(обратно)105
Куликов И. Опрос на тему: «Упаковка и процесс потребления в Советском Союзе».
(обратно)106
Глущенко И.В. Общепит. Микоян и советская кухня. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. С. 205.
(обратно)107
Повесть написана в 1960 г., однако цены в последующих изданиях указаны пореформенные. Очевидно, автор исправил текст для большего соответствия изменившейся реальности. В 1961 г. была проведена деноминация, и один «новый» рубль стал равен десяти «старым».
(обратно)108
Рыбаков А. Приключения Кроша. Каникулы Кроша. М.: Молодая гвардия, 1966. С. 102.
(обратно)109
Рыбаков А. Приключения Кроша. Каникулы Кроша. М.: Молодая гвардия, 1966. С. 104.
(обратно)110
Рыбаков А. Приключения Кроша. Каникулы Кроша. М.: Молодая гвардия, 1966. С. 107.
(обратно)111
Рыбаков А. Приключения Кроша. Каникулы Кроша. М.: Молодая гвардия, 1966. С. 107
(обратно)112
Там же. С. 107.
(обратно)113
Рыбаков А. Приключения Кроша. Каникулы Кроша. М.: Молодая гвардия, 1966. С. 108.
(обратно)114
Рыбаков А. Приключения Кроша. Каникулы Кроша. М.: Молодая гвардия, 1966. С. 109.
(обратно)115
Письма читателей // Известия. 9 февраля. 1960. № 35.
(обратно)116
Удивительные истории // Известия. 1 декабря. 1967. № 302.
(обратно)117
Письма читателей // Известия. 20 января. 1960. № 18.
(обратно)118
Все письма цитируются по источнику: РГАНИ. Фонд № 5. Опись 68. Дело № 1030. 1975 г.
(обратно)119
РГАНИ. Фонд № 5. Опись 68. Дело № 9565. 1967 г.
(обратно)120
Федченко М.Н. Повседневная жизнь советского человека (1945–1991 гг.). Курган, 2009. С. 199.
(обратно)121
РГАНИ. Фонд № 5. Опись 76. Дело № 213. 1979 г.
(обратно)122
См.: Siegelbaum L.H. Cars for Comrades: The Life of the Soviet Automobile. Ithaca: Cornell University Press, 2008; Featherstone M., Thrift N., Urry J. Automobilities (Published in association with Theory, Culture & Society). Sage Publications Ltd, 2005.
(обратно)123
Ross K. Fast Cars, Clean Bodies: Decolonisation of the Reordering of French Culture. London: MIT Press, 1995; Featherstone M., Thrift N., Urry J. Automobilities (Published in association with Theory, Culture & Society). Sage Publications Ltd, 2005. P. 103.
(обратно)124
Gartman D. Three Ages of the Automobile // Featherstone М., Thrift N., Urry J. Automobilities (Published in association with Theory, Culture & Society), Sage Publications Ltd, 2005. P. 169.
(обратно)125
Freund P. The Ecology ofthe Automobile. Montreal and New York: Black Rost’ Books/Urry J. The “System” of Automobility // Featherstone М., Thrift N., Urry J. Automobilities (Published in association with Theory, Culture & Society). Sage Publications Ltd, 2005. P. 26.
(обратно)126
Siegelbaum L.H. On the Side: Car Culture in the USSR, 1960s-1980s // Technology and Culture. Vol. 50. № 1. January 2009. S. 1-22.
(обратно)127
Siegelbaum L.H. Cars for Comrades: The Life of the Soviet Automobile. Ithaca: Cornell University Press, 2008.
(обратно)128
Gatejel L. The Wheels of Desire. Automobility Discourses in the Soviet Union//Towards Mobility. Varieties of Automobilism in East and West. Corporate History Department of Volkswagen Aktiengesellschaft Manfred Grieger, Ulrike Gutzmann, Dirk Schlinkert. Wolfsburg: Volkswagen AG, 2009; Кордонский С.Г. Функционеры, диссиденты и обыватели как идеальные типы/Административные рынки СССР и России. М.: ОГИ, 2006.
(обратно)129
Первый автомобиль, позиционируемый как народный, появился в Германии перед Второй мировой войной – это был Volkswagen.
(обратно)130
Андреева И. Частная жизнь при социализме. М.: НЛО, С. 29.
(обратно)131
Siegelbaum L.H. On the Side: Car Culture in the USSR, 1960s–1980s // Technology and Culture. Vol. 50. No. 1. January 2009. S. 1-22.
(обратно)132
Примеры из художественной литературы: Зорин Л. Пустыня в городе/Завещание Гранда: Книга юмора. М.: Время, 2007; Петрушевская Л. Уроки музыки. Драма в двух действиях. М.: Искусство, 1989; Рыбаков А. Приключения Кроша и другие повести // Анатолий Рыбаков. М.: Эксмо, 2009.
Также в качестве примера можно рассмотреть песни Владимира Высоцкого: «Песню автозавистника» (1971) и «Песню автомобилиста» (1972).
(обратно)133
Глазычев В.Л. Город без границ. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2011. С. 8.
(обратно)134
Гройс Б. Город в эпоху его туристической воспроизводимости // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2003. № 4 (30). URL:
(обратно)135
Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. СПб.: Изд. дом «Петрополис», 2008 г. С. 107–111.
(обратно)136
Так, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника А.И. Аксенова вспоминает, что еще в 1958 г. во Владимире и Суздале в распоряжении музея было всего три здания. (См.: Аксенова А.И. История. Судьба. Музей. Владимир: Посад, 2001. С. 15.)
(обратно)137
Закс А.Б. Из истории экспозиционной мысли советских музеев (1917–1936) // Труды НИИ музееведения. 1970. № 22. С. 147.
(обратно)138
Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М.: Янус-К, 1998.
(обратно)139
Следы этой западной позиции характерно проявились в конфликте французского Министерства по делам культуры и П. Бурдье, настаивавшего на образовательной функции музея (подробнее об этом см.: Vincent Dubois. Cultural capital theory vs. cultural policy beliefs: How Pierre Bourdieu could have become a cultural policy advisor and why he did not // Poetics. Vol. 39. 2011. P. 491–506. URL: . com/science/article/pii/S0304422Xl 1000726).
(обратно)140
Интересно, что наиболее популярными объектами для посещения среди всех памятников становятся колокольни, звонницы, башни и стены, с которых открывается вид на окрестности.
(обратно)141
Об этом восторженно пишет в своей книге директор музея-заповедника А.И. Аксенова. См.: Аксенова А.И. История. Судьба. Музей. Владимир: Посад, 2001. С. 198–209.
(обратно)142
Иванова Н. Новый агитпроп: в «правом» интерьере и «левом» пейзаже // Знамя. 2003. № 10.
(обратно)143
Продукт из детства, или Крутой обман// Мир новостей. № 21 (855). URL: /тп/14-1.php
(обратно)144
Контрольная закупка. Сырки глазированные с вареной сгущенкой. URL:
(обратно)145
Сырок творожный глазированный «Вкуснотеево» ванильный премиум – отзывы. URL: -tvorozhnyi-glazirovannyi-vkusnoteevo-vanilnyi-premium
(обратно)146
Кормушкин А. Экстрим-маркетинг // Обзор цен. 2007. № 15 (375). URL:
(обратно)147
Ищенко Н. «Каракум» станет «Каракурумом» // rusbnk.ru 23 июля 2008 г. URL:
(обратно)148
Жохова А. Полный назад: British Airways под хохлому, русалка-проститутка от Starbucks и другие истории ребрендинга, закончившиеся полным провалом // Forbes. 7 января 2011 г. URL: -biznes/marketing/61698-polnyi-nazad
(обратно)149
Деготь Е. От товара к товарищу: К эстетике нерыночного предмета // Логос. 2000. № 5–6. URL:
(обратно)150
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. URL: -symv-obmen-i-smert.htm
(обратно)151
Горалик Л. Росагроэкспорта сырка. Символика и символы советской эпохи в сегодняшнем российском брендинге // Теория моды. 2007. № 3. С. 13–30. URL:
(обратно)152
Крылов К. Сбыча мечт // Expert online. 20 сентября 2006 г.
(обратно)153
Крылов К. Сбыча мечт // Expert online. 20 сентября 2006 г.
(обратно)154
Крылов К. Сбыча мечт // Expert online. 20 сентября 2006 г.
(обратно)155
Крылов К. Сбыча мечт // Expert online. 20 сентября 2006 г.
(обратно)156
Подробнее об этом см.: Ворожейкина Т.Е. Государство и общество в России и Латинской Америке // Общественные науки и современность. 2001. № 6; Ворожейкина Т.Е. Государство и общество в России: исчерпание государственно-центричной матрицы развития // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. М.: Московская высшая школа социальных и экономических наук, 2002.
(обратно)157
Л.Д. Гудков и Б.В. Дубин предлагают рассматривать происходящие в последние десятилетия процессы как результат разложения тоталитаризма. (Гудков Л., Дубин Б. Посттоталитарный синдром: «управляемая демократия» и апатия масс // Пути российского посткоммунизма / под ред. М. Липман, А. Рябова. М., 2007 С. 5.) С моей точки зрения, тоталитаризм является лишь частным, хотя и предельным случаем государственно-центричной матрицы развития. Такой подход позволяет одновременно включить процессы, происходящие в России, в общемировой контекст. (См.: Ворожейкина Т. Ценностные установки или границы метода // Вестник общественного мнения. № 4 (96). Июль – август 2008.)
(обратно)158
См. Ворожейкина Т. Самозащита как первый шаг к солидарности // Pro et Contra. Март – июнь 2008.
(обратно)159
См. Ворожейкина Т. Государство и общество в России: исчерпание государственно-центричной матрицы развития / Куда идет Россия? Формальные институты и реальные практики. М.: Московская высшая школа социальных и экономических наук, 2002.
(обратно)160
О’Доннелл Г. Делегативная демократия // Пределы власти. 1994. № 23.С. 54.
(обратно)161
Аузан А. Кризис ожиданий // Новая газета. 2 февраля 2012 г.
(обратно)162
«…интересы личных друзей и ближайшего окружения «национального лидера» вступили в противоречие с интересами всего господствующего класса в целом или, как минимум, его значительной части». (Сахнин А. Три программы движения декабристов. URL: )
(обратно)163
Парфенов Л. Neva 24. 20 января 2012 г. URL: /
(обратно)164
Левинсон А. Это не средний класс – это все // Ведомости. 21 февраля 2012 г.
(обратно)165
Там же.
(обратно)166
Дубин Б. Ситуация в стране потеряла черты неопределенности // Ведомости. 3 февраля 2012 г.
(обратно)167
Латынина Ю. Собственник и халявщик. URL: /
(обратно)168
Новая газета. 24 февраля 2012 г.
(обратно)169
Фадин А. Неформалы и власть. (Размышления о судьбах гражданского общества в СССР) // Общественные самодеятельные движения: проблемы и перспективы / под ред. Е.А. Суслова. М.: НИИ культуры, 1990. С. 321–322.
(обратно)170
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: -08.htm
(обратно)171
Уровень и образ жизни населения России в 1989–2009 гг. Доклад. М.: Изд. дом ВШЭ, 2011. С. 82.
(обратно)172
Там же. С. 86.
(обратно)173
Веллер М. Легенды Невского проспекта. М.: ACT, 2008. С. 412.
(обратно)174
Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм. Не рекомендовано для обучения. М.: Алгоритм; Эксмо, 2005. С. 137–138.
(обратно)175
Булавка Л.А. Феномен советской культуры. М.: Культурная революция, 2008. С. 287.
(обратно)176
Там же. С. 286.
(обратно)





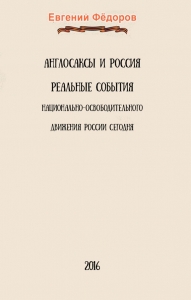
Комментарии к книге «СССР. Жизнь после смерти», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев