Юрий Иванович Минералов История русской литературы. 90-е годы XX века
ВВЕДЕНИЕ
Эта книга посвящена современной русской литературе, т. е. литературе 90-х годов XX века. «Грань веков» всегда ответственный период – вспомним, какое бурное развитие пережила литература на переломе XVIII–XIX веков и на рубеже XIX–XX веков. Эти периоды нередко метафорически называют «золотым» и «серебряным» веками русской культуры. Что будет представлять переход от XX века к XXI веку (одновременно это грань двух тысячелетий) и как назовут его впоследствии потомки – зависит от творчества современных писателей, их достижений и художественных открытий.
Изучая литературу прошлого, литературовед объективно описывает ее поэтику, стиль, но редко дает свои личные оценки творчества тех или иных авторов. Оценки уже даны предшественниками и проверены временем, они устоялись. Общеизвестны имена тех, кто входит в ряд классиков. Ясно и кто к ним не принадлежит и по каким причинам. С современной литературой положение иное. В достаточной степени объективные данные сформировались только в отношении творчества давно работающих писателей старшего поколения. Но во многом еще предстоит разобраться, и начинать разбираться будем именно мы, современники. Время может впоследствии внести коррективы в наши оценки, однако дать их мы просто обязаны. Мы сами – люди этой «грани веков», она – наше настоящее, в котором мы живем. Невозможность посмотреть из будущего, с некоторой исторической дистанции на то, «что имеем» (по известному принципу «большое видится на расстоянии»), восполняется тем, что мы способны зато непосредственно, живо воспринимать литературу конца XX века, чувствовать ее. Именно на нашу догадливость рассчитаны все намеки, аллюзии, подтексты и «затексты», которые вводят современные писатели в свои произведения. Те особенности литературы, которые связаны с проблемами, встающими сегодня перед обществом, нам ясно видны, понятны и внутренне близки, ибо мы сами живем этими проблемами, – такой ясности время объективно лишит читателя будущего, взявшего в руки книгу нашего современника, а литературоведу будущего придется предварительно специально изучать нашу эпоху, «вживаться» в нее. Как следствие, филологический анализ произведений русской литературы конца XX века, который проводим мы, современники, нередко более сжат и лаконичен. Нередко нам изначально известно то, до чего литературоведам других эпох придется специально «докапываться». И объяснения он будет искать именно в наших книгах и статьях.
Мы живем в огромной стране. В ней тысячи писателей. Персонально обо всех рассказать невозможно. Историки литературы XIX века (когда в стране были не тысячи, а лишь сотни писателей) решают проблему, обстоятельно рассказывая о классиках, а об остальных лишь бегло упоминая (и то далеко не обо всех). Исследователь современной литературы не может, однако, перенять этот подход – ему еще в ряде случаев предстоит в ходе анализа понять, «кто есть кто». Но перед ним живой литературный процесс, и если он при всем желании не может рассказать «обо всех», то может отметить основные тенденции, использовав для их конкретного освещения и определенные писательские имена, и произведения. Заведомо ясно, что дело ему придется иметь с дарованиями весьма разного масштаба. При этом обидно не заметить лишенный «пробивных способностей» крупный талант, но и стыдно побояться дать нелицеприятную оценку тем авторам, которые незаслуженно привлекают к себе сегодня шумное внимание, кто бы за ними ни стоял.
Решив отвести творчеству определенных авторов место на своих страницах, исследователь современной литературы вообще не обязан ни перед кем из них «стоять навытяжку» и заниматься апологетикой. Ошибочно было бы трепетно и благоговейно взирать на все, сегодня издающееся, – такое уместно только в отношении классиков прежних эпох. «Неприкасаемых» в современной литературе быть не может. «Попал на страницы» – значит, подпал под анализ и оценку. Если о современном, ныне живущем писателе говорят критика или литературоведение, значит, он заметен. Это уже много. Но отсюда не следует автоматически, что он кандидат в Пушкины или Чеховы. Это означает только, что пора разобраться, действительно ли перед нами большой талант или же фигура, искусственно раздутая теми, кто ее «лоббирует».
В настоящее время последнее не редкость. На протяжении 90-х годов такие явления все более широко распространялись, хотя они и довольно безнравственны по сути. Как по телевидению можно наблюдать разливающихся соловьем и «на коммерческой основе» рекламируемых комментаторами безголосых певцов с несомненными признаками «наступившего на ухо медведя», так и в литературной сфере теперь стало возможным расхвалить в статье (и даже сделать объектом имитационного рекламного «анализа» на научной конференции) автора с отчетливо выраженными чертами графомании, в спекулятивных целях выдаваемыми за новаторские экстравагантности (обычно – за признаки его якобы принадлежности к модернизму или «постмодернизму»). Особенно прискорбно, что к творчеству таких авторов для пущей солидности иногда пытаются прилагать термины и категории А. Белого, Ю. Н. Тынянова, М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана и других известных литературоведов, разработанные ими когда-то применительно к творчеству Пушкина, Гоголя, Достоевского, Рабле и других великих мировых художников. Это просто некорректно.
Хотелось бы также избежать следующего широко распространенного приема. Ряд литературоведов советского времени в своих книгах, посвященных истории русской классической литературы, любили то и дело рассказывать о почти каждом крупном дореволюционном писателе, что на него на протяжении его жизни неотступно давило самодержавие (а на писателей XVIII – середины XIX века еще и крепостное право). Аналогичным образом в последние годы некоторые литературоведы и критики, пишущие теперь, в наши дни, уже о советской литературе, избрали другой непременный мотив – политические репрессии «тоталитаризма» или угрозу таковых, которые якобы были тоже лично пережиты или перечувствованы чуть ли не каждым советским писателем и серьезно «повлияли» на их творчество (все писатели в стране, согласно этой идеологеме, жили – вплоть до разрушения СССР в декабре 1991 года – в некоем постоянном страхе перед органами государственной безопасности и функционерами коммунистической партии). Тот и другой мотивы правомерны в отдельных сугубо конкретных случаях (Радищев, Чернышевский, Мандельштам, Солженицын и др.), когда можно объективно установить, что именно давление соответствующих политических обстоятельств привело к созданию произведений на ту или иную преломляющую эти обстоятельства тему (либо, как в случае с М. Булгаковым, явно мешало автору в публикации созданных им произведений). Но как постоянный, потенциально применимый ко всем и каждому повтор-рефрен они явно выглядят натянуто.
Более того, когда в новейшем идеологическом раже политическими жертвами «тоталитарного режима» пытаются изображать даже В. Маяковского или М. Шолохова (т. е. убежденных сторонников социализма и его преобразований, несомненно искренне славивших его в своем художественном творчестве), получается не просто натянуто, а откровенно неправдиво. С научным познанием это не имеет ничего общего, а неосведомленных читателей просто дезориентирует и сбивает с толку (на что, впрочем, этот чисто пропагандистский прием обычно и бывает сознательно рассчитан).
Вместе с тем в художественных произведениях крупнейших русских писателей 90-х годов XX века мы действительно нередко будем сталкиваться с гневным изображением присущих этому десятилетию социально-политических жестокостей и несообразностей, имеющим реально-фактическую событийную подоснову, – это, например, повлекший за собой невинные жертвы расстрел российского парламента в 1993 году, присвоение в стране общенародной собственности кучкой оборотистых людей в начале 90-х, хозяйственный развал и нищета в городе и деревне, неудачная военная кампания середины 90-х годов против чеченских бандформирований и др. Именно на такие темы, собственно, написаны В. Беловым, Ю. Бондаревым, А. Зиновьевым, П. Проскуриным, В. Распутиным и другими крупнейшими художниками лучшие произведения 90-х годов. Замалчивать этот факт невозможно. Он был прямо спровоцирован реальными обстоятельствами. Произведения названных и близких им писателей могут кому-то быть не по нраву, но «сделать вид», что этих произведений в литературе нет, никак нельзя – как раз без них нет литературы 90-х годов XX века, как нет литературы 90-х годов XIX века без творений Льва Толстого, А. Чехова, В. Короленко и М. Горького. И естественно, о чертах реальной жизни страны, непосредственно отразившихся в важнейших темах и сюжетах литературы изучаемого периода, говорить в этой книге неизбежно придется – притом, как выражался Маяковский, говорить «во весь голос». Это необходимая составляющая анализа, без которой он был бы неполон, недостоверен, да и просто неудачен.
Многие из писателей, «героев» этой книги, автору знакомы как коллеги по совместной работе в российском писательском вузе – Литературном институте им. А. М. Горького, многие в прошлом – как его студенты, с некоторыми просто дружен.
Литературная среда мне волей-неволей хорошо знакома. Я литературовед, с 1987 года доктор филологических наук, автор нескольких книг по теории литературы и ее истории. Но одновременно – самодостаточный поэт (начинал когда-то именно как поэт, и издал несколько стихотворных сборников, последний из которых вышел совсем недавно), член Союза писателей России (хотя в 90-е годы это членство в силу обстоятельств, о которых речь ниже, по степени целесообразности порой напоминало членство в советском ДОСААФе или в обществе охраны зеленых насаждений). В наблюдениях над литературой, ее закономерностями и путями развития мне по всему этому случается исходить не только из конкретного близкого знакомства с личной «лабораторией» других ныне живущих писателей, но также из творческого самонаблюдения. В прошлом мне как литературоведу, профессионально не чуждому, однако, не только теории художественного творчества, но, так сказать, и его практики, уже удавалось делать некоторые затем воплотившиеся в реальность прогнозы литературного развития.
В пособии рассматриваются проза и поэзия – работа современных критиков в нем не затронута, поскольку в вузах читается специальный курс истории критики, драматургия затрагивается лишь частично, ибо это особое синтетическое творчество, действующее не только по законам литературы, но одновременно по законам и нормам другого искусства (театрального).
Существующие историко-литературные курсы (в частности, пособия дня студентов и аспирантов) заканчиваются на 60-80-х годах XX века. 90-е его годы пока получают в трудах филологов лишь эпизодические характеристики. Данный систематический литературоведческий курс, напротив, посвящен именно новейшей литературе и восполняет образовавшийся пробел.
Подачу материала в курсе новейшей литературы должна отличать своя специфика. Автор книги о литературе прошлых времен может исходить из справедливого убеждения, что изучаемые произведения классиков и крупных писателей, их тексты в основном известны читателю. Потому нередко и удается подолгу рассуждать о чем-то наподобие «образа Онегина» или «символики финала поэмы „Двенадцать“», не приводя или почти не приводя сам текст произведений. Он, как говорится, на слуху. Автор книги о новейшей литературе, напротив, должен исходить из того, что произведения, о которых он рассказывает, еще неизвестны или мало известны читателю (особенно верно это в отношении именно литературы 90-х годов XX века с ее микроскопическими, часто кустарными, тиражами – с подобной антикультурной ситуацией историки современной литературы в советское время просто не сталкивались). Поэтому читателя нужно по ходу дела основательно знакомить непосредственно с художественным текстом, приводя достаточно обширные его фрагменты и давая изложение сюжета, сопровождаемое необходимым аналитическим комментарием. Только через конкретное знакомство с текстами писателя можно приблизиться к пониманию его стиля, его личного литературного мастерства.
Понятие «стиль» здесь и далее понимается в соответствии с книгой: Минералов Ю. И. Теория художественной словесности. – М.: Владос, 1999. В пособии «Новейшая русская литература» подробно описаны 90-е годы, и сделан шаг в XXI век.
ЛИТЕРАТУРА РУССКАЯ, СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ
90-е годы XX века, венчающие собой второе тысячелетие, принесли человечеству много перемен. Весьма сложный и ответственный период составили они для нашей страны, нашего народа, российской государственности и русской культуры. В соответствии с темой учебного пособия нас в первую очередь интересуют события 90-х годов, прямо или опосредованно связанные с литературой.
Как на большой культурно-исторический факт современности, который относится к литературоведению и философии художественного творчества, следует указать на общественное «открытие» и быстрое широкое признание фигуры великого русского ученого, филолога и философа А. Ф. Лосева, чьи жизнь и творчество, начавшиеся до революции, а завершившиеся в деструктивные годы горбачевской «перестройки», десятками лет протекали в тени поразительного невнимания и общественной неосведомленности.
Лосев Алексей Федорович (1893–1988) – автор книг «Философия имени» (1927), «Диалектика художественной формы» (1927), «Проблема символа иреалистическое искусство» (1976) и ряда других книг по проблемам философии художественного творчества, философии языка, теории литературы, многотомного исследования «Античная эстетика», других трудов по античной культуре.
Сейчас философские концепции Лосева получают международное признание. Его труды в области античной эстетики и литературы своей глубиной поражают специалистов во всем мире. Лосевская философия языка и его филологические концепции начинают оказывать влияние как на языкознание, так и на теорию литературы и на эстетику, объективно «закрывая» или корректируя многие формалистические и структуральные теории, популярные в предыдущие годы.
Важен и факт «возвращения» многие десятилетия замалчивавшихся концепций русских литературоведов прежних времен (А. А. Потебни, Ф. И. Буслаева и др.). Все это в перспективе, несомненно, обогатит современное литературоведение новыми идеями и подходами, поможет ему в более глубоком осмыслении явлений литературы.
Несколько иначе приходится оценивать влияние (уже не на литературоведение, а на современную литературную жизнь) «возвращенных публике» в начале интересующего нас периода многих ранее созданных, но не публиковавшихся в СССР художественных произведений (из «серебряного века», из «зарубежья» и др.). Хотя в самой необходимости этого «возвращения» сомнений нет (к читателю пришли не изданные ранее в СССР произведения Анны Ахматовой, Михаила Булгакова, Владимира Набокова, Андрея Платонова и некоторых других крупнейших художников XX века, а также творчество Георгия Иванова, Даниила Андреева, Иосифа Бродского и др.), конкретные его перипетии были неоднозначны. С одной стороны, такие издания «возвращенного» на несколько лет вытеснили в конце 80-х – начале 90-х годов реальную современную литературу со страниц журналов, поддавшихся соблазну поднять тираж сенсационными «забытыми» именами и произведениями, – а это, несомненно, нарушило естественное литературное развитие и не способствовало нормальной работе ныне живущих писателей. С другой стороны, среди введенных таким манером в обиход авторов резко преобладали модернисты. То, что им в течение упомянутых нескольких лет был обеспечен «моральный абсолют» издательских привязанностей, не могло не сказаться на вкусах и литературных понятиях взрослеющей писательской молодежи. Поспешные подражания Андрею Белому, Федору Сологубу, прозе Владимира Набокова, Бориса Пастернака и иным подобным авторам плюс энергичная пропаганда современных «замалчивавшихся» по тем или иным мотивам модернистов (Саша Соколов, Татьяна Толстая, Дмитрий Пригов, Виктор Кривулин, Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов, Венедикт Ерофеев, Виктор Ерофеев и др.) резко видоизменили характер литературы. Помимо всего прочего подражательность значительной части литературной продукции конца 80-х – начала 90-х годов качественно ослабила литературу периода в целом, причем ослабила с небывалой силой.
Все это шло в намеренно провоцировавшейся и подогревавшейся, видимо, «сверху» со времен начатой в 1987 году «перестройки» атмосфере массового психоза. Трудно удивляться, что в такой атмосфере крупнейшие писатели, гордость современной литературы (В. Белов, В. Распутин, Ю. Бондарев и др.) стали подвергаться на грани 80-90-х годов оголтелой травле в средствах массовой информации. Их явно пытались заставить замолчать, поскольку они резко и прозорливо осуждали многое из происходящего.
Напротив, процветали те, кто происходящему без разбору славословили. Речь не только о примитивных льстецах. Среди писателей изредка встречается тип человека амбициозного, болезненно самолюбивого и хвастливого, взбалмошного, хамоватого, внутренне истеричного, сосредоточенного на своей персоне и мнительного, при всем этом инфантильного, поддающегося сторонним влияниям и вообще легко внушаемого. На таких людей невозможно положиться в серьезном деле, в быту ими неизменно кто-то ловко управляет… Люди этого типа в годы «перестройки» и в последующее время наговорили и наделали немало дурного, вредного и, по большому счету, антигосударственного. Кроме того, в ходе «перестройки» на поверхность всплывало немало «творческих деятелей», которым как художникам сказать было нечего из-за отсутствия таланта. А потому, отчаянно отвлекая внимание публики от внутренней пустоты, они старались взять внешней напористостью (митинги, союзы, протесты, интервью, борьба за литературную «эротику» – в прошлом порнографию и тому подобные суррогатные формы активности, восполняющие факт личной творческой непродуктивности).
Среди тех, кто пытался тогда торговать своим пером и кто впустую шумел, доводилось с болью видеть иногда людей небесталанных, подтравленных и обиженных литературным Бюрократом в предшествующие годы. Можно было понять желание этих людей, получивших трибуну и доступ к печати, поведать прежде всего о наболевшем – говоря словами Маяковского (в стихотворении «Мрачное о юмористах»), «про свои мозоли от зажатья в цензорях». Но в то же время ясно было, что, получив таковую трибуну, уже несколько поздно (да и мелковато для талантливого человека!) громогласно распространяться на отошедшую в прошлое тему личной гонимости:
Дескать, в самом лучшем стиле, будто розы на заре, лепестки пораспустили б мы без этих цензорей.Надо было делать другое: распускать обещанные «лепестки» в обещанном «лучшем стиле»! Однако, к превеликому сожалению, снова и снова приходилось видеть, как сбывается пророчество Маяковского из того же стихотворения:
А поди сними рогатки — этаких писцов стада пару анекдотов гадких ткнут — и снова пустота.Но не иссякала длинная шеренга «катакомбных» немолодых «молодых» писателей, выведенных тогда на публику критикой! Раньше не печатали – да, можно понять, что дело это слезное. Но все-таки «перестроечные горы» часто рождали мышей, короли оказывались голыми…Так или иначе, развитие собственно художественной литературы в конце 80-х – начале 90-х годов почти остановилось.
То, что послереволюционные 20-е годы были, напротив, временем интенсивного развития нашей литературы, создания многих ее шедевров, в доказательстве не нуждается. На протяжении этого десятилетия В. Маяковский написал подавляющее большинство своих произведений, Б. Пастернак издал лучшие книги стихов, М. Шолохов опубликовал «Донские рассказы» и великий «Тихий Дон», М. Булгаков создал «Белую гвардию» и «Бег». Октябрьская революция, несомненно, произвела огромное впечатление на подавляющее большинство талантливых художников. Ее цели могли быть кому-то внутренне чужды, но ее величие ощущали все. Ею была открыта эпоха небывалого народовластия: такого массового участия рядовых граждан (крестьян, рабочих, служащих) в управлении огромной страной человечество никогда не видело. Литература 20-х годов жизнерадостна и оптимистична, исполнена надежд и светлых упований.
В основе любой революции лежит идея разрушения «до основанья» существующего социального строя. Не осторожного и аккуратного демонтажа, а именно разрушения. Такая атака на весь жизненный уклад народа и страны неизбежно груба, примитивна и непременно сопряжена с человеческими жертвами как со стороны революционеров, так и со стороны пытающихся остановить революцию. Впрочем, она порождает еще множество различных непредусмотренных «попутных» жестокостей (лес рубят – щепки летят). Однако в настоящей революции всегда есть и своя романтика. Не случайно, например, лучший роман величайшего прозаика Франции Виктора Гюго «Девяносто третий год» посвящен событиям Великой французской революции, равно как и «Боги жаждут» Анатоля Франса, а революционная «Марсельеза» Леконта де Лиля стала государственным гимном Франции.
Советская литература отражала грандиозные исторические события и воспевала созидающее общество, которое несколько десятилетий стремительно развивалось, спасло человечество, победив фашизм во второй мировой войне, и было привлекательным примером для других стран и народов в самых различных и неожиданных уголках планеты (Испания, Китай, Северная Корея, Куба, Вьетнам, Конго, Южный Йемен, Чили, Гренада, Никарагуа и др.). Октябрьская революция и процесс построения нового общества, несмотря на многие сопутствовавшие им страшные социальные перипетии, оказались масштабными темами для «Двенадцати» А. Блока, «Хорошо!» В. Маяковского, «Поднятой целины» М. Шолохова, «Разгрома» А. Фадеева; даже герои пьесы «Дни Турбиных» М. Булгакова, офицеры старой армии, в финале пьесы поют шутливое славословие «За Совет народных комиссаров»…
Но невозможно вообразить, чтобы талантливые писатели в каком-либо веке и каком-либо государстве стали воспевать время, на заре которого их страна была в одночасье буквально разграблена десятком-другим своих же граждан, нагло присвоивших народно-государственное достояние и тут же переведших затем гигантские расхищенные капиталы за рубеж, в мгновение ока превратив тем самым богатейшую державу в страну-нищенку, перебивающуюся займами у всякого рода валютных фондов; время, когда была преступно остановлена и сломана в угоду некоторым зарубежным силам почти вся отечественная промышленность, за исключением добывающей да еще пищевой; время, когда по всей территории Родины заполыхали дикие националистические мятежи, а вооружившиеся лучше, чем армия и милиция, банды стали повсеместно терроризировать ее граждан; время, когда небывало размножились и повсюду обрели власть и силу бездарные и беспринципные индивидуумы; а чиновничество потонуло в коррупции и иных злоупотреблениях…
И в самом деле: пронеслись общеизвестные политические события 1991 года, приведшие в конце концов к тайной беловежской встрече тогдашних руководителей Российской Федерации, Украины и Белоруссии и к последовавшей за ней искусственной ликвидации СССР. Со страной произошла катастрофа. Русский народ оказался разбросан по территориям нескольких возникших в одночасье государств-новоделов, которые были с удивительной легкостью и быстротой тут же официально признаны руководством крупнейших зарубежных стран (характерное исключение – не признана до сих пор преимущественно русская по населению Приднестровская республика). Руководство страны в начале 1992 года сделало попытку осуществить нечто вроде «революции сверху», в директивном порядке заменив общенародную собственность на средства производства тем, что по сей день принято именовать туманным выражением «рыночные отношения». Были отменены многочисленные социальные гарантии, к которым граждане СССР за десятилетия привыкли относиться как к чему-то само собой разумеющемуся. Зарплаты и пенсии были уменьшены в несколько раз и стали выплачиваться нерегулярно. Заводы и предприятия по всей стране стали закрываться, и появилась массовая безработица. Народ пришел в состояние шока.
Литература на какой-то момент как бы перестала интересовать если не все общество, то значительную его часть. С другой стороны, в обстановке пережитого обществом состояния социально-психологического потрясения резко снизили творческую активность многие писатели. Другие увлеклись получившей тогда широчайшее распространение газетной публицистикой, давая различные интервью и принимая участие в многообразных дискуссиях не на литературные темы, а на темы политики, политэкономии, национальных отношений и т. д. и т. п. (это было характерно для Василия Белова, Валентина Распутина, Александра Проханова, живших за рубежом Александра Солженицына, Александра Зиновьева, Эдуарда Лимонова и др.). Некоторую внутрилитературную аналогию такому увлечению можно усмотреть в 40-е и 60-е годы XIX века, когда развернулись «натуральная школа» и затем «шестидесятники» с их тягой к документально-публицистическим жанрам – очеркам, статьям и др.
Как известно, еще в середине 1991 года Россию возглавил в качестве президента Б. Н. Ельцин – один из бывших высших функционеров коммунистической партии Советского Союза, который несколько раньше, в последние годы ее правления, был подвергнут другими руководителями (во главе с генеральным секретарем этой партии М. С. Горбачевым) резкой коллективной критике и несколько понижен в должности (получил ранг министра СССР). С момента своего прихода к власти этот психологически травмированный, как можно предположить, человек занялся мстительной «борьбой с коммунизмом». Такая борьба не могла не спровоцировать глубокий идейный раскол в стране, около половины которой и по сей день сочувствует именно коммунистам. Потом на протяжении 90-х годов нередко создавалось впечатление, что Ельцин как политик неотступно интересуется почти одним только этим непродуктивным – никак не способствующим экономическому развитию страны и общественному спокойствию – надуманным делом (да еще борьбой за сохранение своей личной власти). Соответственно и в команде его тоже преобладали люди, способные только перманентно растравлять в обществе идеологические язвы и бороться с химерами.
С начала 90-х годов XX века официальная пропаганда стала подвергать огульной критике все стороны жизни искусственно разрушенного СССР, весь советский период отечественной истории, в отрицательном плане почему-то «характеризуя» его ложно многозначительным, а на самом деле лишенным какого-либо конкретного негативного смысла словечком-эпитетом «тоталитарный» («тоталитарный» в переводе с латинского значит «всеобъемлющий, всеобщий»), Параллельно СМИ стали, говоря о гражданах «новой России», упорно именовать их не гражданами, а «обывателями» – по сути, нанося тем самым этим гражданам немотивированное оскорбление (ибо словечко «обыватель» означает духовно неразвитого человека, лишенного общественного кругозора, патриотизма и национальной гордости и живущего исключительно своими мелкими эгоистическими интересами).
Телевидение почти свернуло показ фильмов отечественного кинематографа, на смену которым пришли низкопробные западные «сериалы» мелодраматического и детективного характера, отличающиеся к тому же скверной игрой актеров, да еще фильмы откровенно порнографического содержания. Тогда же, в начале 90-х, было практически прекращено транслирование по радио и телевидению народных и вообще отечественных песен (песни Великой Отечественной на некоторое время зазвучали лишь в середине десятилетия – в преддверии праздновавшегося во всем мире юбилея победы над фашизмом). Параллельно было почти прекращено транслирование русской (как, впрочем, и зарубежной) классической музыки – услышать симфонию Чайковского, Калинникова или Рахманинова (а также музыку Баха, Бетховена или Брамса) и сегодня почти немыслимо где-либо, кроме вещающей на УКВ специальной радиостанции «Орфей» (в 90-е годы ее не раз пытались закрыть из-за коммерческой «невыгодности»). А в «тоталитарном» СССР музыкальная классика звучала по всем каналам.
Итак, складывалось впечатление, вряд ли безосновательное, что в России не просто прекращена государственная работа по развитию отечественной культуры, но и широко и планомерно осуществляется нечто антикультурное. Особая тема – то, что не только было прекращено патриотическое воспитание молодежи через СМИ (которое, естественно, ведется во всех странах мира), но само понятие патриотизма всячески дискредитировалось и осмеивалось в этих самых средствах. Взамен со всех каналов радио и телевидения посыпались призывы к «наслаждению» (а именно к тому, что православие четко именует «плотским наслаждением»), замелькала реклама жвачки, пива, прохладительных напитков, презервативов и пр. Даже извращенцы, переименованные в «сексуальные меньшинства», стали регулярно показываться на телеэкранах, «уча жизни» молодежь. Патриотизм тщились заменить эгоизмом, личным бесстыдством и откровенным скотством.
Подавляющее большинство писателей, в том числе и крупнейшие художники В. Распутин, В. Белов, П. Проскурин, Ю. Бондарев, Е. Носов, Ю. Кузнецов и др., – не только не попыталось «воспевать» происходящее со страной, но, как уже упоминалось, в начале 90-х годов на некоторое время глухо замолчало. Многие заметные писатели или с помощью своего пера, или непосредственно участвовали в политической борьбе этих лет на стороне сил оппозиции (В. Гусев, С. Куняев, Э. Лимонов, А. Проханов и др.), причем среди них были и такие, которые в советское время имели смелость критиковать те или иные общественно-политические аспекты (и за это оказывались тогда под ударом), – видимо, все постигается в сравнении. А немногочисленные авторы, которые первоначально взялись за исполнение социального заказа на прославление новой власти и огульное очернение советского периода истории Отечества (Е. Евтушенко, Б. Окуджава, В. Астафьев и др.), быстро вошли в творческий кризис и не создали произведений, сопоставимых по художественному уровню с прежним их творчеством.
Союз писателей лишился своей инфраструктуры, в частности издательств, «приватизированных» разными ловкими людьми, и потерял возможность оказывать писателям реальную поддержку в публикации их произведений. Частные же издательства избрали основой подхода к литературе принцип коммерческой выгоды, в результате чего многие талантливые авторы просто лишились возможности издаваться.
(Дух карикатурной коммерциализации всего и вся держится в Отечестве по сей день. Он все еще составляет лейтмотив официальной пропаганды, мировоззренчески внушается молодежи через все СМИ, и понятно, что литература, ее шедевры, писательская профессия этому духу чужды. «Коммерчески выгодны», пожалуй, лишь развлекательные жанры – детектив, эротика, кое-что из фантастики и т. п.)
Итак, нет причин удивляться, что подавляющее большинство художников слова справедливо восприняло разрушение СССР и последующие псевдореформы 90-х годов не как «по существу революцию» и зарю эры светлых преобразований, а как государственную, общественную и свою личную беду. Не замедлили произойти и вытекавшие из факта распада страны иные беды. Закипела яростная борьба внутри правящей верхушки. Так, в начале октября 1993 года исполнительной властью была разгромлена власть законодательная (Верховный Совет России), а здание Верховного Совета было расстреляно из танковых орудий.
Через два года неудачная, весьма странно осуществлявшаяся попытка разгромить националистические банды на территории Чеченской республики Российской Федерации повлекла многие тысячи новых жертв; армию словно принуждали играть в «поддавки», а потом летом 1996 года с бандитами был заключен позорный «мир». Проблему пришлось решать повторно в 1999–2000 годах.
31 декабря 1999 года добровольно удалился в отставку прежний руководитель государства. Страна расценила это едва ли не как новогодний подарок-сюрприз от Деда Мороза. В итоге 2000 год народ встретил пусть не со счастливо сияющими глазами, но с надеждами – на сей раз небезосновательными – на завершение контрпродуктивной эпохи и перемены к лучшему. В марте 2000 года был избран новый президент.
Современные социально-исторические катаклизмы, начавшись во второй половине 80-х годов на российской земле, сказались на литературе как фактор, спровоцировавший создание гротесковых «антиутопий» на темы отечественной истории и современности. Разумеется, этот трудный жанр разными авторами использовался с различной степенью литературно-художественной плодотворности. Так, прозаик Вяч. Пьецух написал, идя вслед за знаменитым произведением М. Салтыкова-Щедрина, «Историю города Глупова в новые и новейшие времена», где довольно механически воспроизводятся многие салтыковские коллизии, перенесенные в XX век и изображающие перипетии революции, а затем советского периода общественного развития страны. При этом стилизация на уровне словесного текста тут неглубока, связь с текстом Щедрина механически-подражательна, и творчески естественные, в принципе, аллюзионно-парафрастические приемы у Вяч. Пьецуха грешат надуманностью, а реализованы поверхностно[1].
По-иному возможности антиутопии используются Сергеем Есиным в романе «Казус, или Эффект близнецов» (Московский вестник. – 1992. – № 2–5). Здесь нет проекции на чужое произведение и эксплуатации гротесковых находок автора-предшественника. Прописана скорее сама «антиутопическая» традиция, в русле которой XX век дал немало шедевров и в русской литературе, и в западноевропейской, и, например, в латиноамериканской. В обычный для антиутопий условно-литературный мир автор «запускает» своих излюбленных героев – персонажи, черты которых уже присутствовали в его предыдущих произведениях («Имитатор», «Соглядатай» и др.). Иначе говоря, автор не применяется к антиутопии, а использует ее основные приемы, повествовательные ходы и прочее по-своему, что явно более перспективно. Впрочем, моментами у Есина ощутима излишняя интонационная близость с «Мы» Е. Замятина и особенно с «1984» Дж. Оруэлла (второй роман, как известно, в той же мере интонационно перекликается с первым).
Из других антиутопий характеризуемых лет можно указать на работы долгое время жившего в эмиграции Александра Зиновьева.
Зиновьев Александр Александрович (род. в 1922 г.) – прозаик, доктор философских наук, профессор, в 70-е годы – профессор Московского государственного университета, В 1974 году был выслан из СССР. До 1999 года жил в эмиграции в ФРГ, где занимался литературным творчеством. В настоящее время работает в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова и Литературном институте им. А. М. Горького. Живет в Москве.
Произведения этого автора «Мой дом – моя чужбина», «Катастройка», «Искушение» и др. рецензентами обычно именуются «романами». Фактически это произведения особой жанровой природы – художественно-политические шаржи, отличающиеся прозорливой критикой антигосударственных тенденций эпохи Горбачева и более позднего времени.
Близко к произведениям характеризуемого жанра стоит опубликованный в СССР во времена «перестройки» роман Василия Аксенова «Остров Крым». Здесь исходная идея подсказана реальностью – наличием возле огромного народного Китая острова Тайвань, на котором сохранился капиталистический режим, опирающийся на военную мощь США. Крым в воображении Аксенова по аналогии превращен в подобный остров у южных берегов СССР. В конце романа якобы происходит вторжение советских войск на этот придуманный остров, которое, однако, оказывается всего лишь съемками авантюрного фильма. Политика довольно механически соединена в романе с сексуальными похождениями его главного героя местного островного плейбоя Андрея Лучникова.
Как уже упоминалось, часть писателей на переломе от 80-х к 90-м годам в той или иной мере видоизменила характер своего личного творчества. Как следствие, обозначились жанровые «подвижки»: например, некоторые романисты стали сосредоточиваться на публицистических статьях, очерках и эссе (В. Распутин, В. Белов, с одной стороны, и такие «умеренные» авангардисты, как А. Зиновьев, Э. Лимонов, – с другой). Некоторые же стали писать в манере, стилизованной под дневниковые записи (Владимир Гусев «Дневники»), под философские «максимы» (Виктор Астафьев «Затеей») либо пытаться превращать в факт искусства реальные события личной биографии, их анализ и раздумья по этому поводу (С. Есин «В сезон засолки огурцов»), окутывая все это «аурой» стилистики художественного текста.
Гусев Владимир Иванович (род. в 1937 г.) – критик, прозаик, литературовед, председатель Московской писательской организации Союза писателей России. Автор повестей и романов «Горизонты свободы» (1972), «Легенда о синем гусаре» (1976), «Спасское-Лутовиново» (1979) и др. Заведует кафедрой в Литературном институте им. А. М. Горького. Живет в Москве.
Астафьев Виктор Петрович (род. в 1924 г.) – прозаик. Автор широко известных в 70-80-е годы художественных произведений – романов и повестей «Пастух и пастушка», «Царь-рыба», «Печальный детектив» и др., а также политического памфлета «Прокляты и убиты» (1992). Живет в Красноярском крае.
Есин Сергей Николаевич (род. в 1935 г.) – прозаик, ректор Литературного института им. А. М. Горького. Живет в Москве.
Суррогатным отзвуком подобных профессиональных писательских исканий стало неожиданное обилие всяческих «мемуаров» и «записок», исполненных нередко еще не достигшими значительного возраста авторами (автобиографические опыты в прозе поэтов С. Гандлевского, Б. Кенжеева и ряда других лиц).
Точнее всего увидеть в этом последнем суррогат лирического самовыражения, ибо в таких современных записках в центре повествования – неизменно не события, не эпоха, а личность самого автора, его разнообразные самокопания на фоне жизни общества. А если так, то приходится сделать вывод, что характер личного творчества изменился и у ряда лирических поэтов: одним просто стало как бы не о чем писать, и они вошли в затяжной творческий кризис, другие же «ударились в прозу», не владея ее техникой и не имея опыта построения прозаического текста как произведения искусства. В таких суррогатах, выдаваемых за срезы подлинной «сырой» жизни, с жизненными фактами, как правило, обращаются весьма вольно, сообщая немало неправдивых сведений о событиях последних лет, т. е. говорить об увлечении подобных авторов документальными жанрами (что было бы по-своему литературно привлекательно) не удается. Это не документальная проза, а попытки мифологизировать реальность с помощью «документальной упаковки». На последнем моменте целесообразно задержаться.
Литература не только «отражает» жизнь, но и способна, в общем-то, формировать в жизни новые реалии, как желательные (нравственно, граждански, человечески), так и нежелательные. Она способна провоцировать их появление. Что имеется в виду?
Общепонятно и широко принято, что литература есть «отражение жизни», причем нередко «кривозеркальное», допускающее многообразные отходы от реальности на основе творческой фантазии художников. Тем не менее подчеркивание влияния жизни на литературу неизбежно есть одностороннее гипертрофирование отдельно берущейся ипостаси двуединого диалектического процесса. Нельзя забывать о второй его стороне – влиянии литературы, ее образов, ее сюжетов, их событийных коллизий на реальную жизнь.
КритикН. А. Добролюбов некогда сделал любопытное наблюдение над романами своего современникаИ. С. Тургенева. Добролюбов заметил, что стоит в сюжете художественного произведения Тургенева появиться новому колоритному герою, как спустя небольшое время люди его типа появляются в реальной русской жизни. Критик попытался объяснить подмеченное им явление некоей обостренной социально-исторической «интуицией» Тургенева, т. е., по сути, несмотря на весь свой личный мировоззренческий материализм, невольно приписал писателю дар угадывания будущего, идеалистического «предвидения» в духе Нострадамуса и иных запомнившихся человечеству предсказателей. Не касаясь природы предсказаний Нострадамуса, сосредоточимся на Тургеневе. Ведь то, что вскоре после издания романа «Отцы и дети» тип молодого нигилиста (нередко прямо проецирующего себя на образ Базарова) возник и на десятилетия закрепился в реальной культурно-исторической жизни России, – несомненный факт. Но добролюбовская интерпретация этого факта отнюдь не бесспорна.
На протяжении истории культуры различных эпох накопилось множество примеров, когда сюжетные литературные тексты создавали основу для подобного мощного толчка. Тургеневские «Отцы и дети», вышедшие почти параллельно с «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, сыграли именно такую роль. Оба романа не «предвосхитили», а скорее сформировали в России реальные человеческие типы и оказали мощное формирующее воздействие на ряд впоследствии выплеснувшихся в жизнь событийных коллизий. Базарову, Рахметову, Вере Павловне Розальской, Лопухову и др. стала в массовом порядке подражать молодежь. Явление обрело и общее «имя» – «нигилизм», так что вся пестрота, разнородность и чересполосица конкретных попыток отдельных молодых людей вести себя неким экстравагантным образом стали опознаваться и маркироваться общественным сознанием как нечто единообразное.
Незадолго до Октябрьской революции, в разгар серебряного века русской культуры, академик-филолог Д. Н. Овсянико-Куликовский выпустил объемный труд под названием «История русской интеллигенции» (Овсянико-Куликовский Д. Н. Собр. соч.: В 13 т. – СПб., 1914. – Т. VII–VIII). Это исследование маститого ученого в основном озадачило публику. Автор попытался описать историю реальной русской интеллигенции, оперируя не столько подлинными жизненными фактами, сколько художественно-литературным материалом – образами Чацкого, Онегина, Печорина и др. Попытка Овсянико-Куликовского многими была воспринята как забавный пример того, до чего «книжного» человека (каким, конечно, был Овсянико-Куликовский в силу своей профессии) способны всего пропитать его литературоведческие штудии – так что он-де уже не замечает, как смешивает литературу с реальностью… Такого рода отношение к данному труду академика было небезосновательно: методологическая сбивчивость, неумение ясно объяснить читателю, почему в рассуждениях о реальной социокультурной истории он как автор испытывает некую неотступную потребность «съезжать» на художественные вымышленные образы, на литературу, и в самом деле дают себя знать. Тем не менее Д. Н. Овсянико-Куликовский поднял важную тему, четко сформулировать которую ему мешала, может быть, его личная и характерная для его времени несколько окостенелая позитивистская «ученость». Он видел, как и все, в литературе отражение реальности (явно улавливая, что это «еще не все»), и стремился постичь, в чем же состоит вторая диалектическая ипостась литературы. След таких напряженных исканий Овсянико-Куликовского усматривается, например, в его интереснейшей идее о существовании особого типа «художников-экспериментаторов». Но ученый так и не задался впрямую вопросом, не повернуты ли порой эксперименты писателей в будущее, не «программируют» ли они, не формируют ли вольно или невольно вероятностные черты возможного реального будущего. Между тем гимназические Онегины, печорины, княжны мери продолжали, как и в XIX веке, являться во все новых поколениях русской молодежи, т. е. тенденция, которую верно обнаружил (хотя, пожалуй, и не вполне объяснил) в русской жизни зоркий исследователь академик Овсянико-Куликовский, продолжала оставаться действенной. Подражание этим и другим привлекательным молодым литературным героям продолжилось и в старших классах советской школы.
Словом, на протяжении XIX–XX веков многие сменявшие друг друга поколения российской молодежи на собственном примере опровергали известную идею, что тип «лишнего человека» – порождение конфликтов, противоречий и социальных пороков определенного этапа развития русского общества. Охотно продолжая вживаться в литературные образы вроде вышеупомянутых, молодежь демонстрировала, что, скорее, на всех этапах, во все эпохи многие юноши и девушки определенного возраста (а впоследствии это чаще всего благополучно проходит) испытывают внутреннюю потребность ощущать себя «лишними людьми». При этом, однако, тенденция резко усиливается и конкретизируется, если литература создает подходящую «ролевую маску» или прообраз для подражания и проводит его через некоторый приобретающий массовую известность сюжет. Последний задает схему жизненного поведения – позволяет человеку, нечаянно оказавшемуся в аналогичных эффектных сценах и коллизиях реальной жизни (или даже создавшему их искусственно), проявить свою загадочную разочарованность, непонятость современниками, одинокость и пр. Такими прообразами стати пришедшие из литературы Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин и др.
В 60-е годы XIX века юношеское стремление «сделать вызов» обществу, утвердить себя в грубоватой браваде, также едва ли не «всевременное» по своей природе, обрело прообраз в героях Тургенева и Чернышевского. Впечатляют массовость и устойчивость подражания литературным нигилистам в обществе 60-80-х годов XIX века[2].
Формирующее воздействие литературы, ее сюжетов и образов на идущую жизнь, разумеется, имеет свои объективные основания, обусловлено определенными «механизмами» – психофизиологическими, социально-психологическими и др. В этой связи укажем на исследования Г. Н. Сытина, основанные на колоссальном по объему материале. «Самоубеждение», по мнению Г. Н. Сытина, есть сильнейшее средство внутренней регуляции личности, а один из наиболее действенных способов самоубеждения – ориентация на некий конкретный прообраз, вхождение в образ. Литература открывает человеку самые широкие возможности для вхождения в те или иные привлекательные для него по тем или иным причинам образы. В результате люди начинают пытаться вести себя наподобие лиц, послуживших прообразами, и совершать реальные поступки, так или иначе перекликающиеся с сюжетными коллизиями. Осознание этого круга фактов позволяет конкретизировать многие ставшие привычными, принимаемые к сведению «в общем виде» культурно-исторические феномены.
Например, неизменно констатируется, что на людей русского серебряного века чрезвычайно интенсивно повлияла философия Фридриха Ницше. Между тем точнее и конкретнее было бы говорить, что повлияла отнюдь не сама философская доктрина Ницше. Повлиял образ Заратустры из облеченного в сюжетную форму небольшого произведения Ницше. Этому герою, его вызывающим суждениям и поступкам немедленно начали подражать. Причем даже в этих суждениях и поступках улавливались чаще всего, пожалуй, только их внешняя сторона, броская аморальность, ясно выраженное чувство вседозволенности для сильной личности и т. п. (не случайно даже имел широкое хождение стишок: «Действуйте ловко и шустро – так говорил Заратустра»), Большинство других произведений Ницше, богатый комплекс развитых в них чисто философских идей для массового читателя оказались и остались неведомыми, и говорить о каком-то их «влиянии» не приходится.
(Кстати, явная преемственность такого перешедшего в реальную жизнь расхожего «заратустрианства» по отношению к «базаровщине» и «рахметовщине» предыдущего культурно-исторического витка – лишний пример того, что ролевая маска «сильной личности», как и «лишнего человека», скорее универсалия человеческой культуры, чем порождение определенных культурно-исторических этапов, и что такого рода маски при попытках их объяснять нельзя свести ни к «декадансу», ни к подавляющему личность «самодержавному гнету» и пр. Тут скорее всего дают себя знать извечная человеческая природа, ее противоречивость и несовершенство.)
Понятно, что бывают объективно-исторические условия, когда реальная жизнь «предрасположена» к возникновению тех или иных социальных катаклизмов, к конкретным событиям того или иного рода, к распространению людей определенных типов. Но как «предрасположенный» к той или иной болезни человек совсем не обязательно все-таки заразится ею, так и общество может удачно либо миновать те или иные кризисные фазы, либо перенести свои недуги в латентной или легкой форме. Например, мы, современники, прекрасно сознаем, что катастрофических событий конца 1980-х – начала 1990-х годов, изуродовавших нашу державу, могло и не произойти – что бы там ни навыдумывали для потомков лет через двадцать о «неотвратимости» и «неизбежности» «краха империи» те или иные авторы с бойким пером, рядящиеся в тогу объективных историков.
Чрезвычайно интересные и яркие наблюдения над примерами из истории русской культуры (преимущественно конца XVIII – начала XIX века) делал Ю. М. Лотман в работах по типологии культуры. Правда, исследователь был склонен к узкой интерпретации материала. Он сводил проблему к поведенческому стереотипу, увлекаясь своим «коньком» – так называемым «игровым поведением», «театральностью» поведения, которые усматривал в людях декабристского круга, вообще в людях пушкинской эпохи. Бытовое актерство, действительно, свойственно некоторым людям в самые разные времена, и личное право каждого – играть в жизни крутого супермена, романтического юношу или, скажем, отпустить эйнштейновскую гриву и ницшеанские усы. Но, думается, тот или иной поведенческий стереотип – все же только внешнее проявление обсуждаемых фактов. Кроме того, Ю. М. Лотман излишне, на наш взгляд, педалировал «непредсказуемость» грядущего развития человеческой культуры, скептически относясь, например, к футурологии (иронически называл ее даже «гаданием на кофейной гуще»). Между тем такая «непредсказуемость» всегда относительна, и фатализм в ее отношении чреват лишь устойчивыми «просмотрами» множество раз подтвержденных в реальной человеческой жизни причин и следствий. Прозорливый человек с достаточным жизненным опытом и обостренной интуицией, живя во времена Пушкина и Лермонтова, мог бы безошибочно предсказать скорый переход в реальность их литературных образов, а современник Тургенева и Чернышевского – их литературных образов (что и не преминуло совершиться в обоих случаях). Так и в наше время всегда есть основания «опасаться», что в реальности «оживут» кое-какие и желательные и нежелательные литературные (до поры до времени литературные!) образы и коллизии. Как конкретно применит их жизнь, конечно, всегда вопрос особый.
В 60-70-е годы нынешнего века в СССР у взрослого, а не детского читателя пользовался исключительной популярностью «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери, образы и сюжетные коллизии которого неожиданно «пригодились» многим любовным парам (этот факт отразился затем опять-таки в самой литературе – вспомните лейтмотив повести Валентина Распутина «Рудольфио»), Мировая же классика дала образы (вроде Гамлета, Дон-Жуана), действенные на протяжении веков и по сей день. Павки Корчагины, оводы и иные подобные образы еще недавно играли свою роль в реальной советской жизни. Даже герои так называемой «молодежной прозы» конца 50-х – начала 60-х годов XX века («прозы „Юности“», как еще выражались критики) – прозы, подражавшей по-русски языку Хэмингуэя (а еще вернее, его русского переводчика И. Кашкина), т. е. если конкретно, довольно слабой прозы молодого В. Аксенова, А. Гладилина и иных подобных авторов, – эти герои оказали немалое формирующее воздействие на реальные коллизии того времени. Со страниц аксеновских «Коллег» и «Звездного билета» сходили с прибаутками плоско-ироничные «супермены» и таковые же девицы. Городские старшеклассники и студенческая молодежь начала 60-х в своем жизненном поведении подражали им отчаянно…
Что касается драматургических произведений, то более действенна в обсуждаемом аспекте читаемая драматургия (а не спектакли как таковые). Дело, видимо, в том, что в спектакле в тех ролях, на которые склонен подставлять себя человек, уже выступают другие люди – актеры с их индивидуальным внешним обликом, их психологией, – интерпретирующие сюжет по-своему. А это мешает собственному вхождению этого человека в образ. Читаемый же текст не навязывает ни чужих лиц, ни чужих голосов – подставить в него себя заведомо легче и проще.
Все сказанное выше подразумевало литературу. Если же задаться вопросом, не становятся ли ее естественными соперниками в формировании тех или иных черт грядущих жизненных коллизий кино и телевидение, то придется сразу же указать вот на что. Наиболее действенны, видимо, словесно рассказанные, словесно выраженные, претворенные в слове сюжеты, а не сюжеты «показанные» (в кино, по телевидению). Действует прежде всего слово как таковое. И в объяснение этого сослаться следует на все, что знает человечество о силе слова (начиная уже с того, что издревле говорит о ней религия).
Что до самих образов и сюжетов, то их воздействию подвержена преимущественно молодежь. Одним оказываются нужны образы, чья внутренняя слабость примиряет их с собственной слабостью – «объясняет» ее, делает привлекательной и т. п. Другим – образы, сила которых помогает «строить» себя в реальности по их подобию. Может быть еще множество конкретных ситуаций вроде приведенных, но, по-видимому, почти всегда молодые люди ориентируются на образы молодых людей (исключение – подражание сильным героическим личностям, государственным деятелям и др.: здесь возраст объекта для подражания не важен). Так что, допустим, экстраполяция в реальность тех или иных черт уже не очень молодых Мастера и Маргариты (в романе М. Булгакова) представляется менее вероятной, чем воздействие на реальную жизнь более юных экстравагантных или поэтичных героев литературы. (Впрочем, как и всякий прогноз, данное суждение лишь предположительно.)
Итак, в прошлом именно сюжетные литературные тексты («Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Что делать?» И. Г. Чернышевского и др.) не раз участвовали в образовании основы для мощных толчков, стимулирующих возникновение в обществе и реальных человеческих типов, и событий. Однако не обошлось без некоторого «посильного» аналогичного участия других литературных текстов и в совсем недавнем прошлом. Вспомним невообразимые миллионные тиражи литературно-художественных журналов времен «перестройки», вспомним сюжеты, которыми тогда (с подачи телевидения, радио, критики) зачитывались люди, и трудно будет отделаться от ощущения, что «желтая» литература (имеются в виду многие истерико-«перестроечные» публикации конца 80-х) сыграла свою роль в «победе» сил деструкции. И ведь талантами уровня Тургенева или Чернышевского в такой литературе, прямо сказать, не пахло! Но известно, что при недостаче ума и умения действуют числом, и порой небезуспешно. Итак, ближайшее прошлое снова напоминает: что именно предлагается читать людям и, следовательно, какого рода «героям времени» станет подражать молодой читатель вопрос совсем не праздный.
Что же все-таки предлагалось вниманию российских читателей, начиная с первой половины 90-х годов? Выше было упомянуто, что тогда вошли в литературную моду, с одной стороны, гротесковые «антиутопии» (а чаще псевдоантиутопии!) и с другой – различного рода «воспоминания» и их имитации. Подробно рассматривать этого рода произведения вряд ли необходимо в силу того, что заметных художественных удач у авторов не было. Но разберем в целях наглядной иллюстрации некоторые конкретные примеры, придав пособию своего рода «перевернутую композицию» и предварив этим кратким вступительным обзором «массовой» современной литературной продукции последующее обстоятельное рассмотрение творчества новых бесспорно ярких талантов и крупнейших писателей, продолжавших свою работу в 90-е годы, – Л. М. Леонова, В. Г. Распутина, В. И. Белова, П. Л. Проскурина и др. (им посвящен специальный раздел пособия).
Некая общность тональности проступает в относящихся сюда текстах разных авторов. Она не то чтобы юмористическая, сатирическая, пародийная, но повествователь словно бы гримасничает перед зеркалом, отражающим его самого и какой-то фрагмент окружающей реальности, придавая нелепый вид самому себе и делая нелепой окружающую реальность. Это ерничество весьма характерно.
Роман Михаила Чулаки «Кремлевский амур, или Необычайное приключение второго президента России» (Нева. – 1995. – № 1) повествует о светской и личной жизни «Александра Алексеевича Стрельцова, второго – конституционно, легитимно, демократически, всенародно и прочая и прочая избранного – президента России». Жизнь эта сложна и многогранна, а главное – весьма оригинальна. Фантазия у автора «Кремлевского амура» богатая, вполне профессиональная. Для затравки им придумано, что от правящего президента ушла жена по имени Рогнеда, и «всеобщая газета» под названием «МыМыМы» (обсуждать литературную самобытность которого у меня нет времени) потешается над ним.
Помимо этой «всеобщей газеты», в стрельцовской воображаемой России есть еще целая кунсткамера диковин. Так, президент обмозговывает архинужный «Договор о слиянии орфографий Белоруссии и России» (чтобы во имя демократии граждане писали не «молоко», а «мАлАко»); он дает пресс-конференцию, на которой муссируется слух, «что в Мавзолее планируют открыть однономерный отель, где за миллион долларов можно будет провести ночь на месте Ленина». Сам президент в какую бы то ни было усыпальницу явно не торопится – по Москве он передвигается на «маленьком скромном бронепоезде, состоящем всего из трех броневиков». Наконец, свой стрельцовский род президент возводит не к кому-нибудь, а, согласно семейному преданию, к самому Александру Македонскому… Сложные партнерские отношения соединяют в первых разделах романа сию фантасмагорическую личность с литературным «президентом Украины». Эту другую высокую особу зовут Оксаной Миколаевной Лычко. Ее «Украина» имеет такой же «капустниковый» облик, что и «Россия» Стрельцова. Нелепость громоздится на нелепость. Чего стоит хотя бы придуманный «орден Мазепы» или «ближняя охрана» «пани президентки», состоящая из «девок» – «самбисток и каратисток»…
Роман – об амуре, возникшем между президентом и «президенткой» и завершившемся международным законным браком, на пути к которому высокие любовники прошли через предсказанное российскими службами землетрясение в Карпатах, перипетии ликвидации его последствий (на эту ликвидацию президент специально отряжает под телекамеры репортеров сына Гришку, а «президентка» – дочь Олесю, и между юнцами начинается свой отдельный амур), через несуразные антипрезидентские акции каких-то преглупых неумех-террористов и через многое другое в том же духе (тут еще небезынтересна и «закадровая» фигура американского тоже президента по фамилии Сойер, который более всего на свете «озабочен проблемами своей любимой суки Шейлы»), Но вот и малые президенты поженились, и наибольший президент, занятый своей Шейлой, не запретил им такую вольность… Вот только непонятно: счастлив ли народ той, «романной», России под скипетром любвеобильного и «прочая и прочая» господина? Однако кое о чем можно обоснованно догадываться с учетом «броневичков», в которых вынужден шнырять по Москве президент-плейбой Стрельцов-Македонский…
Во имя чего, однако, все сне сочинено писателем? Нелепицу пишут в сатирических целях, пишут юмора ради – но здесь нет ни бича сатиры, ни подлинного остроумия. Нет и настоящей «антиутопии». Есть, пожалуй, лишь самоценное шутовство, ерничество. В жанрово-интонационном отношении разбираемое произведение (как и еще целый ряд текстов, написанных разными авторами в данные годы) напоминает не в меру громоздкий и неуместно затянувшийся «капустник». Но «капустники» хороши для актерской пирушки, для студенческих посиделок; их разыгрывают для себя, не показывают публике. Тогда, может быть, автор «Кремлевского амура», профессиональный писатель, прибегнул тут к сравнительно редкому, трудному в исполнении, но у сильного таланта бывающему действенным, приему – наговорить нарочитой чепухи, а о самом главном только намекнуть вскользь? К сожалению, если такая попытка и была, она вряд ли удалась. Повторяем, именно так писали в эти годы и многие другие авторы.
Бахыт Кенжеев в повести «Портрет художника в юности» (Октябрь. – 1995. – № 1) избирает плацдармом не ближнее будущее, а близкое прошлое. Но интонировано его творение на удивление похожим образом. Даже древние греки опять выходят на сцену! А дело обстоит так. Герой-рассказчик сразу берет быка за рога – неизвестно за что и зачем уже в первых строках выставляет «рожки» всему честному миру: «Я появился на свет от честных родителей в Москве, которой оставалось еще три неполных года бедовать под железной пятой престарелого диктатора, вступать под мраморные своды лучшего в мире метрополитена имени Кагановича, разделять праведное негодование диктора Левитана на происки американского империализма и его же задушевный восторг при чтении официальных реляций о трудовых победах, – иными словами, в 1950 году, в середине века, столь же многострадального и бестолкового, как и все миновавшие, а вероятно, и будущие века…». Такая вот «абсолютная» ирония – папе с мамой достается наравне с Кагановичем, метрополитеном и всеми будущими веками. Метрополитену – не иначе как за то, что он и впрямь долго был лучшим в мире, да и сейчас опять станет таковым, если его поприбрать и подремонтировать! (Кстати, мы в метро и по сей день еще ездим – так при чем тут «еще три неполных года»? Фраза ведь явно не отредактирована и сбивчива по смыслу.)
Так вот, о древних греках. Время идет, герой предается воспоминаниям и пересказывает новейшую историю, слегка путаясь в событиях и датах. На дворе уже не диктатура, а истинная хрущевщина. Забугорные голоса режут правду-матку, что «в какой-нибудь Америке» у его семьи «было бы два автомобиля». Но еще не приспела пора прозреть, и подросток блуждает в тумане и дурмане тоталитаризма, когда родители дарят ему на Новый год не балалайку какую-нибудь, а лиру! Дело тут в том, что его родной дядя, ну конечно, жертва культовских репрессий, носил «грубоватый хитон» поверх гимнастерки и был не каким-то там советским поэтом, не просто членом Массолита, а в гомеровском роде аэдом. Нетрудно понять, что мы докопались до той сюжетной «изюминки», до того «жемчужного зерна», ради которого едва ли не сочинена вся повесть. Теперь герой погружается в особую науку для посвященных – «экзотерику», обретает разные возвышенные знакомства, и хотя принужден все же и в университет поступать, и в стройотряд ехать, печать избранности незримо присутствует на его челе… Звучит насмешливо, но снобизм и у способного автора неизбежно выглядит комично. Однако с полной серьезностью хотим добавить следующее. Б. Кенжеев вообще-то яркий поэт, и не гадая, его ли стезя – проза, нельзя не признать, что за всеми вышепересказанными выдумками, за всей иронической бравадой его героя угадываются и прощание с личными несбывшимися мечтами, и искренность немного наивного, видимо, доброго по своей природе, растерянного человека, который на сегодняшнем историческом распутье не может понять, «куда несет нас рок событий». Поскольку в пору социальной «желтой лихорадки» рубежа 80-90-х годов мозги были промыты – всем, кто на это податлив, – весьма радикально, подобная растерянность – лишь знак личной незаурядности. Человеку кажется, что оказались ложными его идеалы? В наше время это рядовая ситуация. Ничего, время даст и разобраться в себе, и «перепроверить» идеалы: какие впрямь были ложными, а какие – нет.
Другой поэт – Сергей Гандлевский тоже создал повесть под названием «Трепанация черепа» с подзаголовком «История болезни» (Знамя. – 1995. – № 1). Опять политика, опять недавнее прошлое, опять размашистая ирония «во все стороны»… Герой Гандлевского не находит ничего лучшего, как демонстративно отстраняться и от нашего «развороченного бурей быта», и от самих бурь, так его разворотивших. Например, он не обходит, а «с нажимом» обрисовывает небезызвестные «августовские дни» 1991 года и свое в них личное участие. Девятнадцатого августа ему на даче утром «сосед крикнул через забор, что Горбачева сместили и правильно сделали», герой поехал в Москву и на весь день взялся за ремонт квартиры. Двадцатого – ночевал у тещи. «21 августа снова проходило в трудах праведных по благоустройству жилища». Позиция недвусмысленная. Затем «человек 70 было принято заочно и скопом в прогрессивный Союз писателей после августа 1991 года. Сам этот заглазный прием был щелчком по носу: предполагалось, что всем невтерпеж. Но дареному коню в зубы не смотрят. К августовским баррикадам я отношения не имел». Словом, как говаривал Пастернак, «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе». Поза для людей богемы почти «типовая»… Впрочем, всегда приятно, если человек в августовские ночи добропорядочно спит под присмотром тещи, а не слоняется по городу.
В основном произведение наполнено лишенными всякой сюжетной символики эпизодами биографии героя, который приятельствует, между прочим, с тем же Кенжеевым, как и с рядом других литераторов своего поколения, не без едкости вставляет некоторым из них шпильки на тему их творческой неискренности и ведет обычную «личную жизнь». В жизни этой играет свою роль хорошо известный нашему человеку принцип «я от Ивана Ивановича», проходящий в повести своеобразным, возможно, непредумышленным рефреном. Например, поступает герой на филологический факультет. Мнется, жмется, «отвечал плохо, но экзаменаторша слышала мою фамилию от своей приятельницы». Стал филологом герой! Или приспело ему на прием к врачу. «Вам Саша кем приходится?» – выясняет доктор айболит важный нюанс его анамнеза. «Брат», – обреченно признается герой. «Ну, желаю удачи…». Это вам крутые реалии жизни нынешних «детей Арбата» (до которой рядовые читатели в большинстве своем «не созрели»), а не вяло придуманные Б. Кенжеевым сентиментальные лира да хитон!
Волна в высшей степени популярных в годы «перестройки» литературных упражнений на тему культа личности Сталина на протяжении 90-х годов уже явно быстро спадала. Объективная причина этого – опять-таки в самой нашей жизни. Ни Батыем, ни Грозным, ни Сталиным, ни иными какими фигурами из заведомого прошлого не проймешь теперь народ страны, население которой ежегодно без всякого НКВД сокращалось в 90-е на миллион человек. Людям из этого миллиона не легче от того, что они погибли не по приговорам распоясавшихся «троек», а были зверски замучены всякими религиозными фанатиками и ошалевшими националистами, за плату «убраны» наемными киллерами или походя убиты нарабатывающими авторитет в своем кругу разномастными «джентльменами удачи»!..
Однако в «повествовании» Геннадия Красухина «Два дня в сентябре» все же является читателю персонаж по фамилии Сталин (Юность. – 1995. – № 3). К сожалению, автору вряд ли удалось избежать стереотипов «разоблачительной» журналистики времен «перестройки» (а там все-таки было немало откровенного и разухабистого вранья)[3]. Его Сталин написан в духе именно шаблонных истерико-«перестроечных» схем и даже газетных «уток»: само собой, это исчадие ада и капище пороков, взбалмошный садист и оголтелый марксист, мучитель и предатель. По воле автора он несет ахинею перед писателем-конформистом Надеиным и даже его мучает, заставляя вместо любимой водки пить вместе с собой «легкое вино». Пресмыкавшийся перед вождем Надеин в свою очередь по-сталински измывается над директором школы, где учится его сын. Понятно, что потом и директор, тоже порождение «системы», отыграется на ком-то из своих подчиненных, и так вся подноготная «тоталитарного» режима постепенно откроется читателю… Затея довольно наивная.
Впрочем, в «повествовании» есть и вторая линия – тоже «культовская», но куда более занятная. Дело вот в чем. Пока рекомый «Сталин» топчет и приводит в дрожь писателя Надеина, а также предается на литературных страницах банальным размышлениям, написанным для него автором, про «родного Сталина» сочиняет беспомощные детские стихи один московский пионер-отличник. Он показывает стихи в школе. И – завертелось колесо! «Система» заработала, и она начинает привычно «выдувать» из вундеркинда, но не просто мыльный пузырь, а что-то вроде очередной Мамлакат. Юный пионер не без удовольствия уже ездит в составе «приветственной бригады» на «роскошном черном „ЗИСе“». Так бы, глядишь, со временем ездил и в составе какой-нибудь «правительственной делегации», но что-то дает в системе сбой… Из «повествования» не ясно, что именно. Однако, судя по времени действия, юный пиит просто лишился своей «Фелицы» – ведь реальный Сталин как раз в изображаемые дни умер! «Испортил песню», как говаривал известный герой М. Горького.
Судить же о том, как в произведении обстоит с художественностью, – в конечном итоге все-таки дело читателя. Не станем ему мешать.
«Два рассказа» Вяч. Пьецуха (Октябрь. – 1998. – № 9) – еще один шарж на реальность, художественная мотивировка которого также неясна. По правде сказать, эти творения довольно известного писателя («Паскалеведение на ночь глядя» и «Кончина и комментарии») особого читательского восторга у автора этого учебного пособия не вызвали. Обычно подобные зарисовки все-таки остаются в личной писательской лаборатории, то бишь в письменном столе. Невнятное, не имеющее четкой смысловой «фокусировки» пропагандистское иронизирование над так называемым «советским менталитетом» (которое у читателей давно навязло в зубах) и одновременно иронизирование над христианскими представлениями о грехе, смерти, воскресении, аде и рае (которое попросту не очень уместно). В первом рассказе можно усмотреть попытку пародии на какие-то дискуссии философов-материалистов, во втором, содержащем вариации на тему первого, герой по имени Иван Иванович Озеркан вопреки материализму попадает на тот свет. Но «ад» оказывается чем-то вроде пресловутого «сталинского» исправительно-трудового лагеря, за забором которого, насколько можно понять, автор поместил некую пародию на рай… Писатели, кстати, тоже томятся в аду – в аду легковесной пьецуховой иронии, ибо, как говорится в «Кончине и комментариях», «писательское занятие само по себе грешно». В случае с «Двумя рассказами» и их автором оно, пожалуй, так и есть. Кстати, потребность при всяком упоминании Бога и греха издевательски загоготать – не это ли как раз черта (и черта непривлекательная) пародируемого В. Пьецухом менталитета? Ирония, гротеск – стихии, не чуждые литературе великого Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Булгакова. Но дело, вероятно, в том, на каком уровне человек иронизирует, и в том вообще, что это за ирония. К тому же есть вещи, которыми не шутят, и есть вещи, над которыми просто лучше не шутить.
* * *
Теперь уместно «по контрасту» переключиться на произведения, составляющие не литературный курьез, как, по большому счету, вышерассмотренное, а гордость художественной литературы 90-х. Как правило, их авторы узнаются, что называется, с первого взгляда. Причина этого коренится в том, что «у всякого великого писателя свой слог (стиль в узком прямом смысле. – Ю. М.)… слог делится на столько родов, сколько есть на свете великих или, по крайней мере, сильно даровитых писателей. По почерку узнают руку человека… – по слогу узнают великого писателя… Если у писателя нет никакого слога, он может писать самым превосходным языком, и все-таки неопределенность и – ее необходимое следствие – многословие будут придавать его сочинениям характер болтовни… Если у писателя есть слог, его эпитет резко определителей, каждое слово стоит на своем месте, и в немногих словах схватывается мысль, по объему требующая многих слов»[4].
Перейдем же к нынешнему творчеству крупнейших писателей, завоевавших литературное признание в предыдущие десятилетия.
«ПИРАМИДА» ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА
Прежде всего логично обратиться к последнему произведению Леонида Леонова – его роману «Пирамида», опубликованному в 1994 году и имеющему жанровый подзаголовок «роман-наваждение в трех частях».
Леонов Леонид Максимович (1899–1994) – прозаик, драматург, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, автор романов «Вор» (1928), «Соть» (1931), «Русский лес» (1954) ими. др.
В предисловии к этой публикации (от 24 марта 1994 года) сам Леонов говорил: «Не рассчитывая в оставшиеся сроки завершить свою последнюю книгу, автор принял совет друзей публиковать ее в нынешнем состоянии. Спешность решенья диктуется близостью самого грозного из всех когда-либо пережитых нами потрясений – вероисповедных, этнических и социальных, – и уже заключительного для землян вообще. Событийная, все нарастающая жуть уходящего века позволяет истолковать его как вступление к возрастному эпилогу человечества: стареют и звезды».
В сюжетно-образном плане роман как будто выглядит, особенно на первых порах, по-своему традиционным, провоцирующим наглядные аналогии с некоторыми другими произведениями русской литературы XX века, прежде всего с «Мастером и Маргаритой» М. Булгакова. В самом деле, сюжет его начинается в Москве конца 30-х годов. В качестве главного героя выступает посланный в наш мир ангел (на Земле он живет в человеческом обличье и даже под фамилией Дымков); здесь же и дьявол во плоти – под именем профессора Шатаницкого, «адская дыра» которого размещается «на шестом этаже засекреченного института в длинном коридоре с книжными шкафами»… Однако по мере знакомства с произведением становится ясно, что дальше общих совпадений дело не идет. Содержание «Пирамиды», пожалуй, несколько философски-громоздко, но совершенно оригинально.
Первые строки рассказчик посвящает тому, как в конце 30-х, после премьеры одной своей «опальной пьесы», ждал «наихудших последствий» и написал уже объяснительное «письмо вождю». Но устав от напряженного ожидания «стука в дверь», отправился однажды «на вылазку» и попал на Старо-Федосеевское кладбище. В кладбищенском храме, куда он случайно забрел, подходила к концу Всенощная.
«Поющая девочка на клиросе, – сообщает рассказчик, – сразу привлекла мое вниманье. Худенькая и простенькая, она могла показаться дурнушкой, не мне однако. Сияние пылающих свечей поблизости придавало юной певице призрачную ореольность, усиленную наброшенным с затылка газовым шарфиком. Кроме того, во всем ее облике читалась та кроткая, со скорбной морщинкой у рта отрешенность от действительности, возмещаемая ранним прозрением вещей, недоступных ее ровесницам, что в простонародной среде всегда служила приметой особого благоволения небес, а в науке – проявлением душевного расстройства. Время от времени, склонив голову на бочок, она не по возрасту озабоченно внимала кому-то прямо перед собою, и я осторожно сменил место – узнать, кто ее незримый собеседник».
Девочку зовут Дуня, она дочь местного священника о. Матвея Лоскутова. А ее собеседником оказывается… сошедший с церковной фрески ангел. И вот автор принимается за это новое повествование, отложив другие замыслы, пока «через кончик пера, как по трапу, не сойдет на бумагу скромная, с веснушками и в ситцевом платьице, снаружи ничем для глаза не примечательная девочка со старо-федосеевской окраины».
Перед художником «смутная, пока столь заманчивая на дальнем прицеле и, оказалось впоследствии, неосуществимая тема размером в небо и емкостью эпилога к Апокалипсису. Мне предстояло уточнить трагедийную подоплеку и космические циклы большого Бытия, служившие ориентирами нашего исторического местопребывания, чтобы примириться с неизбежностью утрат и разочарований, ибо здесь с моей болью обитал я.
Хмурое небо конца тридцатых годов со зловещими тучками еще худших потрясений на горизонте не располагало к живописанию подлинной, тогдашней действительности, полностью осознанной современниками лишь к концу столетия».
Сложность опубликованного произведения соразмерна сложности этой «неосуществимой темы». Над «Пирамидой» много предстоит размышлять и спорить литературоведам и критикам. Они уже этим занимаются, причем некоторые люди, не избывшие «комсомольский задор» или желающие показать себя «правовернее римского папы», успели обвинить роман писателя в «сатанизме» (как доброхоты делают это и с булгаковским «Мастером и Маргаритой»)…
Дело в том, что среди авторов, пишущих о литературе в наши дни, встречаются несамостоятельные умы, безусловно, испытывающие неосознанную тоску по теоретической опоре, которую ранее они или их учителя и предшественники обретали в «марксистско-ленинской методологии». В поисках какой-то иной, новой, авторитетной опоры или подпорки они обращаются, что вполне объяснимо, к православию, к святоотеческому наследию, понятому и примененному, однако, чисто светским, мирским образом. Православное христианство и богословие не есть теория литературы. Более того, будучи приучены прежней методологией непременно бороться с узко понятым «инакомыслием», они пытаются делать это и сейчас, уже с новых позиций. Бывало, такое делалось от имени партии и все того же комсомола, теперь, получается, отдельные частные лица полагают правомочным творить сие от имени церкви. (Впрочем, Н. С. Лесков подобное занятие еще в XIX веке не без едкости называл «священноябедничеством».) Умолчать о сиих «пионерах» и «комсомольцах» было бы неверно, так как они, как правило, обладают кандидатскими степенями, да и не только кандидатскими. При этом заметим в скобках, что поскольку церковь заведомо никого из них на этакую «духовную брань» официально отнюдь не уполномочивала и не благословляла, постольку тема гордыни и все, что из нее вытекает, напрашиваются сами собой. Более того, свои личные мнения о православии и его идеях подразумеваемые авторы порой выдают, да и искренне принимают, за сами эти идеи, из чего вытекает еще ряд понятных следствий… Не хотелось бы отвлекаться на подробное обсуждение такого полного отсебятины «конфессионального» подхода к «Мастеру и Маргарите» и «Пирамиде». Напомним лишь элементарное.
Так, некорректно приписывать писателю мысли его литературных героев – герой может высказывать и нечто противоположное взглядам автора. Например, в первой части «Пирамиды» есть подлинно трагическая сцена. Бывший дьякон Никон Аблаев, затравленный «атеистическими» подручными Шатаницкого, дает им согласие «на большом рабочем собрании» публично отречься от веры. Затем он сообщает о своем грехе священнику о. Матвею, а тот неожиданно говорит дьякону о своем грехе – явно апокрифическом по происхождению личном понимании сути «голгофского подвига» Иисуса Христа на Земле. Или далее ангел Дымков подробно излагает студенту Никанору сложную картину мироустройства. Затем Никанор пересказывает услышанное повествователю, писателю Леониду Максимовичу. Тот в свою очередь сообщает все читателю, сетуя на неизбежные искажения первоначального смысла и вследствие двойной передачи, и по причине недопонимания юношей Никанором услышанного (у него «половина улетучилась из памяти, а сохранившаяся успела подернуться налетом отсебятины»)… В итоге в книге развернута картина мироздания, рядом моментов отличающаяся и от данных современной науки, и от православно-христианского ее понимания. Или еще пример: некий «старик Дюрсо», он же Бамбаласки – один из земных искусителей ангела Дымкова, – выражает мнение о невозможности Божественного чуда. Это снова отнюдь не голос автора, а голос его персонажа.
Такого рода сцены, повороты сюжета и персонажи естественны для художественного произведения. И уж вовсе неуместно критику или литературоведу пытаться осуждать «с позиций православия» книги, которые никогда не осуждала и не выказывает намерения осуждать церковь. Все те же «Мастер и Маргарита» и «Пирамида» не одиноки в том, что содержат художественное изображение «дьяволиады» и всякого рода относящихся сюда смежных явлений и фигур. Для полноты картины давайте уж тогда атаковать произведения Антония Погорельского, Ореста Сомова, Владимира Федоровича Одоевского, Алексея Константиновича Толстого и многих других русских писателей XIX века. Да что там – «Пиковую даму» Александра Сергеевича Пушкина, «Майскую ночь», «Ночь перед Рождеством», «Портрет» и вообще добрую половину произведений Николая Васильевича Гоголя, целый ряд повестей Ивана Сергеевича Тургенева («Призраки», «Странная история», «Клара Милич» и др.), «На ножах» и «Белого орла» Николая Семеновича Лескова… Типологически же такие осуждения более всего напоминают известные порывы вульгарных социологистов 20-х годов осуждать те или иные произведения «с позиций марксизма».
Не дерзая со своим ограниченным личным, мирским и светским, жизненным кругозором ответно вещать «с позиций православия», позволим себе просто напомнить читателю беседу «К юношам» свт. Василия Великого. Излагаемое им (именно православное) отношение к художественным произведениям, несомненно, весьма полезно знать. Так вот, имея в виду произведения греческих и римских (языческих) писателей, он говорит, что «когда пересказывают вам деяния или изречения мужей добрых, надобно их любить, соревновать им и, как можно, стараться быть такими же», но зато «когда доходит… речь до людей злонравных, должно избегать подражания сему…», так что, «собрав из сих произведений, что нам свойственно и сродно с истиною, остальное будем проходить мимо». «И как срывая цветы с розового куста, избегаем шипов, – заканчивает свт. Василий Великий, – так и в сих сочинениях, воспользовавшись полезным, будем остерегаться вредного»[5].
Если так удается обходиться даже с творчеством древних язычников, то уж в произведениях русских писателей, великих и просто талантливых, тем более можно и должно находить полезное и родственное истине.
Итак, последний роман Л. Леонова будит страсти… Тем важнее трезво и спокойно анализировать его органичными для литературоведения филологическими методами. Эта книга требует отдельного обстоятельнейшего разговора, и здесь укажем лишь на некоторые узловые моменты ее сюжетно-образной структуры.
Вначале Дуня и Дымков задумывают вершить на Земле добрые дела «посредством сверхъестественного вмешательства», т. е. чуда, на которое герой способен как ангел. «Чудо нужно людям как хлеб и воздух, – говорит повествователь, – они чахнут без чуда… Чудо – это когда не знаешь, как это сделано». Однако Дуня решает посоветоваться с отцом:
«– Сама по себе затея похвальная, – заговорил о. Матвей, сокрушенно опуская взор. – Но ведь если дело доброе – значит справедливое, а справедливое – то значит поровну, а коли поровну – враз они привыкнут, а стоит попривыкнуть – опять за бунт да богохульство примутся…».
Между тем Дымков куда-то пропал, и лишь позже выяснилось, что он встретил «старика Дюрсо», который посоветовал ему «развернуть дарование» – делать чудеса в цирке, где они будут восприниматься как ловкие фокусы «без риска в трибунал». Тем временем беды, за которыми угадываются козни Шатаницкого и его свиты, одна за другой обрушиваются на семью священника Лоскутова. Тот даже пытается, спасая семью, исчезнуть, пойти в странники. Сама логика изображаемой эпохи быстро пресекает этот порыв, однако в своих странствиях о. Матвей успевает узнать истинно добрых русских людей – горбуна Алешу и его мать. На фоне этих бед развертывается автономная сюжетная линия гонителя семьи фининспектора Гаврилова и его дяди, бывшего полицейского провокатора.
Роман недоработан автором, о чем успел сказать и сам Леонов, – это заметно по слабой взаимосвязанности некоторых линий, механической компоновке ряда глав, некоторой перегруженности яркой и самобытной леоновской фразы, неизменной витиеватости прямой речи его героев, затянутости их монологов, подолгу не прерываемых комментирующими репликами повествователя, и иным подобным признакам. Однако прекрасно выписаны разноречивые характеры – кроме названных выше персонажей, это, например, старший сын Лоскутова Вадим, профессор Филуметьев, комиссар Тимофей Скуднов, Сталин, а с другой стороны, начинающая «светская львица» Юлия Бамбаласки, ее приятель режиссер Сорокин и др.
В отличие от М. Булгакова, который в «Мастере и Маргарите» неоднократно акцентирует внимание на опасной притягательности сатанинского Зла, привлекающего некоторых своей экстравагантностью и эффектами (образы Воланда и членов его свиты), Л. Леонов изображает страшное страшным. Впрочем, скучающая Юлия, которая склонна разыгрывать из себя оригиналку, пытается флиртовать с ангелом Дымковым, но при этом не прочь сблизиться и с его духовными врагами. По-видимому, они ей кажутся романтичнее. «Наверное, у вас имеются интересные знакомства и в кругу дьяволов?.. – вопрошает она его однажды. – Судя по литературным источникам, эти адские господа всегда такие целеустремленные, мускулистые, волевые… в противоположность вам!»
В прямое идейное столкновение с «профессором атеизма» Шатаницким в «Пирамиде» вступает о. Матвей Лоскутов. В романе он вряд ли правильный и точный выразитель православно-христианского вероучения, которому часто пытается давать самостоятельное истолкование в русском простонародном духе. Зато это человек инстинктивно, но точно чувствующий противоположное – где кроется, в чем заключено сатанинское Зло – и смело защищающий от него позиции Добра. Отец Матвей сразу дает понять заявившемуся к нему якобы для некоего диспута «профессору», что догадывается об его истинной сути:
«Небось сами замечали, у всех у вас, у атеистов, что-то общее в лице написано… из всех вас он выглядывает, как из телефонной будки». Начинается долгий, прямой со стороны священника и уклончивый со стороны Шатаницкого, разговор на темы веры и неверия. «Профессору» удается вначале отвлечь наблюдательного собеседника рассказом, как он когда-то «под видом рыбака» наблюдал на Тивериадском озере за действиями «его» (то есть Христа). Однако в конце концов о. Матвей недвусмысленно требует от него открыться, кто он есть на самом деле: «…Потрудитесь хотя бы раздельно назвать три загадочные буквы, коими обозначается личность обсуждаемого лица, точнее занимаемая им должность в мироздании!..»
Ответ гостя покончил с сомнениями:
«– Хочешь гортань мне сжечь, честной отец? – ощерясь, словно ему нечто прищемили, просипел Шатаницкий. ‹…›
– Немедленно изыди из моей убогой храмины, пока я не шарахнул тебя чем попало по ногам, треклятый, – сиплым шепотом вскричал словно из столбняка пробудившийся хозяин, наугад шаря вкруг себя не иначе как бутыль с крещенской водой, оставшуюся дома на подоконнике».
Силы, олицетворяемые Шатаницким, то и дело с невероятным нахальством и хитростью вмешиваются в идущие в стране общественные преобразования, небезуспешно стараясь провоцировать иррациональные жестокости и вообще направлять ход дел в нужное им русло. Намереваясь вершить одно, страна фактически постоянно делает нечто другое и даже прямо противоположное. Ближайший соратник Сталина Скуднов обладал совестью и разумом, тайно поддерживал своих земляков Лоскутовых, а затем и Дымкова (питая слабость к человеческой «необыкновенности»). Но вот всесильный комиссар по проискам названных сил при вероятном участии другого сталинского приближенного, некоего Никиты, обречен на казнь по ложному обвинению. Отцу Матвею случайно довелось видеть его арест и «узнать того сурового солдата Первой мировой войны, шибко поседевшего за истекшие бурные годы. Даже с поникшей головой, Тимофей Скуднов шагал с большим достоинством, как бы в раздумье…».
Поэт Вадим Лоскутов искренне преклоняется перед вождем Сталиным. При этом его чувства не так уж слепо-фанатичны и наивны: в разговоре с Никанором Вадим подробнейшим образом философски обосновывает свое личное понимание величия исторической миссии вождя совершившей революцию страны. С его взглядами можно не соглашаться, и их один за другим стремится исчерпывающе оспорить Никанор. Но Вадим последователен и, что несомненно, субъективно движим желанием добра человечеству. Однако те же беспощадные силы вскоре срабатывают с обычной своей коварной неотразимостью: Вадима арестовывают, потом он погибает в лагере «при попытке к бегству», и Сталин, сам того не зная, лишается еще одного из умнейших, а главное, честнейших своих сторонников на стезе построения нового общества… Интересно и важно для понимания леоновской трактовки образа Хозяина, что именно Сталин, с ног до головы опутанный многочисленными Шатаницкими и умело подталкиваемый ими на все новые бессмысленно-жестокие деяния, не верящий уже кажется никому из людей, словно смутно догадываясь о том, кем окружен, и пробуя освободиться, в конце концов пытается сознательно искать опоры в ангеле Дымкове. Он вызывает его к себе и пускается в подробнейшие откровения, не лишенные весьма здравых мыслей. Например:
«Отвергая роль гениальной личности в истории, с упором на безликое стандартное большинство, мы не учитываем удельный вес другой фланговой крайности, присутствующей там в гораздо большем проценте. Имеется в виду так называемая бездарность, чаще всего кристаллизующаяся в понятии круглого дурака».
Сталин гордится историческим прошлым возглавляемой им державы:
«Любой меч длиною от Балтики до Тихого океана сломился бы на первом же полувзмахе, кабы не секретная присадка к русской стали. ‹…› В преизбытке владея землицей по самый Уральский хребет, на кой черт без госпонуждения сквозь таежные топи и кучи гнуса все глубже забирались в Сибирь всякие Хабаровы да Ермаки? ‹…› Не исключено и пытливое, Колумбово любознайство – откуда солнце всходит, куда девается? Но истинное объяснение тяге людской в смертельную неизвестность надо искать в чем-то другом… Наконец, что связывало в единую волю бородатый, лапотно-кольчужный сброд с опознавательным паролем в виде медного креста на гайтане?»
В заключение Сталин предлагает Дымкову «подключить вас, таинственного пришельца неизвестно откуда, к пошатнувшейся нашей действительности», что означало, как поясняет повествователь, приглашение «к совместной отныне деятельности на благо человечества». Правда, Хозяин тут же весьма неудачно «успокаивает» ангела, что три информированных об этой готовящейся деятельности посторонних лица «через недельку» в целях укрытия государственных секретов умрут от «неведомых причин» (сославшись при этом, что именно такова древняя восточная практика сохранения подобных секретов), затем расстается с потрясенным ангелом. Их сотрудничество не состоялось: Дымков вскоре покидает нашу планету.
Важно помнить, что сюжетные перипетии, подобные затронутым, вписаны автором в эсхатологический контекст, переплетены с мотивами Апокалипсиса, с личными раздумьями о близости жизненного финала человечества, о миссии человечества во Вселенной и иными подобными сложнейшими вопросами. Повторяем, над последним произведением Леонида Максимовича Леонова литературоведам работать и работать. Тем более что в опубликованной редакции в текст не вошли многие подготовленные автором материалы.
Много можно было бы высказать соображений по поводу названия книги. Форму пирамиды имеют культовые сооружения и гробницы древнейших народов. В Подмосковье ныне, как известно, ученым А. Голодом в экспериментальных целях воздвигнуто на протяжении 90-х годов несколько пирамид (одна из них – возле Рижского шоссе). Энтузиастом изучения происходящих внутри пирамиды необъяснимых явлений выступает космонавт Г. Гречко. О загадочных свойствах пирамиды, внутри которой, по некоторым данным, осуществляются пространственные перестройки, изменяются свойства ряда веществ и происходит много иных интересных процессов, уже были вызывающие интерес публикации. Хочется верить, что тут не шарлатанство. Таким образом символика названия романа неожиданно «прорастает» даже в таинственные явления реального мира…
Но главное то, что «Пирамида» возвышается в нашей литературе 90-х годов XX века, служа в ней мощным одухотворяющим фактором и достойно венчая земной и творческий путь одного из величайших русских художников столетия.
ВАЛЕНТИН РАСПУТИН СЕГОДНЯ
Из ныне живущих писателей автор этого пособия как читатель никого не смог бы поставить выше Валентина Распутина, рассказ которого «В ту же землю…» (Наш современник. – 1995. – № 8) – как «маленькая трагедия» все из того же нашего сегодня. Тут в центре повествования смерть человеческая.
Распутин Валентин Григорьевич (род. в 1937 г.) – прозаик, автор романов и повестей «Живи и помни» (1974), «Прощание с Матёрой» (1976), «Пожар» (1985) и др., лауреат Государственной премии СССР (1977). Живет в Иркутске.
В пятиэтажке на улице загазованного выше всякого разумения промышленного сибирского города умирает старушка, приехавшая из деревни к родне пережить зиму, и немолодая дочь, уже два месяца безработная, не имея средств, решает похоронить ее тайком, вне кладбища. Какая жуть, скажете вы. Но все мы знаем, что в нынешней, порой нечеловеческой жизни подобной и иной жути случается немало. Нашлись два человека, которые поняли безвыходное положение несчастной дочери и решили ей помочь. Совершенно незнакомый парень, представившийся Серегой, выдалбливает в сосняке за городом страшную яму, потом двое мужчин вывозят старушку на обыкновенной «Ниве» и помогают дочери похоронить ее.
«… – А что, – громко и облегченно говорил Серега, со стаканом водки в руке оглядывая оставляемый холмик. – Хоронят же при дорогах шоферов… Какая разница – где?! В ту же землю…»
По весне женщина навестила могилу матери на лесной полянке «и ахнула: по обе стороны от материнской могилы вздымались еще два холмика». Но главное потрясение было впереди. Один из двух выручивших ее тогда мужчин в ответ на ее расспросы «глухо сказал», что рядом с матерью похоронен и тот самый Серега. Оказывается, простецки назвавшийся так, одним именем, парень был офицером «органов»: «Внедрили его к бандитам в охрану. И сами же выдали на растерзание».
Ошеломленная женщина пытается что-то еще выяснять у его друга.
«– Я тебе скажу, чем они нас взяли, – не отвечая, взялся он рассуждать. – Подлостью, бесстыдством, каинством. Против этого оружия нет. Нашли народ, который беззащитен против этого».
В собрании сочинений В. Распутина наберется немного томов. Он пишет кратко, но смысловая емкость его прозы всегда впечатляюща. Когда он пишет повесть, ее так и хочется назвать романом. Этот рассказ содержателен, как крупнообъемная повесть. Никогда Распутин-стилист не интересовался, хоть и коренной сибиряк, местной экзотикой, всякими бурыми медведями, бурными реками. Он если и удивлял читателя, то не внешними эффектами, а иным – силой таланта, энергией мысли.
В годы «перестройки» и в начале 90-х Распутин много работал в публицистике, а это побуждало досужих людей ко всякого рода «прогнозам». Но писатель из прозы не ушел. Меня лично всегда поражала наивность чьих-то явных надежд на прекращение им художественного творчества. (В 90-е годы бросили творчество («исписались») некоторые авторы невысокого полета, для которых литература была просто формой нетрудного и достаточно обильного заработка. Как только литературная работа стала совершенно бездоходной, она утратила для этих лиц свой основной побудительный стимул и лишилась в их глазах смысла. Как правило, они «нашли себя» в коммерческих структурах либо в иных нетворческих сферах деятельности.) Ведь Валентин Распутин не занимается «сочинительством». Он лишь необыкновенно талантливо рассказывает о жизни страны и того народа, частицу которого составляет.
В 1996 году В. Распутин получил престижную ныне у писателей премию конкурса «Москва – Пенне». Его соперниками в финале оказались Л. Петрушевская и Ф. Искандер, представившие толстые книги в ярких обложках. Распутин новыми книгами тогда не располагал и на конкурс предъявил журнальные ксерокопии двух рассказов – «В ту же землю…» и «В больнице». Победили именно его рассказы.
Герой «В больнице» (Наш современник. – 1995. – № 4) – пенсионер Алексей Петрович, попавший в больницу для повторной тяжелой операции. Операция не состоялась: организм все-таки переборол недуг. Но, залежавшись в больнице, герой о многом передумал и многое увидел. Рассказ, с одной стороны, глубоко психологичен. Показана душа человека в опасной для его жизни ситуации, открывающаяся той гранью, которую он и сам в себе не знал. С другой стороны, это еще один распутинский рассказ о России «катастрофических» 90-х годов. Когда-нибудь в будущем читатель, вероятно, не без удивления станет воспринимать неотступно трагедийные интонации произведений лучших русских писателей нашего времени – если Бог приведет ему жить в эпоху спокойную и благополучную. Но нашему современнику эти интонации понятны до боли. Понятны и постоянные, на грани ссоры прения Алексея Петровича с соседом по палате, ожидающим в нервно-тоскливой «маете» операции. Этот человек, в прошлом большой начальник и член обкома, ныне кипит аффектированной ненавистью к «старому», без конца «смолит» изрыгающий примитивную пропаганду и рекламную чушь телевизор, точно грудь материнскую, сосет «мудрость» нынешних газет, а взгляды Алексея Петровича с идейной четкостью именует «вражеской пропагандой». Тот отвечает:
«– Что выходит: вы воевали, имели крупную должность, были своим в местной партийной верхушке, вложили в старую систему немало сил… как же получилось, что вы ее на дух не терпите, будто вы – это не вы, а что-то, что заново родилось?
Сосед перебил решительно:
– Я за Россию воевал, Россию строил, а не старую систему.
– За Россию, – согласился Алексей Петрович и шумно выдохнул. – Вы воевали за нее, да… Но почему тогда, когда эти бесы из научных институтов, – Алексей Петрович, перегнувшись, далеко вымахнул в сторону телевизора руку, – захватили говорильню и принялись издеваться над нами… и над вами в том числе… принялись утверждать, что жертва была напрасной и победа была не нужна… почему вы заслушались, как дитя, и поверили? Вы Россию защищали…
– Я и сейчас ее защищаю.
– Господь с вами! Если бы на фронте вас убедили развернуть оружие… за Россию… вы бы поверили? Хотя– что я?! Бывало и это. Все уже бывало. Вот это и страшно, что ничему нас научить нельзя. Но если вы не развернули оружие там, вы должны были знать, где Россия. А они развернули. – Снова выпад в сторону телевизора. – И давай из всех батарей поливать Россию дерьмом, заводить в ней порядки, которых тут отродясь не водилось, натягивать чужую шкуру. Неужели вас в сердце ни разу не кольнуло, почему, по какой-такой причине поносят так русских? В России. Вы ведь русский, Антон Ильич?
– Не видно, что ли? – сосед смотрел на Алексея Петровича исподлобья и сказал холодно, отчужденно.
– Пока видно. Есть же у нас свои черты. Но скоро их сострогают. Скажите, какие же мы с вами русские, если дали так себя закружить? Хоть чутье полагается иметь, если нет ничего другого. Для вас Россия в одной стороне, для меня в другой. Нет, не там, где мы с вами были при коммунизме. Но и не там, где вы видите, совсем она не там… Нет, Антон Ильич, это не Россия. Избави Бог!»
Вопросы, которые ставит Алексей Петрович, в сходной форме могли бы прозвучать и в XIX веке, во времена Достоевского, и в 20-е – первой половине 30-х годов нынешнего века. При всей неожиданной злободневности обсуждаемая тема актуальна для самых разных времен истории Отечества. И потому это тема настоящей литературы, одна из тех тем, которые будут свежо звучать и через многие десятилетия.
Невозможно пройти мимо еще одного сюжетного штриха. Гуляя в больничном парке, Алексей Петрович нечаянно слышит разговор юной пары. Она – пациентка больницы – волнуется за своего парня, предполагая, что тот по какой-то причине (обозначенной в рассказе лишь намеком) скрывается на церковном подворье:
«– Ты скрываешься?
– Нет, – быстро ответил он. – Это пусть они скрываются. Я на своей земле».
В «Новой профессии» Валентина Распутина (Наш современник. – 1998. – № 7) главного героя зовут Алеша. Имя, в русской литературе обладающее весьма выразительной символикой. Когда-то быстро шедший вверх ученый-физик, которого наперебой переманивали на работу из его лаборатории к себе советские оборонные ведомства, он в наши времена зарабатывает на жизнь произнесением витиеватых тостов на ошалело пышных «новорусских» – да притом еще сибирских – свадьбах. Проживает он теперь в грязной комнатке в общежитии, поскольку из квартиры бывшая жена, которую он туда ввел, вытеснила его, как лиса зайца. Надежды на обретение новой крыши над головой у него нет: ни он сам с его талантами, ни наука нынешним властям не нужны. Теперь в жизни царят невесть откуда взявшиеся толстосумы. Они отчаянно плодятся и размножаются, играя по весне несусветное количество свадеб, из которых каждая тщится затмить другую по размаху:
«В городах, где мало сеют, да много жнут, стало принято теперь играть свадьбы в мае. То и дело кавалькады машин, одна породистей другой, разукрашенных отнятыми у троек дугами, колокольцами и шелковыми разноцветными лентами, звенящими и трепещущими на ходу, да вдобавок еще и кольцами, указывающими, должно быть, на супружескую верность, и куклами, кричащими с лакированных капотов машин, что некому ими играть, – брачные эти кавалькады мчатся к Байкалу, с ревностью сталкиваясь со встречными „поездами“ еще богаче, нарядней, длинней и породистей, мечутся по городу, разметывая по сторонам движение мещан, и, после того, как на Байкале „побрызгают“ из бутылок языческому богу Бурхану, подворачивают к православному храму на венчание. Весь чин венчания выдерживается редко, полномочный человек еще до начала требовательно просит батюшку ускорить „это дело“, а во время обряда делает нетерпеливые знаки, не догадываясь, что до возложения венцов на врачующихся завершить венчание никак нельзя. Торопятся к главному – к столам».
Зачем им Алеша с его застольными сентиментально-философскими притчами? Об этом он сам так сказал однажды своему другу: «Если меня они, на ком клейма негде ставить, если они зовут, значит, Игорь, и они теперешней атмосферой давятся, значит, им кислородная подушка нужна. Хоть в редкие, хоть в святые дни, да нужна».
Мысль понятна. Правда, это лишь слова, сказанные героем о себе. На деле же он, конечно, нужен, так сказать, кому для чего. Кто-то из участников свадебного торжества и впрямь неосознанно «задыхается» (порой от собственной мерзости, надо полагать), кому-то просто приятно пьяно взгрустнуть от красивых слов «интеллигента», а кто-то (из тех, что по наблюдательней) не без удовольствия созерцает «жалкость» красноречивого Алеши – ведь за километр видно, что он ой как не преуспел в сей жизни! Так или иначе, Алеша устраивает на подобных оголтелых свадьбах всякого, кто приобрел в городе популярность. Его зовут на эти сборища регулярно, и он сам столь прочно вошел в новую роль, что ни к какому ученому творчеству, к работе «в стол», по зову сердца, его явно не так уж и тянет. Не стыд кромешный, не вынужденный позор, а – «новая профессия».
Впрочем, читателю самому решать, изображен Валентином Распутиным «брат милосердия» или мягкий по природе человек, легко и без сопротивления примирившийся (если не поладивший) со злом. Написана «Новая профессия» с обычным для замечательного русского писателя мастерством. Много яркой «словесной живописи», разухабисто колоритных картин («алешины» свадьбы, чтобы белый свет удивить, устраиваются нуворишами не только в ресторанах, но и посередь Байкала – на борту теплохода, – и в иных местах, вплоть до самых немыслимых). Есть психологическая проникновенность. Сами же изображаемые времена – в которые талантливый ученый, еще недавно нужный Отечеству, вынужден «переквалифицироваться» в застольного краснобая для темных личностей – иначе как диким историческим зигзагом не назовешь.
Рассказы В. Распутина «Изба» (Роман-газета XXI век. – 1999. – № 1) и «На родине» (Наш современник. – 1999. – № 2) тематически близки его произведениям времен «Прощания с Матёрой», отчасти «Пожару», однако, естественно, интонированы все теми же 90-ми годами. Кроме того, события, связанные с давним уже переселением многих сибирских деревень из-за строительства ГЭС и последующим затоплением родных земель, с небольшой дистанции – в 70-е годы – выглядели в литературе как драма. Теперь же они в полной степени раскрыли свою трагическую сущность. За ними – и погубленная природа, и сломанные судьбы. И писатель видит, а затем рассказывает, к чему через сорок лет привело это волюнтаристское переселение, теперь еще помноженное на наши «новые времена».
«Агафья до затопления нагретого людьми ангарского берега жила в деревне Криволуцкой, километрах в трех от этого поселка, поднятого на елань, куда, кроме Криволуцкой, сгрузили еще пять береговых деревушек. Сгрузили и образовали леспромхоз. К тому времени Агафье было уже за пятьдесят. В Криволуцкой, селенье небольшом, стоящем на правом берегу по песочку чисто и аккуратно, открывающемся с той или другой сторон по Ангаре для взгляда сразу, веселым сбегом, за что и любили Криволуцкую, здесь Агафьин род Вологжиных обосновался с самого начала и прожил два с половиной столетия, пустив корень на полдеревни».
При переселении вдовая одинокая Агафья запоздала с переездом, и в поселке, этой поспешно сваренной начальством сборной солянке, не попала к своим – ее бывшая деревня стала тут Криволуцкой улицей, но места уже не было. Избу поставили к чужим.
«Изба была небольшой, старой, почерневшей и потрескавшейся по сосновым бревнам невеликого охвата, осевшей на левый затененный угол, но оставалось что-то в ее поставе и стати такое, что не позволяло ее назвать избенкой».
Начав рассказывать об избе как реальном жилище конкретной женщины, Распутин понемногу и естественно все более превращает ее в символический образ (обратите внимание на название рассказа), своего рода воплощение «крестьянского космоса». Важны незаметность и ненавязчивость этой происходящей исподволь по ходу повествования метаморфозы. Нечто подобное происходит параллельно с образом хозяйки избы Агафьи. Умирает хозяйка – и универсум пустеет без Человека. Но одновременно этот символический универсум – все та же, реальная, теперь обезлюдевшая, простая деревенская изба. Отныне ей предстоит существовать самостоятельно:
«Без хозяйского догляда жилье стареет быстро – постарела до дряхлости и эта изба с двумя маленькими окнами на восток и двумя на южную сторону, стоящая на пересечении большой улицы и переулка, ведущего к воде, прорытого извилисто канавой и заставленного вдоль заборов поленницами. Постарела и осиротела, ветер дергал отставшие на крыше тесины, наигрывал по углам тоскливыми голосами, жалко скрипела легкая и щелястая дверь в сенцы, которую некому и не для чего было запирать, оконные стекла забило пылью, нежить выглядывала отовсюду-и все же каким-то макаром из последних сил изба держала достоинство и стояла высоконько и подобранно, не дала выхлестать стекла, выломать палисадник с рябиной и черемухой, просторная ограда не зарастала крапивой, все так же, как при хозяйке, лепили ласточки гнезда по застрехам и напевали-наговаривали со сладкими протяжными припевками жизнь под заходящим над водой солнцем».
Изба считается среди окрестных жителей (в конце XX века, в леспромхозе с телевизорами и радио!) местом сверхъестественным:
«Считалось, что за избой доглядывает сама хозяйка, старуха Агафья, что это она и не позволила никому надолго поселиться в своей хоромине. Мнение это, не без оснований державшееся в деревне уже много лет, явившееся чуть ли не сразу же после смерти Агафьи, отпугивало ребятишек, и они в Агафьином дворе не табунились. Не табунились раньше, а теперь и некому табуниться, деревня перестала рожать. Заходили сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда виден был весь скат деревни к воде и все широкое заводье, по теплу старухи, усаживались на низкую и неохватную, вросшую в землю, чурку и сразу оказывались в другом мире (курсив мой. – Ю. М.). ‹…› „Ходила попечалиться к старухе Агафье“, – не скрывали друг перед другом своего гостеванья в заброшенном дворе живые старухи. Ко всем остальным из отстрадовавшегося на земле деревенского народа следовало идти на кладбище, которое и было недалеко, сразу за старым аэродромом, поросшем теперь травиной, а к старухе Агафье в те же ворота, что и при жизни. Почему так сложилось, и сказать нельзя».
Изба действительно неоднократно как бы «удаляет» чужаков, попытавшихся в ней поселиться. Сначала ее решила занять молодая леспромхозовская семья:
«Не слепилось гнездо в Агафьиной избе – ругались, болел парнишка, Вася сломал ногу, притом совершенно по трезвому делу, направляясь к теще за молоком; Стеша давилась воздухом, не могла спать. Съехали. Въехали, не спросившись, и съехали, не поблагодарив, не прибравши за собой, как положено, хлопнув дверью… Вздохнула Агафьина изба, прощаясь, – так тяжко и больно вздохнула, что заскрипели все ее венцы, вся ее изможденная плоть».
Так же, «не спросившись», поселилась затем в пустой избе некая беспутная пара:
«Следующие постояльцы прожили года три. Эти – пили. Пили зло, беспощадно и тихо. Неведомо где провели они первые свои жизни, каждый по отдельности, отвели, должно быть, вторые и третьи, и только после этого судьба столкнула их и направила сюда. На работу их здесь уже не брали, изредка нанимались они то картошку окучивать или копать, то наколотые дрова складывать в поленницы, в пожарных случаях, когда уходит сенокосная страда, зазывали их на гребь. Летом ходили за ягодой и продавали, зимой искали мелких поручений: воды с берега на чай принести, потому что из скважины вода в чае была невкусной, выбросить из стайки из-под коровы шевяки, отгрести снег. На ежедневное истребление зелья заработков от такой работы не могло хватать и в десятой доле – выручал большой пьющий поселок. Тихие, всегда страждущие, безымянные (за неразлучность звали их в насмешку Катя-Ваня), собачьим нюхом они чуяли, где собирается компания, наперечет знали каждого загулявшего, держащегося подальше от дома. Мужики из куража поиздеваются, но нальют, а потом командируют в магазин, и не однажды. На одни бутылки, засеянные на обширных леспромхозовских владениях, выпадали безбедные недели. Летом они собирали их в лесу, на берегу, вокруг клуба, гаража и в особенности много вокруг нижнего склада, куда свозился с лесосек лес. Считалось за последний грех и позор работающему мужику сдавать порожнее стекло, подмигнет он Кате-Ване и ведет разгребать кладовку.
Чем не жизнь! – так и жили Катя с Ваней возле добрых людей, слыли за безвредных, чем-то навсегда испуганных, нуждающихся в сочувствии, доили с краешку, с трех-четырех грядок, Агафьин огород, разобрали у нее на дрова стайки и сенник, и все темнели и темнели из нутра их покорные лица, превращающиеся от постоянного жара в головешки, все мельче, запинистей становился шаг, когда, наваливаясь друг на друга, выкатывались они на улицу. Любое тягло требует отдыха, а это, которому подчинились они, не давало ни дня покоя. Долго такой жизни они выдержать не могли. В ноябрьские праздники, всегда отличающиеся застольным изобилием, но и тем еще, что на них выпадали первые крепкие морозы, воротились Катя с Ваней в Агафьину избушку в беспамятстве и свалились на свои дерюжки. Глухой ночью кто-то из них взялся растапливать печку. Растапливал тоже без памяти, печная дверца потом оказалась распахнутой. Изба загорелась. Не над тем долго судачили затем в поселке, что загорелась, а над тем, что сама же и управилась с огнем. Полностью выгорела заборка, отделявшая кухоньку от прихожей, не уцелела и стоявшая возле нее деревянная кровать. Катю с Ваней нашли в сенцах, едва живых, долго не приходивших в себя от ожогов и хмеля. Они лежали кулями, вытянуто, будто кто волочил их. Из районной больницы они не вернулись».
Обратите внимание, как ненавязчиво и считанными штрихами вписывает Распутин в свое повествование целую отдельную «вставную» историю про этих «Катю-Ваню». Затем делается непринужденный поворот к основной теме.
С тех пор опять Агафьина изба осталась вроде бы пуста. Вроде бы. «Если же кто из приходящих заглядывал в избу, то замечал, что изба прибрана, догляд за ней есть».
В отличие от «мифологического» разворота, который пунктирно намечен в «затексте» рассказа «Изба», «На родине» (подзаголовок «рассказ-быль») тяготеет к документальности, к жанру очерка. Автор после некоторого перерыва в конце 90-х побывал на родине – вернее, в «перенесенном» поселке, который как бы наследует его родному, ныне оказавшемуся под водами поднятой по людской воле и прихоти реки. Наше полное диковин время прибавило к сложностям жизни (так и не устоявшейся за четыре десятка лет) этого искусственного селения свои, новые:
«Из всех старых крепей жизни, которые связывали поселок с государством, с миром, осталась одна. Ходит еще, обегает ангарское заселение, строчит машинный узор с берега на берег „Метеор“, быстроногий теплоход на воздушной подушке. За день из Иркутска добегает до Братска. Прежде бегал каждый день, теперь трижды в неделю. Но и это хорошо. Это даже очень хорошо, большей не надо. И свежий человек откуда прибудет, и свой куда съездит, привезет ворох новостей – не будь этого, закройся вода, и совсем хана. Больного отвезти, письмо получить… но и ничего не получая, ждать, ждать…».
Впрочем, и в документального типа повествовании Валентин Распутин непринужденно мыслит эсхатологическими образами:
«Здесь по сотворенному было второе сотворение мира. Я наизусть мог бы сказать, что тут было в допотопный период – как и где петляла речка при сбеге ее в Ангару, где она намывала песочек, где укрывалась тальником и осокой, с каким звонким и игривым бормотком врывалась в большую воду и метра на два еще торила свою дорожку, пока не сливалась окончательно. А уж после я помню плохо, будто здесь наросла вторичная жизнь, избиравшая своих помников. Теперь, значит, третичная» (курсив мой. – Ю. М.).
Люди бегут в город из этой «третичной» жизни. Как пример того, что она совсем уж безысходна сегодня, рассказывает писатель горькую историю друга своего детства Демьяна Слободчикова, который «до последнего» старался удержаться на родной земле:
«Собравшись переезжать, Демьян переборол свою гордость и обратился ко мне… Он не писал писем, а что нужно было, с кем-нибудь передавал… Два или три миллиона на перевоз… тогда и мелкий счет шел на миллионы. Я и этого не мог выслать. Написал ему, чтобы зашел его сын, оставшийся после армии в городе, месяца через два, что-то у меня наклевывалось…
Кому есть куда бежать – бегут. Это – брошенная земля. Выжатая, ободранная, изуродованная и брошенная. Как сквозь бельмо гляжу я на Демьянов двор, как сквозь бельмо же – на Ангару. Очертания неясные, неживые. Или едва живые, с удаляющейся жизнью».
В преддверии юбилея Пушкина было опубликовано интервью с Валентином Распутиным, которое являет его уже не в писательской роли, а в роли благодарного читателя, чувствующего и все обаяние пушкинского творчества, и великое значение этого творчества для России. Хотелось бы привлечь внимание к одному из его суждений – к ответу на вопрос: «Может ли в обозримом будущем произойти такая переоценка ценностей, что подавляющее число читателей перестанет улавливать особую связь Пушкина и России?»
Распутин сказал следующее: «Думаю, что может, как это произошло в 60-70-х годах прошлого столетия вплоть до открытия памятника Пушкину в Москве, когда первый наш национальный поэт во всех смыслах поставлен был на подобающее ему место. И как это произошло в 20-х годах века нынешнего, когда возобладало писаревское: „Сапоги выше Пушкина“. Предстоящими юбилейными торжествами 99-го года произойдет закрытие XX века, который при всех неизбежных оговорках все-таки оставался культурным и почитал великие имена. С началом нового тысячелетия, когда все народы, похоже, придут в неизбежное волнение, чтобы утвердиться в новом положении, вместе с общим падением культуры может случиться и охлаждение к Пушкину. Даже и при нормальном порядке вещей это как бы предопределено тем напряженным вниманием к Пушкину, которое достигнет пика в год его 200-летия: после воодушевления и подъема – спад. Дай Бог, чтобы он оказался недолгим и не вышел из границ спокойного, тихого понимания Пушкина».
Это мудрые слова. Хотелось бы, конечно, чтобы такой невеселый, но философски взвешенный вероятностный прогноз не воплотился в реальность – как в отношении персонально Пушкина, так и в отношении предположительно ожидаемого «общего падения культуры» (в России отчасти уже происшедшего и, как складывается впечатление и о чем уже упоминалось, преднамеренно провоцируемого далее многими лицами и силами). Однако вероятность того, о чем сказал Распутин, есть, она не мала – и куда разумнее стоять прямо, встречая лицом к лицу эту неутешительную перспективу и готовясь противопоставить ей что-то обдуманное, чем прятать голову под крыло.
РОССИЯ ГЛАЗАМИ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА
Русская деревня образца середины 90-х годов, старик-крестьянин с местным ветеринаром судачат поутру о всякой всячине. Разбалагурившись, ветеринар пускается уверять, что в Череповце-де видел, как в магазинах уже в открытую продают народонаселению самогонные аппараты. Старик мнется, не зная, верить ли, – он привык ждать от начальства самых каверзных премудростей, но такое новшество до того дивно, что пока не укладывается в его отсталом колхозном сознании… Появляются новые слушатели, и ветеринар пускает еще одну лихую байку – о том, что «нонче велено» сдавать государству за недостатком коровьего молока бабье: «Так и написано: все бабы, которые не девки, обязаны доиться, иначе хлеб будет не триста рублей буханка, а шестьсот» (разговор идет во времена, когда еще не была проведена деноминация рубля). Видимо, с женскими удоями дело не пошло, ибо стоимость этой самой буханки уже «достигла», как известно, пяти тысяч – если применить тогдашнюю систему счета.
Инкогнито цитируемого автора сейчас раскроем, а пока выскажемся вот о чем. От многих художественных произведений 90-х, в том числе и талантливых, исходит как бы нервный хохоток – смеяться читателю предлагают и над страшным, и над мерзким. Но уместен ли тут смех? Чтобы ответить правильно, надо помнить, что мы сегодня вовлечены в дикий исторический зигзаг, в нелепые социальные потрясения, уже переломавшие множество судеб и принесшие неисчислимые беды. С литературой в такой ситуации могло бы произойти и самое худшее – то, о чем прозорливо писал когда-то отличный прозаик и глубокий философ князь В. Ф. Одоевский: «Дух, потрясенный внешними обстоятельствами, видит самого себя в искаженном виде и думает, что это состояние есть нормальное»[6]. Слава Богу, подобного с нашей литературой пока не случилось. Изображая дикость, она не принимает ее за норму. Она над ней смеется. То есть на свой лад все-таки противоборствует злу и безобразию.
Упомянутые разговоры ветеринара с крестьянином – из рассказа Василия Белова «У котла» (Москва. – 1995. – № 3).
Белов Василий Иванович (род. в 1932 г.) – прозаик, поэт, автор повести «Привычное дело» (1966), романов «Кануны» (1974–1981), «Все впереди» (1987) и др. Живет в Вологде.
Именно потому, что Белов – один из сильнейших наших прозаиков, я и воспользовался приведенным примером как одной из показательных иллюстраций к литературному Сегодня. Вообще характерный юмор никогда не покидал В. Белова. Но сейчас его герои, в основном деревенские старики и старухи, пожалуй, особенно много отпускают «соленых» шуток, рассказывают и выслушивают анекдотов, связанных и с современностью, и просто с житьем-бытьем. Впрочем, порой в рассказе без этого и нельзя – иначе изображаемое самой сутью своей придало бы повествованию надрывно-минорную тональность.
Молодой тракторист Валентин катастрофически спивается. Проснувшись однажды в коровнике у котла парового отопления, он начинает видеть галлюцинации. Утром в коровник, к котловому теплу, собираются понемногу односельчане. Там и балагурит собутыльник Валентина ветеринар Туляков. Тут же чеченская пара – некие «беженцы», которые взялись по-фермерски «обряжать двадцать коров», не умея при этом их доить. Эта пара дичится, от добродушных попыток вовлечь себя в беседу уклоняется. А разговоры текут от темы к теме, начиная с персон всенародно избранных начальников и их сравнительных достоинств и кончая лейкозом, невиданным прежде, а теперь поражающим колхозных коров одну за другой. Тут и баба Марья с ее неотступной докукой к ветеринару – чтоб отпилил корове рог, начинающий упираться своим изгибом животному в голову. Тут и ее дочь Геля, доярка золотые руки, которая одна за всех обихаживает ныне коровью ферму, попутно пытаясь и наезжую чеченку все-таки учить доить корову. Под занавес появляется торжествующий Валентин, рыскавший по деревне в поисках спиртного. Он явно решил клином выбивать клин белой горячки. В руках у Валентина бутылка «ненашего» спирта «Рояль», которым он и намерен немедленно «нароялиться» (так, оказывается, говорят теперь в деревне).
Как выразительный штрих, сразу очерчивающий уклад и порядок, давно уже поселившиеся в изображаемой деревеньке и не только в ней, писатель вводит такую деталь, связанную с местом действия:
«В теплушке день и ночь горел электрический свет. Не выключали его, может, от самой кукурузной поры, когда Валька бегал еще школьником. Уже тогда окошко было заделано старой фанериной. С тех пор котел на ферме дважды меняли, а сколько Хрущевых сменили за это время, не сосчитать!»
Другой рассказ В. Белова в том же номере «Москвы» – «Лейкоз». Та же деревенька, те же крестьяне немного позже. Тракториста Валентина на свете уже нет – его пьяным убили и выкинули с поезда. Куча ребятишек осталась пускай без непутевого, но все же отца и кормильца. Чеченская пара покинула стезю «газетного» фермерства и подалась куда-то дальше по просторам гостеприимной, лишенной националистических и религиозных предрассудков России… Проблема коровьего рога ветеринаром Туляковым так и не решена. Его собеседник из предыдущего сюжета, старик Коч, как раз отпиливает рог с помощью бабы Марьи слесарной ножовкой покойного тракториста. По этому поводу компания примерно в том же составе собирается затем в избе у Смирновых. Туляков явился с новостью, что ферму в деревне скоро закроют. Формально – из-за повального коровьего лейкоза. Но и суть дела ему ясна:
«Колхозный период ваша деревня закончила. С сегодняшнего числа начинаем вторую, капиталистическую фазу», с горьким ехидством паясничает ветеринар. Старики и старухи по этому поводу разводят воспоминания о распроклятом тоталитарном прошлом (уже и в рассказе «У котла» подымавшиеся), когда «на каждую корову и лошадь паспорт» был. В таком коровьем паспорте «все было записано: и кличка, и масть, и от кого рождена, и которая по счету лактация. Клички телятам давались на ту букву, с которой начинается материнское имя. Теперь в конторе давно нет никаких коровьих бумаг. Летом животных ни по вечерам не считают, ни по утрам. Лежит ли корова в лесу или где-нибудь в кустах, отказали ли ей больные ноги – оставайся на съедение волкам».
Туляков и этот ностальгический сюжетец не оставляет без того, чтобы откомментировать «с граненой стопкой» в руке: «Товарищ Сталин выписал паспорта всем коровам. У каждой лошади, у каждой коровы был паспорт, на колхозников у него не хватило бланков. Вздрогнули…»
Так течет неспешное крестьянское веселье в деревне, где «осталось четыре дома. Всего две трубы дымили в небесную синеву».
И как эпиграф ко всему тому, что идет в наши дни тут и там в подобных, уже не в придуманных писателем, а в реальных русских деревнях, звучит напев той частушки, которую еще у котла в коровнике пела компания:
Начальнички навозные, Коровушки лейкозные.«Заря новой жизни» уже который раз встает над видавшими виды полями и лесами…
Психологические характеристики в рассказе четки и лаконичны; беловские характеры, как в лучших его произведениях, зримо портретны. В подтверждение сошлемся прежде всего на того же Тулякова. Этот добродушный пьяница, подобно Валентину, пропадающий на почве своего пристрастия (но не трагически, как тот, а хорохорясь, с прибаутками и присловьями), не случайно «назначен» автором в ветеринары. Именно человеку этой профессии надлежит нести в обоих рассказах крестьянам весть о надвигающейся общей трагедии – готовящемся закрытии фермы, вокруг которой эта умирающая деревенька пока живет и кормится.
Правда, некоторые решения писателя не бесспорны. Речь уже не про иронию, а, например, про слишком уж «газетно-публицистические» фигуры чеченцев. В России изобилуют сейчас настоящие беженцы – русские из Прибалтики, из «хлопковых» и «шашлычных» республик так называемого бывшего СССР. Но автору нужно, чтоб – чеченцы… Что ж, писатель – хозяин в своем тексте. А все-таки злободневные «актуальные» реплики трудно приживаются в художественном произведении.
Деревенька и герои так полюбились В. Белову, что он написал о них еще и повесть «Медовый месяц» (Наш современник. – 1995. – № 3). Тут развертывается целый самостоятельный сюжет о молодости нынешних старух. Они были посланы в начале Великой Отечественной на рытье окопов и потом добирались до дома лесами, попадая в опасные переделки и получая посильную помощь от добрых людей. А тем временем призвали на войну мужа одной из них – перед самыми «окопами» поженились и даже пожить вместе не успели! С фронта он не вернулся…
Возможно, в душе писателя понемногу выстраивается крупномасштабное произведение и публикуемое – подготовительные к нему материалы, ранние подступы… Но в любом случае новинки В. Белова были в середине 90-х годов в высшей степени отрадным явлением. (Кроме разобранных укажем и на рассказ «Душа бессмертна» – Наш современник. – 1996. – № 7.) А то ведь с литературой в целом тогда обстояло не намного лучше, чем с той деревенькой…
«Во саду при долине» (Наш современник. – 1999. – № 2) – «городской» рассказ В. Белова. Начинается он с такой иронической притчи, прямо не связанной с последующим сюжетом:
«Однажды в Вологде для всех неожиданно явилось рогатое существо с бесцветной мефистофельской бородищей. Большой лохматый козел на тоненьких ножках, не обращая на людей никакого внимания, неторопливо прошествовал по улице Герцена. Полный дьявольского достоинства, он ступил на мост через Золотуху и смело, на красный свет, повернул вправо. Самосвал со скрежетом затормозил. Встречный троллейбус поспешно застопорил. Серое вонючее чудище пересекало улицу по каким-то своим козлиным правилам.
Взрослые вологжане ничуть не удивились такому явлению. Мало ли нагляделись они чудес на веку? (Вологжан вообще трудно чем-либо удивить, нам уже приходилось говорить об этом.) Хождение козла по центральным улицам города не вызвало изумления. Правда, некоторые старушки плевались, зато мини-юбочные девицы делали вид, что не существует никакого козла. Мужское сословие соревновалось в юморе. Пожилые прикидывали, откуда такое чудо:
– Наверно, с мясокомбината дал деру, – задумчиво говорил чистоплотный старичок.
– Не ври! Там таких нет, – не соглашался другой. – Это из цирка.
– Какой тут цирк! – горячился третий. – Цыганский козел, он ходит из-за реки.
– Хватай за рога и веди в милицию, – предложил кто-то из молодых. – Сразу хозяин объявится.
– Веди сам!
Начали выяснять, можно ли сдать козла в милицию.
– Нужен он милиции, такой патлатый, – примиряюще завершил чистоплотный пенсионер молодому спорщику и пошел восвояси.
Прохожие уступали марширующему козлу место на тротуаре. Некоторые восхищались могучими, омерзительно воняющими рогами. Но интерес к животному быстро погас. Козел величественно продефилировал к площади Революции. Какие-то школяры попробовали погладить, но козлиная вонь быстро пресекла такую попытку. Лишь малые детки детсадовского и ясельного возраста, рожденные уже во времена злополучных реформ, донимали своих бабушек:
– Бабушка, бабушка, гляди, какая собачка!
– Это козел, а не собачка, – вразумляет несмышленыша бабка.
– Он в лесу живет?
– В лесу, в лесу, – отбояривается старуха. – Пойдем скорее, а то забодает. Гляди, какие рожищи-ти у этого беса!
Впрочем, и некоторым взрослым казалось, что козел вышел если не из леса, то из какого-нибудь ближнего болота. Так он был грязен, вонюч и ленив! Какой-то шутник враз окрестил его „президентом“».
После второго появления в городе козел все-таки «бесследно исчез»:
«Обывателям и до сего дня не ясно, куда он исчез. Может, его продали, может, как-то выселили в сельскую местность. Может, вообще провалился он в преисподнюю. Во всяком случае, среди людей он больше не объявлялся».
Само действие развертывается несколько лет спустя, в разгар студеной северной зимы. В городе мерзость и запустение. В городских квартирах отключено отопление. И вот ночью пенсионер-ветеран Степан Кенсаринович «проснулся в тревоге»:
«Степан Кенсаринович давно забыл про козла, поскольку прошло с тех пор несколько лет. Теперь же стояла зима, а не лето, в придачу глухая морозная ночь. Даже небо над Вологдой вызвездило.
Степан Кенсаринович… пробудился не столько от холода, сколько от беспричинной тоски, похожей на предчувствие скорой предстоящей потери. Ему приснился поганый, хотя и не очень страшный сон. Тот самый козел, что маршировал по улице Герцена с последующим выходом на улицу Урицкого (нынешнее название „Козленская“), стоял в глазах так четко, так явственно. Рогатый паршивец показал Кенсаринычу даже язык… Казалось, что Степан носом услышал козлиную вонь…
Ветеран открыл глаза. Кровавый сумрак от включенного рефлектора не взбодрил и не успокоил. Тоска в сердце не исчезала. Рефлектор горел всю ночь, таким способом жена Аксинья Семеновна поднимала градусы в холодной квартире. Где вот она сама-то, Семеновна? Куда подевалась Куксиновая посреди ночи? (Иногда Кенсариныч называл свою Аксинью по-шуточному – Куксиновой.)
Диван был пуст, комната без нее как чужая. В квартире впору волков морозить, а тут еще этот сон… Образ козла, показывающего розовый мерзкий язык, еще витал в знобкой тишине двухкомнатного жилища».
Жена героя стала тайно от мужа, бывшего партийца, посещать церковь. Здесь она находит прибежище и утешение от всего, что творится вокруг. В квартирах северного русского города стоит стужа – «на градуснике двенадцать». На электричестве приходится экономить, ибо «демократы» ввиду наступивших свобод урезали пенсии до микроскопических размеров.
«Козел как-то сам по себе соединился в размышлениях то ли с Гайдаром, то ли с самим президентом. Кенсариныч мысленно обматерил того и другого:
– Козлы! До чего дошло, вымораживают пенсионеров, как тараканов… Лекарство в аптеке и то инвалидам не по карману. Одним банкирам, еще губернаторам по карманам».
Утром герой отправляется жаловаться на холод в бывший горсовет, ныне мэрию, где «замом мэрского зава» работает его не ушедший на пенсию приятель. Там что-то записывают, что-то вроде обещают, охотно подтрунивают вместе с ним над сегодняшними несуразностями… А воз и ныне там.
«Кенсариныч вышел из мэрии и на улице у тяжелых дверей хотел плюнуть, но удержался в культурном виде. Лишь вспомнились слова соседа Хмырева: „Все, друг ты мой, одна везде лжа!“».
В произведениях В. Распутина больше повествовательной стихии. Образ автора, всеведущего и управляющего действием, воспроизводящего прямую речь героев, обычно сохраняется в его повествовании. Белов же почти всегда торопится дать героям слово, зажечь читателя их яркими прибаутками, ввести монолог, диалог, коллективный разговор… Временами его проза на глазах читателя почти превращается в драматургическое действие с мастерски написанными репликами то подхватывающих, то перебивающих слова друг друга персонажей.
ЮРИЙ БОНДАРЕВ: ГРАНЬ ВЕКОВ
Юрий Бондарев после романов «Игра» (1985), «Искушение» (1991), «Непротивление» (1994–1995) творчески «отметил» конец XX века своим новым романом «Бермудский треугольник» (Наш современник. – 1999. – № 11 – 12).
Бондарев Юрий Васильевич (род. в 1924 г.) – прозаик, лауреат Ленинской и Государственных премий, автор романов «Тишина» (1962), «Горячий снег» (1970), «Берег» (1975), «Выбор» (1981) и др. Живет в Москве.
Роман начинается словами, для нас, людей 90-х годов, предельно ясными:
«…И был тогда октябрь девяносто третьего года…
В провонявшем нечистой одеждой, табаком и потом милицейском УАЗе, оборудованном скамейками, их было пятеро».
Героя, журналиста Андрея Демидова, и других схватили в «зоне чрезвычайного положения». Они думают, что их задержали для выяснения личности. На самом деле «родная милиция», получившая в эти дни специальные права и инструкции, везет задержанных на московскую окраину, в какую-то закрытую на ремонт развалюху, чтобы поиздеваться и, натешившись, убить. Среди милиционеров – переодетые в форму уголовники, за разные себе поблажки «помогающие» им в этой акции. Среди задержанных – депутат Моссовета и инспектор уголовного розыска. Убьют и их. Среди них есть и девушка – ее, перед тем как убить, уголовники изнасилуют. Тела убитых подложат потом к множеству трупов, мужских и женских, взрослых и детских, коими обернулись так называемые «события 4 октября».
Юрий Бондарев работает как автор-документалист, когда рассказывает о людях в УАЗе:
«– Почему молчать? Вы превышаете свои обязанности! – поднял надтреснутый голос мужчина измятого переутомленного вида, не отнимая от плеча испачканную в грязи руку. – Вы распоясались, как фашистские молодчики в Германии после поджога рейхстага! Вы понимаете, что творите? Вы избиваете и стреляете в свой народ! Вы… оглохли и ослепли!..
– Ма-алчать! Речи тут будешь еще толкать, кусок свинячий? Ельцина хотите сбросить? Заткни пасть, а то я тебе дубинку в горло засуну! – яростным басом, по оглушительной силе никак не соответствующим его плоской фигуре, заорал милиционер и даже привстал. – Ишь ты, говорун! Свободу захотели придушить? Бунт устроили?
– Я – депутат Моссовета. Я – неприкосновенное лицо, и вы, товарищ милиционер, не имеете права ни применять силу, ни кричать на меня! – возмущенно выговорил переутомленный мужчина, морщась и поглаживая опущенное плечо. – Вы дважды ударили меня палкой! Понимаете ли вы, что вы нанесли мне физическое… да, физическое увечье… вы повредили… мне ключицу. Надеетесь, вам не придется ответить перед законом?..
– Плевать хотел! Я за Ельцина таким, как ты, горло перегрызу! – опять оглушил барабанным басом плоскогрудый, и на его шее коричневыми веревками вздулись жилы. – Депутат! Ишь ты, депутат! К власти волками рветесь? Не выйдет у вас! Хребты, как щепки, переломаем! Всех достанем! Нового Ленина на загривок посадить хотите? ‹…›
– Ма-а-алчать, сучье отродье!
Плоскогрудый вскочил, стукнулся головой о потолок машины, выматерился, озлобляясь, взмахнул дубинкой. – Это кто – убийцы? Кто? Вы – убийцы! Это ваши сучьи снайпера гробили милиционеров! Ишь ты, убийцы, ишь ты!
– Заблуждаешься, господин милиционер! Снайпера стреляли с крыши американского посольства, – сказал спортивный парень. – И с гостиницы „Украина“. Стреляли ваши…».
Андрей Демидов «пребывал в том состоянии, из которого не мог вырваться и прервать его. Он все слышал, все видел в этой милицейской машине, куда-то и зачем-то везущей их от горящего Дома Советов, и одновременно видел черных толстых удавов дыма, лениво ползущих вверх из окон по высоким стенам; видел танки, стреляющие с Калининского моста; разворачивающиеся, как жуки, БТРы возле баррикад и разбросанные тела убитых, неподалеку от которых кто-то кричал в мегафон: „Пленных не брать!“, видел хаотичные пучки трасс, забрызганную кровью стену стадиона, где зло стучали автоматные очереди, а в скверике лежал на земле мальчик казачонок, после каждого выстрела дергающийся в своей мучительной казни».
Мальчика незадолго до ареста Андрея на его глазах медленно убивал у Белого дома не милиционер, а некий мерзавец в камуфляже, вопреки закону получивший в этот день от властей оружие:
«Раненый мальчик лет тринадцати, в гимнастерке, в затекших кровью лампасах, казачонок, лежал, вжимаясь в землю, и только беспомощно дергался, уже не пытаясь подняться, выдавливая стонущие звуки:
– За что вы так, дяденька-а? За что-о?..
Широкоплечий, в пятнистом костюме, в наморднике с прорезями для глаз, поудобнее расставил ноги, не торопясь наклонил пистолет и, медлительно целясь, выстрелил в правую руку казачонка, потом некоторое время он смотрел, как брызгала фонтанчиком струя крови, как мальчик судорожно выгнулся, закричал, после чего пятнистый поправил на пальцах перчатку, выговорил глухо:
– Это еще, казачонок, не смерть, сначала по ручкам, потом по ножкам, – и с прежней замедленностью выстрелил ему в левую руку. Пуля попала в локоть, раздробила его; в прорехе разорванной плоти, в клочках задымившейся гимнастерки мелькнуло что-то острое, белое, должно быть, косточки сустава, заливаемые кровью, и казачонок задергался сильнее, выгибая шею, наконец отжался щекой от земли, чтобы увидеть, кто так мучил и убивал его, рот ненасытно глотал воздух, глаза, зовущие на помощь, синели гибельной влагой. И Андрей, весь охолонутый морозной дрожью, почувствовал, что не владеет собой и сейчас в неудержимом сумасшествии выскочит из канавы, рванется к этому пятнистому, который снова не спеша подымал пистолет, целясь, но в тот же миг кто-то клещами вцепился в рукав Андрея, просипел в ухо:
– Куда ты, дурак? Ты – что? Охренел? Под пули? Это котеневцы или бейтары-палачи! Видишь, там еще трое, в кожаных куртках! В кусты пошли, там над кем-то орудуют!
Андрей мычал, сдавливая пальцами рот, крупная дрожь сбивала дыхание, видел: пятнистый выстрелил в левую ногу казачонка, затем, помедля, в правую, наблюдая за судорожными извивами мальчишеского тела, за муками в отчаянии выкрикивающего мольбу погибающего ребенка, перед смертью понявшего все:
– Убейте, убейте, дяденька, проклятый! В голову стрельните! В голову, дурак! Скорей стрельните!..
Но, продлевая мучения израненного мальчика в казачьих лампасах, пятнистый больше не стрелял».
Потом, в заброшенном доме на окраине Москвы, товарищи Андрея по несчастью будут забиты до смерти озверевшими от безнаказанности людьми в милицейской форме. Он уцелел чудом – был не добит, а когда пришел в себя, отпущен из милости каким-то настоящим милиционером, который оказался не чужд живописи и иных духовных запросов и случайно знал картины его деда, известного художника…
Дальнейшее повествование доведено до наших дней, в центре по-прежнему Андрей Демидов с молодежью из своего круга, а также его дед академик живописи Демидов и художники из дедова круга. Русская творческая интеллигенция, ее дела, ее извечные и нынешние споры, ее сила и внутренняя слабость, мудрость и непростительная инфантильность…
Приятель Андрея Виталий Татарников, «работавший в газете радикального направления», отчеканивает на дружеской вечеринке:
«Если бы не было кроличьего страха, вся Москва вышла бы на защиту Белого дома. Танкам не дали бы сделать ни выстрела, подняли бы кантемировское железо на руки и сбросили в Москву-реку. И весь бардак вмиг прекратился бы. Проклятое трусливое мещанство! Путы на ногах народа!»
Но их же сокурсник Жарков, ныне актер из некоего театра, ставящего пьески о лесбиянках, надрываясь, кричит:
«Как же вы против… демократических реформ? Это… варварство, невероятно! Хотите вернуть советскую власть? Политбюро? Партком? Сталинские лагеря? Наелись! Из ушей лезет! У меня дед погиб на Колыме! Я не желаю, не хочу быть пищей для лагерных червей! Я не хочу быть под кагэбэ! Я семьдесят лет был потенциальной пищей…»
«Кому служит твой похабный театр, – обращается к нему Татарников, – где героини садятся на ночные горшки, а герои демонстративно ходят по сцене с расстегнутыми ширинками, изображая русский народ? Молодцы, русофобы!»
В разговор вступает писатель Мишин:
«– Знаешь, Андрей, Россия – уже полустрана. Полуколония. Полупротекторат. Как-то легко люди избавились от доброты, милосердия, от духовной русскости. Такие, Виталий, на улицы не выйдут. У них висят знамена на кухне: „Меня не затронет“, „Пронесет“. Вокруг страшное человеческое безлюдье. Согласен с Виталием: мещанство – путы. Не перестаю поражаться современникам. Не могу их понять. Неужели после расстрела Белого дома половине народа наплевать на свою судьбу? Так выходит?
– Да, так, – кивнул Андрей.
– Не очень так! – запротестовал Татарников. – Так, да не так!
– Жалеем народ, – продолжал Мишин, не отвечая Татарникову. – Но народ не жалеет себя. Уничтожает себя. Наверно, когда все начнут жрать асфальт вместо хлеба, тогда очнутся и встанут с четверенек. Встанут и начнут оглядываться: да что это с нами делают? Если же не встанут – рабы американской империи на сотню лет! И конец русской нации. Конец русской истории. Вот что чудовищно!»
Мишин вспоминает, кстати, и полные озлобления против Родины стихи современника Лермонтова и Белинского Владимира Печерина, «ставшего в эмиграции патером и большим подлецом»: «Как сладостно Отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья». Теперь в немалом количестве развелись и такие!
Разлом… Полутонов почти нет, в душах царят одни полярные крайности, непримиримо однозначны оценки (в принципе, даже упомянутый Печерин был все-таки до предела запутавшимся человеком, и умным и наивным одновременно, но не подлецом!). Время развело однокашников по разные стороны идейной баррикады, и даже бывшие друзья не находят в наши дни общего языка… Роман Ю. Бондарева – это повествование одного из крупнейших современных писателей о «русской смуте» новейших времен. Времен образцового мужества и самопожертвования одних, мерзкого предательства и небывалого конформизма других. Но «Бермудский треугольник» – не просто яркий документ эпохи. Это вершинное произведение Юрия Бондарева. С ним писатель уверенно входит в XXI век.
* * *
Отмеченная в начале книги способность литературы не только «отражать» жизнь, но и «провоцировать» появление в ней тех или иных реалий, напоминает о весьма высокой ответственности художника слова перед людьми и обществом за свои образы и сюжеты. Наделенный творческим даром человек, который из конъюнктурно-рыночных соображений подает читателю в экстравагантной «упаковке» безнравственность, рекламирует в образах искусства своего гордыню, злобу, зависть и др., внедряет в человеческое будущее вредный разрушительный потенциал. Напротив, трудно переоценить позитивное значение талантливой литературы, основанной на идеалах добра и человечности.
К середине 90-х годов литература наша явно начала понемногу восставать из тех рукотворных руин, которые она напоминала в начале десятилетия. В ней стали появляться новые сильные таланты. Нельзя не признать, что наиболее бесспорные из них – это современные прозаики-реалисты. В русской прозе реализм имеет наиболее прочные корни, к широко понимаемой реалистической традиции принадлежат крупнейшие писатели-классики XIX–XX веков (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, А. М. Горький, М. А. Булгаков, М. А. Шолохов и др.). В нашей литературе 70-80-х годов XX века лидировали именно прозаики-реалисты (В. Распутин, В. Белов, Е. Носов, Ю. Бондарев, П. Проскурин и др.). Потому развитие современными художниками реалистической линии прозы выглядит совершенно естественным и a priori предсказуемым. В то же время искания современных реалистов довольно разнообразны, и в них заметны некоторые новые литературные «внутриреалистические» течения.
СИМВОЛИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
Крупнейший литературно-художественный журнал «Новый мир» (в годы «перестройки», к сожалению, подобно иным изданиям печатавший немало конъюнктурной продукции) в 1995 году в седьмом номере опубликовал прекрасную повесть Алексея Варламова «Рождение».
Варламов Алексей Николаевич (род. в 1963 г.) – выпускник Московского государственного университета, прозаик, автор романов, повестей и рассказов. Живет в Москве.
Автор, несомненно, заслужил самые многословные похвалы, которые мы, однако, позволим себе заменить единственным прилагательным, назвав его произведение образцовым.
Ачексей Варламов непринужденно и без видимого усилия возвысился над злобой дня, над лихорадочным состоянием умов наших современников, только что переживших истинные социальные катастрофы, над ерническим тоном, ставшим в литературных опусах первой половины 90-х почти общепринятым, и написал отличное произведение на одну из «вечных», посильных лишь настоящему таланту тем. Уже двенадцать лет бездетной городской семье (супруги именуются автором просто Женщина и Мужчина) Бог наконец дает ребенка. Отсутствие детей давно внутренне отдалило их друг от друга, былая страсть забылась, и каждый живет своей жизнью. Он при всякой возможности спасается из «мерзкого города» на природу: «При этом он не был ни охотником, ни рыболовом, ни грибником, в его отношении к природе не было ничего материального и корыстного…» В городе Мужчина «ходил в тихий академический институт», откуда в последние малоблагоприятные для науки годы «разбежалась половина народу». Великого ума, вообще ума самостоятельного в герое не чувствуется, хотя искренность и гражданское неравнодушие налицо – например, в некоем августе, подчиняясь громогласным призывам, ночь напролет пытался «защищать демократию» в толпе таких же легко «внушаемых», но искренних людей. Перспектива отцовства неожиданно переворачивает все его нутро – «его собственная жизнь была теперь нужна ребенку». Женщина же инстинктивно делает то, потребность в чем вроде бы и не ощущала на протяжении прошедших тридцати пяти лет своей жизни, – принимает обряд крещения. После этого она «испытала благодарность почти детскую, чистую, что никто не остановил и что у нее и ее младенца, уже как бы крещенного во чреве матери, есть свой ангел-хранитель». Муж в этом не участвует, но у него свое потрясение: он с оторопью глядит, как на экране телевизора на сей раз пылает-таки то самое здание, которое он в августе два года назад тщился «защищать». Так вот и началось ожидание ребенка.
Младенец родился семимесячным, однако выходить его удается, и загс выписывает свидетельство, что на свет явился «один из десятков тысяч рождающихся в России детей, рождающихся вопреки нищете, братоубийству, грязи, лжи и грозным пророчествам о близящейся кончине мира».
Дальше случается страшное. Плохой анализ крови возвращает ребенка в больницу, и над крохотным мальчуганом нависает угроза скорой гибели. А. Варламов – хороший психолог, и он умеет найти точные необходимые слова при изображении всего этого «хождения по мукам» молодой семьи (несколько перехлестывая, правда, на наш взгляд, в количестве бед, которые обрушивает на головы своих Мужчины и Женщины). Теперь, у последней черты, в церковь идет уже Мужчина, которому внял старенький священник, немедленно отправляющийся в больницу. После молебна «ясный старичок» удаляется, посоветовав «не шибко слушать» врачей: «Не их ума это дело, кто и когда пред Богом предстанет». Перепуганные родители мало вникли в сей совет. Но через несколько дней никакой болезни у малыша не оказалось…
Языком искусства в принципе можно говорить о чуде. Но редко о нем удается сказать так мастерски, как это сделал А. Варламов.
Несколько ранее «Рождения» им был опубликован роман «Лох» (Октябрь. – 1995. – № 2), также выстроенный на современном материале, но все-таки в ряде моментов уступающий разобранной выше повести.
Следующей несомненной удачей писателя оказался большой роман «Затонувший ковчег» (Октябрь. – 1997. – № 3–4). Он начинается с исторического отступления:
«В начале восемнадцатого века на строительстве Петербурга, где среди порабощенных Петром крестьян трудились тайные и явные противники никонианской веры, произошел побег. Несколько семей, тяготившихся невозможностью свободно следовать своим обрядам, устремились на волю. За беглецами была тотчас же учреждена погоня, но, теряя немощных духом и телом, самые крепкие из них сумели уйти от преследования. Однако страх быть настигнутыми гнал раскольников все дальше и дальше на восток. Приближалась зима, местность сделалась безымянной и глухой, и между бежавшими возникло разногласие. Одни хотели идти дальше на восход солнца, другим казалось достаточным остановиться здесь и не подвергать себя опасности завязнуть в болотах или сгинуть в непролазной тайге. В устье реки Пустой они облюбовали небольшую поляну, вырыли землянки и стали жить. Место было наречено Бухарой, что никакого отношения к азиатскому городу не имело, произносилось с ударением на втором слоге и обозначало сенокос в лесу. Первые годы, проведенные бухарянами в лесной пустоши, были неимоверно тяжелыми. Их преследовали неурожаи, и вместо хлеба они ели сосновую и березовую кору. Многие умерли, иные, не вынеся тягот, ушли в обжитые места, но неустанными трудами и молитвами община выстояла. Со временем ее насельники завели скотину и огороды, срубили избы, амбары и бани, поставили часовню, стали ткать одежду и изготовлять обувь, немудреную мебель и хитрый крестьянский инструмент. Мало-помалу отвоеванное у тайги пространство превратилось в обыкновенную деревню, на первый взгляд ничем не отличавшуюся от сотен других, разбросанных по долинам рек, всхолмиям, равнинам, берегам больших и малых озер русской земли. Но сходство это было кажущимся – с самого начала история Бухары пошла по своему пути. Оторванные от мира, чуть больше сотни человек жили в тайге, ни с кем не знались, никому не подчинялись и всех избегали, вступая в сношение с соседями только по крайней нужде, чтобы купить соли, пороха или воска.
Вместе с этими товарами, как отдаленное эхо суетного мира, приходили в починок известия о смене царствующих блудниц в антихристовом Петербурге, о новых войнах империи, эпидемиях чумы и междоусобных смутах, но это была совершенно другая история. Деревня жила так, как будто осталась одна на свете, а весь мир за ее чертой сделался добычей Зверя.
Убежденные в своей избранности основатели скита завещали детям не покидать спасительное место, а если слуги Антихриста разыщут их или же голод погонит в иные края, запереться и сжечь себя в очистительном огне, но не предаваться в руки гонителям и не принимать от них никаких даров. Завет этот наследовался от поколения к поколению из года в год и из десятилетия в десятилетие, но нужда прибегнуть к нему не возникала: занятое расширением своего пространства светское государство устало или же не видело больше смысла воевать не на живот, а на смерть с церковными диссидентами, и вскоре гонения властей ослабли. Удобренная земля стала давать больше урожая, и голод Бухаре отныне не угрожал».
Нет нужды распространяться, что суждения, подобные вышеприведенным, модернизируют историю раскола, переводя конфессиональную проблему в политический план («церковные диссиденты» и т. п.). Возможно, не все точно и в изображении А. Варламовым религиозных сект, о которых зайдет речь дальше. Но писатель – не историк церкви. А старообрядческие скиты и деревеньки, подобные Бухаре, как известно, на самом деле кое-где прятались веками в глухой тайге – их не раз находили геодезисты и геологи в 30-е годы, а недавно в тайге так же нашли старообрядческую семью Лыковых, последняя из которых, Агафья, множество раз оказывалась на отечественном телеэкране.
Автор рассказывает далее об искушениях, которым подвергалась община за века своего существования:
«Шло время. Россия проигрывала и выигрывала войны, подавляла внутренние и внешние бунты, вершила реформы, говорила по-французски, увлекалась мистикой и масонством, Европой и собственной стариной, строила железные дороги, поражала весь мир богатством и расточительностью; старозаветные рогожские купцы переняли протестантский дух и сделались миллионерами, меценатствовали и кутили, и только в самых глухих таежных заимках затянулся бунташный век. Бухаряне по-прежнему жили так, словно лишь им одним, не разорвавшим священный завет с истинным Богом, будет уготовано на небесах спасение. На этом завете воспитывались десятки и сотни из них, с этой исступленной верой они отказывались от всех радостей земной жизни и преодолевали муки плоти. Но все же какие-то веяния проникали и в эти глухие места. Сказывалась ли почти двухвековая усталость, или же обречены были попытки изменить человеческую природу, но в каждом новом поколении, хоть и вскармливалось оно с младенчества в страхе Божьем, были те, кто искал своего пути и, казалось, только ждал случая, чтобы открыто выступить если не против самих обычаев старины, то по крайней мере за более гибкое к ним отношение. Это инакомыслие старцами жестоко подавлялось, но снова возникало и постоянно держало общину в напряжении.
Однажды в скиту появился необычный человек. Он говорил на понятном бухарянам языке о приближающихся временах Страшного Суда, одобрял их стремление к девству и чистоте и проповедовал, что единственный путь спасения состоит в убелении, то есть отсечении греховных уд – орудий, коими диавол соблазняет душу».
«Скитские старцы, – повествует рассказчик, – выслушали скопческого эмиссара весьма внимательно и вежливо», однако ответили, «что их завет с Богом подобной меры не предусматривает. Раздосадованный визитер отряхнул прах с ног своих и напророчил Бухаре скорые скорби».
Варламов ведет свое повествование в сказовой манере, интонационно немного напоминающей Леонида Леонова времен «Русского леса», но вполне самостоятельной. История Бухары быстро доводится им до XX века, а сам сюжет романа будет развернут в основном в 80-е и в начале 90-х годов, т. е. в общем-то в наше время. В начале 30-х «недалеко от деревни появились вооруженные люди, пригнавшие с собой, как скотину, несколько сотен арестантов», которые сами же построили для себя в тайге тюремный лагерь.
«Обнаружив в лесной глуши давно позабытую и вычеркнутую из всех списков деревню, пришедшие сперва растерялись и что делать с ее обитателями не знали. Хотели было разогнать, но начальник лагеря – человек практичный и неглупый, которому достались в подчинение ослабевшие переселенцы из степной части России и ни к чему не пригодные буржуазные спецы, а план по лесозаготовкам выполнять все равно было надо – живо смекнул, какую выгоду можно извлечь из Бухары. У него хватило ума закрыть глаза на религиозные предрассудки трудолюбивых и непьющих аборигенов, а за это послабление привлечь их к работе в лесу.
Идея себя оправдала: бухаряне ударно трудились и помогали делать план по лесозаготовкам не хуже, чем передовой леспромхоз. Да и сама окруженная частоколом деревня, откуда рано уходили и поздно возвращались дисциплинированные люди, чем-то неуловимо напоминала зону и общего пейзажа северной земли не нарушала».
Вокруг лагеря постепенно образовался поселок из бывших заключенных, по разным причинам так и осевших в этих местах. Там, разумеется, установилась моральная атмосфера, противоположная скитской. Так и стали существовать бок о бок обитель святости и обиталище греха. Символизм этого возникшего по воле автора соседства уловить нетрудно, и далее Алексей Варламов снова и снова проявит свою тягу к символу, сюжетной символизации.
В 80-е лагерь уже давно ликвидирован, а в леспромхозовском поселке живут два будущих главных героя: выросшая в одной из самых забубённых поселковых семей девочка Маша Цыганова и распределенный сюда выпускник столичного вуза молодой директор школы Илья Петрович, тайно влюбленный в эту свою ученицу, – «здоровый мужик, которому впору было одному на медведя ходить».
Однажды «в самом начале августа, вдень Ильи Пророка, когда уже сутра большая часть поселка, включая и женскую его половину, была по случаю праздника недееспособна, над леспромхозом разыгралась страшная гроза. ‹…› Буря повалила не одну сотню деревьев в лесу, и только благодаря сильному дождю не начался лесной пожар. Сорвало и на десятки метров отбросило крыши домов и овинов, разметало стога и повалило ограды. Молнии били так часто и с такой яростью, что не успевал отгреметь гром после одной, как вспыхивала другая, и в домах даже с отключенными пробками мигали лампочки. Плакали дети, набожные старухи, единственные, кто, кроме младенцев, был трезв, молились перед образами или прятались в погреба, зажигали сретенские свечи громницы, которые особо берегли для таких случаев. Ни черта не боявшиеся леспромхозовские мужики покуривали цигарки и пьяно качали головами, старики в перерывах между раскатами грома толковали о том, что прежде таких напастей не было, а началось все после того, как в тайге построили секретный пусковой объект.
Гроза продолжалась больше часа и не утихала. Казалось, кто-то с воздуха давал команду бомбить несчастный поселок. Оборвалась телефонная связь, отключилась подстанция, в окнах дребезжали стекла. Потом наконец молнии ослабели, но мощный ливень продолжал обмывать землю и неубранное сено, вздулись лесные ручейки, и поднялась вода в речке, грозя снести лавы».
В цыгановском доме было особенно неспокойно. Мать «ждала Машку, которую с утра услала на мшину за морошкой».
Бесчувственную Машу, в которую попала молния, вынес из леса Илья Петрович. Его лицо «было задумчивым и необыкновенно нежным».
«Хотя от красавицы сосны, под которой пряталась от грозы Маша, остался один обугленный ствол и мох вокруг не рос еще очень долго, а земля почему-то выглядела как будто вскопанной, отроковица, – говорит рассказчик, – была цела и невредима». Обратите внимание на работу писателя с языком: не «девочка», как обозначена Маша в романе ранее, а «отроковица». Это обронено рассказчиком не случайно. Именно так, «святой отроковицей» вскоре нарекут Машу старообрядцы-бухаряне, которые с этого времени упорно будут завлекать ее в свой скит. Дело в том, что под сосной, которую сожгла ударившая в Машу молния, они через некоторое время прилюдно отроют ковчег с мощами жившей в начале века и таинственно исчезнувшей «травницы Евстолии», местночтимой святой. Евстолия по трагической случайности попала в звериный капкан; с ним и была тайно закопана когда-то хозяином капкана. Сей капкан еще раз «сработает» в финале романа.
Общиной в эти последние ее годы руководит «старец Вассиан», отнюдь не старый еще человек, пришедший когда-то в Бухару из неких дальних скитов. Илья Петрович в качестве человека просвещенного делал попытки бороться с его влиянием на умы, но проиграл, ощутив, однако, в «старце» человека, чем-то внутренне близкого себе и страшно одинокого.
Между тем в Отечестве идут известные всем нам события конца 80-х – начала 90-х. Мать Маши умирает, после смерти явившись ей во сне и повелев уйти в Петербург, к одной из живущих там старших дочерей; отец-пьяница кончает жизнь самоубийством, а так как сделал он это из охотничьего ружья Ильи Петровича, тот подпадает под страшное подозрение. Удрученный исчезновением Маши, Илья Петрович и не пробует защищаться. Он был первоначально осужден, затем вскоре оправдан. Вернувшись в поселок, он в потрясенном состоянии отправляется в скит к своему давнему оппоненту Вассиану с просьбой принять его в общину. До старца его не допустили: скитский келарь, продержав директора более часу у ворот, вернулся с таким вердиктом – якобы от Вассиана: разговор состоится, «когда приведешь в скит отроковицу. И запомни: она должна быть чиста».
Действие переносится в Петербург начала 90-х. Илья Петрович в конце концов находит Машу, пережившую бездомность и нищету, много иных бед, но на какое-то время нашедшую приют у старика-академика Рогова. Он потерял сына: подросток ушел в некую омерзительную секту – это скопцы, прикрывающиеся, в духе времени, баснями о космосе, вселенском разуме и чуть ли не летающих тарелках. В романе вырисовывается новая фигура – главарь секты зловещий Борис Люппо, чей-то «высокопоставленный» сынок, насильник и извращенец, кастрированный в молодости отцом одной из своих жертв. При этом личность по-своему незаурядная и литературно однотипная, пожалуй, Свидригайлову из «Преступления и наказания». Встретив его, Илья Петрович узнает странного таинственного субъекта, приезжавшего иногда в Бухару и путем неясного до поры шантажа вымогавшего у старца Вассиана старинные дорогие иконы.
Рогов погибает от разрыва сердца, разволновавшись при безуспешной попытке пристрелить Люппо и тем покончить с его деяниями.
Секта завладевает имуществом академика; Маша изгнана. Но тут появляется Илья Петрович и убеждает ее отправиться с ним в Бухару.
«В тайге еще не сошел до конца снег, в низинах стояла высокая вода, и местами они пробирались с большим трудом. Ночевали прямо в лесу у костра – дремал и то вместе, то по очереди. После нескольких лет жизни в городе Илья Петрович наслаждался покоем, отсутствием грязи, даже физическая усталость к вечеру доставляла ему небывалое удовольствие. В маленьких лесных озерах и ручьях он закидывал удочку и ловил сорожек и окушков, бойко клевавших на шитика, хватала на блесну отнерестившаяся щука, он запекал ее на углях или готовил уху. Это напоминало ему какой-то поход, похожий на те, что он совершал в молодости, и душа директора наполнялась радостью. Только грустное и отрешенное лицо ученицы его огорчало. Машу, казалось, ничего не радовало. Она устала, натерла ногу, но сказать об этом Илье Петровичу стеснялась. Они шли и шли, с каждым пройденным шагом приближаясь к таинственной Бухаре, жить в которой еще много лет назад сулили отроковице прозорливые старухи…»
Они постучались в скит. Выглянул парень-привратник.
«– Вы оттуда? – жадно спросил вратарь. – Что там?
– Агония».
Машу появившийся келарь пустил в скит, предварительно допросив о «девстве». Перед директором же ворота так и не открылись. Когда он позже перелез через ограду, на него накинули удавку и сунули в яму. Там он просидел много дней. Однажды яму в очередной раз приоткрыли, и он увидел… скопца Люппо! Тот с обычными издевательскими ухватками поведал Илье Петровичу, что скитские готовятся к самосожжению, и при этом особую надежду возлагают на «святую отроковицу», сгореть вместе с которой им, видимо, по-человечески легче.
Люппо неплохо разбирается, в каком времени живет:
«Любой шарлатан или сумасшедший, объявляющий себя целителем, святым, пророком, гуру, способен нынче собрать целые стадионы. Бывший милиционер провозглашает себя Христом, и по его мановению люди бросают все и идут на край света в верховье Енисея. Комсомольская активистка объявляет себя Богородицей, и тысячи готовы сгореть живьем по ее призыву. Толпа взбесилась и ищет, за кем бы ей последовать. И она права, ибо стала громоздка и неуправляема, и не что иное, как инстинкт самосохранения, толкает ее в объятия вождя».
От ямы, где находится Илья Петрович, Люппо, прилетевший сюда на вертолете, отправляется в келью старца Вассиана. Здесь оказывается, что он давно знал – тот вовсе не старообрядец, а историк Василий Васильевич Кудииов, когда-то под покровом придуманной легенды проникший в тщательно закрытый от чужаков скит и завоевавший тут большой авторитет. Люппо много лет шантажирует «старца» его тайной. Вскоре, однако, обнаруживается, что эту тайну знал еще один человек – тот самый келарь, бывший тут долгие годы «серым кардиналом» и незаметно управлявший и скитом, и Вассианом.
Вассиана мучит совесть:
«Вместо того чтобы спасти Бухару, он погубил ее каким-то хитроумным способом, отняв у этих людей свободу и возможность следовать своей воле. Предложи он им сейчас выбор, привыкшие к полному послушанию, они бы не вынесли этого бремени. В тот момент ему захотелось упасть на колени и покаяться перед ними за свой обман, пусть бы побили его камнями, как лжепророка, пусть кинули бы в яму или привязали к дереву на съедение мошке. Но покаяние его – кому оно было нужно?
Далеко над лесом появилась светящаяся точка, многократно отразившаяся в сорока парах глаз, послышался гул, и когда ракета-носитель вонзилась в стратосферу, то Вассиану почудилось, что небо дрогнуло и как будто приоткрылось. Там, в полоснувшем глаза разрыве, на мгновение он увидел невыносимо яркий свет и отблеск иного мира, где жил сочиненный некогда корреспондентом атеистического журнала мужичонка с помятыми крыльями, которого посылали в особо трудных случаях на помощь неопытным ангелам. Гул ракеты стих, глаза у всех погасли, но старцу вдруг показалось, что все на Земле не имеет смысла, если этого мира не существует и эти люди не могут в него войти. И не нужно было никаких чудес, чтобы уверовать: все оказалось очевидным, стоило только эту завесу приоткрыть. В сущности, то, что они хотели сделать, было просто эвакуацией самым быстрым и безопасным способом из погибельного, рушащегося мира. И даже если оно противоречило установленным Небом канонам, все равно этих беженцев там не могли не принять по законам обыкновенной гуманности и милосердия.
А люди стояли под солнцем и ждали помощи, как солнечными весенними днями оставшиеся на отколовшейся и уменьшающейся в размерах льдине рыбаки ждут вертолета, до рези в глазах всматриваются в белесое небо и вслушиваются в бесконечное пространство.
Старец обнял взглядом их всех, посмотрел в глаза каждому и негромко – но в наступившей тишине это прозвучало пронзительно и отчетливо – произнес:
– Потерпите еще чуть-чуть. Скоро вы будете со мною в раю и узрите Бога Живаго».
Итак, старинный скит, за века повидавший всякое, устоявший во всех гонениях и бедах, проносившихся над русской землей, признал именно наши «благословенные» времена теми самыми последними, антихристовыми, когда жить в мире сем уже не захотел и не смог.
Вассиан освобождает Илью Петровича. Тот немедленно устремляется пешком через тайгу к людям – надо предотвратить самосожжение бухарян и спасти Машу. Между тем Вассиан, неожиданно властно сломив сопротивление келаря, отпускает из скита и Машу, взяв с нее обещание уходить и не оглядываться.
Когда Илья Петрович с вертолетчиками-пожарниками сел неподалеку от скита, деревня старообрядцев за его оградой уже полыхала.
Огонь пошел к вертолету (в нем в соответствии с изображаемыми временами всеобщего развала не оказалось воды для пожаротушения). Летчики бросились в машину. Звали Илью Петровича, но тот скрылся в огне, охватившем Бухару.
«Качнувшись, вертолет поднялся над поляной и, вырываясь из дыма, стал уходить резко вверх. Но если бы кто-нибудь смотрел в этот час на небо, то наверняка увидел бы, как вслед за вертолетом вместе со снопом искр над пепелищем взметнулось ввысь сорок душ. Одна из них тотчас же канула вниз, остальные стали медленно подниматься к небу, и ангелы с помятыми и обожженными крыльями торопливо уносили их с собой».
«Канула вниз» нечистая душа Бориса Люппо, которого Вассиан привязал веревкой к себе, не давши негодяю сбежать и сжегши вместе со старообрядцами…
Можно определить как «символический реализм» несомненно реалистическую в основе своей манеру Алексея Варламова, тем самым дав этому новому для постсоветской литературы явлению особое название. Писатель свободно переходит от достоверно-бытового к мистически-сокровенному и обратно, непринужденно синтезируя эти начала. (Художественный символ и его функции понимаются нами в основном в соответствии с концепцией А. Ф. Лосева, изложенной в его книге «Проблема символа и реалистическое искусство». Из современных работ о символе укажем на книгу: Минералова И. Г. Русская литература серебряного века. Поэтика символизма / Под ред. Ю. И. Минералова. – М., 1999.) Он любит рисовать коллизии, допускающие двойное истолкование – естественное и религиозно-мистическое. Варламов владеет культурой прозаического письма, которую русская словесность знала в XIX веке, помнила накануне революции, но впоследствии утратила – отчасти вследствие распространившихся и приобретших идеологическую силу атеистических умонастроений.
Финал романа выдержан в том же символическом плане. Через некоторое время после таежного пожара в описываемые места кое-как добрались с рюкзаками несколько десятков странных особей, среди которых были женщины и, как точно выражается повествователь, «неженщины». Это скопцы искали своего «учителя» Люппо, назначившего им встречу тут, на «обетованной» земле. Пришельцы растерянно слонялись по пожарищу, пока к ним не вышел откуда-то «волосатый, жилистый старик» (нетрудно догадаться, кто). Илья Петрович долго не обращал на них внимания, но к осени все-таки заставил рыть землянки, затем собрал у всех деньги и ценности и ушел в неизвестном направлении. Он вернулся «тяжело навьюченный, подгоняя перед собой корову, с мешком соли и пороха за плечами и ружьем. Они не спрашивали его, куда он ходил и откуда все это взял. Они верили ему теперь во всем и стали постепенно забывать прежнего Учителя».
Женщины начали похаживать к «старику»; появились дети. Когда они подросли, отец построил им школу «с большими застекленными окнами, с доской, мелом и тетрадями» – чтобы достать все это, он делал вылазки в мир людей. Но когда дети «выросли, неженщины хотели оскопить мальчиков, чтобы продолжился скопческий род», а Илья Петрович «не позволил этого сделать. Он взял в руки ружье и загнал всех скопцов в озеро».
Отец «велел детям уходить по старой железной дороге в поселок и оттуда дальше в мир. Он сказал, что научил их самому главному – любить друг друга. Как бы ни было им тяжело, они должны держаться вместе и должны победить этот мир и спасти его. Он говорил о том, что в мире много людей, которые не любят других и хотят отнять у них свободу, отнятую у самих себя, но им, рожденным свободными, нечего бояться. Он говорил, что они узнают много того, что он не успел им рассказать, увидят других людей и им надо будет найти свое место. Но, как бы ни было им трудно, как ни будет выталкивать их мир назад, возвращаться в Бухару старик запретил. Он сказал, что это место должно быть забыто и никто и никогда не должен его разыскивать ни на карте, ни наяву.
Они уходили по заброшенной узкоколейке, и скопцы смотрели на них со злобой и тоской».
Когда дети ушли, «неженщины» стали придумывать, как убить старика; в конце концов они поймали его в тяжелый капкан, который нашли в «железном ящике» на скитском пожарище среди каких-то человеческих костей (мощи травницы Евстолии):
«Капкан был старый и ржавый, но действовал отменно, перерубая толстую палку. И, когда старик отправился на охоту, они поставили капкан на его тропе. Старик попал в ловушку, и тогда они собрались вокруг и сказали, что отпустят его, если подобно им он примет огненное крещение. Но старик яростно и зло ругался, и они отстали от него.
Когда на третий день он умер, они торжественно и с плачем похоронили его на старом кладбище и каждый день собирались и пели высокими голосами свои красивые песни, которые некому было записывать. И за этим пением не заметили, как однажды в вечерних летних сумерках поляна тихо колыхнулась, будто снялась с якоря, и погрузилась в болотную трясину».
А вот последний писательский штрих: «Много лет спустя дети старика попытались разыскать лесную родину. Это же хотела сделать и одна женщина – известный историк и этнограф». Однако окрестности стали неузнаваемы…
«Затонувший ковчег» даже названием указывает на свою символическую сущность. Действительно, это красиво написанное произведение активно и целенаправленно использует возможности художественного символа. Это не изменяет его реалистической природы: А. Ф. Лосев точно говорил, что «символисты конца XVIII – начала XX века отличались от художественного реализма не употреблением символов (эти символы не меньше употребляются и во всяком реализме), но чисто идеологическими особенностями»[7]. Илья Петрович и Вассиан, келарь и Люппо, академик Рогов и Маша, как и многие другие образы, характерологичны, психологически убедительны. Свойственная данному роману особенность их построения состоит в том, что автор до определенного момента не раскрывает некоторые стороны характера и его жизненную подоснову, вдруг показывая героя в неожиданном ракурсе. Философски серьезно замысленный и исполненный роман в то же время демонстрирует, помимо прочего, умение Варламова строить сложный сюжет со многими линиями, соединяя их и «завязывая в узлы» по приемам хорошей приключенческой литературы. Здесь есть еще немало персонажей, есть линии, не упомянутые в данном кратком комментарии и дополнительно обогащающие художественную семантику «Затонувшего ковчега»[8].
О символическом ракурсе, который автор тоже придал сюжету, говорит уже само название романа Алексея Варламова «Купол» (Октябрь. – 1999. – № 3–4). В этом произведении писатель рассказывает о судьбе талантливого парня из современной русской провинции. Мастерски описан городок Чагодай, из которого герой попадает в интернат для математически одаренных подростков при Московском университете, а оттуда – в студенты МГУ. (Подобные заботы об «одаренных» были для героя делом само собой разумеющимся.) Пошла столичная жизнь. Общежитие, путаные знакомства, бытовые случайности, к которым присовокупились пережитые в детстве психологические травмы, – все толкнуло на тропку, не имеющую отношения к математике и приведшую в тупик. Герой сделал несколько наивных попыток проявить себя политическим диссидентом, которые сначала «заминались» руководством факультета, но в конце концов привели к исключению из МГУ. Позже, в родном Чагодае, куда пришлось вернуться, он познакомится на «картежной» почве с местным милицейским начальником Морозкиным, человеком умным и прозорливым. Тот едва ли не впервые поколеблет в юноше взращенные в столице недобрые чувства к родной стране:
«Скоро нас начнут уничтожать. Напасть впрямую они побоятся, – заговорил Морозкин, бросив карты и расхаживая по комнате. – Но сделают так, что наши бабы перестанут рожать, потому что они считают, что у нас слишком много земли, много в этой земле добра и владеть им мы не достойны.
– А разве не так?
– Сопляк! – Он завис надо мной, и я испугался: даст пощечину, и я этого не прощу… – Мы их спасали от всех бесноватых чингисханов и гитлеров. Если бы не мы, от них бы давно осталось пустое место. Они всем, что у них есть, нам обязаны, и ничего, кроме тушенки пополам с подлостью, мы оттуда за века не видели. Молчи! Я знаю, о чем говорю. Если бы им случилось пережить то, что пережили мы, от них бы ничего не осталось».
Герой простодушно признается себе:
«Я не жил в других странах, не знал, как они выглядят и каково там человеческое существование. Может быть, я точно так же страдал бы, был бы всем недоволен и ни в чем не преуспел, может быть, я вообще из тех людей, которым плохо всегда и везде, и всякий раз в том убеждал меня Морозкин.
– Но даже если ты удерешь и начнешь поливать все здешнее грязью, если скажешь, что твоя страна – большая помойка, будешь распинаться, как страдал под коммунистами, – все равно поначалу тебе заплатят тридцать сребреников, а потом используют и выкинут как сам знаешь что!»
Но не чужие мысли, а только личный горький опыт хорошо учит обычно человека. Герою предстоит в «перестроечные» годы побывать в «демократических» кругах, многое пережить и через многое пройти. Рисуя его исполненный символики путь по жизни, А. Варламов, пожалуй, где-то допускает и переборы – слишком уж много «оригинальных» символообразующих деталей им как писателем придумано для романа (герой даже дальтоник!). Впрочем, дело вкуса. В любом случае и это его произведение – одно из лучших явлений сегодняшней прозы.
А. Варламов пишет и рассказы. Из последних его рассказов отметим «Ночь славянских фильмов» (Новый мир. – 1999. -№ 10). Написан он и на несколько надуманную, и на изрядно раздутую СМИ тему современных славянских «беглецов» из России, которых даже мещанство провинциального бельгийского городка считает за людей второго сорта. Их, по рассказу, третируют здесь, на задворках Европы, почти как турок-эмигрантов. Впрочем, повествование лирично, патриотично и по-варламовски умно. Но одна фальшивая нота в нем звучит.
Если судить эту историю с позиций реальности, то нельзя не напомнить: турки одно, а русские – это те, на кого еще полтора десятка лет назад всяческие «простые бельгийцы» и западные германцы волей-неволей смотрели снизу вверх, потому что то были русские из загадочного великого и могучего Советского Союза, который для блага всего земного человечества победил в войне с фашизмом некоего «сверхчеловека» Гитлера, запустил в космос всем известного Гагарина, идет своей особой дорогой и реагирует на чью бы то ни было злобу, как слон на моську. «Менее простые западные европейцы» помнили также, что это потомки тех самых русских освободителей, что прошли когда-то через их страны по направлению к городу Парижу, погоняя перед собой «непобедимого» Наполеона, покорившего было их и их маленькие государства… Они и сейчас все это помимо желания или нежелания помнят, будьте уверены, оттого их натовские руководители так и заботятся, чтобы у нас с вами не возродилось чего доброго «имперское мышление». Глядишь, еще кого-нибудь зарвавшегося погоним в должном направлении! Мессианские, как известно, амбиции… (Вон какие крокодиловы слезы на Западе лили недавно, если не «всем миром», то всем НАТО по поводу якобы близящейся «гуманитарной катастрофы» при проведении нашей армией антитеррористической операции в Чечне, – лили из тех самых очей, коими 4 октября 1993 года с восторженным любопытством наблюдали по Си-эн-эн расстрел из танков мирных жителей в Москве – так, мол, «этим русским» и надо!) Тем приятнее для мещанина – повторяем, для мещанина – поунижать «того самого» русского наряду с турком. От этого лекарство одно – не бросать Родину, не бежать сломя голову туда, где нас жалеют, как кошка мышку; оставаться со своим народом и в его славе, и в его бедах. Ибо не все в мире так лишены националистических и шовинистических предрассудков, как мы. Это – комментарий к реальной подоснове варламовского сюжета. Что до рассказа как художественного произведения, он, повторяем, урона творчеству молодого прозаика не наносит, хотя мог бы быть выписан и сильнее, будь эта подоснова в нем четче раскрыта.
Романом «Земля и Небо» (Москва. – 1999. – № 4–5) недавно уверенно и ярко заявил о себе Леонид Костомаров.
Костомаров Леонид Петрович (род. в 1948 г.) – выпускник МВТУ им, Баумана, в 1974 году арестован, в 1984 году освобожден, автор ряда фильмов и нескольких неопубликованных романов. Живет в Москве.
Это новое писательское имя принадлежит много пережившему человеку. Роман написан далеко не сегодня, но попытки автора войти в литературу в годы «перестройки» и позже неоднократно терпели неудачу. Редакция «Москвы» лаконично информирует, что «с 1987 года в „Советском писателе“ лежали два его романа – „Иной мир“ и „Калека“, которые до сих пор не опубликованы». Нетрудно понять, по какой причине отвергались произведения безусловно одаренного человека. На тему жизни советского тюремного лагеря, столь «ходовую» и «перестроечную», Л. Костомаров (сам проведший в зоне десять лет и хлебнувший в ней лиха во всей полноте) заговорил весьма нестандартно.
Роман разбит на короткие подглавки, например: «Зона. Зэк Орлов по кличке интеллигент».
Вот сама эта подглавка:
«Колонна шла по пять человек в ряд, а бывший морячок Жаворонков, белозубый и веселый здоровяк волжанин, не успевший сломаться в тюремной безнадежности, готовил в эти минуты свой побег.
Два вечера волгарь утюжил в бытовке новые черные брючата, и сейчас они выглядели совсем как гражданские. При его повадках даже в Зоне форсить все восприняли как должное стрелки-бритвы, склеенные им при помощи мыла. Начищенные ботинки вольного образца – немыслимый для Зоны шик – списали на подготовку к любовному свиданию с зазнобой-заочницей. Почему выходит человек в таком одеянии на работу? В Зоне не задают лишних вопросов; конвою же не удалось углядеть на трассе форсистого Жаворонкова, он удачно затерялся в середине толпы. Продуманные штрихи одежды решали всю судьбу побега, были главными в этом веселом, как детская игра, но смертельно опасном предприятии. И вот рядом заветные кусты можжевельника, что скрывали дорогу за поворотом. Жаворонков бесшабашно сплюнул и стал меняться на глазах. Вначале из-за пазухи появились парик и фуражка, затем исчезла в кустах фуфайка, выпустив на волю подвернутый под нее светлый плащ.
Белой вороной он пролетел сквозь серую стаю в крайний ряд колонны и молниеносно примостил на стриженую голову парик с фуражкой. Глянул виновато на ошарашенных зэков, дрогнув голосом, попросил:
– Ребята… Подрываю с зоны… Прикройте…
Расправив на себе плащ, он уверенно выбрался из шеренги и быстро поравнялся с идущим впереди него конвоиром. Слегка повернул голову и встретился глазами со скуластым, сосредоточенным солдатом, взглянувшим на прохожего без всякого интереса, мало ли шатается по дороге гражданских лиц…
Конвоир думал о своем».
Писатель Владимир Карпов в предисловии к журнальной публикации романа рассказывает: «Каждые пять минут зэк, живущий в ограниченном пространстве, подсознательно бросает взгляд в небо», – вспоминал в нашем разговоре Леонид Костомаров. Потому, видимо, голоса душ его героев обращены к небесам. Там – надежды, понимание, там подлинность жизни, дарованной от роду. Роман написан как монологи, полифония голосов, ведущих рассказ о своей и общей доле. Они, эти голоса, кажется, звучат даже не с земли, а из-под нее, из глубин земных расщелин, и услышит ли их небо:
«И когда подали по наши души „воронки“, и выкатились оттуда злые солдаты, и погнали нас к машинам, не толкая, но вбивая в спины дерево прикладов, отчего вскрикивали мы, готовые кубою… не знал никто, куда сейчас повезут – в поле, чтобы дострелить да забыть, на новый ли срок, на новые, до сих пор неизведанные мучения – никто того не знал; и жить сейчас, в эти минуты, не хотелось никому…»
Небо для заключенного – это еще и свобода. Несколько разных по характеру побегов описано в повествовании. Дерзкий и безумный побег одного; продуманный и жуткий побег другого, когда в качестве «прокорма» в пути прихватывается доверчивый бедолага; вызванный ревностью и чувством мщения побег третьего…
Финал первого побега, «дерзкого и безумного», с пониманием и знанием дела, по-зэковски, резюмируется в подглавке «Зона. Орлов»:
«Смельчак Жаворонков отдыхал на воле всего месяц – к заморозкам на политинформации нам сообщили: взят, на квартире у первой жены. Искали у последней, а он был у той, первой. Не сопротивлялся, улыбался. Когда везли, беспечно распевал песни.
Замполит убеждал: истерика. Старые же зэки возразили, что это состояние лучше знают, говорили верное: душа у него была спокойна, греха на ней не было. Погулял…
А что побегу он и есть побегу какой же это грех? Здесь себя человек не контролирует, это естество его к свободе стремится, меркнет рассудок в этот миг. Он, рассудок, все осмыслит, а потом словно дверцу за собой запирает, перед побегом затаивается. Остаются порыв, страсть, безрассудство. Таков побег.
В Зоне еще долго судачили о дерзком волгаре, что-то завораживающее было в этом побеге. Простота и ловкость. Тут давно усвоили, что побег получается вернее всего там, где его меньше всего ожидают. С хитринкой такой. Идеи же с подкопами или, скажем, ломануться на машине сквозь забор многими здесь считаются изначально дурацкими, скудоумием. А вот раздобыть через жену офицера пропуск, подделаться под вольного и сквозануть на виду у всех – через вахту, с папироской! – вот удел настоящего вора, вот это и поддержка отрицаловки на весь срок. Можно Зону на уши своей дерзостью поставить. Можно… без крови. Так рождается быль».
Особенно примечательно то, что Л. Костомаров оказался как художник достаточно силен и внутренне независим, чтобы избежать стилистического прессинга «лагерных» произведений крупных авторов, подобных А. Солженицыну и В. Шаламову. От их воздействия в работе над «лагерной» темой современному писателю уклониться психологически очень трудно. Но интонации Костомарова самостоятельны и новы.
В романе – многоплановом, сложно и интересно выстроенном – выделяются два героя. Это осужденный Воронцов по кличке «Квазимода» и офицер охраны майор Медведев. Вот его выразительная характеристика:
«Дом Медведев построил себе сам на окраине поселка, на теплом пригорке. Когда приехал сюда по направлению на работу, квартир не было, а скитаться по чужим углам уже надоело. Завел огород, построил первым теплицу, собирал завидные урожаи картошки и овощей. Офицеры сначала посмеивались над его затеей, дразнили куркулем, а когда побывали на новоселье в просторном, пахнущем смольем пятистенке, сами взялись рубить домишки и обживаться. Медведев был крепким мужиком, простое русское лицо, курносый, взгляд добрый, но когда допекут – суровый, лучше не лезть под руку.
За перелеском от дома Медведева – Зона: исправительно-трудовая колония строгого режима. Широкая тропинка к ней проторена майором за четверть века работы.
Прошли перед ним тысячи осужденных, сменялись поколения, уходили, иные вновь возвращались. Василий Иванович относился к своему нелегкому труду, как и весь его крестьянский род, старательно. Слова уже покойного ныне отца о его работе были нелестные: „За худое дело ты взялся, сынок! Неблагородное и неблагодарное. Я не неволю. Но постарайся остаться человеком. Честно живи! Это мой наказ. Хоть ты и коммунист, но помни, что ты крещеный, мать тайно тебя под Покров окрестила… Живи с Богом в душе!“»
Медведев живет и служит по отцовскому завету. В «зэках» он видит людей:
«Поселок, „старый город“, построен руками моих питомцев; школа, библиотека, больница, клуб – все это зэковские мозоли, досрочные освобождения за ударный труд, пот и возможность забыться в долгих годах неволи. А еще вот те деревянные заборы, вышки, проволочные ограждения, что опоясывают низину у подножья холма, сами же для своей охраны возвели, своими руками… Освободившись, многие остаются работать здесь, это их город…
Ну а страна наша – разве не их страна? Не ей ли во славу они обязаны жить и творить? К сожалению, они „творят“ свои преступления во славу себя и дружков, да девок распутных, да своего ненасытного кармана… Но ничего, заставим их работать для других, может быть, единственный раз в их жизни.
Сколько же за четверть века службы в Зоне было у меня бессонных ночей… Да только бы их… Сколько было всего, что изматывает похлеще самой изнурительной физической работы; предотвращение саботажа, драк, побегов, поножовщины – кислорода Зоны, без которого не может жить и дышать она».
В общем, автор изобразил в Медведеве не опереточного злодея а-ля перестройка, а настоящего советского, притом русского, офицера. Ну как могли демократически умонастроенные книгоиздатели, птенцы гнезда горбачевского, печатать книги столь «неправильного» писателя? Человека, который сам оттрубил в лагере «десятку» – и не озлобился, а теперь позволил себе заговорить о том, что в «советской» зоне и среди заключенных, и среди охраны встречались неизбежные мерзавцы, но бывали также замечательные люди!
«Кличку Квазимода (на русский манер, с твердым окончанием вместо утонченного французского) разменявший пятый десяток вор-рецидивист Иван Воронцов получил за дефект физиономии: ее портил рваный шрам, он рассекал все лицо – от скулы по брови до лба, придавая Ивану сходство с известным литературным персонажем. Поврежденная пулей кожа исказила не только лицо-левый глаз теперь смотрел куда-то вверх.
Выгодно отличали побитого жизнью Воронцова мощный треугольный торс да огромные кулачищи размером с кувалду. Все это было от привычки с детства к тяжелому физическому труду, что сделал его чуть согбенную фигуру сухой, а кожу от работы на воздухе – гладкой. Столь же ослепительно гладким был его всегда выбритый до полированного блеска череп, что вкупе с резко и мужественно очерченным подбородком, правильным, почти римским носом и ровными морщинами на лбу придавали Квазимоде ту степенность и свирепую резкость одновременно, что так ценятся здесь, в Зоне».
Время и место действия романа – «1982 год. Союз Советских Социалистических Республик, зона строгого режима в городе N». Но исподволь, ненавязчиво и талантливо, автор придает обобщенно-символический смысл и всему повествованию, и самим словам «Зона», «Срок», «Воля» и т. д. (не случайно и то, что одному из зэков тут «прилепили кличку» Достоевский). Даже ворон Васька, прирученный «Батей» Воронцовым (и в конце концов погибший от пули охранника), преображается в символический образ:
«Ворон плавно кружил в багряном небе и лениво оглядывал черную людскую колонну, нестройно бредущую по дороге…
Он знал про них все: вот сейчас начнут копошиться в оре и мате, сливаясь с неприютной в этих краях землей, сметая с нее последние леса. За долгую жизнь ворона они уже столько покалечили их, расщепили, растерли в пахучую пыль, потопили при сплаве в реках, что, если дело так пойдет впредь, бестолковые люди сокрушат весь его мир. Потому и каркают так долго и зло его соплеменники, серые вороны, при гулком падении Древа, отсчитывающего каждому свой Срок».
Слова, превращаемые в символы, Костомаров даже систематически записывает с большой буквы…
В моем понимании Леонид Костомаров, как и Алексей Варламов, на свой особенный манер развивает принципы символического реализма. Благодаря им в литературе 90-х годов прорастают новые яркие тенденции. Нельзя не признать, что не только произведение наподобие «Земли и Неба», но и роман вроде «Затонувшего ковчега» трудно представить в системе литературы советского времени. К сожалению, они, видимо, встретили бы бюрократические препоны, воздвигнутые «борющимися» за чистоту идеологии и атеистических принципов, отслеживающими разного рода «формачистов» редакторами. Ныне книги Варламова и Костомарова стало возможным опубликовать. Однако зато все новейшие, ранее неслыханные, общие писателям, проблемы – теперь и их удел.
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН ПОВЕСТВУЕТ
Александр Солженицын в середине 90-х вернулся из США в Россию.
Солженицын Александр Исаевич (род. в 1918 г.) – прозаик, драматург, эссеист, лауреат Нобелевской премии, автор повестей и романов «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «В круге первом», эпопеи «Красное колесо» и др. В 1974 году за антисоветскую политическую деятельность был выслан из СССР, жил в Западной Европе и США, в 1994 году вернулся в Россию. Живет в Подмосковье.
Кажется, жизнь осуществила все его чаяния… Полное собрание сочинений издано на родине (и неоднократно). Нет более социализма, и уничтожен СССР, который он так темпераментно ненавидел. Правда, как следствие, есть нищета, разруха, мерзейшая коррупция, множество бездомных, безработных, бандитизм правит бал по всей стране. Трудно судить, что происходит сейчас в душе писателя, в конце 90-х отказавшегося принять из рук тогдашнего главы государства высокую награду. Как говорится, Бог весть, Бог судья… Но на страницах его новых произведений вершатся дела, немаловажные для понимания сегодняшнего сложного духовного состояния автора.
В «двучастном рассказе» «Желябугские Выселки» (Новый мир. – 1999. – № 3) действие первой части разворачивается на полях сражений Великой Отечественной, вскоре после Курской дуги. Рассказчик, в котором автобиографически много от самого автора, искренне захвачен нашими победами:
«Я четвертые сутки обожжен и взбаламучен, не улегается. Все, все – радостно. Наше общее большое движение и рядом с Курской дугой – великанские шаги.
И какое острое чувство к здешним местам и здешним названиям! Еще и не бывав здесь – сколько раз мы уже тут были, сколько целей пристреливали из-за Неручи, как выедали из карты глазами, впечатывали в сетчатку – каждую туг рощицу, овражек, перехолмок, ручеек Березовец, деревню Сетуху (стояли в ней позавчера), Благодатное (сейчас минуем слева, уже не увидим) и Желябугу, и, вот, Желябугские Выселки. И в каждой деревеньке заранее знали расположенье домов.
Так, правильно: Выселки на пологом склоне к ручейку Паниковец. И мы – уже тут, докачались по ухабистому съезду с проезжей дороги. Пока самолетов нет – стали открыто».
Родина, освобождаемая от ее врагов, радость от участия в победах Красной армии, молодость, сила… и – что так непривычно в произведениях Александра Солженицына – ни тебе его «любимого» НКВД, ни тебе Гулага, ни снующих повсюду «стукачей», «сексотов» и пр. То есть, конечно, вся подобная публика живет и здравствует в годы Великой Отечественной, как в любые иные годы и в любом обществе, но на сей раз она помещена автором там, где самое ее место – а именно, вне литературы. Людям на войне некогда трусливо трепетать перед Берией и Мехлисом – они освобождают Родину и ежечасно рискуют жизнью. Враг один, общий всему народу – немецкий фашизм.
Конечно, именно в таком ракурсе писали о войне многие художники, но для лауреата Нобелевской премии А. Солженицына «Желябугские Выселки» – очень интонационно неожиданное произведение. В то же время его интонации по-человечески очень понятны – немолодой уже писатель, как и многие другие фронтовики, все острее чувствует, что именно на войне он оказался участником величайших событий XX века, что именно эти годы – едва ли не самое яркое из бывшего в его долгой жизни…
Опытнейший писатель, Александр Солженицын обладает счастливой способностью воскресить в слове эти лучшие свои годы. Тут не вымысел, а правда:
«А вот мальчишка, лет десяти, опять к ступенькам пробирается.
– Ты куда?
– Смотреть. – Лицо решительное.
– А огневой налет, знаешь такой? Не успеешь оглянуться – осколком тебя продырявит. В каком ты классе?
– Ни в каком, – втянул воздух носом.
– А почему?
Война – нечего и объяснять, пустой вопрос. Но мальчик хмуро объясняет:
– Когда немцы пришли – я все свои учебники в землю закопал. – Отчаянное лицо. – И не хочу при них учиться. И видно: как ненавидит их.
– И все два года так? Шморгнул:
– Теперь выкопаю.
Чуть отвернулись от него – а он по полу, на четвереньках, под столиком вычислителя пролез – и выскочил в свою деревню».
А это изба в прифронтовой деревне Желябугские Выселки. Девушка рядом со старухой:
«Доглядел: там глубже какая ж девушка прелестная сидит.
– А тебя, красуля, как звать?
Кудряшки светлые с одного боку на лоб. И живоглазка:
– Искитея…
– И не замужем??
– Война-а, – старуха отклоняет за молодую. – Какое замужество».
А теперь вторая часть рассказа, которая относится к нашим невоенным, мирным дням.
«И вот через 52 года, в мае 1995, пригласили меня в Орел на празднование 50-летия Победы. Так посчастливилось нам с Витей Овеянниковым, теперь подполковником в отставке, снова пройти и проехать по путям тогдашнего наступления: от Неручи, от Новосиля, от нашей высоты 259,0 – и до Орла».
Поскольку один из фронтовиков – «сам» Солженицын, в поездке их, естественно, сопровождает многоразличное начальство. Гуляют по местам боевой славы ветераны, с трудом узнают осевшие высоты, обмелевшие овраги, ищут следы своих блиндажей, предаются обычным воспоминаниям, как было «у нас», да какие блиндажи были «у них»… И так понемногу приближаются к Желябугским Выселкам. Поднялись по склону «к самым верхним избам». А там сидят две древние с виду русские старухи:
«Сидят они хоть и под деревьями, а на березах листочки еще мелкие, так сквозь редкую зелень – обе в свету, в тепле.
У левой, что в темно-сером платке, а сама в бушлате, – на ногах никакая не обувь, а самоделка из войлока или какого тряпья. По-сухому, значит. А обглаженного посоха своего верхний конец обхватила всеми пальцами двух рук и таково держит у щеки.
У обеих старух такие лица заборозделые, врезаны и запали подбородки от щек, углубились и глаза, как в подъямки, – ни по чему не разобрать, видят они нас или нет. Так и не шевельнулись. Вторая, в цветном платке, тоже посох свой обхватила и так уперла под подбородок.
– Здравствуйте, бабушки, – бодро заявляем в два голоса. Нет, не слепые, видели нас на подходе. Не меняя рукоположения, отзываются – мол, здравствуйте.
– Вы тут – давнишние жители?
В темном платке отвечает:
– Да сколько живы – все тут.
– А во время войны, когда наши пришли?
– Ту-та…».
Дальше пошли расспросы о возрасте. Одной, оказалось, восемьдесят пятый, вторая же – всего лишь с двадцать третьего!
«– Так я на пять лет старше вас.
А лицо ее в солнце, и щеки чуть розовеют, нагрелись. В солнце, а не жмурится, оттого ли что глаза внутрь ушли и веки набрякшие.
– Что-то ты поличьем не похож, – шевелит она губами. – Мы и в семьдесят не ходим, а полозиим.
От разговора нижние зубы ее приоткрываются – а их-то и нет, два желтых отдельных торчат.
– Да я тоже кой-чего повидал, – говорю.
А вроде – и виноват перед ней.
Губы ее, с розовинкой сейчас и они, добро улыбаются:
– Ну дай тебе Господь еще подальше пожить.
– А как вас зовут? С пришипетом:
– Искитея.
И сердце во мне – упало:
– А по отчеству?
Хотя при чем тут отчество. Та – и была на пять лет моложе.
– Афанасьевна.
Волнуюсь:
– А ведь мы вас – освобождали. Я вас даже помню. Вот там, внизу, погреб был, вы прятались.
А глаза ее – уже в старческом туманце:
– Много вас тут проходило.
Я теряюсь. Странно хочется передать ей что-то же радостное оттого времени, хотя что там радостное? Только что молодость. Бессмысленно повторяю:
– Помню вас, Искитея Афанасьевна, помню.
Изборожденное лицо ее – в солнышке, в разговоре старчески теплое. И голос:
– А я – и чего надо, забываю.
Вздохнула.
В темном платке – та погорше:
– А мы – никому не нужны. Нам бы вот – хлебушка прикупить».
Хлебушка прикупить когда-то красавице Искитее и ее подруге теперь, как вскоре выясняется, потруднее, чем в войну. Когда двинулись ветераны на машине с начальством назад (повздыхав, конечно, о судьбах российского села), случается неожиданная заминка. Поперек дороги встали стеной старухи из брошенной властями деревни.
«Перегородили – не проедешь. Уже шесть старух кряду. Не пропустим.
Вылезает и районный. И мы с Витей.
Платки у баб – серые, бурые, один светло-капустный. У какой – к самым глазам надвинут, у какой – лоб открыт, и тогда видно все шевеленье морщинной кожи. На плечо позади остальных – дородная, крупная баба в красно-буром платке, стойко стала, недвижно.
А дед – позади всех.
И – взялись старухи наперебив:
– Что ж без хлебушка мы?
– Надо ж хлебушка привозить! ‹…›
Сельсоветский смущен, да при районном же все:
– Так. Сперва Андоскин вам возил, от лавки.
В серо-сиреневом платке, безрукавке-душегрейке, из-под нее – кофта голубая яркая:
– Так платили ему мало. Как хлеб подорожал, он – за эту цену возить не буду. Целый день у вас стоять, мол, охотности нет.
И бросил сельсоветский:
– Правильно».
Что называется, вырвалось из души, не сдержался чиновник – ведь невыгодно же, в самом деле, снабжать хлебом этаких старух, в корне же противоречит такое «рыночной экономике», а значит, правильно вас не снабжают! Такие теперь правила.
Опять, в середине мирных 90-х годов, обезлюдела и лежит в развалинах, точно в былые военные времена, деревня Желябугские Выселки! Совсем как та деревенька из рассказа Василия Белова «Лейкоз». Только та все же придумана писателем Беловым, а в этой реально стоит у ведомственной машины знаменитый писатель-фронтовик Александр Солженицын, на этот раз бессильный чем-нибудь помочь – он ведь больше не советский офицер, и с ним всенародно избранная местная российская власть, а не оккупационная администрация какая-нибудь… Причем тогда, в 43-м, у девушки Искитеи и ее односельчан беды были за спиной. Наши пришли, освободили, и впереди ну прямо солнце сняло! Жизнь только начиналась, вся жизнь была впереди. А теперь хуже, чем при немцах, и никакого будущего у старух не осталось. Над родной деревней при новейшей власти – точно еще одна война пронеслась.
Две части «двучастного рассказа», как видим, отличает своего рода «неполная симметрия»: внешнее сходство коллизий (то же место, те же основные герои, дважды разруха) и внутренняя их противоположность (трагедия «оптимистическая» – трагедия безысходная).
«Односуточная повесть» «Адлиг Швенкиттен» (Новый мир. – 1999. – № 3) относится к эпизоду из последнего этапа войны, когда наши ворвались в Восточную Пруссию и отрезали находившуюся там фашистскую группировку. Здесь уже нет повествования от первого лица, а значит, нет переданного в прямой документальной манере лично пережитого. Так получилось, что и по месту действия, и по сути описанного повесть сама провоцирует некоторые аллюзии с «Августом Четырнадцатого». Опять неподготовленное наступление, опять трагедия, пусть и несомасштабная гибели армии Самсонова.
Однако и здесь не чувствуется смакования советской военной неудачи – коего, откровенно говоря, от некоторых авторов так и ждешь. Александр Солженицын рисует события, как их живой свидетель:
«А немец не ожидал тут огня.
Стал расползаться в стороны.
Но и мы – не мимо! Фонтаны искр от брони! – значит, угодили, осколочно-фугасным!
Остановился танк.
А позадей – загорелось что-то, наверно бронетранспортер.
А по дороге – колонна катила!
Но и мы свои снаряды – чуть не по два в минуту!
А наш снаряд – и „королевскому тигру“ мордоворот».
Здесь есть настоящие герои, есть откровенные шкурники, есть просто люди, на войне озабоченные прежде всего тем, чтобы уцелеть и выжить, – не предавая, но и не геройствуя. Естественно, что первыми погибают герои. Наиболее яркая фигура в повести – командир 2-го дивизиона пушечной бригады майор Боев:
«На гимнастерке его было орденов-орденов, удивишься: два Красных Знамени, Александра Невского, Отечественной войны да две Красных Звезды (еще и с Хасана было, еще и с финской, а было и третье Красное Знамя, самое последнее, но при ранении оно утерялось или кто-то украл). И так, грудь в металле, он и носил их, не заменяя колодками: приятная эта тяжесть – одна и радость солдату».
Это воин по призванию. Армия – его дом и семья:
«Да когда в армию попал – Павел Боев только и жизнь увидел. Что было на воле? Южная Сибирь долго не поднималась от гражданской войны, от подавленного ишимского восстания. В Петропавловске, там и здесь, – заборы, палисадники еще разобраны, сожжены, а где целы – покривились. ‹…›
А в армии – наворотят в обед борща мясного, хлеба вдосыть. Обмундирование где не новенькое, так целенькое. Бойцы армии – любимые сыны народа. Петлицы – малиновые пехотные, черные артиллерийские, голубые кавалерийские, и еще разные (красные – ГПУ). Четкий распорядок занятий, построений, приветствий, маршировок – и жизнь твоя осмыслена насквозь: жизнь – служба, и никто тут нелишний. Рвался в армию еще до призыва».
Боев погибает вместе со своими солдатами, когда немцы пошли на прорыв (его дивизион по армейской неразберихе не имел пехотного прикрытия, и все попытки опытного умного Боева соединиться с пехотой оказались безрезультатны). Бригадное начальство, однако, попыталось после замять инцидент и даже переиграть гибель дивизиона в некий «успех» бригады. Сначала майором-смершевцем с целью замести следы расстреливается предупреждавший о прорыве немец-перебежчик (читателям-фронтовикам судить, насколько правдоподобна эта прилюдная самоуправная экзекуция, за которую, по-моему, и смершевцу могло бы не поздоровиться). Затем начальство имело наглость подать бригадный комсостав (к которому пристегнуло «для порядка» и некоторых уцелевших офицеров Боева) на орден Красного Знамени:
«Начальник артиллерии армии, высокий, худощавый, жесткий генерал-лейтенант, прекрасно сознавал и свою опрометчивость, что разрешил так рано развертывание в оперативной пустоте ничем не защищенной тяжелой пушечной бригады. Но тут – его взорвало. Жирным косым крестом он зачеркнул всю бригадную верхушку во главе списка – и приписал матерную резолюцию.
Спустя многие дни, уже в марте, подали наградную и на майора Боева – Отечественной войны I степени. Удовлетворили. Только ордена этого, золотенького, никто никогда не видел – и сестра Прасковья не получила».
Итак, сегодняшний Солженицын, как и в большинстве прежних произведений, тяготеет к художественному творчеству на основательной документальной базе. Это относится ко всем «узлам» «Красного колеса», а предельное развитие такой тенденции представлено в «Архипелаге Гулаг». Теперь перед нами «Желябугские Выселки» и «Адлиг Швенкиттен» – рассказ и повесть с мощной документальной подосновой.
Реализуется такое сочетание факта и вымысла у Солженицына в различных произведениях по-разному. Так, «Архипелаг Гулаг» – политический памфлет в оболочке документа, очерка. Здесь реальные факты, непроверенные факты, явные слухи, несомненно недостоверные анекдоты и еще авторские эмоции все выстроены в один ряд и в целях усиления воздействия на умы читателей высокоталантливо поданы как факты. Получилась жуткая картина. Она была бы достаточно страшна, если бы автор как ученый-историк или писатель-очеркист ограничил себя лишь достоверными, проверенными сведениями. Но так впечатляюща она не была бы. И автор чисто по-беллетристически прибегнул к «дорисовке» подлинных фактов всем вышеназванным.
Писатели склонны доверять своей фантазии и интуиции. Порой, однако, интуиция обманывает: свежий пример – недавняя история вокруг авторства «Тихого Дона». А. Солженицын в свое время со свойственным ему темпераментом и даром эмоционального убеждения внушал читателям, что М. Шолохов якобы не является его автором. Видно было даже, что он сам, пожалуй, искренне в это верит. И вот в наши дни вопрос закрыт – в 90-е годы найдена шолоховская рукопись великого романа. Меня интересует не то, как теперь поведет себя в этой связи А. Солженицын, а то, что с еще большей силой убеждения, чем в деле с Шолоховым, писатель внушал своим читателям нужные ему представления в своем «Архипелаге». Здесь сила эмоционально-художественного внушения поистине огромна. В этом плане «Архипелаг» напоминает «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (впрочем, схожи оба произведения и стержневым принципом постановки в один ряд реальных фактов и продуктов личной писательской сюжетной фантазии авторов).
В «Красном колесе» факт и художественный сюжетный вымысел сопряжены несколько иначе. Принцип их сочетания напоминает «Войну и мир» Л. Толстого (и, кстати, «Тихий Дон» М. Шолохова). Правда, у Толстого почти нет еще свойственных Шолохову и Солженицыну «монтажных» приемов, когда в текст произведения часто вставляются обширные цитаты из реальных документов вроде армейских приказов и протоколов заседаний Государственной думы.
«Желябугские Выселки» вообще выглядят как документальное повествование – оформленные новеллой мемуары, если хотите, – и подлинные факты в них впечатляюще преобладают. Сюжет здесь, как и в «Адлиг Швенкиттене», создан самой жизнью. А такие сюжеты воистину бесценны.
«Угодило зернышко промеж двух жерновов» – выступление писателя непосредственно в мемуарном жанре (Новый мир. – 1999. – № 2). В подзаголовке оно названо «очерки изгнания». Часть очерков напечатана «Новым миром» в конце 1998 – начале 1999 года, но автор, видимо, продолжает работу над ними. Интонации их в целом более обычны для А. Солженицына.
Из европейского Цюриха Солженицыны решают тайно переехать в Америку, спасаясь от КГБ. Флегматичные швейцарцы и не видят, что творится у них под носом, но затравленный писатель знает: «КГБ на Западе – свободно действующая сила». По правде сказать, мы в СССР были, как говорится, лучшего мнения о западных спецслужбах, – но так или иначе, писателю кажется, что в Европе он беззащитен, и только переезд за океан оградит его семью от опасностей. Сложно манипулируя машинами и чемоданами, Солженицыны незаметно если не для КГБ, то для беспечных соседей пробираются в аэропорт и самолет.
На новом месте, в американском штате Вермонт, уже переоборудуется купленная усадьба. Между двумя домами отрыт подземный переход, который скоро начнут обсуждать на разные лады падкие на «клубничку» журналисты:
«И еще же, на грех, по верху нашего легкого сетчатого забора – и только вдоль проезжей дороги – провели единственную нитку колючей проволоки, чтоб зацепился зевака, кто будет перелезать. И корреспонденты вздули эту единственную нитку в „забор из колючей проволоки“, которою я сам себя – и, разумеется, вкруговую – огородил как в новой тюрьме… Но от жителей подхватили корреспонденты еще и о пруде-и понесли сказку о „плавательном бассейне“, что сразу повернуло наш воображаемый быт с тюрьмы на „буржуазный образ жизни“, которому хочет теперь отдаться семья Солженицыных. Ах, шкуры, не о нас, а о самих себе свидетельствуете, чем дышите. Мы выброшены с родины, у нас сердца сжаты, у жены слезы не уходят из глаз, одной работой спасаемся, – так „буржуазный образ жизни“».
Поначалу не отстает и отечественный супостат: «В первые недели наведывались и с русским языком неизвестные. И в „недоступных“ воротах оставили записку: „Борода-Сука За сколько Продан Россию Жидам и твоя изгородь не поможет от петли“». Судя по безграмотности, это уж посетил изгнанников явно не КГБ. Что называется, не его почерк.
«А между тем в Швейцарии социалистический „Тагес анцайгер“ вышел с заголовком чуть не на полстраницы: „Семья Солженицыных бежала из Цюриха“. И другие рисовали карты: „Глубоко в Вермонте, за семью горами“. Швейцария обиделась, вся целиком. И на небывалую тайну отъезда (правда, грубо получилось, мы не подумали), да даже и на сам отъезд».
Так или иначе жизнь на новом месте стала нормализовываться, и пришли размышления, в которых Александр Солженицын как всегда предстает человеком своеобразным, внутренне независимым и по-писательски наблюдательным:
«Насколько уважал я Первую эмиграцию – не всю сплошь, конечно, а именно белую, ту, которая не бежала, не спасалась, а билась за лучшую долю России и отступила с боями… Настолько безразличен я был к той массе Третьей эмиграции, кто ускользнул совсем не из-под смерти и не от тюремного срока – но поехал для жизни более устроенной и привлекательной (хотя и позади были у множества привилегированные сытые столицы, полученное высшее образование и нерядовые служебные места)».
Вокруг него, однако, отнюдь не храбрые корниловцы, а именно предприимчивые путешественники из «третьей волны», которые, как он ясно выражается, «поехали вовсе не туда», куда просились при выезде из СССР:
«В их ряду протекли, правда, и посидевшие в лагерях, психушках, но это были считанные, всем известные единицы. Однако в их же ряду проехало и немалое число таких, отборных, кто активно послужил и в аппарате советской лжи (а ложь простиралась куда широко: и на массовые песни, и на кинематографию), потрудились в дружбе с этим аппаратом, – как бы назвать эту эмиграцию? – пишущей. Но главное: теперь с Запада, с приволья, они туг же обернулись – судить и просвещать эту покинутую ими, злополучную, бесполезную страну, направлять и отсюда российскую жизнь.
А Запад встречал Третью не так, как первые две: те были приняты как досадное реакционное множество, почему-то нежелающее делить светлые идеалы социализма, те приняты были изнехотя, недружелюбно, образованные люди пошли чернорабочими, таксерами, обслугой, в лучшем случае заводили себе крохотный бизнес. Эту – Запад приветствовал, материально поддерживал и чуть ли не воспевал („отдали свою жизнь ради достойного поведения“), в их отъезде (изнутри СССР видимом как самоспасительное бегство) Запад видел „проявление русского достоинства“. Эти – часто с сомнительным (пробольшевиченным) гуманитарным образованием – почетно принимались как профессора университетов, допускались на виднейшие места западной прессы, со всех сторон финансировались поддерживающими организациями – и уж тем более свободно захватывали поле эмигрантской прессы, и руссковещательное радио, отталкивая оставшихся там стариков».
Не стану обсуждать реплику про «бесполезную страну» и словесное «поле» вокруг этой реплики. В остальном же Александру Исаевичу, не понаслышке знающему «третью волну», – ему видней. Как и в том, что он пишет о Западе:
«Западное общество в принципе строится – на юридическом уровне, что много ниже истинных нравственных мерок, и к тому же это юридическое мышление имеет способность каменеть. Моральных указателей принципиально не придерживаются в политике, а и в общественной жизни часто. Понятие свободы переклонено в необуздание страстей, а значит – в сторону сил зла (чтобы не ограничить же никому „свободу“). Поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом. „Права человека“ вознесены настолько, что подавляют права общества и разрушают его. Особенно своевластна пресса, никем не избираемая, но приобретшая силу больше законодательной, исполнительной или судебной власти. А в самой свободной прессе доминирует не истинная свобода мнений, но диктат политический…»
Одним словом, общество, устроенное «по закону, а не по благодати», – картина, весьма ясная русскому, тем более православному, сознанию. Позволив себе эмоциональную реплику, можно было бы сказать: если и рай, то, Боже упаси, не для нас. Коли есть жанр «роман-предостережение», то разбираемая книга А. Солженицына напоминает в ряде черт «мемуары-предостережение».
НЕ РАСКРЫВШИЙСЯ ТАЛАНТ
Венедикт Ерофеев – ушедший из жизни в начале 90-х годов и по-настоящему не развернувшийся писатель.
Ерофеев Венедикт Васильевич (1938–1990) – прозаик, драматург.
Его прозаическая «поэма» «Москва – Петушки» гуляла в списках уже в 70-е (написана в 1969 г.), но впервые опубликована была только в годы «перестройки». Этот горький монолог спившегося интеллигента, который живет в подмосковных рабочих общежитиях, оставаясь «белой вороной» в «пролетарской» среде, иногда воспринимается с внешней стороны – просто как разухабистое повествование удалого пьянчуги-балагура, приправляемое ругательствами, алкогольными рецептами и иными забавными подробностями:
«Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу не видел Кремля.
Вот и вчера опять не увидел, – а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали.
Так. Стакан зубровки. А потом – на Каляевской – другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-десерт.
Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше – что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню – это я отчетливо помню – на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.
А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал».
Горькая судьбина проступает, однако, за этой бравадой и самоиронией, личная ранимость и неудачливость: «Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность. Мое детство и отрочество…»; «Неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад – назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что я вводил, так поперли меня все-таки не за крутые перемены».
«Сюжет» повести состоит в путешествии героя на электричке от Москвы до станции Петушки, в ходе которого он в том же тоне горькой иронии с разными дурачествами рассказывает «о времени и о себе», наблюдает пассажиров, общается с ними и пьет, пьет алкоголь… Ощутима пародийно-ироническая перекличка с композицией все того же «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, которая здесь не самоценна, а помогает автору интонационно возвысить повествование, придав ему черты серьезной социальной сатиры. Когда же герой наконец как будто приезжает в Петушки, он оказывается… в Москве (глава «Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому»):
«А может быть, это все-таки Петушки?.. Почему на улицах нет людей? куда все вымерли?.. Если они догонят, они убьют… а кому крикнуть? ни в одном окне никакого света… и фонари горят фантастично, горят, не сморгнув».
«Очень может быть, что и Петушки… Вот этот дом, на который я сейчас бегу – это же райсобес, а за ним – тьма… Петушинский райсобес – а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших… О, нет, нет!..» (Внутренняя форма слова «райсобес» образно переигрывается по аналогии со словом «бес»[9].)
Далее интонации делаются патетически серьезными: „Не Петушки это, нет!.. Если Он – если Он навсегда покинул землю, но видит каждого из нас, – я знаю, что в эту сторону Он ни разу и не взглянул… А если Он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде, – Он обогнул это место и прошел стороной…“
«Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой, перевел дух и огляделся кругом:
„Нет, это не Петушки! Петушки Он стороной не обходил. Он, усталый, почивал там при свете костра, и я во многих душах замечал там пепел и дым Его ночлега. Пламени не надо, был бы пепел…“
Не Петушки это, нет! Кремль сиял передо мною во всем великолепии».
Заканчивается сия фантасмагория в некоем «неизвестном подъезде», где опять пробуждается едкая авторская ирония, которая как бы дезавуирует религиозную символику вышецитированных строк. Герой погибает от рук неких невнятно описанных злодеев.
От «поэмы» «Москва – Петушки», оставшейся «главной книгой» мало написавшего Ерофеева, исходит свет несомненной одаренности – одаренности яркой, но болезненной. В годы «перестройки» и в начале 90-х у некоторых авторов модно было истолковывать «поэму» как нечто глобально значимое, великое и пророческое. Для этого вряд ли достаточно оснований. Но, повторяем, перед нами произведение талантливого человека с удивительно несчастной писательской судьбой.
Рассказ «Василий Розанов глазами эксцентрика» (Зеркала. – М., 1989) написан в сходной с его «поэмой» манере иронической фантасмагории, видимо глубоко для Венедикта Ерофеева родственной и естественной:
«Я вышел из дома, прихватив с собой три пистолета, один пистолет я сунул за пазуху, второй – тоже за пазуху, третий – не помню куда.
И, выходя в переулок, сказал: „Разве это жизнь? Это не жизнь, это колыхание струй и душевредительство“. Божья заповедь „не убий“, надо думать, распространяется и на себя самого („Не убий себя, как бы ни было скверно“), но сегодняшняя скверна и сегодняшний день вне заповедей. „Ибо лучше умереть мне, нежели жить“, – сказал пророк Иона. По-моему, тоже так.
Дождь моросил отовсюду, а может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило. Все мои ближние меня оставили. Кто в этом виноват, они или я, разберется в День Суда Тот, Кто, и так далее. Им просто надоело смеяться над моими субботами и плакать от моих понедельников. ‹…› Она уходила – я нагнал ее на лестнице. Я сказал ей: „Не покидай меня, белопупенькая!“ – потом плакал полчаса, потом опять нагнал, сказал: „Благословеннолонная, останься!“ Она повернулась, плюнула мне в ботинок и ушла навеки.
Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня не получилось. Я истреблял себя полгода, я бросался под все поезда, но все поезда останавливались, не задевая чресел. И у себя дома, над головой, я вбил крюк для виселицы, две недели с веточкой флер-д-оранжа в петлице я слонялся по городу в поисках веревки, но так и не нашел. Я делал даже так: я шел в места больших маневров, становился у главной мишени, в меня лупили все орудия всех стран Варшавского пакта, и все снаряды пролетали мимо».
Опять герой прячет свою душу и пережитую личную утрату в словоплетениях грубоватой бравады. Он начинает примерять к себе разного рода суждения и афоризмы известных мыслителей и деятелей буквально всех времен и народов, тут же давая почти каждому едкую злую характеристику (среди них «пламенный пошляк Хафиз, терпеть не могу», Алексей Маресьев, Шопенгауэр, Тургенев, Миклухо-Маклай, Николай Островский и др.). Наконец он находит близкую себе натуру в Василии Розанове (как раз тогда, в годы «перестройки», неоднократно изданном) и начинает вникать в его сочинения, сопровождая цитаты из Розанова обычными своими прибаутками и дурашливо-ироническими комментариями:
«Никакой известности. Одна небезызвестность. – Да, да, я слышал… я слышал еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном комплоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Михаил Катков, Константин Победоносцев, „простер совиные крыла“, Лев Шестов, Дмитрий Мережковский, Фаддей Булгарин, „не та беда, что ты поляк“, Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин, „по Невскому бежит собака“, Сергей Булгаков и еще целая куча мародеров… Я имею понятие об этой банде».
Как и все у Ерофеева, рассказ отличает высокопрофессиональная работа с языком. Он мастер игры словами, оттенками смысла, каламбурного словосплетения:
«Сначала отхлебнуть цикуты и потом почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты? Нет, сначала все-таки почитать, а потом отхлебнуть.
Я развернул наугад и начал с середины (так всегда начинают, если имеют в руках чтиво высокой пробы)».
Один из характерных выводов, к которым привело героя чтение, таков:
«Я не знаю лучшего миссионера, чем повалявшийся на моем канапе Василий Розанов».
Венедикт Ерофеев пробовал себя и в других жанрах. Так, в начале «перестройки» он написал пьесу «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», выполненную в духе «театра абсурда», но по-ерофеевски своеобразно (по замыслу она должна была составить вторую часть драматургического триптиха). Есть свидетельства, что «Вальпургиева ночь» писалась в «санаторном» отделении психиатрической больницы – в соответствующем профилю больницы и отделения состоянии[10]. Пьеса опубликована в коллективном сборнике «Восемь нехороших пьес» (1990). Далее, пробовал он себя и в том, что можно бы назвать «литературным коллажем», создав нечто под названием «Моя маленькая лениниана».
«Моя маленькая леннннана» (Юность. – 1993. – № 1) – еще одно произведение, явившееся итогом чтения автором чужих сочинений. На этот раз Венедикт Ерофеев оперирует цитатами из произведений и писем В. И. Ленина и близких ему людей (Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, И. Арманд и др.). Интонационно это типичное творение времен «перестройки», и автор в нем проявляет себя человеком, находящимся под сильным влиянием современной «желтой» публицистики. Идея тут простая: подобрать и скомпоновать побольше отрывков, которые вне их контекста выглядят нелепыми или смешными. Например:
«Инесса Арманд – Кларе Цеткин. „Сегодня я сама выстирала свои жабо и кружевные воротнички. Вы будете бранить меня за мое легкомыслие, но прачки так портят, а у меня красивые кружева, которые я не хотела бы видеть изорванными. Я все это выстирала сегодня утром, а теперь мне надо их гладить. Ах, счастливый друг, я уверена, что Вы никогда не занимаетесь хозяйством, и даже подозреваю, что Вы не умеете гладить. А скажите откровенно, Клара, умеете Вы гладить? Будьте чистосердечны, и в вашем следующем письме признайтесь, что Вы совсем не умеете гладить!“ (январь 1915)».
Такое «дамское щебетание» действительно смешно, однако судить по данному отрывку об Инессе Арманд и Кларе Цеткин было бы более чем опрометчиво.
Это творение Ерофеева представляет самостоятельный интерес в той мере, в какой позволяет судить о внутреннем настрое и психологическом состоянии писателя в последний период его жизни. Что до авторского текста, он здесь минимален – это короткие злые комментарии, по-ерофеевски ироничные, которые просто являются связками компонуемых отрывков из чужих текстов. Тематически перед нами своего рода пародия на «лениниану» – художественные и публицистические произведения, в СССР посвящавшиеся «ленинской теме» самыми разными авторами, среди которых бывало немало откровенных халтурщиков и конъюнктурщиков. Одновременно тут проявилось – новое по тем временам – агрессивное дискредитирующее отношение к Ленину, истоки которого понятны и вряд ли требуют ныне комментариев.
ПИСАТЕЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА
В этой главе говорится о творчестве писателей, совсем не похожих как авторы друг на друга, но работающих вместе в Литературном институте им. А. М. Горького, уникальном писательском вузе, не имеющем аналогов за рубежом, который мог быть создан, пожалуй, только в условиях великого СССР. Если точнее, речь идет не о всех его писателях, а о нескольких прозаиках и одном драматурге: о творчестве ныне действующего ректора института С. Есина, а также его профессоров, доцентов и преподавателей В. Гусева, В. Орлова, А. Проханова, Р. Киреева, А. Дьяченко.
(О некоторых поэтах Литературного института тоже рассказывается, но ниже, в других разделах пособия, посвященных поэзии 90-х годов.)
Как современный пример попытки создания художественно-литературной «ленинианы» в позитивном, а не пародийном плане невозможно обойти вниманием роман Сергея Есина «Смерть титана». Эта книга – заметное явление в литературе 90-х годов.
Выше уже упоминались некоторые произведения данного прозаика. Имя его стало пользоваться известностью после того, как в 1976 году вышел сборник его прозы «Живем только два раза». «Имитатор» – роман, впервые изданный в середине 80-х годов, но до сих пор остающийся наиболее популярным у читателей произведением Есина. В центре его – одна «вечная» морально-философская проблема. Подзаголовок произведения («Записки честолюбивого человека») уже позволяет составить о ней представление. В центре «Имитатора» художник Семираев – человек внешне вполне благополучный и интеллигентный. Однако это один из тех людей, на которых невозможно положиться в трудную минуту. Даже самые естественные нормы человеческой нравственности Семираев лишь имитирует, заменяя искренность актерством. Во имя того чтобы комфортабельно устроиться в жизни, добиться личного успеха, он потенциально способен переступить через совесть и честь – вообще готов на все. Он предельно эгоцентричен и постоянно занят наблюдением различных движений своей души. Однако, зло иронизируя над окружающими, он неожиданно способен и на самоиронию, даже на сарказм по отношению к себе. Более того, малоприятный Семираев, пожалуй, поневоле наиболее беспощадный судья для себя же самого. К Семираеву не вполне приложимы какие-либо однозначные характеристики («прагматик», «конформист», «предатель» и т. п. – хотя соответствующие компоненты, несомненно, присущи его психологическому облику и проявляются в его жизненном поведении). Какой-то тщательно скрытый духовный надлом или ущербность угадывается в этом герое. Можно утверждать, что в «Имитаторе» писатель Сергей Есин с пониманием отобразил новый для российской действительности реальный жизненный тип, лично ему хорошо известный. Семираев – это, так сказать, в определенном смысле «герой нашего времени».
У романа острый и увлекательный для читателя сюжет. Но особая сторона романа – языковая. «Имитатор» написан Сергеем Есиным от первого лица. При этом речь главного героя, который и является рассказчиком, содержит много тонких смысловых нюансов, имеющих исключительно большое значение для понимания смысла его поступков и внутренней логики характера.
В 90-е автором опубликовано несколько произведений.
В центре одного – сотрудник похабненького органа очень свободной печати под названием «Эротическая правда». Стоит он солнечным погожим днем четвертого октября 1993 года на Краснопресненском мосту и созерцает, как по российскому все ж таки парламенту лупят прямой наводкой зеленые танки, точно в банановой республике. Внутри у него при этом, ну конечно, клубятся всякие тонкие экзистенциальные противоречия, сочиняются сущие Достоевские «Записки из подполья» – прямо-таки словесным поносом исходит эротический журналист, демонстрируя самому себе, как не чуждо ему интересное страдание!.. Однако всерьез волнует его сейчас отнюдь не судьба тех самых полутора тысяч, о которых позже написали с гневом газеты, а лишь одно: как бы в профессионально-гонорарных целях подобраться чуть ближе. Для этого надо миновать оцепление. Что же откалывает хлыщ из порнографического издания? Он тут же наспех, но умело накладывает дамский макияж, взбивает свои длинные волосенки и, шевеля нижним бюстом, уверенно плывет вперед. И знаете, это ходячее олицетворение начавшихся перемен и «общечеловеческих ценностей» сразу так приглянулось стражам нового порядка, что его беспрепятственно пропускают! Это – из повести С. Есина «Затмение Марса» (Юность. – 1994, октябрь).
Спец по «эротической правде» имеет основания переживать в душе, когда ерзает на мосту перед Белым домом. Он отпрыск достойных родителей, и кое-какие остатки совести, оказывается, изжить не смог. А дело в том, что позавчера он, говоря его же словами, «написал письмо без подписи на имя министра внутренних дел о том, что во время беспорядков на Смоленской площади мною, патриотически настроенным молодым демократом, среди бунтовщиков был замечен ведший себя предосудительно и занимавшийся коммунистической пропагандой преподаватель госуниверситета… Конечно, время сейчас не такое, чтобы коммуняку сразу взять за шкирку, но в компьютер занесут». И вот теперь «молодой демократ» видит свою так называемую демократию в действии… Нервы и психика оказались слабоваты – пожив еще в светлом сегодня, продолжив по инерции ретивые попытки «вписываться» в него, юный извращенец кончает «столичной психиатрической клиникой». Там он хранит под подушкой видеокассету «с записью передач Си-эн-эн о бомбардировке и штурме Белого дома».
Могут быть разные мнения о том, сколь литературно убедителен подобный жизненный финал наглого, развращенного субъекта. Впрочем, С. Есин продолжает этим не очень человеческим образом творческое варьирование того реального типа, который ранее уже был им подмечен (романы «Имитатор», «Соглядатай» и др.).
Основная часть несомненно главного его романа «Смерть титана» была напечатана журналом «Юность» в конце 1998 – начале 1999 года. Он-то и посвящен Владимиру Ильичу Ленину. Роман написан от первого лица. Герой, уже переживший инсульт и понимающий, что ему немного осталось, вспоминает свою жизнь, размышляя о ее перипетиях, и думает о том, что произойдет после его смерти:
«Какую чепуху, какие немыслимые архиглупости напишут обо мне после моей смерти. Какие придумают многозначительные и судьбоносные подробности. Как изгадят мою личную жизнь, возьмутся за моих родственников, засахарят или измажут дегтем моих друзей или близких. Но были ли у меня близкие? А что наплетут о моей якобы страсти к власти, о диктаторских наклонностях, о политической изворотливости и беспринципности. По-своему писаки, а они традиционно были, есть и будут писаками продажными, – по-своему эти продажные писаки правы… Им надо что-то публиковать, а материалов почти нет. В томах и томах, которые я написал, работая как поденщик, нет ни слова обо мне лично. Политический писатель, который в своих сочинениях не говорил о себе. Общественный деятель, который никогда не писал и теперь уже, наверное, не напишет мемуаров. Это мои замечательные соратники, перья и витии революции, сейчас, наверное, лихорадочно делают небольшие записи и заметки, которые со временем пойдут в дело, превратятся в личные воспоминания, которые без конца и много десятилетий подряд будут цитировать, потому что это воспоминания обо мне. Мои доблестные соратники, которые уже, наверное, прикинули, что Старику наступает конец и кому-то надо заступать на его место. Не будем решать сейчас, кто из них достоин, это если не продумано до конца, то все же обдумано. Сейчас не будем снабжать каждого картинным эпитетом. Со временем они сами назовут себя верными ленинцами. Эпитеты – это прерогатива публицистики, и они мало что говорят по существу. Этих ленинцев, товарищей, если пользоваться сегодняшней пролетарско-партийной терминологией, уже давно только товарищей по работе, я часто, будто наяву, вижу сейчас и без эпитетов».
Разумеется, перед нами все-таки не мысли Ленина как таковые, а их изображение писателем. Прозаик пробует выразить то, что в его понимании мог бы думать герой о себе и своей жизни. В случае с Лениным это особенно трудно, учитывая интеллектуальные масштабы его личности. Тем не менее художественная литература от века действует именно так. Ленин в романе вспоминает своих умерших родителей и старшего брата – психологически это вполне правдоподобно в ситуации предсмертной болезни:
«Время удивительно раскрашивает события. Уже мне самому, чтобы вспомнить лица отца, мамы, казненного в двадцать лет Саши, требуются определенные усилия, а что же сказать о летописцах? Для них это будут родители и старший брат, „погибший от руки самодержавия“. ‹…›
В будущих сочинениях и официальных энциклопедических справках самую большую сложность вызовут мои родители. Дело, конечно, не в них, а в том, чтобы нив коем случае не отдать вождя новой, коммунистической России в руки инородцев. Пока я жив, это не выпячивается и все делают вид, что мое происхождение никого не интересует. Это неправда. Всегда будет интересно знать, где и как родился великий человек – не будем про себя скромничать, называть себя рядовым и сермяжным мужиком, – как он рос, с кем дружил. Здесь сплетутся прелестные картины, полные нравоучения и ходульности. Я и сам уже многое не помню и с удовольствием слушаю сестер и Надежду, которые по-женски украшают жизнь и помнят мелочи. Но ведь каждый помнит так, как хотел бы запомнить, как запало ему при первом рассказе или „как должно быть“. ‹…› Так пусть попробуют. Но сначала пусть узнают, что широкие скулы вождя – это не оттенки какой-нибудь рязанской „малой родины“, где четыре века назад переночевали татары. Вождь на четверть калмык – это „приданое“ бабки по отцу, и только на четверть – русский.
Но сначала разберемся с другим дедушкой, по матушке. У этого дедушки удивительно – для всезнающих черносотенцев, которые будто бы это и раскопали, – подозрительное отчество Давидович. ‹…›
Я хорошо помню, когда в октябре семнадцатого в крошечной комнатушке в Смольном мы сидели с товарищами и формировали правительство, то я предложил на пост министра – потом мы стали их называть наркомами, – на пост министра внутренних дел Льва Троцкого, тоже с подозрительным отчеством Давидович. Он отказался, приведя странный мотив: стоит ли, дескать, давать в руки врагам мое еврейство. При чем здесь еврейство, когда идет великая международная революция? Но это имело, оказывается, свой смысл. Ни для кого не секрет, конечно, что евреи – древнейшая нация с высокой дисциплиной, с внутренней племенной спайкой и удивительной организованностью умственного труда. Как-то (когда и что – знает только Надежда Константиновна с ее поразительной памятью на имена, даты, цифры) в разговоре с Максимом Горьким я обронил в полемическом запале: „Умников мало у нас. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови“. Это верно, но лишь отчасти, не буду же я здесь обращаться к школьным прописям и поднимать из гробов тени великих русских умников. Среди евреев много знаменитых философов, ученых, врачей и артистов. Великий Маркс, очень крепко недолюбливавший свое племя, в конце концов тоже был крещенным в лютеранство евреем, да вдобавок ко всему, по словам Бакунина, „пангерманским шовинистом“. Положа руку на сердце, я должен сказать: нет во мне этого, я полностью свободен от какого-либо национализма. Может быть, здесь сознание разнообразных кровей, текущих в моих жилах? Но откуда тогда такое ясное осознание себя именно русским?
Во всех заполняемых анкетах и листах переписи я постоянно пишу – „великоросс“, хотя должен сказать, что примкнуть к древнему племени было бы не менее почетно. И все-таки, несмотря на то что кое-кому из врагов действительно хочется сделать меня, как говорят в Одессе, „немножечко евреем“, мой далекий дед Александр Бланк евреем не был. И отчество, вопреки всем досужим рассуждениям, было не Давидович, а Дмитриевич».
Думается, подобные «национальные» проблемы все-таки больше в духе настоящего времени, а не начала 20-х годов. Мысль реального человека 20-х годов развивалась бы по иным направлениям. Впрочем, роман рассчитан именно на нас, а девять-десять лет назад национальные корни Ульянова-Ленина действительно муссировались некоторыми журналистами с пылом, достойным лучшего применения.
А погибшему брату посвящаются строки и в другом месте романа:
«Конечно, Саша был удивительный человек. От него исходил какой-то нравственный магнетизм, притягивавший к себе людей. В раннем детстве я хотел на него быть во всем похожим. Старшая сестра Аня, когда мы как-то вспоминали с ней наши детские годы, рассказала, что в детстве, если ко мне обращались с каким-нибудь вопросом, я неизменно отвечал: „как Саша“. Но мы были все же очень разные, и в дальнейшем эта разность приводила ко всяким шероховатостям в отношениях. Саша был больше дружен с Аней, и они постоянно о чем-то шептались. Саша внутренне и даже внешне скорее походил на мать, а вот я больше похожу на отца. Я бы даже сказал, что в юности он был отчетливо глубже и содержательнее меня, но его смерть заставила меня внимательно посмотреть и вокруг и в глубь себя. Ему ведь был только двадцать один год, когда закончилась его жизнь. И в двадцать один год он уже вошел в историю. Как бы потом, размышлял я в те годы, ни повернулась официальная, писаная история России, но человека, сознательно и целеустремленно, зная, что наверняка погибнет, занесшего руку на царя, уже не забудут. Не получится забыть. Этим царем был Александр Третий – отец последнего императора Николая Второго».
Итак, перед нами совсем другая «лениниана», чем у Венедикта Ерофеева. В наши дни, весьма неблагоприятные для развития «ленинской темы», произведение, где этот человек изображен с несомненной симпатией, интересно и важно уже как факт. Кроме того, тут сделана попытка понять изображаемого героя. Октябрьская революция, которая не имела в принципе почти никаких шансов на удачный исход, учитывая интервенцию и сильнейшее, притом нередко героическое сопротивление Белой армии, тем не менее победила, ибо ее возглавил несомненный гений.
Агрессивный атеизм Ленина, равно как еретические метания Л. И. Толстого и С. А. Есенина, атеизм В. Маяковского, Демьяна Бедного и др., – это личная трагедия конкретных людей. Не нашим судом ее судить. В случае с Лениным дело страшно усугубляется тем, что он четыре года обладал огромной личной властью в революционном государстве и деятельно проявил свой атеизм известными ныне служебными записками с одобрением расстрелов подозреваемых в «контрреволюции» священнослужителей и монашествующих. Тем самым была поднята не опадавшая впоследствии до начала Великой Отечественной войны и возрожденная Никитой Хрущевым с середины 50-х годов волна гонений на церковь (мерзости наподобие Бутовского полигона появились уже после Ленина, но первотолчок был дан именно при нем). Об этих гонениях я знаю не понаслышке, поскольку в них в довоенные годы погибли почти поголовно взрослые мужчины из большого сибирского рода моего отца (мой родной дед и его многочисленные братья всех степеней родства были православными священнослужителями, как и их отцы, деды и прадеды).
Ввиду болезненности темы позволю себе такое отражающее подлинные исторические факты отступление. В декабре 1919 года после отхода колчаковских частей в старинный сибирский город Кузнецк ворвался отряд некоего Рогова, именовавшего себя красным партизаном и анархистом, но по сути бывшего просто головорезом и садистом. Городские соборы и церкви были немедленно разграблены и подожжены; священнослужители (и не только они) зарублены; некоторых людей прикалывали штыками на церковных алтарях. Я это вспоминаю к тому, что настоятелем Спасо-Преображенского собора Кузнецка был, выражусь так, не чужой мне протоиерей Виссарион Тихонович Минералов… Однако в конце 30-х годов, «при Сталине», Рогова наряду со многими подобными «героями» гражданской войны поделом расстреляли как врага народа (которым он и был по своей сути); правда, некоторые роговцы в мои школьные годы еще мирно доживали свой век в городе, переименованном в Новокузнецк (одно время Сталинск), расхаживали благостными дедушками и «красными партизанами». Так вот, я знаю, за что конкретно мне винить «анархиста» Рогова и его бандитов. Но Ленин, Марат, Кромвель, Стенька Разин, Уот Тайлер, Спартак и прочая и прочая находились далековато от места событий.
Естественно, я как человек многое отдал бы за то, чтобы в России начала XX века не было никаких революций, чтобы и я не остался в своем роду «последним из могикан» и чтобы страна решила тогда свои проблемы иным, бескровным и не кощунственным, путем. (Шансы построить таким путем социально благополучное общество, при этом оставшись сильной державой, у России в начале XX века безусловно были.) Но гражданская война и иностранная интервенция фактически предопределили основные последующие события, в том числе и все более маниакальное преследование «классовых врагов». И английские сектанты-пуритане в XVII веке, и французские санкюлоты в веке XVIII в похожих обстоятельствах действовали похожим образом – у революций однотипная логика развития. И притом в их мутной воде всегда ловит свою рыбку множество откровенных мерзавцев и просто зверей в облике человеческом. Я своими глазами читал у Маркса и Энгельса о недопустимости преследования религии и церкви. Там же читал и характерное для данных авторов весьма трезвое и прагматичное объяснение причин такой недопустимости. Но вот вам революция – и леоновский профессор Шатаницкий тут как тут: «недопустимое» преследование пошло полным ходом…
Ни минуты не сомневаюсь, что личное покаяние очень не повредило бы потомкам разного рода комиссаров, следователей ЧК, деятелей Гулага и пр. и пр. Пока некоторые из сих потомков, как известно, в финале «перестройки» вместо покаяния бойко ограбили народ «этой страны», с которого в августе 1998 года они в придачу к уже снятым ранее (начиная с 1992-го) семи шкурам нагло содрали и восьмую – кстати, под отвлекающие прибаутки о необходимости вынести такого-сякого злодея Ленина из Мавзолея. А вот потомкам «бывших», полагаю, надо иметь силу не злобствовать и попробовать простить самих деятелей революции – во всяком случае тех, кто был искренен, заблуждался, кого попутал Шатаницкий и кого в итоге их атеистических философствований, а тем паче таковых же деяний, постигла все-таки страшная духовная судьба. Участь похлеще любых расстрелов.
Что до Ленина как такового, кстати, полагаю несомненным: массовыми репрессиями против инакомыслящих да противоборствующих «отличились» бы, дай им судьба добраться до власти, многие другие радикальные мыслители, которых, однако, мы все относим к числу глубочайших умов человечества (Макиавелли, Спиноза, Шопенгауэр, Ницше и др.), – с тем уточнением, что вряд ли кто-то из перечисленных сумел бы при этом основать жизнеспособное государство, а тем более великую державу, как сумел Ленин. Тем же самым «отличались» в реальности такие вальяжные самодержцы всероссийские, как Петр I, Николай I, Николай II и др. (Тему «массовых репрессий» вообще приходится ставить по-новому после 4 октября 1993 года, когда за несколько часов в центре Москвы было зверски уничтожено множество заведомо невинных людей во имя того, чтобы сохранить власть группы лиц, перед этим за считанные годы разваливших великую державу, – о чем и рассказано в вышерассмотренных произведениях Ю. Бондарева, С. Есина и др.) К идеям Ленина, в XX веке активно повлиявшим на весь мир, и его политическим решениям можно и должно относиться весьма дифференцированно, но этот человек – один из тех, кого люди будут помнить и через триста лет, нравится это сегодня кому-то из нас или не нравится. Причем помнить не как «гения зла», а как просто гения. Полсотни томов его сочинений говорят сами за себя. Равным образом как французы и сейчас отмечают дату своей Великой революции в качестве национального праздника, так и нам от даты Октябрьской революции, конечно, никуда не уйти…
Итак, избранный автором в качестве своего героя исторический деятель – фигура исключительно крупная и для литературного изображения в высшей степени подходящая. Роман о Ленине неизбежно привлечет читательское внимание. Однако сказанным значение данного романа не исчерпывается.
Для писателя это книга, где он едва ли не впервые отказался от варьирования на разные лады непривлекательного образа, открытого когда-то «Имитатором», – новый рабочий этап. (Кстати, есть немало случаев, когда и в ходе и в результате работы над образом выдающегося человека писатели резко набирали творческие силы и просто как люди делались лучше, прямее, нравственнее. Соприкосновение с личностью Ленина в этом смысле несет в себе ценный потенциал.)
Для читателя это на сегодня, пожалуй, лучшая книга С. Есина.
Ленин «победил» Семираева. Интересно, конечно, навсегда ли. Дело в том, что реальная жизнь часто выводит писателей на людей наподобие Семираева и крайне редко на людей, по уровню интеллекта напоминающих Ленина. Разрабатывать такой редкий образ вариативно-типологически, как сделал С. Есин с «имитатором» Семираевым, весьма трудно. Он может остаться в творчестве данного автора уникумом. Такое в литературе случается. Впрочем, время покажет.
Владимир Гусев, о «Дневнике» которого уже упоминалось в начале пособия, опубликовал в 1999 году сборник своей художественной прозы «С утра до утра». В нем есть сюжетные лирические этюды, но преобладают зарисовки «с натуры» различных эпизодов писательской жизни. Такие произведения имеют свою объективную ценность. Имен героев автор не открывает «широкому читателю», что правильно: порой оно этичнее, а знающий человек и так все понимает – «Не надо называть, узнаешь по портрету…». К слову, сам я активно не люблю изображаемую изнанку литературной жизни, и, пожалуй, к лучшему, что «широкий читатель» слабо ее знает. Но она есть. В книге имеются истории в духе «да, были люди в наше время!», с описанием сумасбродных выходок подгулявших литераторов (невыдуманность, реальность жизненной подосновы которых, впрочем, не подлежит сомнению), но есть просто по большому счету интересные этюды, которые сильны не красочностью описываемых приключений героев и Бахуса, а авторским психологизмом. Например, рассказ «К вопросу о жанрах» из цикла «Так жили…». Иностранец (видимо, в Литературном институте) пытается выспрашивать известного поэта о его литературных мнениях:
«– Гм. Подождите… говорить. Тут… так. Чисто символически.
Поэт достает из портфеля две бутылки водки и наливает ее до самых-самых краев в три тонкостенные стакана.
– Гм. Чисто символически, – повторяет он и нехотя-уныло выпивает водку.
– Я? Э? Водка? Э? – спрашивает иностранец.
– Вам не обязательно выпивать весь стакан, – поясняю я. – You mustn't drink off the whole glass.
Тот несколько успокаивается и приступает:
– Господин Поэт, что вы думаете о творчестве Осипа Мандельштама?
– Гм, – говорит Поэт, покойно глядя в одну точку на углу стола.
Томительно (для нас с иностранцем) тянется пауза.
– Гм, – говорит, в свою очередь, иностранец. – А что вы думаете о творчестве Бориса Пастернака?
– Гм, – отвечает Поэт. Порядок тот же.
– Что вы думаете о творчестве Анны Ахматовой?
– Гм.
– А что вы думаете о творчестве Велемира Хлебникова? – спрашивает иностранец, начиная сгребать со стола свой магнитофон.
Вдруг Поэт живо перемялся на стуле направо-налево – и сказал:
– Гм. Русское явление.
Поэт!»
Особняком в книге стоят историческая повесть «Взятие Казани» и рассказ об эпизоде гражданской войны – тоже, стало быть, в наши дни уже исторический. Владимир Гусев получил в свое время известность именно как прозаик исторической темы: он в нее «вживается» с чисто филологической тщательностью (Гусев – доктор филологических наук и профессор). «Взятие Казани» лишено присущих многим историческим романам и повестям манерно-тягучих колористических описаний. Быстро развивающееся действие, энергичные диалоги (тоже без лишних попыток имитировать язык эпохи). Характеры лепятся четкие, человечески убедительные; их достоверность можно оспаривать с трудами историков в руках, но перед нами художественное произведение, а не очередное исследование на тему казанского взятия. Хорошо выписан князь Курбский, хорошо – казанский царь Едигер, отлично – воевода Воротынский. Царь Иван, будущий Грозный, несколько опереточен, самовлюблен и склонен к истерии; такой характер, если его прикидывать на реальных русских царей, более подходит Павлу I, да и то не совсем. Все-таки Иван, что бы о нем ни писал Карамзин и все, кто вслед за ним, – один из двух царей (Иван Грозный и Петр I), оставшихся в русском устном народном эпосе, где он фигура уважаемая.
Суть происходящего характеризуется в повести так:
«Русские бились за „дело Христово, за веру православную“ и зато, что на громадном пространстве от студеных морей до индийского жемчуга и китайского чая возгоралась новая сила, тайной сути которой не знали ни все встречаемые племена и народы, ни сами урусы-русские.
Татары бились за исконное владычество свое и своих многочисленных сородичей и близких народов на этих великих пространствах великой суши». (Впрочем, и за Аллаха, надо полагать.)
При внешней краткости своей повесть обширно и глубоко содержательна. Есть в ней и явная (вполне естественная и читательски ожидаемая) проекция на настоящее время, в частности на тему нынешнего усмирения русской армией головорезов на Кавказе.
Таково нынешнее творчество Владимира Гусева – одного из писателей Литературного института.
Владимир Орлов, сам относящий свое творчество к особому «магическому реализму», в 90-е годы опубликовал в журнале «Юность» роман «Шеврикука, или Любовь к привидению», выходивший небольшими отрывками на протяжении четырех лет.
Орлов Владимир Викторович (род. в 1936 г.) – прозаик, автор романов «Соленый арбуз» (1965), «Происшествие в Никольском» (1975), «Альтист Данилов» (1981), «Аптекарь» (1988) и др. Профессор Литературного института им. А. М. Горького. Живет в Москве.
«Шеврикука» удостоена премии им. Валентина Катаева. Последние три романа («Альтист Данилов», «Аптекарь» и «Шеврикука») В. Орлов намерен объединить в «Останкинский триптих»[11]. Если это так, то центральный среди них «Аптекарь».
Повествование в «Аптекаре» начинается в останкинском пивном автомате, где есть своя устоявшаяся компания из четырех мужиков, и компания эта как раз скинулась на бутылку водки. Но распитие водки здесь запрещено, да и милиция некстати забрела в автомат, и поэтому компания удалилась для задуманного на детскую площадку:
«Сорвали штемпель, дядя Валя держал стакан. И тут из бутылки вышла женщина. Бутылка и поначалу насторожила дядю Валю. В Останкине водка идет исключительно Московского ликеро-водочного завода, редко когда – Александровского. А тут на крышке было обозначено: Кашинский ликеро-водочный завод. Хотели дать в морду Грачеву, но тот справедливо пожал плечами – ходили бы сами. Кашинский, значит Кашинский, лишь бы стакан был чистый. И все же нехорошее чувство возникло у дяди Вали. Сам он не стал открывать бутылку, а передал ее Михаилу Никифоровичу. И когда Михаил Никифорович открыл бутылку (а дядя Валя держал стакан рядом), из нее вышла женщина. А может, девушка. Женщина-то хрен с ней, но бутылка-то оказалась пустой. Никакой жидкости в ней уже не было. Игорь Борисович вздрогнул. А тут женщина, которая не просто стояла как человек, а плавала над детской площадкой, заговорила».
В. Орлов обладает кипучей сюжетной фантазией, но его метод предполагает балансирование на грани реального и ирреального. И дав героине так эффектно явиться в сюжете, он тут же максимально усиливает именно ощущение жизненного правдоподобия этого невероятного появления, начиная нагнетать конкретные детали:
«Здесь я передаю сведения, какие мы получили от четверых. Михаил Никифорович и вообще не большой оратор, да и камни бы ему не мешало подержать во рту, дяде Вале в этот раз не хотелось бы верить, язык Игоря Борисовича от нетерпения лишь трясся, Филимон Грачев с большим бы удовольствием, нежели говорил, руки бы жал, поэтому мы, слушая четверых, информацию из их нервных слов как бы выковыривали. Итак, женщина не только вышла из бутылки, но и заговорила. Слова ее были примерно такие. Она, мол, раба человека, который купил эту бутылку. Все выполню, что он захочет, по любому желанию. Навечно будет так. И далее в этом роде. Дядя Валя ей возразил, что пошла бы она подальше, но пусть вернет при этом водку. Тем более что Игоря Борисовича бьет колотун. Она тоже возразила, что она кашинский эксперимент и что колотун в ее образовании – пробел. К словам об эксперименте отнеслись серьезно, но Игоря Борисовича надо было спасать. „Давай две бутылки коньяку армянского розлива и портвейн „Кавказ“, раз ты придуриваешься, и катись, а не то сдадим в милицию!“ – сказал ей дядя Валя. Она как-то поморщилась чуть ли не брезгливо, будто ждала более замечательных просьб, но востребованные бутылки возникли. Потом она опять сказала, что она раба хозяина бутылки („Хозяев! – поправил ее дядя Валя. – Мы – на троих!“), другие слова говорила, некоторые проникновенные, выходило, что она то ли фея, то ли ведьма, то ли какая-то берегиня. Она и на землю опустилась, а ножки у нее были стройные, или же их обтягивали хорошие джинсы. Михаил Никифорович осмелел и попытался даже из дружеского расположения взять женщину за талию. Она тут же вспыхнула, как бы взорвалась, и исчезла. Кашинская бутылка выпала у Михаила Никифоровича из рук и разбилась. Все вокруг зашипело, а голые ветки тополей и яблонь долго вздрагивали. Остаться на детской площадке компания, понятно, не могла…»
Потом эта женщина войдет в компанию под именем Любови Николаевны, вызовет диковинные и устрашающие события, магией и колдовством все переворотит в жизни каждого, а в итоге дядя Валя и примыкающий к названной компании кандидат наук развеселый Бурлакин даже погибнут страшной смертью (Бурлакина погубит некий отвратительный Мардарий, порожденный колдовством «фен»). Аптекарь Михаил Никифорович, наиболее глубокая натура среди героев романа, так и не сумел разобраться в том, ради чего и кем была послана «фея» в наш мир, зло она несла или добро, или же и то и то вперемешку. Он склонен и себя самого винить за непротивление «недоброму»:
«Находясь внутри замкнутых забот дня, внутри останкинского семьдесят шестого года, внутри очередного пролетающего столетия, Михаил Никифорович не забывал и о своем пребывании в вертикальном движении человечества во времени и пространстве. Вернее, случалось, и забывал и нередко забывал, не думал об этом, но рано или поздно мысли о собственном местонахождении или состоянии в протяженно-бесконечной судьбе живого в нем возобновлялись. Как возобновились теперь. В том вертикальном движении человечества, или не вертикальном, а в спиралеобразном, или вовсе в другом, но в движении он был и Михаил Никифорович Стрельцов, останкинский аптекарь, и фессалийский врач и царь Асклепий, и суматрский знахарь, кулаками старавшийся выдавить злого духа из груди недужного, и инкский жрец, почуявший избавление в горечи хинного дерева, и увлеченный ученик исцелителя гладиаторов, а затем и придворного врача Клавдия Галена, корпевший в аптеке учителя в Риме над составами пластырей, мыл, лепешек и пилюль, и енисейский шаман, желавший звоном нагретого бубна из ближнего чума облегчить мучения роженицы, и переписчик лечебника в келье на берегу Белого озера, и ведун-мельник, пастух заложных русалок, и сиделец зеленной лавки в Коломне, и счастливый алхимик, в неизбывных стремлениях к великому эликсиру добывший бензойную кислоту из росного ладана, и цирюльник в Севилье, в Гренобле или Дрездене, готовый отворять кровь и устраивать судьбы, проказник и отчасти шарлатан, но бескорыстный, от озорства, от желания отвести от сограждан печали, и почитатель Пастера, способный погибнуть, но испытать на себе спасительное для людей соединение веществ, и фельдшер, под пулями вблизи аула Салты помогавший Пирогову оперировать раненого, и фронтовой врач из тех, с кем сводили дороги войны его отца… И иные ряды выстраивались в воображении Михаила Никифоровича прежде в минуты его воодушевлений или, напротив, в минуты драматических неспокойствий или самоедства. Иногда приходили на ум одни имена, иногда-другие. Но всегда вспоминались Михаилу Никифоровичу личности самоотверженные, подвижники, добровольцы, воители с болью людской, пусть часто и неудачливые, пусть и выросшие в заблуждениях, они были истинно избавителями и защитниками. Мысли о них, пребывание Михаила Никифоровича фантазией в их историях и в их сущностях, в их шкурах укрепляли его. Какое благородное дело – быть на земле лекарем и подателем лекарств! Но был ли Михаил Никифорович в последний год в Останкине избавителем и защитником? Не устранился ли? Не отчаялся ли, посчитав, что он бессилен что-либо изменить в этом мире, и не отошел ли малодушно в сторону, предоставляя распухать недоброму? Да, в саду от смерти нет трав. Носам-то сад должен быть! Сам-то сад должен цвести!»
В романе, как можно почувствовать из цитированного, присутствует своя серьезная философия. Пусть временами она излишне тяжеловесна, как здесь, но она так интонирует книгу, что прочесть «Аптекаря» как легкожанровое произведение в духе «фэнтэзи» невозможно. Как и весь «Останкинский триптих», роман многозначителен, Я рискнул бы заявить даже, что «Аптекарь» – большая удача писателя, чем «Альтист Данилов» (хотя именно первому роману сопутствовал шумный успех). Он глубже, зрелее и является смысловым центром «триптиха» не только потому, что по хронологии стоит в нем вторым. «Альтист Данилов» вызывал у читателей прямые ассоциации с «Мастером и Маргаритой» Булгакова, и было из-за чего. Одним такое прямое внешнее сходство нравилось (и они наивно восторгались: «Второй Булгаков!»). Других именно оно раздражало по профессионально понятным причинам: «вторые» в литературе – это что-то вроде знаменитой булгаковской же «осетрины второй свежести»… Думаю, что если бы на месте «Альтиста» был «Аптекарь», даже проблемы сходства не возникло бы. В «Аптекаре» мистика и фантастика вводятся тоньше и заведомо по-своему, по-орловски, а не каким-либо иным образом. Это же характерно для «Шеврикуки».
Александр Проханов был на протяжении 90-х годов притчей во языцех «демократических» СМИ как главный редактор «красно-коричневой» и «ультранационалистической» (как они обычно выражались) газеты «День», переименованной затем в «Завтра».
Проханов Александр Андреевич (род. в 1938 г.) – прозаик, автор книг «Иду в путь мой» (1971), «Время полдень» (1977), «Место действия» (1980), «Дерево в центре Кабула» (1982), «В островах охотник» (1984), «Горящие сады» (1984) и др. Главный редактор газеты «Завтра». До недавнего времени работал также в Литературном институте им. А. М. Горького. Живет в Москве.
Однако этот прозаик, в начале 80-х ставший известным своими смелыми экспедициями в Афганистан (где он подбирался порой куда ближе к душманам, чем иные тараторившие о боевых успехах советских войск – с брони стоящего посереди Кабула танка – журналисты), не прекращал в эти годы художественного творчества. Конец десятилетия даже ознаменовался у Проханова несомненным творческим подъемом. В 1998 году им издан роман о первой чеченской кампании «Чеченский блюз».
Сюжет романа основан на подлинных событиях неподготовленного, шапкозакидательского ввода российской бронеколонны в столицу Чеченской республики Грозный в новогоднюю ночь на грани 1994–1995 годов. Получен приказ тогдашнего министра обороны, и его зачитывает офицерам бригады некий генерал. Там утверждается, что «в силу своей малочисленности и неподготовленности противник не может оказать серьезного сопротивления регулярной армии». Офицеры отмалчиваются.
Однако начальник штаба не выдерживает и говорит во всеуслышание, что «в штабе бригады нет достаточной информации о противнике. О численности, вооружении, местах дислокации, способах противодействия. Бригада из-за нехватки времени была лишена возможности произвести разведку собственными силами, а из оперативной группы так и не поступили сведения, основанные на данных агентуры… Мне кажется, продвижение бронеколонн сквозь городские кварталы без поддержки пехоты, без предварительного выставления блокпостов на маршрутах противоречит классической тактике боя в условиях города. В академиях нас учили использовать опыт последних войн. Есть опасность подставить технику и личный состав под удар гранатометов и снайперов… ‹…›
– В силу сказанного, – завершал выступление начштаба, глядя не в лицо генералу, а на его восточные чувяки, попиравшие карту города, – кажется целесообразным перенести на неделю сроки вхождения в город. Провести интенсивную разведку по маршрутам движения. Составить подробные карты-схемы с указанием для каждого блокпоста его места, названия улицы, номера дома. Совершить привязку артиллерийских целей на перекрестках и крупных объектах, которые противник может использовать в качестве опорных пунктов. Время отсрочки употребить для ускоренного слаживания, подготовки личного состава подразделений…»
Однако бригаду бросают в город, который решено все же спешно взять по случаю Нового года и дня рождения Минобороны (и еще по одной скрытой причине, которая выясняется в романе постепенно). И вот бронеколонна идет по словно вымершему, но освещенному, нарядному новогоднему Грозному, затем занимает привокзальную площадь.
Главный герой, капитан Кудрявцев «увидел, как из соседних проулков, улочек на освещенную площадь стали выходить люди. Их появление вызвало облегчение. Город не был безлюдным, околдованным, не был брошен обитателями. Люди группами подходили к машинам – мужчины и женщины. Издали были видны их улыбки, цветные платки, поднятые в приветствиях руки. Подходили к танкам, кланялись, протягивали блюда с виноградом и яблоками, белые полотенца с хлебами».
«– Где Дудаев? – Кудрявцев спрыгнул на землю и стоял теперь перед пышноволосым мужчиной, разглядывая его смуглое лицо, белую рубаху под кожаным долгополым пальто, золотую цепочку на округлой шее. – Где боевики?
– Еще днем ушли. Узнали, что подходят войска, и ушли. Бросили Дворец, министерства, и кто как мог пешком, на машинах, сбежали. Мы – из комитета общественного согласия. Послали своих людей занять президентский Дворец. Завтра утром устроим митинг на площади в честь освободителей. Выступят наши народные лидеры».
Кудрявцева с подчиненными пышноволосый даже повел праздновать Новый год к себе домой на соседнюю улочку. Там тоже все благостно – сплошное легендарное кавказское гостеприимство и правильные речи:
«Из дома двое подростков вывели под руки старика в бараньей папахе, в длинной, похожей на кафтан телогрейке, в стеганых, обутых в калоши сапожках. Старик был белобород, белоус. На сморщенном лице выделялся сильный горбатый нос. Подслеповатые глаза были прикрыты косматыми седыми бровями. Старика подвели к Кудрявцеву, и старейшина пожал капитану руку своими холодными костлявыми пальцами:
– Дудаев кто?.. Дурак!.. На Россию замахнулся!.. Ему говорили: Джохар, ты сбесился? С Москвой дружить надо! Москва Чечне все дала. Нефть дала, города, ученых людей. Сколько Москву дразнить можно? Она терпит, терпит, а потом ударит. Вот и дождался! Чеченцы с русскими братья на все времена».
Но тут, как раз когда молодой лейтенант произносил перед «братьями» тост, в условленный миг весь город заревел «аллах акбар!», сосед чеченец всадил в горло так и не договорившему лейтенанту нож, а солдату, бросившемуся за автоматом, благостный подслеповатый старичок ловко подставил сапожок, и его тоже убили. Сидевший рядом с Кудрявцевым «седоусый профессор», к счастью для него, замешкался, «извлекая из-за ремня неуклюжий, неудобный пистолет», и капитан в суматохе сумел уйти. По площади, где сгрудилась бронетехника и толпились солдаты (которых с восточным коварством «гостеприимно» повыманивали из башен), из-за всех углов, из темных переулков, из домов, с крыш и даже с деревьев били притаившиеся до поры автоматчики и гранатометчики. Вспыхнуло горючее, загремели взрывы…
Самое страшное то, что все это не выдумка писателя. В Грозном тогда именно так вероломно встретили «освободителей».
Кудрявцев сумел собрать пятерых уцелевших солдат, и маленький отряд потом несколько дней героически держал оборону в трехэтажном доме (из которого боевики накануне выгнали русских жильцов, чтобы те не подали знак танкистам). Их пытались принудить к сдаче. Ничего не добившись, боевики послали чеченского мальчишку показать солдатам для устрашения отрезанную голову их сдавшегося в плен комбрига. Пробовали и атаковать, но отступили. Получил свое в бою с ребятами тот застольный «профессор», а пышноволосого «гостеприимного» хозяина Кудрявцев убил в рукопашной. Ворвалась наконец в город русская морская пехота, налетела авиация – только к тому времени кроме Кудрявцева уцелел лишь один солдатик (сын священника) да женщина, помогавшая им обороняться в доме…
Другая линия в романе – похождения некоего омерзительного Якова Бернера, московского «олигарха», как ныне модно выражаться. Именно его (и тех, кто стоит за ним) нетерпеливое желание дорваться до грозненской нефти и было, по роману, одной из скрытых причин неподготовленного ввода войск в Грозный. Бернер, как и Кудрявцев, фигура художественно вымышленная, но вполне понятно, что за прототипы имеются в виду.
Ныне мало кто из крупных писателей так знает (а главное – художественно чувствует) современную армию, как А. Проханов. Тема человека на войне решается им в драматическом ракурсе, до известной степени близком произведениям Ю. Бондарева о Великой Отечественной. Но Проханов больше уделяет внимания конкретике событий, их фактическим перипетиям, его словесные описания кинематографически зримы, полны энергии, стремительного движения и при этом лаконичны.
В «Чеченском блюзе», при всей злободневной документальности его темы, автором использован ряд мистических мотивов. Например, героев озаряет ясновидением, их посещают предчувствия, а из гадостного чрева Бернера однажды во время рвоты выскакивает и убегает, оглядываясь, какая-то отвратительная адская тварь… Понимать это приходится, видимо, примерно так: то, что ныне происходит в человеческом мире, его борьба и его беды, – лишь внешнее преломление чего-то иного, жизни и борьбы, идущей в сфере духовно-запредельного. Но придуманность некоторых мистических деталей все-таки ощутима. Например, мне как читателю, пожалуй, достало бы одной сильно написанной романистом сцены, в которой сельский священник отец Дмитрий во время молитвы на мгновение узрел сына, уцелевшего в грозненской трагедии.
Роман существует в журнальном варианте (Роман-газета XXI век. – 1999. – № 2) и в полном отдельном издании (1998), где под одной с ним обложкой напечатана также повесть «Дворец» (о вводе войск в Афганистан). В предпосланном публикации романа интервью «Роман-газете XXI век» А. Проханов заявил:
«– Да, я ощущаю себя советским человеком, и чем дальше, тем больше. Повторюсь, чем дальше, тем больше я ощущаю себя советским человеком. Потому что то „советское“, которое мы теряем, с которым мы расстаемся, оно чем дальше, тем больше очищается от всей пыли, всего праха и чешуи, от обыденного, от будничного и предстает как огромный космический рывок в какую-то другую альтернативу, в другой мир, в котором захотело жить человечество. Создав Советский Союз, человечество ведь попыталось жить не в этом свинстве, в котором мы все сейчас живем, когда американцы безнаказанно бомбят Ирак и Югославию, когда ради прелестей Моники Левински в воздух поднимают авиационные эскадрильи и запускают ракеты по мирным городам, когда в мире царствуют цинизм, хамство, когда Россия превращена в клоаку и происходит деградация целого континента. Советский Союз – это была попытка вынырнуть из-под такого омерзительного хода истории и войти в другое измерение, в другой космос. И вот это советское дело, этот советский порыв, эта Красная Империя – они все драгоценнее для меня, и я чувствую себя ее элементом и ее певцом».
В 1999 году А. Прохановым напечатан новый роман «Красно-коричневый» (Наш современник. – 1999. – № 1–8). В центре его – политическая борьба в России 1992–1993 годов, кульминацией которой было все то же 4 октября 1993 года.
Руслан Киреев энергично работал в литературе на протяжении 70-80-х годов.
Киреев Руслан Тимофеевич (род. в 1941 г.) – прозаик, поэт, автор рассказов, повестей и романов, сатирических стихов и прозаических фельетонов. Профессор Литературного института им. А. М. Горького. Живет в Москве.
Одна книга прозы за другой: роман «Продолжение» (1973), повести и рассказы «Неудачный день в тропиках» (1977), роман «Мои люди» (1980), роман «Подготовительная тетрадь» (1983), трилогия «Автомобили и дилижансы» (1989), сборник повестей и рассказов «Четвертая осень» (1989)… И другие книги – но почти все издано до «девяностых, роковых»! В 1994 году выходит роман «Мальчик приходил» (Знамя. – № 6). И затем – как будто автомобиль в стену врезался: выход новых произведений приостанавливается. В 1996 году издательство «Терра» напечатало «Избранное», в которое также вошли прежние романы и повести – «Пир в одиночку», «Кровли далекого города», «Победитель», «Апология». Р. Киреев переходит на публицистику и литературную критику. В интервью журналу «Роман-газета XXI век» (1999. – № 1) он рассказывает:
«Завершил большой, на два объемистых тома, проект „Сто романов о любви“. Это документально-художественные очерки о русских и зарубежных писателях, об их непростых отношениях с теми, кто вдохновил их на создание знаменитых женских образов. Беллетристику не пишу, но вот уже несколько лет работаю над своей итоговой книгой „Взгляд уходящего“. Мне кажется, после каждого писателя должно остаться в его столе что-то, что не увидело света при его жизни. „Взгляд уходящего“ относится как раз к разряду таких произведений».
В 1995 году Р. Киреев уже издал двухтомник «Музы любви», посвященный как раз «семейным тайнам» великих писателей, их женщинам – героиням творчества и его вдохновительницам. Таким образом, он продолжает большую документально-художественную тему. Вместе с тем ему грех зарекаться и от возврата к беллетристике. Безусловно, в 57 лет явно преждевременно настраиваться на «уход», прощальный взгляд и тому подобное. Лучше – на возвращение!
Драматург Анатолий Дьяченко – еще одно свежее литературное имя.
Дьяченко Анатолий Владимирович (род. в 1959 г.) – драматург, автор пьес. Работает в Литературном институте им. А. М. Горького. Живет в Москве.
Мы оговаривались в начале пособия, что не предполагаем говорить о современной драматургии подробно, но привлечь внимание к этому автору хотелось бы – тем более что его пока нередко обходят специалисты по драматургии и театру.
А. Дьяченко – автор ряда идущих в театрах России и Украины пьес – это «Фанданго» («сто страниц с антрактом»), это «Тугеза» («фофан в двух частях»), «НЬЯЯ» (восьмиричный путь) и др. Общее впечатление от их стилистики – то, что в них преломились «повернутые» на русский манер принципы «театра абсурда». Однако кое в каких из экстравагантных приемов автора можно сориентироваться, если знать о его сильнейшем увлечении философией дзенбуддизма. Он даже написал кандидатскую диссертацию по теории драматургии с соответствующим разворотом. Поскольку речь в ней не идет о пропаганде буддизма как религии, это вполне аналогично интересу к философии Гегеля, Спинозы, Маркса, Ницше и др. (Оговариваюсь потому, что был свидетелем, как некая разъяренная девушка на одном ученом диспуте доброхотно защищала от Дьяченко христианство и православие; мы такое уже наблюдали в случае с «Пирамидой» Л. М. Леонова.)
«Фанданго» начинается какой-то произносимой со сцены футуристической «заумью». На сцене ОН, оН, Он и он;
«ОН и оН под руки тащат обмякшего его.
он: (Ему злобно). Харапатахатэмэрапатаха.
Он: Харамахирата-ха-ха-ха (Весельчак). (Перехватили поудобнее).
оН: (Злобно ЕМУ). Хамарэк.
ОН: (Невозмутим).
Он: Хамарэк махамапатам-ха-ха-ха (Сморозил).
ОН: (Ухмыльнулся).
оН: Хараматитиду харма-у. (С большим сомнением по поводу лежащего).
Он: Хиридитимитухарататаха. Хириматтуху. Хама!! (С оптимизмом и иронией в тот же адрес). ‹…›
ОНИ: (Взялись за руки). Ха-ма-пу-ту-а. (Водят хоровод вокруг него).
Ха-мапу-у-а. Пу-туа-ха-ма-пу-ту-а-ха-ма. Ха-ма-ду-ту-пу-ту-а.
Хама-пу-ту-пу-ту-а. Ха-ма-пу-ту-а. Пу-ту-пу-ту-пу-ту-а».
Но вот сцена начинает обретать смысл. Один из героев («он» маленькими буквами) пытается сориентироваться в ситуации:
«он: Новый год что ли? Это мой любимый праздник. Ребят? Вы кто? Я как будто попал в сказку. (ЕМУ) Ты дед мороз что ли? Ха-ха-ха-ха-ха. Я таких еще не видел. Аты снегурочка? Ну и снегурочка, ну умора. (еМУ) А ты кого? Елку изображаешь? Странные вы, честное слово. Я еще таких не видел. Но с вами так хорошо. Так нестрашно. Как будто бы все позади».
Среди абсурдистских персонажей (дальше появляются маски животных, птиц и др.) герою оказывается роднее, ближе, «нестрашнее», чем в человеческом мире, а в наружной бессмыслице, ими произносимой, больше теплого, доброго, содержательного, чем в обычном языке человеческого общества…
«НЬЯЯ» по «крутости» своей, пожалуй, затыкает за пояс абсурдистский экзистенциализм «Фанданго» и «Тугеза». Здесь говорят внятным русским языком, хотя порой чрезмерно уж внятным – доходит до малоцензурных выражений (опять же – в случае с Дьяченко – в связи с этим приходится вспомнить не только о нравах коммунальной кухни, но и о дзенбуддистских ритуалах, где такое практикуется). На сцене три женщины, весьма откровенно и не без цинизма толкующие о мужиках и о всяких смежных с этой темой материях. Разговор временами идет под грохот пролетающего невдалеке поезда. Одна из собеседниц ждет с этим поездом своего кавалера – солдата.
У пьесы как бы два конца. В одном поезд пролетает без остановки, а солдат сбрасывает с него своей подруге бутылку с издевательской запиской, сочиненной коллективно под общее, тоже циничное, ржание молодой мужской компании. У женщины в воображении при этом вырисовывается, однако, картина железнодорожной катастрофы. В другом финале, осуществившемся, военный поезд с ее парнем все-таки летит под откос.
Свои сложные конструкции А. Дьяченко создает мастерски, и хотя они слабо привязаны к традициям национальной русской драматургии, отрицать право его экстравагантного театра на существование нет оснований. Тем более если учесть нынешнее – не самое лучшее – состояние реалистического театра. Напомню, что в конце 80-х годов театральный репертуар превратился в нечто непередаваемое. Создавалось впечатление, что иные авторы сочиняют лишь для того, чтобы в конце концов выпихнуть на зрителя какого-нибудь голого Берию, гоняющегося по сцене за малолетними, на ходу репрессируя и пытая узников Гулага… Афиши пестрели поспешными вольными инсценировками прозы М. Булгакова, которые впору бы назвать «извратиловками»; почти во всех театрах на сцене воспевалась «перестройка» и обязательно старательно раздевались и занимались любовью на глазах зрителей (иной раз и это занятие переносилось куда-нибудь в Гулаг), тут же непременно «разоблачался» Сталин. «Разоблачался» сказано не в смысле «раздевался», а в смысле «дискредитировался» – хотя не исключаю, что какой-нибудь «раскрепостившийся» драматург или режиссер взял да заголил тогда где-то в какой-то пьеске («нового мышления» ради) и генералиссимуса Иосифа Виссарионовича… Такого уровня вульгарности проза и поэзия все-таки не знали.
Как заявил тогда же крупнейший современный драматург Виктор Розов, время «перестройки» породило «поток псевдоактуальной халтуры»[12].
Розов Виктор Сергеевич (род. в 1913 г.) – драматург, автор пьес и киносценариев «Ее друзья» (1951), «Вечно живые» (1956), «Летят журавли» (1959), «Традиционный сбор» (1967), «Мальчики» (1971), «Гнездо глухаря» (1978), «Кабанчик» (1987), «Путешествие в разные стороны» (1987) и др. Профессор Литературного института им. А. М. Горького. Живет в Москве.
Даже классика ставилась зачастую со всякого рода искажениями под эгидой якобы особого «современного» ее прочтения! Так вот, традиционный реалистический театр был вытеснен именно подобного рода продукцией (исключение – московский Малый театр и некоторые сходные с ним коллективы). Ныне лишь остается ждать его подлинного воскрешения. Но пока оно не произошло, композиции авторов, подобных А. Дьяченко, при всей своей нетрадиционности заведомо предпочтительнее разного рода псевдополитической, псевдопсихологической и псевдоэротической халтуры. Они лучше уже тем, что художественно талантливы. Что же до православного к ним отношения, как и до отношения к литературным произведениям вообще, можем только снова апеллировать к словам свт. Василия Великого. А он, напомню, исходит из того, что даже языческие авторы «в сочинениях своих не одинаковы», и затем советует «в сиих сочинениях, воспользовавшись полезным», «остерегаться вредного»[13].
В Литературном институте Дьяченко создал небольшой театр «Теория неба». Он располагает профессионально оборудованной сценической площадкой, в нем играют профессиональные актеры и ставятся хорошие пьесы.
РАССКАЗ 90-х ГОДОВ
Жанр рассказа в 90-е годы получил особое распространение. Заметно, что на рассказ и короткую, тяготеющую к рассказу повесть пока в основном перешли писатели, получившие известность в прошлом все-таки преимущественно как авторы повестей и романисты (В. Распутин, В. Белов, П. Проскурин, Е. Носов, А. Солженицын и др.). К числу объективных причин этого можно отнести, например, тот факт, что роман требует либо крупных, но завершенных событий, либо ясной и «устоявшейся» окружающей реальности. Вместе с тем романы почти никогда не пишутся «налетом» – они требуют условий для спокойной долговременной работы писателя, спокойного состояния его духа, 90-е годы удивительно не соответствовали своим стилем жизни ни тому, ни другому. Рассказ – особенно заметное явление современной прозы, В этом жанре выполнены многие рассмотренные выше сегодняшние произведения – В. Распутина и В. Белова, А. Солженицына и др. Коснемся еще нескольких примеров работы крупных современных прозаиков в этом важном жанре.
* * *
«Дружеский ужин» Петра Проскурина (Наш современник. – 1998. – № 1) переносит читателя сначала на некую нынешнюю киностудию, на съемочную площадку – как раз в тот момент, когда актер Рукавицын забыл изречь какую-то положенную чушь, подойдя в соответствии со сценарием под оком камеры к «заводской столовой застойных нехороших времен».
Проскурин Петр Лукич (род. в 1928 г.) – прозаик, автор романов «Исход» (1967), «Судьба» (1973), «Имя твое» (1978) и др. Живет в Москве.
Съемка приостановлена; режиссер Ветлугин, распушив кошачьи усы, ретиво кидается было на виновника сбоя, но… что-то в нем дрогнуло.
«…Ветлугин, преуспевающий режиссер, президент и глава целого ряда престижных художественных и киношных фондов и ассоциаций, увидел перед собой не третьестепенного, вынужденного унижаться из-за роли и заработка актера, а Михаила Андреевича Рукавицына, некогда столь знаменитого и гремевшего на всю страну, а теперь промотавшего, пропившего данный ему Божий дар, задерганного тоже давно отчаявшейся женой и пребывающего в вечном и тягостном чувстве своей вины перед калекой-дочерью, на операцию которой было необходимо около ста миллионов рублей; каким-то сверхусилием Ветлугин поставил себя на его место, и что-то похожее на предчувствие возможности собственной такой минуты тронуло его зачерствевшее сердце».
Психологический момент дается впечатляющий. Но он тут же (так еще несколько раз будет в «Дружеском ужине») почему-то брошен автором: с «тронутым» сердцем Ветлугина вопрос заминается, а на сцене появляется еще один «новый русский» – приятель Ветлугина «Каменев-Пегий, знаменитый ныне, даже легендарный певец и композитор, он же удачливый шоумен с невероятно шальными, неизвестно откуда свалившимися на него деньгами». Герой, одним словом, нашего времени. Этот «приземистый, франтовато одетый господин» вывернулся из-за декораций и, завладев всеобщим вниманием, вдруг громогласно зазвал съемочную группу в ресторан «обмывать» только что им полученного «в валюте, в фунтах стерлингов» международного «Орфея». «Не для народа», наедине, лауреат, правда, вскоре проговорился Ветлугину, что у него сегодня «траур по себе, по своему таланту, если он и был». Ушлый Ветлугин знает прекрасно, что «художественные» натуры склонны к подобной нарциссической декламации, когда им временами «не пишется». Но что-то его настораживает: почему же все-таки при всех своих интересных страданиях, раскошелился Пегий на этакий банкет?! «Уж не к моему ли он фонду подбирается, так сказать, с тыльной стороны, кусок-то лакомый?» – смекает Ветлугин.
«Дружеский ужин» вот-вот развернется во всей красе:
«Через полчаса битком набитый служебный автобус уже подкатил к ресторану „Славянская душа“, одному из самых дорогих и модных на Москве, – здесь в закрытых кабинетах и залах играли, подавали любые наркотики, снабжали по специальному заказу девочками и мальчиками любых возрастов, некоторые остряки утверждали, усмехаясь, что и прочей живностью, произраставшей на обширных российских просторах…»
В этаком похабно грязном, прямо говоря, «новорусском» притоне и предстоит развернуться всем дальнейшим событиям сюжета. Впрочем, с событиями опытный автор не торопится, вместо этого мастерски, красочно и с иронией, описывая поведение хмелеющей компании. В центре повествования – опять актер Рукавицын, и его способность пить водку «объемистыми фужерами» приводит в завистливый ужас соседа по столу молодого актера Вергеля… Их внешне комичные, но не лишенные глубокого подтекста застольные диалоги и подначки – несомненно, одно из наиболее ярко выписанных мест в «Дружеском ужине». Кстати, с беззлобным и притом по-человечески неравнодушным характером этого Вергеля (как он вырисован П. Проскуриным) плохо стыкуется брошенная – видимо, в порядке своего рода «литературного ритуала» – фраза о том, что Вергель-де «еще не успел удрать куда-нибудь в Америку или Израиль». Творчество – дело интимное, но все же позволим себе высказать автору читательское мнение: под такой многозначительный штрих надо или писать совсем другой характер, или смелой авторской рукой вычеркнуть сей штрих из данного конкретного текста – он тут пока «повис в воздухе» и выглядит просто невнятной агрессивной репликой, не мотивированной сюжетом.
Отлично написан троекратный выход на авансцену все более пьянеющего Рукавицына: ему из чувства искренней благодарности к устроителю столь щедрой «халявы» хочется «восславить» хозяина застолья, да все он «вылезает» невпопад. То назвал Каменева-Пегого (ко всеобщим подавленным смешкам) автором «Катюши», то «сладкозвучных соловьев»… Заходя с третьей попытки, и совсем воспаря в актерском красноречии, он уже несет нечто про якобы созданную Пегим «божественную „Землянку“», которая «согревала наших отцов и старших братьев в самую лютую эпохальную стужу…» И тут читатель добирается до соли «Дружеского ужина». Объект неудачных комплиментов не обозлился на Рукавицына. Напротив, «он все понял. Просто спившийся, маленький человек, издерганный семейными скорбями и несчастьями, страдая, вовсе не хотел оскорбить именно его, Каменева-Пегого, он всего лишь пытался обратить на себя внимание». Обратил! На свет Божий вдруг является «чековая книжица», и хозяин стола выписывает Рукавицыну двухсотмиллионный чек на операцию его дочери. При всеобщем ажиотаже он тут же и направляет своего дюжего телохранителя об руку с обмякшим Рукавицыным прямехонько в некий знаменитый банк… Такой поворот событий уже отдает некоторой натянутостью, но тем больше хочется узнать, что же дальше. А дальше, перекинувшись некими острыми репликами со все тем же (не знающим подобных душевных порывов) Ветлугиным, модный певец и композитор вдруг вытащил пистолет и… при всех застрелился!.. Автору виднее, но впечатляющий финал этот, честно говоря, кажется пока не вполне сюжетно «подготовленным». Не хватает каких-то звеньев, картина не совсем складывается – ну в самом деле, тиская облепивших его молодых актрисок, за ресторанным столом герой палит из пистолета себе в голову… Слишком театрально. Но возможно, в будущем писатель еще вернется к своему тексту, и само течение сюжета к такому финалу в чем-то видоизменится, четче проявятся кое-какие пока лишь намеченные мистические и философские отзвуки. Ныне же перед читателем яркий художественный замысел крупного русского писателя, и этот замысел реализован убедительно – в целом, но не во всех деталях.
Кстати, писатель не оставляет работу и в больших жанрах прозы – так, нельзя не отметить его романы «Седьмая стража» и «Число зверя».
Творчество Владимира Крупина, одного из лучших современных прозаиков, работающих в жанре рассказа, к середине 90-х годов заметно оживилось после некоторого спада активности в начале десятилетия.
Крупин Владимир Николаевич (род. в 1941 г.) – прозаик, автор книг «Вербное воскресенье» (1981), «Кольцо забот» (1982), «Отцовское поле» (1984) и др., а также двухтомного «Избранного» (1991), в первый том которого входят «роман завещание» «Спасение погибающих», повести «Варвара», «Ямщицкая повесть», «Живая вода», «Сороковой день», «От рубля и выше», во второй – «Вятская тетрадь», повести «Во всю ивановскую», «Прости, прошей…», «Боковой ветер», «Великорецкая купель» и рассказы «Балалайка», «Петушиная история», «Змея и чаша» и др. Живет в Москве.
Примером этого творчества могут быть рассказы «Москва – Одесса» (Москва. – 1994. – № 9), «Янки, гоу хоум!» (Москва. – 1995. – № 5) и др., «путевые раздумья» «Слава Богу за все» (Наш современник. – 1995. – № 2). Другим примером может послужить рассказ «„Едрит твой налево“, – сказала королева» (Москва. – 1995. – № 3). Герой со знакомым японским профессором едет в Подмосковье, в место, где когда-то проходил военную службу, а именно в Кубинку. Вероятно, немногие из русских читателей когда-либо бывали в военной Кубинке. Но тем более трудно понять, зачем в подобные места без нужды катать иностранцам; кстати, невозможно вообразить, чтобы какого-нибудь российского профессора вот так свободно пропустили в ту или иную западную «Кубинку». Едет электричка, и все гостя изумляет! Написано одно – реально другое. Поезд приходит не на ту платформу… Областной автобус что хочет, то и вытворяет… Словом, наше славное сегодня.
Собственно, и поездка и японец слишком уж явно сочинены ради того, чтобы лишний раз напомнить читателю про все подобные прелести, и эта сочиненность ощутима. Ну, допустим, у В. Крупина и сюжет другого рассказа про поездку на электричке «Граждане, Толстого читайте!» – был явно сюжет «литературно сочиненный». Но там затея не подавалась так уж «в лоб», как на сей раз. Рассказ хорошего писателя явно не без недостатков. Однако язык крупинский как всегда рельефен и красочен, и хотя рассказывается, по сути, всего лишь анекдот, но делается это мастерски.
В конце рассказа насмотревшийся на весь общеизвестный набор несуразностей японский профессор спрашивает своих русских хозяев: «„Русские уйдут из мировой истории?!“ – „Только вместе с ней“, – отвечали мы».
И в конце 90-х другой герой В. Крупина, русский профессор, говорит в его повести «Люби меня, как я тебя» (Роман-газета XXI век. – 1999. – № 1) похожие вещи: «Наше имперское мышление никуда не делось, что же делать – нация такая, всех спасать приходится. ‹…› В мире только русские думают о других, все остальные думают только о себе».
В недавнем интервью главному редактору журнала «Роман-газета XXI век» Валерию Ганичеву В. Крупин на один из вопросов ответил так:
«С врагами Отечества бороться надо, но почему мы забываем о самом главном оружии русских – терпении. Что ж мы все так жаждем баррикад? Ведь в потрясениях гибнут лучшие, а вся провокаторская политшпана выживает и снова выныривает и садится на шею. Разве не урок нам октябрь 93-го?»
Евгений Носов известен прежде всего как автор повести «Усвятские шлемоносцы» (1977).
Носов Евгений Иванович (род. в 1925 г.) – прозаик, автор книг «На рыбачьей тропе» (1958), «Тридцать зерен» (1961), «Где просыпается солнце?» (1961) и др., а также двухтомного «Избранного» (1989). Живет в Курске.
Однако его постоянные выступления в жанре рассказа также нельзя не отметить. Рассказ Е. Носова «Яблочный спас» (Роман-газета. – 1997. – № 21–22) выдвигался на премию «Москва – Пение».
Рассказ «Алюминиевое солнце» (Москва. – 1999. – № 7), как обычно у Носова, сразу привлекает внимание своеобразием языка, яркостью слога. Герой рассказа Колына, живший в «хуторском посаде» возле маленького городка, отличался «своей несколько смещенной натурой». Неуемность и любознательность в молодости не раз срывали его с места, и наконец он потерял где-то на лесосплаве ногу. Но деревянную ногу усовершенствовал: вставил в нее «некий прибор со спичечный коробок под названием шагомер… портативный измеритель пространств, страдающих пересеченностью». Затем в его голове «свил гнездо новый замысел». Он соорудил из алюминиевых поливальных труб перископ, через который предполагал озирать округу: «лежишь себе и поглядываешь, не шкодят ли зайцы на капусте». Правда, эта поделка по воле автора почему-то напряженно заинтересовала местного участкового, который заявил Колыне, что перископ – «дело подсудное» и тут же истоптал сооружение ногами… С одной стороны, и этот эпизод можно прочесть глазами реалиста (бывают, мол, невежественные безответственные милиционеры, орудующие по принципу «я – твой закон»!). С другой – это уже не первое сочиненное писателем вмешательство властей (сюжет пока разворачивается в советские времена) в дела героя со «смещенной натурой» – в молодости Колына некоторое время увлеченно учительствовал, но был изгнан из школы какой-то мудреной комиссией из-за отсутствия «свидетельства об образовании» (ситуация, отдающая все-таки не столько жизнью, сколько литературой – учитывая тот непрерывный недокомплект, которым во все времена страдают педагогические коллективы деревенских школ).
Время шло, и «переменилась власть: была твердая, с матерком, пришла помягче, с ветерком. Как ветром выдуло амбары и склады, сено тоже куда-то унесло со скотного двора, из-за чего пришлось порезать скотину и распродать…» В новые времена Колына уже не молод, «перестал бриться, сронил с темени докучливые волосы, о чем выразился с усмешкой: „Мыслями открылся космосу!“, по-стариковски заморщинился, и только прежними остались так и не отцветшие, вглядчивые глаза мелкой родниковой воды, проблескивающей над желтоватым донным песком». Но, как и всегда, он «томим хронической невостребованностью».
Уже из цитированного можно почувствовать и высокое словесное мастерство Е. Носова, и присущее ему мастерство психологической лепки характера. Иной вопрос, что это за характер. Колына, как говорится в рассказе, «родился крестьянским сыном, но сам крестьянином не стал». Ему всегда хотелось чего-то другого, и писатель несколько раз показывает, как жизнь грубо ломала его очередные планы. Правда, планы вроде «дальних странствий» и строительства перископа для деревенской избы по большому счету все-таки курьезны. Это запоздалые игры сначала взрослого, а затем и немолодого человека. Оригинал Колына добр, но инфантилен и совершенно не приспособлен к каким-то серьезным мужским делам, к неброскому повседневному труду, крестьянскому ли, городскому ли, а уж дела общественные, беды державы вообще за пределами его кругозора (из сюжета следует именно это). Или, понимай, неразличимо мелки в масштабах его души – герой-то открыт, как сказано, космосу! Во всяком случае Колына, что называется, социально индифферентен. Попробуйте вообразить его в беловской деревне из «Лейкоза»! Среди крестьян, оглушенных общей трагедией, он будет занят собой и очередными планами по строительству ветряной мельницы у себя во дворе, изготовлению двенадцатиголосых «кугикалок» (некий музыкальный инструмент, имеющий, надо надеяться, общепонятное русское название, а не только это местноэкзотическое, которое несколько раз повторяется в рассказе) или по спасению муравья. Кстати, алюминиевое солнце, давшее название рассказу, «блескучей серебрянкой» намалевано Колыней «вокруг слухового окошка». Все это трогательно, даже умилительно, но, похоже, Колына, о котором рассказано прекрасным носовским языком, поселен писателем в какой-то другой России – не в той, в которой пропадают беловские крестьяне, распутинские сибиряки и даже старухи из «Желябугских Выселок» Солженицына. Похоже, его мир – мир философски иной: небо и солнце, макрокосм и микрокосм, космос и муравей (впрочем, такие «экзистенциальные» эмпиреи, в которые объективно вытачкивает героя из его реальной деревенской избы густо замешенная символика рассказа, вряд ли предусмотрены автором)… Спасая выхоженного муравья, Колына и погибает, погибает неожиданно и нелепо, избитый в пригородном березнячке компанией пьяных подростков.
Е. Носов знает о своей писательской наблюдательности, и не раз обстоятельно демонстрирует ее в рассказе, «притормаживая» действие, чтобы описать, например, как надлежит пилить двуручной пилой сосновый кругляш-«двухметровку» да какие «косые задиры» остаются на коре, если вести пилу не прямо, так что зубья выскакивают из запила; как истопить печь сырыми дровами; как ловятся на дрова багром с мыса разные плывущие по реке во время ледохода деревянные части, бревна и тесины, и т. п. Эти конкретные бытовые детали часто хороши для романа (их, кстати, умеют писать далеко не все, а Е. Носов умеет), но в небольшом произведении они способны «перетягивать» на себя повествование, излишне выделяться. Впрочем, может быть, автором так и задумано – но тогда приходится констатировать, что повествование получилось орнаментально-этнографическим как по языку, так и в части сюжетоизложения, и возникает вопрос, каковы же функьщи этой орнаментальности. Кажется все-таки, что писателю в «Алюминиевом солнце» помимо иного просто хочется проявить перед читателем разнообразие своих профессиональных умений. Погляди, мол, каков язык, каков глаз, каково знание быта… Впрочем, желание объяснимое, да и показать есть что.
Ну что же, прочитавший убеждается: Е. Носов, один из выдающихся прозаиков 80-х годов и в конце XX века работает в своей излюбленной манере, его голос по-прежнему силен и богат интонациями. В начале 2000 года отпраздновавший свое семидесятипятилетие писатель выступил с новым рассказом «Памятная медаль» – теперь на тему из Великой Отечественной (Москва. – 2000. – № 1).
Фазиль Искандер опубликовал в последние годы ряд интересных рассказов («Жил старик со своею старушкой», «Мальчик и война», «Авторитет» и др.).
Искандер Фазиль Абдулович (род. в 1929 г.) – прозаик, поэт, автор книг «Тринадцатый подвиг Геракла» (1966), «Сандро из Чегема» (1977), «Защита Чика» (1983), «Кролики и удавы» (1988), «Человек и его окрестности. Роман» (1993), «Софичка. Повести и рассказы» (1997) и др. Живет в Москве.
В первом из них сюжет анекдотического типа, и произведение выполнено в обычной для автора манере. Умер старик, но явился на четвертую ночь своей старухе во сне и якобы сказал: «Пришли, ради Бога, мои костыли. Никак без них не могу добраться до рая». А переслать их он велел «через человека, который первым умрет в нашей деревне». Старушка нашла такого умирающего старика и стала его уговаривать взять с собой эти костыли на тот свет, но старик начал хитрить и с различными тонкими кавказскими прибаутками уклоняться от навязываемой ему миссии. Когда старуха ушла ни с чем, «тот умиравший старик после ее посещения стал с необыкновенным и даже неприличным для старика проворством выздоравливать. Очень уж ему не хотелось брать в гроб чужие костыли».
Рассказ «Авторитет» уже связан с реалиями городской жизни 90-х годов. Главный его герой – немолодой физик Георгий Андреевич, младший двенадцатилетний сын которого огорчает отца тем, что совершенно не любит читать. Это реальная беда многих детей 90-х, как никогда ранее тянущихся к телевизионным зрелищам и компьютерным играм – в ущерб культуре слова и словесному искусству, литературе. Кроме того, сын стал обескураживать отца некоторыми дикими с его точки зрения вопросами. Например:
«– Папа, почему мы такие нищие?
Вопросу сына он поразился как грому среди ясного неба.
– Какие мы нищие! – воскликнул он, не в силах сдержать раздражения. – Мы живем на уровне хорошей интеллигентной семьи!
Так оно и было на самом деле. Денег, по мнению отца, вполне хватало на жизнь, хотя, конечно, жизнь достаточно скромную. Но в школе у сына внезапно появилось много богатых друзей, которые хвастались своей модной одеждой, новейшей западной аппаратурой да и не по возрасту разбрасывались деньгами. И это шестиклассники!
Напрасно Георгий Андреевич объяснял сыну, что отцы этих детей скорее всего жулики, которые воспользовались темной экономической ситуацией в стране и нажились бесчестным путем. Он чувствовал, что слова его падают в пустоту».
«Он сам стал читать сыну», – говорит писатель, и прочел ему несколько пушкинских повестей, а также «Хаджи-Мурата». Однако настоящая литература явно оставляет мальчика равнодушным, хотя отец видит, что у того на глазах слезы, когда он смотрит по телевизору пошлую мелодраму. В рассказе герой решает проблему так, как она решается, к сожалению, только в литературе, не в жизни. Он ставит условие: ты будешь читать, если я у тебя выиграю в бадминтон, – и выигрывает у мальчишки, хотя не без труда.
«– Завтра я выиграю всухую, – сказал сын с вызовом, приходя в себя.
– Посмотрим, – ответил отец, – но сегодня ты два часа почитаешь.
– А что читать? – спросил сын.
– „Двенадцать стульев“ и „Золотой теленок“, – ответил отец, – начнем с этого. Ты ведь любишь юмор.
– Я эти фильмы двадцать раз смотрел по телевизору, – ответил сын.
– Это не фильмы, а книги прежде всего, – пояснил отец.
– Хорошо, – согласился сын, – но завтра я тебя разгромлю.
Это прозвучало как тайная угроза бойкота чтению».
Рассказы Ф. Искандера 90-х годов ироничны, как это было ему свойственно и в прежние времена. Иронистом он остается и в «большой» прозе – так было и во времена давнего романа «Созвездие козлотура», и позднее (см., например, его недавнюю повесть «Поэт» // Новый мир. – 1998. – № 4). Любопытно, однако, что сейчас в литературе вокруг рассказов Искандера заклубилась небывалая «толпа» иронических произведений других авторов, произведений удачных и неудачных, но сходных своей иронической бравадой.
* * *
Обобщая рассмотрение рассказов В. Распутина, В. Белова, А. Солженицына, Е. Носова, В. Крупина, Ф. Искандера и др., нельзя не указать на особое значение и высокую развитость в них сюжетного начала. Это традиционно для русской реалистической прозы (хотя еще в серебряный век и делались энергичные попытки в экспериментальных целях «расшатать» сюжет – например, в прозе Б. Зайцева, А. Белого, Е. Гуро, отчасти даже Ив. Бунина и др.). Далее, В. Распутина и А. Солженицына отличает мастерская работа в художественно-документальном русле («На родине», с одной стороны, и «Желябугские Выселки» – с другой. Сюжеты этих рассказов выстроены так, что вызывают ощущение фрагмента подлинной реальности, не переставая, однако, быть произведением искусства). Почти все рассмотренные рассказы обращены к теме сегодняшнего дня Родины, В них преобладают пронзительные критические, переходящие в сатиру и даже трагедийные (как у В. Распутина) интонации, весьма остро ставящиеся масштабные общественные проблемы (произведения В. Распутина, В. Белова, П. Проскурина, В. Крупина, да и А. Солженицына).
Признак настоящего писателя (художника слова, а не просто рассказчика, наделенного сюжетной фантазией) – язык, сделанный произведением искусства (слог). Правда, среди ярких стилистов во все времена встречаются люди, заваривающие слишком уж крепкие смеси – как выражался Ф. М. Достоевский, пишущие «эссенциями». Принципом самого Достоевского было: «Из десяти фраз в одиннадцатую забористо, остальное обычно»[14]. Этому принципу классической умеренности отвечает прежде всего индивидуальный слог В. Распутина, Он всегда стилистически своеобразен, но при всем том не перегружает фразу.
ОСНОВНЫЕ ИНТОНАЦИИ ПРОЗЫ 90-х ГОДОВ
Попробуем теперь суммировать наглядно проявляющиеся интонационные особенности современной литературы.
Прежде всего снова обратим внимание на то, как «прилипчиво» неотступна в литературе 90-х годов ирония. Похоже, наша жизнь стала столь колоритна, что непременно выводит писателя сегодня на стезю насмешки и сатиры. Какая-то «комната смеха», а не литература, но только «комната» тоскливая… Например, знакомятся в одной повести юноша и девушка. Что ж тут потешного, казалось бы? Он и она, вечная тема – любовь. Да знакомятся-то они, будучи участниками одной из нынешних обезьянничающих «всамделишной» Америке телепередач! Тут под обычные в таких случаях невзыскательные шуточки и наигранно-бодрые выкрики ведущий составляет любовные пары – телепередача именуется «Браки совершаются на небесах». Как составятся из простаков, возжаждавших чудес, эти самые пары, так сотрудники концерна «Проба» и развезут их – для начала не на небеса и даже не на поле в Стране Дураков, а в валютные рестораны, чтобы в соответствии с телесюжетом счастливчики поужинали разок на халяву… С именами тоже не без потехи. Девушка – Вера, что и к лицу такой уж очень телевизионно-доверчивой особе. А вот молодой человек на вопрос об имени отзывается витиевато – с претензией предлагает называть себя, явно от внутреннего стеснения, не иначе как Гавриилом Романовичем Победоносцевым. Ну, ведущий в Державине ни в зуб ногой, да и в Победоносцеве оказался слаб; словом, намеков не понял, а парня тут же перекрестил в Гавра (позже выясняется, что тот попросту Гаврилов Николай). Это все – из повести Александра Трапезникова «Романтическое путешествие в Гонконг» (Москва. – 1995. – № 4).
Герой С. Есина из «Затмения Марса» сходит с ума. Та же участь постигает и одного из героев повести А. Трапезникова про Веру и «Гавра» – омоновского офицера, который «участвовал в штурме Белого дома, отличался особой жестокостью, лично пытался расстрелять группу депутатов… „Альфа“ помешала». Когда его ненормальность стала очевидной, из органов его увольняют. Вообразив себя террористом, безумец захватил в «заложники» Веру и «Гавра», требуя «космический корабль, чтобы улететь на Луну, и десять триллионов рублей». Но убежать от себя ему не суждено – снайперская пуля сражает террориста…
Фигуры обоих сумасшедших, конечно, гротесковы. Но в конце концов литература только обобщает, порой отражая реальность в кривом зеркале, но черпает материал все-таки из самой жизни. Выходит, такова жизнь.
Кроме этой повести, привлекает внимание кое в чем интонационно сходный с ней роман А. Трапезникова «Уговори меня бежать» (Роман-газета. – 1996. – № 7).
Другая черта, которая сопутствует вышеотмеченной иронии, – это повышенная тяга к экзотике некоторых авторов 90-х годов. Хорошо знаю: по эту сторону Уральского хребта родную мою Сибирь и Дальний Восток люди по сей день частенько представляют себе краями жутковато-таинственными, гибло-морозными и населенными неким племенем оригиналов и сумасбродов. Потому, «работая» на московского и окрестного читателя, и заманчиво, и легко распахнуть целый арсенал всяких «зауральских», так сказать, экстравагантностей: море-тайга, царь-рыба, якутские самородки, уссурийские тигры, енисейские пороги, камчатские вулканы и многое другое… Получившееся совсем не обязательно будет какой-то рыночной поделкой – талантливая рука распорядится различными романтическими преувеличениями чисто художественным образом (вспомним хотя бы замечательную «Угрюм-реку» Вяч. Шишкова). Но все же с экзотикой совладать нелегко, и много есть литературных примеров, когда она в общем-то подминает автора, комкает его замысел и без явных мотивов, без ощутимого творческого обоснования так и прет в произведении отовсюду. Роман И. Фаликова «Белое на белом» (Октябрь. – 1995. – № 8) имеет помету «журнальный вариант», и, может быть, полный текст произведения массой своей в необходимых случаях «перевешивает» нагромождение явленного пока что читателю разухабистого пестрого антуража. В нынешнем же тексте экзотика все-таки, бывает, «гуляет сама по себе», не подчиняясь той или иной смысловой сверхзадаче автора.
Повествование тут от первого лица: герой – художник-дальневосточник. Это литературное «я» и меняющая свои контуры компания его друзей, приятелей и приятельниц ведут на фоне сопок, скал, морских валов и островов тот образ жизни, который позволяет в целях краткости сразу констатировать, что мозги у них явно набекрень. «Бражка», самогон и тому подобное невзыскательное пойло то и дело льется по воле автора, будучи явно предпочитаемым героями напиткам заводского производства. В бараках, избах, квартирах и под открытым небом; на диванах, кроватях, тахтах, раскладушках, голых матрацах их ждут подруги – непременно «пламенногривые», «бедрастые», «пышнотелые» и т. п. Мужские достоинства рассказчика «достают» и школьниц:
«То, что я нравился шестикласснице, было видно невооруженным глазом и не мне одному: она глазела на меня, а весь класс на нее. Ее текучий флюид обжигал мальчишек».
Приключения внелюбовного свойства тоже весьма разнообразны. То часть подгулявшей компании провалится в городскую канализацию («летели во мраке не менее трех метров… приземлились не на бетон, а в жижу, и это их спасло»), то герой с собутыльником проснулся «на стылом мартовском снегу» посреди пустыря… О богема!
Однако в то же время можно понять, какой образный смысл вложил автор в название своего романа («Белое на белом»). По сюжету это написанный главным героем этюд в белых тонах. Но в подтексте подразумевается, что все персонажи при их перепутанных личных отношениях, инфантильных выходках, грубости, неряшливости – люди с кристально чистой душой. И действительно, чего не водится за героем и его друзьями, так это подлости, интриг по отношению друг к другу и всякой человеческой мелкости. Они способны и на настоящую дружбу, способны и горе при смерти друга ощутить… Но вот беда: все человеческое в себе эти персонажи с назойливым неотступным упорством укрывают за театральной позой, за той иронией и бравадой, от которой немного шагов до сущей «дьяволиады»! И правда, весь их «рубенсовский» разгул, если мысленно развернуть сюжет в некую картинную панораму, напоминает уже не столько сочные рубенсовские коллизии, сколько фантасмагорию грехов в духе Босха. Тут уж все претензии – к автору, заварившему такую сюжетную круговерть. У него острый глаз на деталь, конкретную подробность, богатая фантазия, обширный багаж жизненных впечатлений, и когда он временами «бросает» героя по стране (Саратов, Москва и пр.), «перемещает» по родному Дальнему Востоку – повествование всегда живо и энергично. Однако вся уместившая добрых три десятка лет вереница похождений персонажей (роман обрывается на настоящем времени – именно обрывается, а не завершается, ибо профессионально написанного конца нет) не привела к какому-то развитию их характеров. Когда им под шестьдесят, они дурят так же самозабвенно-безответственно, как дурили в двадцать пять. Да и характеры-то их все «на одно лицо». Это как бы один персонаж, помноженный на несколько и фигурирующий под разными именами и обличьями.
Показательная черта романа Фаликова – то, что окружающая жизнь, дела человеческие за пределами личных контактов героя как бы не существуют, почти не прописаны. Весь мир олицетворен и заполнен для героя этой компанией его друзей и приятелей. Напротив, в произведении Б. Хазанова «Хроника М», имеющем подзаголовок «Записки незаконного человека» (Октябрь. – 1995. – № 9), герой так и сяк усиленно растравливает в себе чувство внутреннего одиночества средь чужого ему и втайне им презираемого мира духовно неразвитых провинциалов, неспособных возвыситься до понимания экзистенциальной сложности его личности… Красочная конкретика письма, составлявшая сильную сторону повествовательных опытов И. Фаликова, тут сменяется вяловатой «загадочностью», туманными намеками, невнятной иронией. Масс-культурный «экзистенциализм» – тоже характерная примета литературы 90-х годов.
Провинциальный городок, в который каким-то ветром занесло героя «Хроники М», за что-то такое, где-то, когда-то пострадавшего, на время становится его «миром», в котором волей-неволей надо как-то устроиться. Он и устраивается: люди вокруг явно незлобивы, хотя, по его мнению, «не вполне могли считаться европейцами, но, конечно, не были и азиатами», его они добродушно именуют «Моисеичем» и, как умеют, привечают. Но быт их, с точки зрения героя, несуразен, он то и дело трунит как над общим экзотизмом устройства жизни этого «мира», так и над его конкретными представителями, включая свою местную подругу Алевтину и ее мать (на протяжении всей «хроники» пытается прописать героя в городке, чтобы дать ему возможность устроиться работать). В поисках, так сказать, «экзистенциалистов» себе под стать герой обретает в конце концов довольно странную компанию, которая собирается в развалинах монастыря, и начинает в нее похаживать, в душе не оставляя, впрочем, своей неизменной иронией и новых приятелей… Писатель имеет, конечно, творческое право на гротеск, на сочинение разномастных карикатур. Но нравственность ставит таким «правам человека» общеизвестные ограничения. И автор, думается, их преступает, когда доходит до словесных «упражнений» над православным христианством, монашеством, «всемирно-исторической миссией русского народа» и т. д. и т. п. Положим, это все еще как-то можно было бы обойти молчанием, узрев высокий «художественный уровень» произведения. Дескать, автор – «матерый человечище», и ему все простится. Но где тут такой уровень? И «город М», и монстры, которыми населил свою выдумку писатель, – все это довольно безжизненные плоды вымученного «сочинительства». Какие там интеллектуальные искания! Это не «экзистенциализм» – это просто скучно.
(Об экзистенциальных мотивах, обретающих в современной прозе подлинно художественное звучание, говорится ниже в специальном разделе пособия.)
Пессимистические интонации, разлитые в литературе 90-х, особенно остры в «женской» прозе с ее повышенной эмоциональностью и интуитивизмом. В виде конкретных примеров можно указать на произведения Людмилы Петрушевской и Людмилы Улицкой, посвященные судьбе современной женщины и постигающим ее бедам.
В середине 90-х Л. Петрушевская, довольно известный в 80-е годы драматург и прозаик, издала книгу своих рассказов и повестей «Тайна дома» (М., 1996), выдвигавшуюся даже – правда, безуспешно – на премию «Москва – Пение». В рассказе «Донна Анна, печной горшок» (Новый мир. – 1999. – № 5) героиня – художница по профессии, алкоголичка, дом которой – пристанище богемных компаний, но на ней, как оказывается в конце концов, все держалось в этом доме и в этой непутевой семье.
Повести Л. Улицкой публиковались в ее книге «Медея и ее дети» (М., 1996). Героиня рассказа Улицкой «Зверь» (Новый мир. – 1998. – № 4) Нина теряет мужа и мать и страдает от наступившей безысходной одинокости:
«Теперь все умерли, жизнь как будто свернулась кольцом и прошлое, освещенное кинематографическим светом счастья, прожорливо заглотило и пустынное настоящее, и лишенное какого бы то ни было смысла будущее. Всеми мыслями и чувствами она была привязана теперь исключительно к покойникам, которые смотрели на нее со всех стен».
Повествование психологически проникновенно, хотя второй «главный герой» рассказа, отвратительный бездомный кот, который начинает терроризировать Нину, тем в какой-то мере невольно спасая ее от погруженности в мрачные раздумья и страдания, – он и все с ним связанное выписаны в несколько диссонирующем с «линией Нины» интонационном ключе. Кончается рассказ сном героини, в котором оживают умершие, она снова счастлива, и кот ласково трется об их с мужем колени.
В современной литературе необыкновенно широко распространилась легкожанровая беллетристика. В 90-е на книжных прилавках господствовали не Пушкин с Гоголем и не Достоевский с Чеховым, а разномастные зарубежные «легкожанровики»-беллетристы с «примесью» авторов современных отечественных детективов (проза Александры Марининой, Эдуарда Тополя и др.). Читателю тут и там предлагались и перетолковывающие историю на приключенческий манер романы в духе Дюма (от Понсона дю Террайля и Георга Борна до всяких современных «литературных мушкетеров»), и детективы разной степени «крутизны» (от прекрасного Раймонда Чандлера до изнемогающего от антирусской шпиономании иеговиста Микки Спиллейна), и всякая фантастика с мистикой, где задают тон авторы, подобные неистощимым на выдумку Роджеру Желязны и Стивену Кингу… Почему переводилось и издавалось именно это, а «серьезная» зарубежная литература пребывала почти в таком же загоне, как и отечественная наша классика, – обескураживающе ясно. Тут была и есть своя политика, та самая антикультурная политика, которая с болезненным упорством проводилась кем-то, кто, по-видимому, невзлюбил истинную западную культуру, – проводилась и в литературе, и в иных искусствах. В результате на телевидении, например, богатые почти беспрерывно плакали, тропиканки в десятках тягучих серий понемногу открывали свои нехитрые секреты, а ковбои из «цивилизованных стран» занимались на экране нудным мордобоем (плохо сыгранным), чем постепенно создали у россиян все же не вполне справедливое представление как о моральном облике своих реальных, не кинематографических, сограждан, так и о национальном киноискусстве. Впрочем, и в кино и в литературе имеется собственная классика и в сфере развлекательных жанров. А следовательно, и просто талантливые беллетристические произведения в литературе время от времени рождаются. Однако, к сожалению, не они, а массовое чтиво заполоняет прилавки.
В этот период тяга к беллетристике явно наметилась у ряда отечественных писателей, давно имевших и своего читателя, и прочное литературное имя. Что в этой тяге диктуется создавшимся спросом на литературном «рынке», а что объясняется причинами органичными, интимно-творческими – вопрос особый, который разрешается всегда сугубо индивидуально. Но само появление любопытных отечественных беллетристических новинок в последнее время – факт.
Мы – народ неуемный, склонный к постановке разных рискованных, иногда и удачных, опытов. У западных писателей – детектив так детектив, историко-приключенческий сюжет – так историко-приключенческий, мистика и религия – так мистика и религия… Но чтобы прихотливо перемешать все три подобных компонента в пределах текста – тут пахнет русским духом! У «них» алкогольные коктейли, но «литературный коктейль» – синтез – многократно провозглашался (да и с переменным успехом осуществлялся) прежде всего у нас. Тут и державинское понимание поэзии как «говорящей живописи», и литературные «симфонии» А. Белого, и блоковские «верлибры» – прозаизованная поэзия, и многое другое. Сегодня Петр Паламарчук в романе «Нет. Да» и Андрей Молчанов в романе «Схождение во ад», вышедших в журнале «Москва» параллельно (оба в № 8 и № 9, 1995), взялись за синтез «сюжетный».
Эти два романа словно вышли из одного литературного салона – настолько тесно сопрягаются разлитое в них миропонимание, их стилистика и «географическое пространство». Подчеркиваем: авторы литературно одаренные люди с броской манерой письма, с богатой сюжетной фантазией (тут и любовь, и мистика, и религия, и детективные перипетии). Но серьезнейшие проблемы обсуждаются здесь порой так легкомысленно, как будто жизнь – это какой-то водевильчик.
В «Нет. Да» три самостоятельные линии. Во-первых, это повествование об одном из привлекательнейших людей XX века – православном архиепископе Иоанне (Максимович), который происходил из наших пореволюционных эмигрантов, стал одним из так называемых «карловацких» иерархов Православной церкви за рубежом, занимал кафедры в Китае и США, при жизни обрел славу чудотворца, в 1966 году скончался, а совсем недавно, после обретения его нетленных мощей, был канонизирован. Во-вторых, это явно отдающая ранними романами В. Пикуля линия о полковнике, затем и генерал-майоре русской службы Пренделе, герое 1812 года, за голову которого, по словам рассказчика из «Нет. Да», «сулил отвалить мешок денег лично Наполеон». Третья линия выписана не по «книжным» источникам, вроде воспоминаний многих людей о владыке Иоанне или архивных данных о Пренделе, а на сугубо «жизненном материале». Это повествование о красочных похождениях главного героя, которому автором придано «нечастое, хотя и совершенно православное имя» Рикс. Действительно, есть в святцах такое имя (хотя в романе оно, подобно не выстрелившему ружью, никак не «срабатывает» и придумано, видимо, лишь оригинальности ради).
Выпускник престижного иняза, служивший потом некоторое время по призыву Минобороны СССР офицером в Лейпциге, ведет теперь где-то в центре Москвы весьма неправославный образ жизни с женщиной по имени Нина, познакомившись через нее «с разгульным сообществом образца разлюли-малина», где его вскоре «начинают принимать за ближнего»:
«Быть может, виною было его внимание к хозяйке веселого притона. Он даже однажды настоял на вызове столяров из фирмы „Заря“, которые за четвертной с набросом (дело пока происходит в стране стабильно низких цен, т. е. в СССР. – Ю. М.) вымыли окна и подвесили обратно двери. В ответ благодарная Нина принесла ему карандашный список из тридцати шести своих запомнившихся ей любовников и честно заявила, что больше у нее, кроме него самого, никого не было».
Впрочем, Рикс то и дело доказывает на протяжении романа, что он и сам не лыком шит. Вся «риксовская» линия, которая выписана с юморком и неотступными прибаутками, вытягивается в цепь игривых приключений героя в разных местах Европы, перемежающихся архивными чтениями (сначала в связи с Пренделем, затем и с увлекшей Рикса историей рода Максимовичей). В разгар этих чтений его зачем-то пытаются однажды вербовать злокозненные кагэбисты – хотя совершенно непонятно, на что им сдался парень явно без царя в голове. Вдобавок и тут и там герою видятся следы многолетнего хозяйничанья нелюбимых им марксистов… Зато сойдясь в европах с некоей колоритной личностью, которая оказалась бывшим власовцем, а ныне энтээсовцем (член монархического Народно-Трудового Союза), да еще затем попав однажды по случаю в Париж, на «прием» (а конкретнее, в гости на квартиру) «прямо ко главе Императорского дома Великому князю Владимиру Кирилловичу», наш Рикс прямо тает. Парень сподобился лицезрения истинно высоких (а главное, истинно русских) особ и пребывания в их чертогах: «С Великий княгиней они вдруг сошлись на любви к испанскому вину херес – недаром и внук ее покуда что, в ожидании возвращения в Петроград, учился не в разгильдяйской столице французов, а в Мадриде». Однако пойдем дальше – все мы видывали (по телевизору) и Великую княгиню, и ее внука…
По роману герой – отпрыск «военного отца и матери-докторши», но вряд ли лиц рядовых: Рикс похаживает в «храм на Воскресенском Вражке», который «из-за своего местоположения» «в одном из срединных московских переулков» «посещался по преимуществу прихожанами из образованных сословий, зачастую весьма именитыми». И священнослужители храма, и вышеназванные прихожане изображены в романе весьма едко сатирически, чему там дается свое объяснение. Но и «пьяненькая Нинка», и ее тридцать седьмой любовник бывают здесь же. А чтобы быть среди номенклатуры, надо жить среди нее, – точнее, как-то принадлежать к ней по родственным связям или иной манерой. Это не беда и не стыдное дело; но озадачивает в романе неотступный «контрреволюционный» пафос парня из советской номенклатурной среды. Про события 1917 года сегодня можно философствовать и так и сяк, но ведь суть этих событий в том, что не случись их, не жить бы Риксу с родителями и его реальным жизненным прототипам в элитном переулке, а… пасти гусей где-нибудь под Харьковом! Это как пить дать.
Автор П. Паламарчук был отличным повествователем, ярким стилистом, и мы следили за его творческим путем с самой первой его повести «Един Державин». Она вызвала когда-то у меня немалый и чисто читательский, и профессионально-филологический интерес (это справедливо и в отношении последнего произведения рано ушедшего из жизни писателя – романа «Наследник российского престола» // Литературная учеба. – 1997. – № 3–4). И «Нет. Да» читается именно с интересом, но одновременно – с ожиданием того, как именно автор сумеет в конце концов сделать не нарочитым, художественно и нравственно приемлемым соседство в рамках одного произведения приключений придуманного им довольно наивного «монархиста» (и, прямо сказать, изрядного грешника) по имени Рикс с повествованием о подлинной жизни новопрославленного святого Иоанна. Ведь первым неизбежно замутняется (если не грязнится) второе, раз это одно произведение! Скачки повествования «со святости на обратное» так и не дали Риксу разглядеть в себе самом грешную личность, духовно противоположную святому Иоанну Максимовичу.
При чтении долго кажется, что автор где-то ближе к концу ясно выскажется об антиподности обоих персонажей, приведет первого к той или иной покаянной ситуации и тем самым сделает уместным «монтаж» сюжета о вымышленном герое с жизнеописанием владыки Иоанна (который действительно успел сделать людям столько добра, был духовным отцом многих православных подвижников, и в частности такого известного своими творениями в нашей стране богослова, как о. Серафим Роуз). П. Паламарчук из своего героя раскаявшегося грешника не сделал, но в конце «бросил» Рикса, потрясенного неожиданной нелепой смертью Нины (в одной предельно скандальной ситуации), что можно, хотя и с натяжкой, принять за тот поразивший нашего героя шок, который способен все-таки повести его и к духовному возрождению.
Маги, разведчики, фашисты, жулики и империалисты – персонажи другого романа – «Схождение во ад» А. Молчанова. Автор не разочаровывает читателя, и к концу своего произведения действительно заставляет на время сойти в самый настоящий ад своего, пожалуй, центрального героя Ричарда Валленберга – профессионала из ЦРУ. Из сложных идейных соображений он тайно работал на КГБ, пока его при демократическом режиме не попытался «сдать» американским шефам за проклятые доллары некий предатель с Лубянки Трепетов. В романе, как и у П. Паламарчука, три переплетаемые автором линии: политический детектив наподобие «юлиан-семеновского» Штирлица и борца против ЦРУ колесящего по Европе писателя Степанова, документальные и полудокументальные пассажи об оккультных изысканиях руководителей Третьего рейха и описание ловких международных похождений «нового русского» по имени Миша Аверин (смекнув гибким своим умом, что его едва не занесло в сферу действия каких-то невероятно страшных сил, он даже окрестится по воле автора в православие!).
Тема «оккультного рейха» сейчас популярна у публицистов, и писатель ею воспользовался, придумав некоего Фридриха Краузе, тайного мага при самом Гитлере, обладателя тибетских манускриптов, «доверивших ему тайну», хранителя особого «желтого портфеля», в котором «настоящее, прошлое, будущее» нашего бренного мира… Решив пристрелить личного шофера и драпать из Берлина от советских войск, Краузе по интеллигентской нерасторопности случайно весьма тяжело ранит самого себя, и драпу дает с его портфелем чудом уцелевший шофер, для которого содержимое портфеля – просто некие «древние рукописи на непонятном языке», записи, похожие на «пособия по черной магии» да еще старинный кинжал. А кинжал-то – магический, как и медальон с красным камнем, снятый шофером с шеи Краузе. И много лет спустя, в наше смутное время выживший старичок Краузе доберется-таки до шоферова сына (того самого цэрэушно-кагэбэшного Ричарда), но пальцем его не тронет, опознав в Ричарде потомка людей из легендарной страны Туле. Взамен расправы Краузе обещает ему собственную красавицу внучку (ее, между прочим, уже тайно охмурили конкурирующие альтернативные оккультисты – иудаистские, – но Краузе-дед об этом не ведает).
Ричард же должен магическим путем перенестись в это самое вожделенное Туле. Магия Краузе и других одиннадцати «посвященных» сработала, но неточно, и вместо Туле Ричард оказывается на каком-то из умеренно страшных кругов ада, откуда его вышвыривает обратно «сам» дьявол. Матерый разведчик приходит в себя в нашем мире среди развалин и трупов, оставшихся после этой дьявольской акции от альпийской резиденции мага Краузе, причем среди погибших – и сам старик, и его красавица внучка, которая, таким образом, не досталась ни Ричарду, ни своим тайным иудейским вербовщикам… Вся эта мистическая круговерть заварена довольно увлекательно и явлена на фоне деятельности заканчивающих разваливать СССР профессионалов из Лэнгли, на фоне воссоединения Германий, мафиозных делишек наших ворюг и коррупционеров, а также с искренней болью изображенных многочисленных бед нашей страны-страдалицы.
Как и у П. Паламарчука, тональность повествования не очень серьезная, а порой и уж чересчур несерьезная. Тут и ритуальные антикоммунистические «заклинания», и общие для обоих романистов шпильки по адресу ГДР – по-немецки чистенькой, занимавшей по уровню жизни далеко не последние места в мире. Повторяем, оба писателя словно заглядывали друг к другу в рукописи. Например, романисты дружно изображают «цивилизованные страны» как мир всеобщего процветания и гуманности (во что позвольте тем, кто там бывал и живал, не поверить). Вместе с тем в очень похожих выражениях, как сговорившись, они почему-то изобличают за «сатанизм» популярнейший американский шуточный «праздник нечисти» Хеллоуин (бедные гоблины и гномики!)… Словом, яркие (в пределах избранного «легкого» жанра) романы «Нет. Да» и «Схождение во ад», но не обошлось в них без наивных иллюзий и внутренних противоречий. А писателю все же следует быть внутренне независимым человеком и, как минимум, воздерживаться от воспроизведения в своих текстах дешевых пропагандистских уток.
Анатолий Афанасьев романом «Московский душегуб» (Москва. – 1996. – № 1–2) завершил своеобразную трилогию, начатую романами «Первый визит сатаны» (1993) и «Грешная женщина» (1994). Но «Московский душегуб» исполнен как вполне самостоятельное произведение в жанре остросюжетного детектива.
В центре романа – столкновение некоронованного короля столичных мафиозных группировок старика Елизара Суреновича и стремящегося занять его место молодого вождя части этих группировок Алеши Михайлова. Вожаки пытаются убрать друг друга, но действуют они через многочисленных людей, и писателю удается нарисовать целый ряд интересных, по-своему незаурядных натур, так или иначе вовлеченных в эти разборки. Тут и «идейный кагэбист» Башлыков, вынужденный в дни смуты и беззакония действовать без требуемых формальных санкций, осознавая, что люди, которые занимают соответствующие должности, санкций все равно не дадут (именно его группа в главе, выписанной в хорошем смысле по-кинематографически, высокопрофессионально «громит» многоэтажное логово Елизара Суреновича и его подпольную «гвардию»). Тут и Миша Губин, глава Михайловской «спецслужбы», самоучка, доведший возглавляемую структуру до такого профессионализма, что она способна противостоять переметчикам из настоящих «органов», купленным противоположной группировкой. Даже демоническая килерша Таня, на совести которой целая вереница заказных убийств, влюбившись в Губина, вдруг обнаруживает в себе наличие хоть и изуродованной, но все же человеческой души.
Авторы детективов часто проявляют неумение писать человеческие характеры, заставляя своих героев в соответствии с назначенными им «ролями» скользить, как марионетки, от события к событию по выдуманному детективистом сюжету. Здесь же перед нами произведение настоящего писателя, в котором помимо необходимого детективу по жанровой его природе динамичного действия есть психологизм, есть яркая характерность, есть люди с их внутренним миром. «Московский душегуб», подобно двум вышеразобранным романам, «подсвечен» и интонирован взявшей в полон почти всю современную литературу иронией, но и она тут в общем к месту. Читатель встретит здесь, например, имена некоторых гигантов мысли и отцов нашей демократии, которых авторская воля делает «знакомцами» и «приятелями» негероических «героев» этого романа о мафии. Но жизнь своим ходом, к сожалению, подтверждает, что и такое «приятельство» – не одна лишь фантазия художника. Нет, не пустое дело – хорошая беллетристика!
Историческая тематика для русской прозы традиционна. В XX веке Вяч. Шишков, Ю. Тынянов, О. Форш, В. Язвицкий, В. Ян и др., а в нынешнее время Д. Балашов, В. Пикуль и др. разрабатывали ее как в философски-серьезном, так и в приключенческом варианте. Яркая повесть нижегородского прозаика Михаила Крупина «Самозванец» (1994) обнаруживает основательную историческую и историко-этнографическую эрудицию автора. Вместе с тем повесть тяготеет к авантюрно-приключенческому сюжетному развитию (именно такой подход к художественному изображению истории преобладал в литературе 90-х годов).
Самозванец – это Григорий Отрепьев. Здесь данный исторический деятель предстает как предприимчивый и сметливый, находчивый и удачливый обаятельный плут. Повествование о его невероятных похождениях ведется с юморком; присутствуют даже использованные когда-то Пушкиным в «Борисе Годунове» образы Варлаама и Мисаила (здесь – это давние приятели Гришки, осведомленные о его дерзком замысле выдать себя за царевича).
Писатель не согласился с расхожей легендой о романтической любви самозванца и Марины Мнишек. В повести девушку зовут Марианна, и она отнюдь не красавица:
«Невысокая, щуплая, дочка самборского старосты сильно напоминала его общим видом лица. Нос – лопаткой, змеиной головкой, малый ротик, поджатые тонкие губы. Подбородок широким углом и широкий разумно мечтающий лоб. Лишь глаза Марианны, и в действительности неземные, венисово-лунно-стальные, особенные, озаряли порою играющим светом эти блеклые черточки, – самовластно, рискованно соединяли все линии.
На балах… сердце панны вдруг стало (без спроса ее) вырабатывать яд. Вместе с тем в юном сердце, лишенном горячих приманок (а с ними и бурь благотворных – лекарства от спеси), воспиталась заносчивость самая дикая, запеклась жажда неограниченной власти. И когда Марианна, приехавшая из Заложниц в Самбор по срочному зову отца, услышала о грозящей себе помолвке с московским царевичем, она испытала какое-то смешанное ощущение: в нем и радостный девичий трепет, и ужас при мысли о неотесанном претенденте ни в какое сравнение не шли с тем огромным, мистическим чувством объятий фортуны, пониманием чудной возможности стать исторической гордой персоной, царицей в бескрайней стране, там, где власть государей священна. ‹…›
Лишь бы Углицкий выиграл царство! Но отец и князья Вишневецкие зря не пригреют и мухи – знать, жених проберется к престолу, а уж там будет видно, кому из них править страной».
Мнишек-папа сватает дочь в этой повести совсем как князь Василий Курагин буквально толкает Элен замуж за Пьера Безухова в «Войне и мире» Льва Толстого. Тут подражания никакого нет, просто ситуации складываются однотипные, так что оба родителя выписаны как аферисты и интриганы.
В повести много колоритных фигур, немало с выдумкой построенных сцен, неожиданных поворотов сюжета. Поскольку первый самозванец – фигура таинственная, о которой историкам известно немного, простор для писательского воображения чрезвычайно широк.
Отлично выписан образ воеводы Петра Басманова (он успешно громил самозванца, но после смерти Бориса Годунова в итоге сложных раздумий перешел на его сторону). То же в смысле выразительности характера можно сказать про донского атамана Корелу, младшего Мнишка – Стася – и еще многих героев Крупина. Слог у автора весьма выразительный.
Повесть М. Крупина издана в Нижнем Новгороде, из-за чего центральный читатель мало с ней знаком. Между тем это талантливое произведение.
Можно указать и на другое интересное произведение 90-х годов все о том же историческом периоде – изданный в Москве роман Владимира Куковенко «Смутное время» (1996). Интонационно он не похож на повесть М. Крупина: шутливый тон чужд автору, пытающемуся всерьез разобраться здесь в скрытых причинах русской трагедии начала XVII века. Но обе книги знаменательны именно близостью тематики. Видимо, сегодня события того далекого времени чем-то неуловимо напоминают писателям какие-то современные перипетии.
Само собой, в 90-е годы, как и во все времена, литература – по-прежнему зеркало общества, его образ, из которого проступают беды и боли, дела и заботы страны, народа и, как итог, – человеческой личности. Примерно так же приходится сказать о «Предисловии» Сергея Залыгина (Новый мир. – 1998. – № 2). Сюжет состоит в том, что некий современный писатель Н. Н. носится с замыслом романа «Граждане». По этому поводу он ведет тягучие «внутренние» беседы с воображаемым писателем М. М. Беседы, говоря без иронии, глубокомысленные, но изрядно затянутые и немного монотонные. Кроме того, по мере чтения этих бесед и личных философствований Н. Н. становится все яснее гражданская бесхребетность данного литературного героя (так его образ «выстроен» автором). По сути, именно личная бесхребетность (а не сложность избранной темы и не всевозможные «экзистенциальные тонкости», обсуждаемые в диалогах с М. М.) мешает Н. Н. сочинить своих «Граждан»!.. Впрочем, последнее, возможно, и задумано писателем. Но тогда авторское отношение к персонажу могло бы быть более зримым, выраженным, на что есть многие общеизвестные профессиональные приемы…
«Этого не было» Леонида Бородина (Юность. – 1998. – № 4) берет за душу своей человеческой искренностью. У каждого в детстве было что-то такое, что в зрелом возрасте страшно хотелось бы изменить, – да увы, уже нельзя. Но своему ныне немолодому герою Л. Бородин дает такую возможность, средствами литературной фантастики перенеся его в детство, – как раз в тот момент, когда он одиннадцатилетним мальчишкой легкомысленно совершил гадкий и непоправимый поступок по отношению к своему отцу, инвалиду войны. Сейчас герою удается вмешаться в те события… Доброе, даже трогательное произведение.
Вместе с тем в литературном плане «Этого не было» держится на ставшем с конца 80-х годов расхожим, не раз повторенном разными авторами приеме «перехода в прошлое». Почему-то всякий раз – это грань 40-50-х годов. Возможно, отчасти потому, что это как раз годы детства многих авторов. (Даже и неплохой фильм с данным сюжетным трюком есть – «Зеркало для героя»). Однако та эпоха послевоенного бурного восстановления страны чем-то притягательна и с объективной точки зрения. Антураж тоже кочует из произведения в произведение: сталинские портреты, энергичные лозунги, детали тогдашней послевоенной бытовой неустроенности и др. Как же без этого, возразите вы. Надо со всем этим, но по-своему. Визиты в послевоенное детство очень трудны для истинно творческого воплощения. Однако в 90-е годы ностальгия по тем временам весьма симптоматична.
«Два рассказа» Бориса Куркина (Наш современник. – 1999. – № 2) тоже характерны для настоящего времени с его бедами и заботами. Внешне они интонационно разнородны. Герой рассказа «Доходяга» – израненный отставной полковник Глеб Александрович Широков, который сражался и во Вьетнаме, и в Афгане, и в Приднестровье, и в Чечне, пережил «пару семейных катастроф», а теперь, в холостяцком своем одиночестве, сражен инсультом и оказался в больнице без видимых надежд на выздоровление. Он, однако, поднялся, и подняла его любовь к женщине-врачу. Только не получилось настоящего «счастливого конца». Героиня оказалась не одинокой женщиной, как думалось полковнику, а заботливой женой при парализованном муже…
Герой рассказа «Правозащитник» – «бывший воин-интернационалист, а ныне рядовой профессор всех и всяческих международных прав и обязанностей полковник милиции Вася Кирпичников», оказавшись в Америке, неожиданно сталкивается в аэропорту с американскими собратьями тех самых отечественных хапуг, мелких жуликов и взяточников, против которых ему приходилось бороться по роду профессиональных занятий в родном Отечестве. Бравый полковник дает им отпор на радость прочим авиапассажирам…
Рассказ выдержан в шутливых тонах, в нем много традиционной для русской прозы яркой выдумки, жизнерадостной легкости. Дар непринужденного легкого повествования не может не привлекать в авторе читателя. Впрочем, имеющему дар «писать просто», как известно, всегда не худо остерегаться того, чтобы не впасть где-нибудь в легковесность. Равным образом имеющий дар «писать сложно», работать в символической манере, будет прав, следя за тем, чтобы «не переусложнить».
Нечужды 90-е годы и духу литературных «экспериментов». Некоторые из последних выглядят как забавная, но наивная игра. Например, Николай Культяпов издал повесть «Приключения пехотинца Павла Петрова», где все слова начинаются с буквы «и» (Роман газета XXI век. – 1999. – № 1). Такое «новаторство» все же не для серьезного употребления. Оно сильно отдает нехитрыми забавами неофита-юзера на компьютере. Для компьютеров есть программы, бойко подбирающие слова «на букву» – только художественное творчество-то здесь при чем? А «Подлинная история „Зеленых музыкантов“» Евгения Попова (Знамя. – 1998. – № 6) в подзаголовке обозначена как «роман-комментарий». Тоже «эксперимент». Вот в чем реально состоит сия модернистская (или «постмодернистская») гибридная диковина. Сначала идет короткий (25 страниц) и явно пародийный (подчеркнуто примитивный и «свинченный» из литературных штампов) сюжет про некоего Ивана Иваныча; причем сюжет этот – тоже намеренно – обрывается автором на полдороге. Словом, «новаторства» невпроворот… Затем следуют около ста страниц так называемых «комментариев». Их 888, и они имеют весьма косвенное отношение к истории Ивана Иваныча, зато, что называется, вываливают перед читателем авторское нутро – или, будем считать, нутро авторского литературного двойника, «лирического героя». Этот герой – российский писатель. Несколько лет назад он переселился по какой-то оказии в город Берлин и ныне живет вместе еще с несколькими подобными «спецпереселенцами» на некоей бывшей вилле руководства СЕПГ, но и российские пенаты навещает по временам (все сведения почерпнуты нами из «комментариев»). Записи его бессвязны, по принципу «что на душу придет» (тут тебе и водяра, и сибирские похождения, и женщины, и круизы по мировым столицам с воспоминаниями в духе известного «и сам Марсель Марсо ей что-то говорил», и еще много иного). (Часто упоминает и хвалит на разные лады Е. Попов своего приятеля Виктора Ерофеева. Порнография нынче переименована в «эротику», но все же писать о сочинениях этого автора в учебном пособии о современной русской литературе не станем, как не следовало бы в книге о литературе XVIII века распространяться о сочинениях маркиза де Сада, Баркова и каких-то их сателлитов.)
Впрочем, не без «лейтмотивов», излюбленных тем. Например, ненавидит и без конца ругает «большевиков»; персонально не терпит «шпиона» Ленина. «Нынешних», «новых русских», впрочем, тоже ненавидит, да еще и презирает, хотя ругает в заметно более туманных выражениях, что и разумно. Неприязнь к «нынешним», кстати, отчасти проясняет суть ненависти к «большевикам»: они-де до этого довели.
По-видимому, у «лирического героя» Евгения Попова каша в голове. В то же время сам писатель начинал когда-то многообещающе. Его первые рассказы понравились В. Шукшину. В них было много броской «игры слов» (автор занятно подражал популярному тогда, хотя ныне подзабытому Вилю Липатову). В 70-е он был буквально замучен «непризнанием» со стороны редакций (один раз его рассказы напечатали благодаря В. Шукшину в «Новом мире» и еще раз – в «Дружбе народов»). Но во времена М. С. Горбачева модернистов стали всячески рекламировать, и все, что он написал, было опубликовано! Книги потом долго «светились» на прилавках. Однако тогда, из того-то, вероятно, и родились причины для истинных писательских мук, и эти причины многое объясняют в обсуждаемом агрессивном выплеске. Можно хлестко ругать Льва Толстого (есть и это в «комментариях»!). Но лучше быть кем-то сопоставимым с ним по масштабам.
И, говоря откровенно, наиболее сильное, что до сих пор издано у Е. Попова, – это все же давние подборки в «Новом мире» и «Дружбе народов», безошибочно отобранные когда-то (конечно, из вороха других его рукописей) профессиональными редакторами тех самых «злодейских» времен, которые обычно были не коварными злодеями, а просто людьми, понимавшими толк в литературе. Да, те подборки и еще «державшийся» именно на них сборник «Жду любви невероломной» (1988). А вот «Подлинную историю „Зеленых музыкантов“» (весьма любопытную как человеческий документ) к нынешним художественным достижениям писателя отнести невозможно.
Естественно, что в эпоху, подобную 90-м годам, в литературе не могла не встать – притом весьма обостренно – тема человеческого конформизма, порядочности и предательства. Георгий Давыдов, автор рассказа «Иоанн на Патмосе» (Москва. – 1998. – № 8) – писатель молодой, хотя на его счету уже и роман и повести. В «Иоанне на Патмосе» повествователь еще в конце 70-х видит на выставке пейзажи двух молодых художников, братьев Глеба и Игоря. Особенно заинтересовал героя Глеб, с которым он тут же и познакомился, но в картинах Игоря ему почудилась какая-то отсутствовавшая у Глеба «духовная полнота». Прошло много лет, из двух братьев стал знаменитостью один – именно Глеб. И вот уже в нынешнее время повествователь узнает из газеты, что этот преуспевающий художник покончил с собой. Он спрашивает общего знакомого о судьбе брата Игоря и узнает, что тот в последние годы «все забросил» и наконец принял постриг в монастыре на Валааме.
Повествователь отправляется на остров Валаам. Игорь (теперь брат Иоанн) сначала реагирует на его попытки разобраться в судьбе Глеба не по-монашески гневно. Но после, увидев молящимся в монастырской церкви, приглашает в свою келью. Здесь разъясняется символика названия произведения: братья-художники очень любили картину Босха «Иоанн на Патмосе» и даже «жалели, что Босх не русский». Но пути их разошлись. «Искусство, – говорит повествователю брат Иоанн, – должно стать рубежом борьбы с дьяволом, где дышит истинное искусство, там не может находиться дьявол. И вовсе не обязательно оно должно быть религиозно в содержании или преимущественно церковно, ведь и в церковной ограде, увы, оно может быть далеко от Бога, а за оградой – близко». Сам он не признавал за собой как художником силы для такой борьбы, раз ушел в монастырь. Глеб же, по его словам, долго «бился как рыба об лед»:
«Если б были мы тогда оба в церкви, если б уповали на Господа всей душой, надо думать, не обернулось бы так. Но случилось следующее… – Он взглянул мне прямо в глаза так, что мне стало не по себе. – Уж я не буду рассказывать вам подробности, он, – брат Иоанн перевел дыхание и перекрестился, – продал… ся».
«Иоанн на Патмосе» – не повествование о судьбах реальных людей, а художественное произведение, словесный образ реальности. Преувеличений, фальшивых черт в этом образе, впрочем, заметить не удается. Правдоподобно, что и говорить. При этом пусть Г. Давыдов – начинающий автор, мыслит и выстраивает сюжет он по-писательски вполне профессионально. Принцип же «не продай… ся» сегодня более чем актуален. (Разумеется, в первую очередь примерять его каждый, в том числе и каждый автор, должен на самого себя.)
* * *
Итак, выше перечислены (на примерах конкретных произведений современных писателей) некоторые характерные черты современной русской прозы. Разумеется, это перечисление сделано в рабочем порядке и не претендует на типологическую полноту. Однако такое предварительное обобщение материала позволяет отказаться от попытки дальнейшего обзора литературы 90-х во всех ее индивидуальных проявлениях, который, несомненно, утяжелил бы книгу, сделав развитие ее содержания слишком экстенсивным. После этого обобщения хочется, однако, назвать «для полноты картины» имена еще некоторых получивших известность авторов.
«ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ» МОТИВЫ В ПРОЗЕ
Анатолий Ким – популярный писатель 70-80-х годов, представитель того же поколения, что С. Есин, Р. Киреев и др.
Ким Анатолий Андреевич (род. в 1939 г.) – прозаик, автор романов, повестей и рассказов, отличающихся обостренным психологизмом и экзистенциальной проникновенностью. Живет в Москве.
Вплоть до начала 90-х у него выходили буквально книга за книгой: рассказы и повести «Голубой остров» (1976), «Четыре исповеди» (1978), «Соловьиное эхо» (1980), сборники повестей «Нефритовый пояс» (1981) и «Собиратели трав» (1983), «роман-сказка» «Белка» (1984) и др. Наконец, книга «Будем кроткими, как дети» (1991). После этого издательская активность писателя сначала несколько снижается, но затем в 90-е почти с той же завидной регулярностью стали выходить новые произведения. Упомянем роман Анатолия Кима «Онлирия» (Новый мир. – 1995. – № 2–3), «роман-мистерию» «Сбор грибов под музыку Баха» (Ясная Поляна. – 1997. – № 1), повесть «Стена» (Новый мир. – 1998. – № 10) и повесть «Близнец» (Октябрь. – 2000. – № 2).
Произведения А. Кима всегда ровны и, несмотря на некоторую излишнюю «рафинированность», неизменно интересны, сложно выстроены, но эта сложность не переходит в закрытость от читателя, герметичность. Особенно следует выделить прекрасный «Нефритовый пояс». Его «повесть невидимок» «Стена», как почти всегда у Кима, наполнена отзвуками «экзистенциальных» метаний современной интеллигенции. В центре супруги, Валентин и Анна. Они супруги недавно, но не так уж молоды: «Анне было тридцать лет, Валентину – сорок шесть».
Сначала повествование ведут сами герои по очереди, затем о них обоих говорится в третьем лице, потом слово опять дается то ему, то ей. Валентин и Анна щебечут на обычные для подобных пар темы, обижаются друг на друга, снова находят общий язык – словом, идет «притирка» друг к другу супругов в качестве двух разных личностей. Что тоже не ново. Вспоминают и известную тему «двух половинок», которые представляют собой люди, всю жизнь ищущие свою пару…
Валентин рассказывает жене этот сюжет с апелляцией к авторитету философии Платона. По его пересказу, якобы когда-то было некое двуполое «андрогинное существо».
«Впоследствии, когда андрогинное существо было разрублено пополам, на мужчину и женщину, каждая половинка стала искать по свету своего напарника.
– И ты считаешь, что мы с тобою?..
– Да, Анюта… Убежден.
– До сих пор?
– Да».
Герой с первых страниц повести ох как непрост:
«Когда мы встретились, я не стал открываться ей, что не вполне принадлежу этому миру, постоянно ощущая на сердце некую тяжесть отчужденности ко всему, что было вокруг меня, – от самых первых памятных впечатлений детства».
Героиня тоже не проста и говорит о муже и себе, что
«видела, глядя на Валентина, как он беспомощно барахтается в житейских протоках, несомый их мутным течением, – и ему по-настоящему страшно, куда его вынесет, и очень интересно, что с ним будет потом. А мне было безразлично, куда меня вынесет и что будет со мною потом. Я рано узнала, – мне кажется, всегда знала, – в этой жизни я прошлась мимоходом, залетела сюда случайно и скоро вылечу снова туда, откуда заявилась».
Одним словом, избранные натуры обрисованы писателем… Тема невидимок намеренно выражена в повести с загадочной двупланностью и сложно сопрягается с темой андрогинного двуединства любящих людей: «Когда-то мы были невидимками – и снова становились ими».
Дальше все начинает меняться в соответствии с прозой жизни. Возле Анны Валентин нечаянно видит некоего «спутника в бобровой шапке», затем Анна устраивает «первый опыт лжи, увенчавшийся успехом», после новых опытов следует развод, а потом разведенную Анну нашли зарезанной в ванне: «О ней и в газетах писали, и по телевизору на кусочки порезанную показывали». Отказывает сердце у Валентина. Но поскольку тема «неземного» и особого происхождения героя и героини опытной авторской рукой была в точно рассчитанном месте намечена в повести, конца нет:
«И какой бы там смертью ни заканчивалось существование каждого на земле – это не имело никакого отношения к тому, что человек может обрести такую свободу, если только пожелает ее».
А. Ким – бесспорно, сильный мастер, но создается впечатление, что в последнее время он исчерпал какие-то органичные его дарованию темы. В «Стене» слишком много настораживающего в этом плане словесного «балета» и манерной философичности. «Современный» фон, где есть и Россия начала 90-х, и все та же ходовая у многих писателей августовская (не путать с октябрьской 1993 года) «защита» Белого дома (на который так никто и не напал), отвлекает от манерной интонационности, но отнюдь не спасает – не углубляет повесть. Позволим себе выразиться о стилистике произведения так: много тонкой парфюмерии, но мало свежего воздуха. Кажется, писателю нужны новые жизненные впечатления. Об этом заставляют думать и другие его произведения, относящиеся к последнему времени. Впрочем, рано или поздно яркий талант непременно победит внутренние затруднения.
В начале 90-х продолжалась литературная работа еще одного рано ушедшего из жизни прозаика – Сергея Довлатова.
Довлатов Сергей Донатович (1941–1990). Родился в Уфе. Эмигрировал в 1978 году в США. Умер в Нью-Йорке. Основные издания его произведений: Довлатов Сергей Донатович. Собрание прозы: В З т. – СПб., 1995 (Т. 1: «Зона», «Компромисс», «Заповедник»; Т. 2: «Ремесло», «Наши», «Чемодан», «Виноград», «Встретились, поговорили», «Ариэль», «Игрушка»; Т. 3: «Иностранка», «Филиал», «Современники о Довлатове», «Записные книжки», «Два интервью»); Малоизвестный Довлатов. – СПб., 1997.
Это один из авторов «третьей волны» эмиграции, емкая характеристика которой, данная А. Солженицыным, приводилась выше. В 70-е годы Довлатов работал в эстонском городе Таллине в редакции газеты «Советская Эстония». Его характер точно соответствовал профессиональной атмосфере мира газетных журналистов, и он был совершенно своим в этой среде. Автор много наблюдал его в этот период, работая неподалеку от Таллина в Тартуском государственном университете и часто печатаясь в республиканских изданиях. Довлатов пользовался репутацией талантливого импровизатора, и действительно, всякий раз попав в одну с ним компанию, доводилось услышать какую-нибудь занятную историю. Много позже, познакомившись в начале 90-х с его книгой «Соло на ундервуде», я увидел, что его рассказики были вовсе не импровизациями – он просто устно «исполнял» перед приятелями недавно написанные тексты, проверяя их на слушателях. Например, этот:
«У Иосифа Бродского есть такие строчки:
„Ни страны, ни погоста, Не хочу выбирать, На Васильевский остров Я приду умирать…“Так вот, знакомый спросил у Грубина:
– Не знаешь, где живет Иосиф Бродский?
Грубин ответил:
– Где живет, не знаю. Умирать ходит на Васильевский остров.
Или этот – об одном из приятелей Бродского и самого Довлатова:
„Женя Рейн оказался в Москве. Поселился в чьей-то отдельной квартире. Пригласил молодую женщину в гости. Сказал:
– У меня есть бутылка водки и 400 гр сервелата.
Женщина обещала зайти. Спросила адрес. Рейн продиктовал и добавил:
– Я тебя увижу из окна.
Стал взволнованно ждать. Молодая женщина направилась к нему. Повстречала Сергея Вольфа. „Пойдем, – говорит ему, – со мной. У Рейна есть бутылка водки и 400 гр сервелата“. Пошли.
Рейн увидел их в окно. Страшно рассердился. Бросился к столу. Выпил бутылку спиртного. Съел 400 гр твердокопченой колбасы. Это он успел сделать, пока гости ехали в лифте“.
Или вот такой – я слышал его впервые в 1975 году:
Валерий Попов сочинил автошарж. Звучал он так:
„Жил-был Валера Попов. И была у Валеры невеста – юная зеленая гусеница. И они каждый день гуляли по бульвару. А прохожие кричали им вслед:
– Какая чудесная пара! Ах, Валера Попов и его невеста – юная зеленая гусеница!
Прошло много лет. Однажды Попов вышел на улицу без своей невесты – юной зеленой гусеницы. Прохожие спросили его:
– Где же твоя невеста – юная зеленая гусеница?
И тогда Валера ответил:
– Опротивела!“».
Другой таллинский автор, прозаик Михаил Веллер говорил в автобиографической повести «Ножик Сережи Довлатова»: «Он не написал, в некотором смысле, ничего спорного. Все просто и внятно». Действительно, произведения Довлатова отличает легкость. Это хорошее качество, когда оно не переходит в легковесность и не покупается ценой узости авторского словаря, неумения работать с богатейшей русской идиоматикой (составляющей один из важнейших резервов нашей литературной образности).
Ленинградец С. Довлатов несколько лет жил в Таллине с целью издать здесь книгу, о чем знали все. Когда набор книги был уже готов в издательстве «Ээсти раамат» (а помнится, что и тираж уже печатался; притом Довлатов, деловой энергичный человек, одновременно готовил и книгу для детей), автор запаниковал – мне опять-таки довелось случайно оказаться в журналистской компании, в которой он появился как раз из некоей инстанции (не помню, партийной или иной какой), где только что дал объяснения о неких своих ленинградских делах или контактах. Затем он немедленно, озадачив не одного меня, уволился и вернулся в родной город, где работал потом в журнале «Костер», после чего по еврейской визе уехал в США (там даже написал роман «Мой „Костер“» – своеобразную сатиру на бывших коллег). Книгу его осторожные эстонцы, подождав немногие месяцы, отправили под нож… Всюду, где упоминается биография С. Довлатова, его в этой связи изображают жертвой происков КГБ. На деле же история туманная: через год-другой я издавал там же свою первую книгу стихов «Эмайыги», и мой редактор, стопроцентно осведомленный о довлатовских издательских перипетиях, в разговоре божился, что это уничтожение тиража в конце концов произошло единственно по причине непонятного, насторожившего издательских начальников (и просто задевшего их эстонское самолюбие) довлатовского исчезновения из республики «по-английски», а не из-за вмешательства каких-то карательных органов. «Он сам все себе испортил», – полагал мой собеседник. Жизнь в Эстонии была действительно не лишена провинциальной затхлости, и яркие люди на моих глазах неоднократно отторгались тамошней средой – именно в силу своей раздражающей незаурядности, а не по политическим мотивам. Национальную провинцию, ее мещан можно победить только терпением и твердой неустрашимостью.
Тот же М. Веллер пишет в «Ножике Сережи Довлатова», что Довлатов не мог оказаться работником редакции «Костра», если бы за ним было что-то политическое: «В журнал обкома комсомола… не могли взять человека с нечистой анкетой, беспартийного, без круто волосатой лапы, обратившего на себя внимание конторы в связи с политическим процессом, автора сочтенных неблагонадежными рукописей, уволенного по указанию ГБ из газеты, книгу приказали рассыпать, сам под колпаком. Лишь тот, кто ничего не знает о структуре и системе информации и надзора за печатью и функциях отделов кадров, может думать иначе; для прочих совграждан это однозначно, как штемпель в паспорте. Замазанного человека возьмут только с каким-то умыслом. Теоретически первое – сотрудничество, на которое дается номинальное согласие….Второе, что вероятнее: Довлатов мог быть полезен как источник информации и связей в среде ленинградской диссидентствующей творческой интеллигенции».
(Не располагая фактами, не можем ни поддержать, ни опровергнуть М. Веллера, у которого к С. Довлатову весьма сложное отношение. В этом отношении присутствует нескрываемая и большая личная обида – о ней он подробно рассказал в своей повести («Ножик Сережи Довлатова» – метафора, ясно намекающая «на ножик в спину» М. Веллеру). Не очень верится в какое-то «секретное сотрудничество». Скорее всего, ключ к разгадке жизненных сложностей обсуждаемого автора следует искать в его произведениях. Мне никогда не была известна реальная биография Довлатова – человек он был наигранный, и я знавал его только в постоянном образе лихого мужика, донжуана и рубахи-парня. Что до проступающего из произведений, герой и автор – не одно и то же, но все-таки небезынтересно, что Сергей Довлатов в рассказах своих, написанных от имени лирического «я», неизменно изображает этого «я» то спекулянтом-фарцовщиком (повесть «Чемодан»), то дерзким хулиганом, ворующим ботинки у ленинградского партийного начальника (там же), то студентом, азартно участвующим в темных групповых махинациях на овощехранилище (рассказ «Виноград»), и т. д., и т. п. Короче, этот ключ кроется, вероятно, в излишней «богемности» Довлатова, который был ярким человеком и литератором, но названным качеством «богемности» отличался в большой степени – едва ли не чрезмерной…)
Довлатов был одним из «поздних» литературных шестидесятников, и ему всегда были свойственны их характерная неотступная ироничность, манера неоднократно переносить из фразы в фразу какое-то слово или словосочетание («под Хэмингуэя»), например: «До нашего рождения – бездна. И после нашей смерти – бездна. Наша жизнь – лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой! Попытаемся оставить царапину на земной коре. А лямку пусть тянет человеческий середняк».
Повредила его произведениям, пожалуй, привычка работать со словом и текстом по-журналистски. В газете стандартность и простота языка естественны, часто просто нужны для обеспечения контакта с максимально широкой аудиторией. В литературе, словесном искусстве, все по-иному (выше уже говорилось об узости авторского словаря).
Михаил Веллер не случайно постоянно сравнивает себя с Довлатовым, говоря даже:
«Много лет Довлатов был кошмаром моей жизни.
Кто ж из нынешней литературной братии не знал Сережи Довлатова? Разве что я. Так я вообще мало кого знаю, и век бы не знал. Он со мной общался, как умный еврей с глупым: по телефону из Нью-Йорка. То есть просто все мои знакомые были более или менее лучшими его друзьями: все мужчины с ним пили, а все женщины через одну с ним спали или как минимум имели духовную связь.
Большое это дело – вовремя уехать в Америку».
Как авторы они, несомненно, до известной степени схожи. М. Веллер приехал из Ленинграда в Таллин через несколько лет после исчезновения С. Довлатова с той же целью – издать книгу. Он тоже стал таллинским журналистом:
«И первое, что меня спросили в Доме Печати:
– А Сережку Довлатова ты знал?
– Нет, – пожимал я плечами, слегка задетый вопросами о знакомстве с какой-то пузатой мелочью, о ком я даже не слышал. – А кто это?
– Он тоже из Ленинграда, – разъяснили мне. Я вспомнил численность ленинградского населения: три Эстонии с довеском.
– Он тоже писатель. В газете работал.
– Где он печатался-то?
– Да говорят же: вроде тебя.
Это задевало. Это отдавало напоминанием о малыхуспехах в карьере. Я не люблю тех, кто вроде меня. Конкурент существует для того, чтобы его утопить».
Михаил Веллер стал на протяжении 90-х известным автором.
Веллер Михаил Иосифович (род. в 1949 г.) продолжает жить в Таллине, но его произведения регулярно выходят в российских изданиях. Например: Веллер Михаил Иосифович. А вот те шиш! (Повести и рассказы). – М., 1997.
Как писатель он глубже Довлатова. В нем видна основательная литературная культура, даже чувствуется профессиональный филолог (Довлатову филологическое образование вряд ли дало что-то заметное).
О своем невольном сопернике он рассуждает так:
«Что знал ваш Довлатов?! Он родился на семь лет раньше, мог пройти еще в шестидесятые, было можно и легко – что он делал? груши и баклуши бил? А мне того просвета не было! Он Довлатов, а я Веллер, он не проходил пятым пунктом как еврей, ему не был уже этим закрыт ход в ленинградские газеты, и никто ему в редакциях не говорил: знаете, в этом номере у нас уже есть Айсберг, Вайсберг и Эйнштейн, так что, сами понимаете, не можем, подождем более удобного случая; ему не давали добрых советов отказаться от фамилии под „приличным“ псевдонимом! Мать у него из театральных кругов, тетка старый редактор Совписа, литературные связи и знакомства со всеми на свете, у классика Веры Пановой он литсекретарствовал, друзья сидят в журналах! а у меня всех связей – узлы на шнурках! И всюду я заходил чужаком с парадного входа, откуда и выходил, и нигде слова замолвить было некому. Он пил как лошадь и нарывался на истории – я тихо сидел дома и занимался своим. Он портил перо… в газетах, а я писал только свое. Он всю жизнь заботился о зарплате и получал ее – я жил на летние заработки, на пятьдесят копеек в день. Он хотел быть писателем – а я хотел писать лучшую короткую прозу на русском языке. Что и делал!»
Простим автору его ненужные эмоции в отношении другого автора, которого уже нет на свете. Но, как он выражается, с «проклятым мифическим Довлатовым», действительно кое в чем схож. «Очень поздний» шестидесятник порой проступает все-таки и в Веллере. При этом, повторяем, в лучших своих произведениях он сильнее «конкурента». А рассказчик действительно хороший:
«Беззаботность.
Он был обречен: мальчик заметил его.
С перил веранды он пошуршал через расчерченный солнцем стол. Крупный: серая шершавая вишня на членистых ножках.
Мальчик взял спички.
Он всходил на стенку: сверху напали! Он сжался и упал: умер.
Удар мощного жала – он вскочил и понесся.
Мальчик чиркнул еще спичку, отрезая бегство.
Он метался, спасаясь.
Мальчик не выпускал его из угла перил и стены. Брезгливо поджимался.
Противный.
Враг убивал отовсюду. Иногда кидались двое, он еле ускользал.
Не успел увернуться. Тело слушалось плохо. Оно было уже не все.
Яркий шар вздулся и прыгнул снова.
Ухода нет.
В угрожающей позе он изготовился драться.
Мальчик увидел: две передние ножки сложились пополам, открыв из суставов когти поменьше воробьиных.
И когда враг надвинулся вновь, он прянул вперед и ударил.
Враг исчез.
Мальчик отдернул руку. Спичка погасла.
Ты смотри…
Он бросался еще, и враг не мог приблизиться.
Два сразу: один спереди пятился от ударов – второй сверху целил в голову. Он забил когтями, завертелся. Им было не справиться с ним.
Коробок пустел.
Жало жгло. Била белая боль. Коготь исчез.
Он выставил уцелевший коготь к бою.
Стена огня.
Мир горел и сжимался.
Жало врезалось в мозг и выжгло его. Жизнь кончалась. Обугленные шпеньки лап еще двигались: он дрался.
…Холодная струна вибрировала в позвоночнике мальчика. Рот в кислой слюне. Двумя щепочками он взял пепельный катышек и выбросил на клумбу. ‹…›
Его трясло.
Он чувствовал себя ничтожеством» («Паук»).
Из других рассказов М. Веллера хочется отметить «Легионер», «Не думаю о ней», «Эхо». Автор оказался теперь в обретшей поспешную «вторичную» независимость крошечной стране, которую, как и иные некоторые, до второй мировой войны именовали «задворками Европы». Но безъязыкое внутриэстонское одиночество, возможно, не мешает ему работать и даже стимулирует творчество. Он реальный участник нашей литературы 90-х годов. Мы добросовестно и обстоятельно коснулись его работы. В то же время «раздувать» фигуру М. Веллера, как и фигуру С. Довлатова, нет оснований (а это делается – под эгидой все той же «другой литературы»).
Друг Пушкина поэт и критик В. Кюхельбекер в свое время записал в дневнике: «…Какому-то философу, давнему переселенцу, но все же не афинянину, сказала афинская торговка: „Вы иностранцы“. – „А почему?“ – „Вы говорите слишком правильно; у вас нет тех мнимых неправильностей, тех оборотов и выражений, без которых живой разговорный язык не может обойтись, но о которых молчат ваши грамматики и риторики“»[15]. Возьмем и сравним могучий и своенравный язык В. Распутина, Е. Носова, А. Солженицына с обедненной и упрощенной довлатовской фразой (еще герой «Бедных людей» Достоевского горько сетовал: «слогу нет», «слогу нет никакого») или с излишне «правильной», несколько рафинированной фразой М. Веллера, иногда напоминающей «перевод с иностранного», пусть хороший, интеллигентный, но все-таки перевод. А литература – именно словесное искусство. Впрочем, и среди других писателей, творчество которых рассмотрено выше, кое у кого язык все-таки слабоват. Благодаря обширным цитатам, которые мы, чтобы нигде не быть бездоказательными, старательно приводим, читатели и сами могут получить об этом конкретное представление.
ПОЭЗИЯ 90-х ГОДОВ
Поэзия 90-х годов претерпела в своем развитии сложности еще большие, чем проза. Коммерчески стихи были заведомо «невыгодны». Случаются периоды резкого взлета общественного интереса к поэзии (20-е годы XX века, его 60-е годы), но интересующее нас время к подобным периодам причислить невозможно. Сравнительно с «доперестроечным» временем интерес к поэзии резко упал.
В издательском отношении поэтам в 90-е годы было несравненно тяжелее, чем прозаикам. Если многим модернистам и особенно «постмодернистам» время от времени оказывали спонсорскую поддержку различные частные лица, организации и «фонды» и их книги выходили, хотя обычно и микроскопическими в масштабах России тиражами, то поэты, работающие в русле национально-литературной традиции (в силу причин, на анализ которых здесь нет времени), как правило, не вызывали аналогичного интереса у толстосумов. Отсюда редкие эпизодические публикации таких авторов.
От Союза писателей никакой помощи не было, и проблема решалась каждым в соответствии с его личными возможностями – всякий выкручивался, как умел. (Так, моя единственная стихотворная книга середины 90-х «Красный иноходец» издана в 1995 году в Киеве моим бывшим учеником, открывшим там свое издательство.) Кроме того, для самой поэзии последнее десятилетие XX века было периодом в высшей степени кризисным. В писательском кругу поэты обычно отличаются особой душевной хрупкостью и ранимостью, их творчество в наибольшей степени зависит от жизненных обстоятельств, в которые автор поставлен судьбой. А эти обстоятельства в 90-е годы оказались повсюду удручающе однотипны и одинаково контрпродуктивны. Беспросветные беды страны, включающие в себя, как итог, личные беды, ощущение отсутствия каких-либо светлых перспектив – все это никак не стимулировало творческую работу. Так не раз бывало в прошлом, когда в силу тех или иных обстоятельств в обществе сгущалась атмосфера «безвременья». Но обсуждаемый период в данном плане вообще уникален. Многими поэтами на сей раз владела не некая преходящая «меланхолия». Их охватило глубоко пессимистическое умонастроение, вызванное нелепой и неожиданной гибелью родной страны, сломом всего жизненного уклада. Это полностью противоположно романтическому оптимизму поэзии послереволюционных 20-х годов.
20-е годы выявили литературных гениев и крупнейшие таланты XX века, завоевавшие немедленное признание во всем мире даже по зачастую плохим прижизненным переводам на иностранные языки (пример – прежде всего В. Маяковский). Поэзия 90-х не дала, на наш взгляд, ни новых великих имен, ни даже имен безусловно обнадеживающих. Она сильна в основном поэтами, начавшими работу ранее, в 70-80-е годы. Такое положение объективно создало льготные условия для тех же «постмодернистов». Их беспримерная активность в 90-е прямо связана с пустотой «поэтического пространства».
Мы не случайно ставим здесь и ниже слова, производные от термина постмодерн, в кавычки. В принципе круг приемов и методов, в литературе ассоциирующихся с данными словами (парафразис, вариация, стилизация, реминисценция, пародия и др.), относится к совершенно естественным компонентам писательского инструментария[16]. Он великолепно использовался в прошлом, например в эпоху барокко, у нас в России – в пушкинскую эпоху (в частности, самим Пушкиным) и позднее в серебряный век. Но в 90-е годы XX века не выявилось ни одной новой истинно крупной – в масштабах великой русской литературы! – фигуры, которая бы по-современному одухотворила подобные приемы и методы. Авторы, к ним прибегавшие, к сожалению, пока не вызывают таких оптимистических надежд. В эпоху нормального литературного развития большинство из них читатель просто не заметил бы при всех попытках заинтересованных сил коммерчески «раскручивать» такие фигуры. Но развитие литературы было весьма ненормальным.
Не исключено, что кто-то из авторов, начавших печататься в 90-е, попадавших и не попадавших в поле зрения критиков, еще «выпишется» в будущем. Однако пока нет оснований для уверенных прогнозов такого рода и потому будем объективно отмечать сам факт появления в 90-е годы тех или иных новых имен и произведений, давая, однако, оценки в соответствии с нынешним уровнем их творческой состоятельности. Как литературовед, автор настоящего пособия профессионально должен так поступать, какое бы это ни вызывало у кого-нибудь личное раздражение.
Взлет модернистских тенденций, происшедший в годы «перестройки» и породивший ряд существующих ныне, пусть и номинально, литературных «групп», сам по себе не есть нечто негативное. Без диалектики противоположностей нет жизни, нет движения, нет литературы. Ее история – всегда спор между «древними и новыми». Чтобы не обернулся тупиком русский «сумароковский» классицизм, заматерелый в своих филологических крайностях, необходим был новатор Г. Державин. Так же необходим был XX веку соизмеримый с державинским могучим даром талант Маяковского[17]. В послереволюционные 20-е годы такой модернистский взлет также имел место. Но тогда он принес литературе имена крупнейших поэтов XX века того же В. Маяковского, В. Хлебникова, С. Есенина, Б. Пастернака, Н. Заболоцкого и др., а также удивительно много не «великих», но крупных талантов (Н. Асеев и С. Кирсанов, И. Сельвинский и В. Луговской, А. Введенский и Д. Хармс, О. Мандельштам и Б. Корнилов и др.). С ними, с их масштабностью, профессионалу, как говорится, было «все ясно» уже тогда, и перспективы их творческого развития никаких сомнений не вызывали (разве что критикой 20-х несколько завышалась планка С. Кирсанову и И. Сельвинскому). Сегодня разнородный модернизм и даже «постмодернизм» налицо, он едва ли не господствует на журнально-издательских страницах. Однако конкретных литературных фактов грандиозного или даже просто значительного масштаба в общем-то (как приходится со всей силой подчеркнуть) нет. Фамилий много – правда, с «именами» осечка. А поскольку нет по-настоящему крупных личностей, это пока не литературное течение, а литературное поветрие, которое во всякую эпоху (так уже много раз бывало) рискует разрядиться «вхолостую», т. е. быстро сойти со сцены, толком так ничего на ней и не представив (как было бы с футуризмом, не присутствуй в нем Маяковский и Хлебников, как было бы с имажинизмом, не занеси туда судьба Есенина). То, что по принципу «на безрыбье и рак рыба» пытается как-то рекламировать часть критиков, беспристрастного анализа на «высокое качество» в целом не выдерживает. Потому нецелесообразно подробно останавливаться на довольно часто провозглашаемых ныне в среде стихотворцев «группах» («куртуазные маньеристы», «московское время», «концептуализм» и т. п.) – их существование, повторяем, в основном номинально, и говорить о них всерьез рано. Или, точнее, поздно. А не лишенные таланта люди, как правило, в групповых шорах просто долго не удерживаются.
Что до упоминаний модернизма неподалеку от имени Державина, то, на наш взгляд, литературе необходимо появление в ней время от времени художников и школ, наружно как бы порывающих с привычной традиционной манерой письма, художников-обновителей. Но при одном обязательном условии: такой авангард (модерн) должен возникать, выступать в литературе, укорененным на нациокультурном субстрате. Он должен практиковать обновление, выводящее писателя, например, к заброшенным современной «книжной» словесностью фольклорным традициям, принципам, техническим приемам (как это было с Державиным), к праисторическим, вошедшим в плоть и кровь данного народа воззрениям на природу, сущность человеческого бытия. И соответственно – к народно-мифологической образности и символике, а также и к религиозным образам и символам в тех случаях, когда их требуют интуитивное мировосприятие художника и проблематика его произведений. С тем, насколько пропитана православным миросознанием державинская поэзия, многое ясно, но и пресловутое «богоборчество» Маяковского (начиная с его «Облака в штанах») – это «бунт» насквозь православного человека, мальчишеско-подростковое остервенение против авторитета Отца, подхлестываемое, между прочим, «со стороны», ибо человек, поэт, живет и действует в конкретное время и среди конкретных людей, да и бес его попутать не прочь.
Именно слабая укорененность на субстрате национальной культуры (а чаще и полное отсутствие таковой – причем в форме агрессивного антикультурного нигилизма) губила авангард времен Маяковского, всех этих футуристов, имажинистов и конструктивистов[18]. Не будем говорить о «слабостях» Маяковского и Хлебникова и их причинах (о Хлебникове несколько слов ниже), но сила обоих авангардистов все же связана с тем, что у них-то, в отличие от группы сотоварищей, корни были, хотя в порядке «эпатажа» и групповой «солидарности» оба поэта корни эти, что надо с прискорбием признать, отрицали и даже более того (их участие в известных антикультурных актах вроде футуристических «манифестов» – «Пощечина общественному вкусу» и пр.).
В нынешнем литературном авангарде бросается в глаза прежде всего та же злосчастная замашка строиться на песке или амбициозно возноситься над землей Отечества заморским небоскребом, не имея ни фундамента, ни иных толковых зацепок за нациокультурную почву. Тут уместно оговориться, что автор пособия в 1977 году, когда тот самый авангард еще и голову не смел приподнять, в центральной печати предсказывал неизбежное скорое его появление, основываясь на свойственных литературному процессу законах (Литературная газета. – № 48). Со мной тогда горячо заспорил критик Юрий Селезнев (Литературная газета. – № 52), которому, видимо, послышались какие-то нотки торжества в этом предсказании, но то была всего лишь основанная на стремлении к объективности констатация. Так или иначе, прогноз реализовался, хотя не столько в качественном, сколько в количественном плане.
Как и у всех, у автора этого пособия есть свои читательские вкусы и предпочтения. В конце 90-х шкала поэтических ценностей современной поэзии в моем восприятии осталась примерно такой же, какой она была в начале 90-х.
По-прежнему наиболее сильной в кругу модернистов (или, если угодно, «авангардистов» – в данном пособии мы применяем подобные обозначения чисто операционно, «в рабочем порядке», не пытаясь делать из них строгие термины) остается небольшая группа поэтов, начавших работу еще в конце 70-х, долго практически не печатавшихся, но получивших литературную трибуну в годы «перестройки». Прежде всего хотелось бы указать на Ивана Жданова и Александра Еременко. Речь не о том, что это гиганты поэтической мысли, а о том, что позже более крупных фигур характеризуемое направление уже не дало.
С этими поэтами автор знаком много лет, и когда-то знал их более чем хорошо. Мы все трое сверстники, сибиряки и даже почти земляки. Их окружение нравилось мне намного меньше, но тем не менее я знал и его. В 1978–1979 годах мы жили в Переделкино, были молоды и очень дружили. Тогда и там были написаны Александром Еременко многие его стихи. Например, опубликованное позже «Переделкино»:
Гальванопластика лесов. Размешан воздух на ионы. И переделкинские склоны смешны, как внутренность часов. На даче спят. Гуляет горький, холодный ветер. Пять часов. У переезда на пригорке с усов слетела стая сов, поднялся ветер, степь дрогнула. Непринужденна и светла, выходит осень из загула, и сад встает из-под стола. Она в полях и огородах разруху чинит и разбой и в облаках перед народом идет-бредет сама собой. Льет дождь… Цепных не слышно псов на штаб-квартире патриарха, где в центре англицкого парка стоит Венера. Без трусов. ‹и т. д.›Здесь проступают многие черты манеры Еременко – и «зримая» картинная метафорика с нарочитыми «сюрреалистическими» поворотами, и ироническая игра литературными реминисценциями, и в конце концов забавное, актерское, но все-таки хулиганство («Венера без трусов»). Тогда же написаны другие стихи – «Печальный прогноз другу», «Я пил с Мандельштамом на Курской дуге…», «Процесс сокращенья дробей…» и др. А. Еременко опубликовал в самом начале десятилетия одну за другой две стихотворные книги – «Добавление к сопромату» (1990) и «Стихи» (1991). После этого книг новых стихов у него не выходило.
И. Жданова начали немного публиковать в первой половине 80-х годов. Затем у него тоже вышли две книги (первая – «Портрет» вышлав 1982 году, вторая – «Неразменное небо» – в 1990 году, а третья называлась «Место земли» и была издана в 1991 году). Для Жданова удивительно органично метафорическое мышление, к которому необходимо привыкнуть, чтобы проникнуть в герметически закрытый мир его стихов:
Мелеют зеркала, и кукольные тени их переходят вброд, и сразу пять кровей, как пятью перст – рука забытых отражений морочат лунный гнет бесплотностью своей.Или:
Мелкий дождь идет на нет, окна смотрят сонно. Вот и выключили свет в красной ветке клена. И внутри ее темно и, наверно, сыро, и глядит она в окно, словно в полость мира. И глядит она туда, век не поднимая, — в отблеск Страшного суда, в отголосок рая.Ждановский «сюрреализм», по большому счету, глубже и серьезнее (хотя, как обратное, тяжеловеснее) ярко-картинного, артистического фантазирования Еременко. В этом смысле весьма показательна ждановская «Рапсодия батареи отопительной системы»:
Вскрывающий небо ущербным консервным ножом, бросающий сверху пустую цветочную бомбу, крутой полумесяц на клумбе развернут, как скатерть. А розовый куст, восходящий над краем стола, бронхитом трясет и сорит никотиновой солью, клубясь и блестя в негативном ознобе рентгена. ‹…› И что ни лицо во вселенной, то водоворот, затянутый наглухо спелым комфортом болот.Иван Жданов в 70-е, как и после, жил одиноко и замкнуто. Напротив, Александр Еременко был постепенно затянут в мир богемы со всеми обычными негативными последствиями пребывания в этом мире. Попытки автора этих строк в «переделкинский» период дружески противодействовать особого успеха не имели. Позже, уже вернувшись из Эстонии на постоянное жительство в Москву и работая профессором писательского вуза – Литературного института им. А. М. Горького, я весьма энергично попытался побудить его закончить этот вуз. Но и тут беспардонно вклинилась богема. Такая уж она – добрая, но ранимая и склонная к актерству, позам и самоковерканию душа поэта Александра Еременко. Вскоре он принял участие в пресловутых августовских ночных оргиастических бдениях у Белого дома, лишний раз показав, насколько подвержен влияниям; сперва пытался этим наивным «участием в защите» гордиться, а теперь, возможно, уже и не пытается – не знаю, не спрашивал…
Будучи в 70-е – начале 80-х постоянным автором безмерно популярной «Литературной газеты» Александра Чаковского и нескольких московских журналов, я много раз делал попытки привлекать внимание к А. Еременко, И. Жданову, а также к А. Парщикову и некоторым другим стихотворцам-модернистам. Не раз встречал агрессивное противодействие коллег. Позже, в годы «перестройки», с интересом наблюдал, как некоторые гонители ловко «прозрели» и уже напропалую хвалили ребят, благо тогда стало хорошим тоном рассказывать о «модернистах» как жертвах «тоталитарного режима». Хвалили, как видел мой зоркий профессиональный глаз, порой не без коварства – не за сильные стороны, а за явные слабости их произведений. (Как нелепо было бы считать «гением XIX века» Козьму Пруткова, так странно раздувать сегодня подражания Хармсу и др.)
Я хотел придать конструктивное направление и всему их съезжавшемуся ко мне на переделкинскую дачу поэтическому кружку. В статьях, публиковавшихся в то время в «Литературной газете» («Чужое вмиг почувствовать своим…» – 1976. – № 12; «И дышит немеркнущий сад…» – 1977. – № 48; «„Смертный грех“ литературности». – 1978. – № 50 и др.) и в «Литературной учебе», много писал о недооценке современной поэзией парафразисов, «аллюзионных» приемов, стилизаций, вариаций, реминисценций, пародий и т. п., в которых знали толк Пушкин, Тютчев, Лермонтов, Блок, – предсказывая скорый взрыв интереса ко всему подобному у поэтической молодежи. То же проповедовал в этой компании будущих «постмодернистов» изустно, а в первой своей стихотворной книге «Эмайыги», вышедшей в Таллине в феврале 1979 года, показывал, как это делать практически. К сожалению, то, что у членов той компании (А. Еременко, А. Парщиков) получалось довольно разнообразно и целенаправленно, у стихотворцев, которые потом подвизались в качестве «постмодернистов» в 90-е годы, выглядело уже монотонно и поверхностно. Тут, как всегда, никакая литературная «техника» не спасает, если нет сильного таланта.
Моя книга 1979 года «Эмайыги» попала между тем под политический удар. Стихи из нее сначала были «приплетены» некоторыми циничными доброхотами из «Литературной газеты» к одной идеологической кампании по выявлению русских литературных «реакционеров», ранее начатой (в отношении совсем других авторов) журналом «Коммунист». Затем эту книгу с утра до вечера дисциплинированно разбирали в том же ракурсе за «безыдейность», «упадничество», «неверие в завтрашний день» и «формализм» на пленуме Госкомиздата С С С Р (после чего, кстати, руководитель Госкомиздата не поленился даже лично съездить в Таллин и еще раз «проработать» книгу и издавших ее людей в подчиненном ему республиканском Госкомиздате)[19]. Редактору книги Айну Тоотсу, смелому честному человеку, сибирскому эстонцу, пришлось уйти из издательства «Ээсти раамат».
В подобных злоключениях у писателей модно винить некую «советскую систему», я же всегда воспринимал их реалистически-конкретно, видя в них последствия подлых клеветнических доносов, исходивших от склонных к этому занятию мелких политически неискренних лиц, которые с наслаждением провоцировали указанную «систему» на разнообразное «ломание дров» – к коему она, надо признать, была «всегда готова». Кстати, лично мне известные этого рода литературные «борцы за идеологию», как и надлежит оборотням, в новые времена поголовно перекрасились, всплыли наверх и ныне занимают разные доходные места.
Тогда же в ходе естественного идейного размежевания я понемногу изменил круг знакомств и прекратил контакты с некоторыми будущими «постмодернистами» (А. Парщиков, К. Кедров и др.), хотя потом еще некоторое время в качестве поэта поминался недостаточно осведомленными критиками на страницах той же «Литгазеты» в одном с «постмодернистами» ряду. (Что ж, «поделом»: ведь был одним из тех немногих, кто в 70-е вольно или невольно подвел под это литературное течение «теоретическую базу».) Дело не только в том, что писания «постмодернистов» лишь внешне иногда и слегка походили на то, что я считал и считаю поэтически плодотворным, что связано с исканиями Тютчева, Лермонтова, Блока и др. – внутренне же в основном они были, конечно, до органической несовместимости и фатально предопределенной реакции читательского отторжения чужды традициям и духу русской поэзии. Меня всегда отталкивало еще и наивное «западничество» большинства из этой категории авторов. Умонастроения, бродившие в их кругу, сильно напоминали все того же Владимира Печерина с его стихами о личной ненависти к России и сладостном ожидании ее гибели (помните, «и жадно ждать ее уничтоженья»?). Забрезжившие впереди псевдореформы вызывали здесь туманно-инфантильные надежды – как говорится, хотелось не то конституции, не то севрюжины с хреном… Впоследствии за что болтливо боролись, на то языками и напоролись. Я же был человеком, любящим Родину, да еще и сибиряком; человеком русской культуры; человеком, худо-бедно, что называется, с первого взгляда «раскусившим» Горбачева и его команду, равно как «перестройку» и ее неизбежно катастрофические для нашей государственности и культуры следствия; писателем, понимающим ущербность и бездуховность западной масс-культурной «цивилизации» (которую повидал и знаю не заочно). На жизненном поприще со времен юности что думаю, то и говорю, – и так по сей день. Вот стихотворение «Граница державы» из моей киевской книги 1995 года «Красный иноходец» (перепечатано в журнале «Новая Россия». – 1996. – № 2):
Пещерные львы засыхают в прессованной Лете… Слоистый обрыв, точно книга, лежит над рекой. Как время течет? вертикально – взгляните на эти земные страницы, поросшие сверху тайгой! И если за край потянуть переплет обомшелый — усыпанный хвоей теперешний почвенный слой, — то сосны накренят свои журавлиные шеи: обложка откинется тяжкой и страшной плитой. В той книге летейской к поверхности время несется, как мячик, утопленный вглубь и отпущенный вдруг. И тоньше фольги стал расплющенный мир кроманьонца на нижних листах, и ссутулился дедовский сруб. Обрыв залистать, осторожно страницы подъемля… Читать достоверной Истории Родины том! Полвека назад откопать плодородную землю и душу поранить заржавевшим русским штыком.На любимого своего поэта и заочного поэтического учителя Владимира Маяковского я «походить», кажется, никогда не смел и пытаться – да подражать ему (подражать творчески, парафразируя и варьируя), по-моему, попросту невозможно, слишком мощная и самобытная фигура, да еще редкий по силе темперамент. (Пример тому Юрий Карабчиевский, который «прославился» в годы «перестройки» книгой «Воскрешение Маяковского», содержащей разнообразные, до непонятного злые и пристрастные нападки на «Владим Владимыча», затем опубликовал собственные стихи, откровенно эпигонские по отношению к Маяковскому и кубофутуризму, – прояснив тем самым суть своей неприязни, – а в 1992 году покончил жизнь самоубийством.)
Вечное и таинственное во все времена останутся темами для поэзии. Тютчев, Алексей Константинович Толстой – наши учителя на этой стезе. Разумеется, в лирике сквозь это таинственное выражаешь личное, свое:
В тропинках лес, а жутковат. Кто протоптал-то, хоть узнать бы. Держись за посох суковат… Но вот развалины усадьбы, неведомое затая… Из борового вышла мрака и смотрит жалобно твоя давно умершая собака.Но все-таки 90-е побуждали, я думаю, мало-мальски сильного человека прежде всего не к подобному мистическому трагизму, а к гражданской стезе творчества. Беды Родины будут избыты людьми, не павшими духом, восставшими над ситуацией, а не теми, кто погружен в мистические фантазии:
два торговых джигита джихад над прилавками сытые мухи в президенты невзорова сорос в рязани россия в разрухе где ты сталин кулиса мессия химера хазарское ханство безнадежно строптивый народ но довольно надежное пьянство за рубеж тараканы вагоны летят воровато с приветом поезд спятил географ советский уже отмахали полсвета самосадные страны вас жутко листать как страницы конотоп о махно догони и вот так до румынской границы да на карте бардак посмотри на шашлык там лукавые горы там на первом базаре ты купишь пол-литра базуку линкоры шемаханскую родину мать и пять жен и женшеневый кукиш петушок золотой гребешок все во мгле но россии не купишь злятся братья славяне ах русский спасали спасли их но сдуру точно басня крылов знай кололи врага всю испортили шкуру ну теперь те спасут побойчей бэтээры белы ай ты нато ваше дело ребята нехай но россии не быть под антантойТут один из случаев, когда «беззнаковость» – неупотребление знаков препинания – уместна, ибо помогает изобразить описываемое «взбаламученное море», которым была бедная наша страна в середине 90-х. Она усиливает не формально-синтаксические, а ассоциативно-смысловые связи слов и выражений, многие из них делает загадочно-двуплановыми, помогает ощутить живую спонтанность устной речи…
Приведя и разобрав эти три примера собственных стихов, возвращаемся к другим авторам. Итак, наступили 90-е годы. А. Еременко и И. Жданов на их протяжении, подобно многим, лишь эпизодически проявляли себя в поэзии. Эту ситуацию им обоим пора энергично переломить – лучше всего сразу в начале нового тысячелетия, когда все в мире на некоторое время обязательно оптимистически оживится, и это настроение не минует Россию. А. Парщиков, и не он один, еще в начале 90-х по случаю удалился жить за границу, а именно в Германию, так что ныне является гражданином (или, в терминологии телевидения, обывателем) города Кельна, где проживает на назначенное немецкими властями этого рода «спецпереселенцам» особенное «социальное пособие» – из русской культуры и литературы тем самым добровольно и объективно выпав. Стихов по-русски он более не пишет. С'est la vie, – как гласит популярное французское бонмо; есть и наши более конкретные пословицы на такого рода случаи.
Проработав в 1998 году осень в Кельнском университете (где читал лекции о литературе серебряного века), я, к сожалению, не обнаружил следов его духовного присутствия и в зарубежной культуре. Правда, в Москве слышал, что Алеша Парщиков в немецком Кельне учится писать стихи по-английски (я не шучу).
Упомянутый выше «авангард на нациокультурном субстрате» живет сегодня, будя и интерес и надежду. (Тот же Иван Жданов вряд ли может надеяться вырасти «вверх», не сумев соразмерно углубить корни своего дарования в культурно-историческую родную почву.) Из числа продолжающих публиковаться поэтов следует отнести к нему в поколении моем и Сергея Бобкова, автора книг «Возгласы» (1977), «Хождение за три времени» (1983) и «Сегодня или никогда» (1987); Виктора Лапшина, автора книг «Воля» (1986) и «Мир нетленный» (1989).
В более старшем поколении осмелимся усмотреть неопознанного «авангардиста» этого рода в Юрии Кузнецове, бурный неровный талант которого не раз нарушал в 80-е годы тишь и гладь тогдашней поэзии.
Кузнецов Юрий Поликарпович (род. в 1941 г.) – поэт, автор книг «Гроза» (1966), «Во мне и рядом – даль» (1974), «Край света – за первым углом» (1976), «Выходя на дорогу, душа оглянулась» (1978), «Отпущу свою душу на волю» (1981) и др. Профессор Литературного института им. А. М. Горького. Живет в Москве.
Книга 1997 года «До свиданья! Встретимся в тюрьме…» являет читателю нынешнюю поэзию Кузнецова. Видно, что в 90-е получил дальнейшее развитие не чуждый ему и в прошлом мрачноватый «сюрреализм». В этом плане показательно стихотворение «Я пошел на берег синя моря…»:
Я пошел на берег синя моря, А оно уходит на луну, Даже негде утопиться с горя… Свищет пламень по сухому дну, Лик морского дна неузнаваем. Адмирал, похожий на чуму, Говорит, что флот неуправляем, Но луна нам тоже ни к чему. Вопль надежды в клочья рвет стихия, Высота сменила глубину. Ты прости-прощай, моя Россия!.. Адмирал, уходим на луну.Символика тут вполне понятная нам, уже привыкшим в результате разбора затрагивавшихся выше произведений к трагедийным интонациям новейшей русской литературы. Гибель страны уподобляется гибели эскадры, которая фантастически «уходит на луну», т. е. на тот свет. В данном случае перед нами поэт, и в иные времена имевший склонность к подобной тяжелой фантастике. Но нет сомнения, что перипетии реальной современности многократно усилили в стихах Ю. Кузнецова соответствующие обертона. Эти обертона теперь систематически связываются в его стихах с той или иной конкретной жизненной темой (сюда можно отнести, например, стихотворения «Ой упала правда», «Квадрат», «Что мы делаем, добрые люди?», «Годовщина октябрьского расстрела 93-го года» и др.). Перед нами гражданская лирика, в которой, однако, преобладают отнюдь не жизнеутверждающие интонации (которых невольно ждет от такой лирики читатель, выросший на Маяковском), а интонации безысходного пессимизма (таковы, например, стихотворения «Тайна Черного моря», «Рождение зверя», «Свеча», «Кадр», «Сон», «Урок французского» и др.).
Внутреннее одиночество лирического героя также подчеркивается и даже выпячивается в произведениях из книги «До свиданья! Встретимся в тюрьме…» Герой окружен личными врагами, которые ненавидят его даже в своих снах:
Я погиб, хотя еще не умер, Мне приснились сны моих врагов. Я увидел их и обезумел В ночь перед скончанием веков.Подспудно в некоторых произведениях проходит идея типа «в аду куда лучше, чем среди вас». Так, в ярком стихотворении «Навеки прочь! Весь легион!» красноречивым эпиграфом выставлены знаменитые пушкинские строки:
Подите прочь – какое дело Поэту мирному до вас!В самом же кузнецовском тексте сатана изображается как «добродушный малый», который глубоко презирает врагов лирического героя, доносчиков на него:
Ударил снизу смрад глубинный И дым от адского огня. То сатана с брезгливой миной Сжигал доносы на меня.Впрочем, образ сатаны, борющегося за поэта, вряд ли можно признать удачей автора. Поданный так, он либо содержит в себе нечаянную художественно-смысловую ошибку крупного поэта и заносит стихотворение, что называется, «не в ту степь», либо содержит ошибку нравственную. Может быть, это и очередной акт небезызвестного в свое время читателю кузнецовского «футуристического эпатажа» («тряхнем и мы футурстариной», как говаривал Маяковский). Однако, учитывая конкретного вышеназванного его «фигуранта», нечистого, эпатаж на редкость не к месту. Не будем иронизировать по поводу вселенски-гиперболических «доносов» из цитированных строк, но по-человечески ясно, что сатана стал бы бороться только за сатаниста. Вряд ли поэту нужна такая коллизия.
В лучших стихах из новой книги Ю. Кузнецов мыслит и говорит о современности в том же интонационном ключе, который характерен для других российских писателей 90-х годов. Русская трагедия справедливо понимается им как трагедия всего мира:
– Все продано, – он бормотал с презреньем, — Не только моя шапка и пальто. Я ухожу. С моим исчезновеньем Мир рухнет в ад и станет привиденьем — Вот что такое русское ничто.Лев Ошанин, один из старейших русских поэтов, издавший более 60 книг, известный лирик и песенник, в 1992 году опубликовал последний сборник «Осколки любви».
Ошанин Лев Иванович (1912–1996) – поэт, лауреат Государственной премии СССР, автор книг «Этажи» (1930), «Москва моя» (1947), «Детиразных народов» (1950), «Сто песен» (1966), «Вода бессмертия» (1976), «Пока я дышать умею…» (1985) и мн, др. Был профессором Литературного института им. А. М. Горького.
В нем человек, много повидавший и на всякое насмотревшийся за долгую свою жизнь, заговорил о том, как не новы для него, хотя, слава Богу, и хорошо забыты, многие перипетии, характерные для 90-х:
Я помню глухое голодное небо И мамину боль, что еды никакой. Я шел, ослепленный витринами НЭПа, Мальчишеский локоть кусая с тоской. Тому уже с лишним полвека. Нелепо — Свершенья, награды легли на весы. И что же? Я прожил от НЭПа до НЭПа И снова не в силах купить колбасы.Поскольку это литература (стихотворение «Жизнь»), перед нами не просто жалоба еще одного брошенного на произвол судьбы старика, которых так много было в реальности 90-х годов. Возврат на круги своя исторически и философски нелеп – он вовсе не следовал как нечто закономерное из более чем полувековой эпохи свершений, пролегшей между точками «от НЭПа до НЭПа». Но вот, в конце столетия, над головой опять нежданно «глухое голодное небо», под которым современным детям уже не поется:
Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я!Напомним, что процитированное – строки знаменитой некогда замечательной песни Льва Ошанина. Нынешние дети в подавляющем большинстве своем песни этой не только не пели, но и не слышали. Тоска у «витрин НЭПа», а не упоение жизнью и солнечным небом – таков их удел, как удел недавно прославленного и вдруг словно никому не нужного старого поэта. Между тем слово этого поэта в последней книге не раз обретает немалую силу:
Художник, не надо души и таланта, Но правды, прошу тебя, не пожалей: На тысячных простынях русских рублей Не лик мудрецов и профиль вождей — Рисуй вездесущий оскал СПЕКУЛЯНТА.Последняя книга Льва Ошанина, в которой есть и еще далеко не одно художественно яркое гражданственное стихотворение («Перед будущим», «Судите меня» и др.), достойно венчает его творческий и жизненный путь.
Поэт Валентин Сорокин в 90-е годы издал две книги новых стихов – «Будь со мной» (1996) и «Лицо» (1997).
Сорокин Валентин Васильевич (род. в 1936 г.) – поэт, автор книг «Ручное солнце» (1963), «За журавлиным голосом» (1972), «Признание» (1974), «Плывущий Марс» (1977), «Посреди холма» (1983) и др. Проректор Литературного института им. А. М. Горького. Живет в Москве.
В первой из них две поэмы с гражданско-политическим сюжетным разворотом: «Последняя встреча» (о беседе стареющего Сталина с патриархом православной церкви) и «Батый в Кремле» (о событиях «перестройки» и 4 октября 1993 года). Поэма «Батый в Кремле» написана вскоре после октябрьской защиты Белого дома как свежая кровоточащая рана. Тогдашние деяния властей на Москве уподоблены здесь хозяйничанью на Руси Батыя. Трагедия Родины стала темой и многих стихотворений:
Свинцовые ветры поют над страною моею, И к нашим границам толкает дивизии Запад, Мой Кремль ненаглядный, на площади вновь я немею, Отбросив ползущий предательский рыночный запах. И голосом горя кричат колокольно куранты, А мы, закаленные в дерзком победном горниле, Как ту Атлантиду вознесшие к небу атланты, Россию родную на камни вчера уронили.(«Свинцовые ветры»)
Однако Валентин Сорокин – поэт по преимуществу лирический. Лирика и составляет основное содержание обеих его книг 90-х годов. Здесь она часто несколько созерцательна, но все же в лучших стихотворениях автора энергически-проникновенна:
Зачем твои груди таятся под белой рубашкой? Они ведь, зарею омытые, позолотели?.. К тебе пробирался я с пикой да с грубою шашкой, Да с атомной бомбой летел в хиросимской метели. ‹…› Люби меня, чуткого, сильного, умного зверя, Люби меня, русского витязя и стихотворца, Скачу я, скачу я: Россия для русских – потеря, И к русской могиле антихрист оплакивать рвется. Ты нежностью веешь, ты веешь покоем и домом, И все преступленья, кровавые смуты прости нам, Бывает такое – как в зеркале нам не знакомом Одна вдруг качнется, до боли родная, тростина.(«Люби меня»)
Цитированное стихотворение обращено одновременно к Родине и к любимой женщине – один образ как бы обволакивает собой другой. Такая лирика «укрупняет» интимно-личную тематику, преобразует ее в тему широкого звучания…
Глеб Горбовский был когда-то одним из самых сильных поэтов-шестидесятников.
Горбовский Глеб Яковлевич (род. в 1931 г.) – поэт и прозаик, автор книг «Поиски тепла» (1960), «Тишина» (1968), «Стихотворения» (1975), «Монолог» (1977), «Первые проталины. Повести» (1984), «Звонок на рассвете. Повести» (1985), «Отражения» (1986), «Плач за окном» (1989), «Сорокоуст» (1991), «Грешные песни» (1995) и др. Живет в Петербурге.
Некоторые его произведения были необыкновенно популярны. Например, вся страна знала и пела шуточную песню «Сижу на нарах, как король на именинах…» – стилизацию под «блатную» лирику. Умел Горбовский говорить и как смелый гражданин. Например, вот так:
Он уезжает из России. Глаза, как два лохматых рта, глядят воинственно и сыто. Он уезжает. Все. Черта. – Прощай, немытая! – пожитки летят блудливо на весы. Он взвесил все. Его ужимки для балагана. Для красы.Шестидесятник даже в таком коротком фрагменте безошибочно опознается и по манере рифмовать в области корня (РосСИи/СЫто), и по публицистической заостренности темы. Только в отличие от творений некоторых сверстников Горбовского, перо которых во все времена высвистывает нужные мотивы в соответствии с меняющимися требованиями политической конъюнктуры, его стихи дышат искренностью. В заключение поэт говорит своему «спецпереселенцу» в цитированном стихотворении: «Ну что ж, смывайся, Бог с тобою! Россия, братец, не вокзал».
В настоящее время поэт Глеб Горбовский все так же независим и прям в речах. Лишний пример тому – стихи из его недавнего цикла «Покаянный свет» (Москва. – 1999. – № 7):
Вновь отпылала заря. Смутному голосу внемлю: «Боже, верни нам царя, выручи русскую землю!» Шум этой жизни и гам я в своем сердце смиряю. Молча к разбитым ногам вновь кандалы примеряю.Эта человеческая внутренняя независимость позволяет поэту возвыситься над «демократическими» и «монархическими» иллюзиями и фантазиями, которым в 90-е годы отдали дань многие изверившиеся дезориентированные люди. И то и другое «грозит погодкою промозглой стране, вкусившей блажь и чушь». Поэт же мечтает об иной России:
Блажь звездолобых краснобаев. Чушь кровожадных леваков. Россия? Да! Но – не любая. А та, Святая, без оков.Цикл «В час разлуки» (Москва. – 2000. – № 1) углубляет подобные мотивы. Подобно Ю. Кузнецову, поэт поднимает тему современного сатанизма, но в совершенно ином ключе:
В Кремле, как прежде, – сатана, в газетах – байки или басни… Какая страшная страна, Хотя и нет ее прекрасней.Только внешне может показаться, что тут просто идет игра словами. На самом деле, словами управляет мысль глобальная, притом страшная мысль:
Вот и отпали маски И расплелись пути… Иссякли Божьи ласки, а дьявольские – жди.Поэт Игорь Тюленев – автор около десяти поэтических книг, среди которых «В родительском доме», «Братина», «Небесная Россия», «На русской стороне» и др.
Тюленев Игорь Николаевич (род. в 1953 г.) – поэт. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Живет в Перми.
Отметить его творчество следует: интересно начав когда-то, после VIII совещания советских молодых писателей, он на протяжении 90-х годов понемногу, но ровно набирает творческую силу. Ранние его стихи привлекали внимание сочетанием непосредственности и присущей ему как автору текстовой динамики. Как здесь:
Там, где корни и пальцы Затянуло песком, Очень маленький мальчик Топает босиком. Там, где пуля не дура, Там, где штык не берет, Где земелюшка бура И никто не живет… ‹…› За последней чертою Собираясь в полки, Под фанерной звездою Земляки… земляки…А вот стихотворение «Облом» из цикла «Альфа и омега на цепи», опубликованного на исходе 90-х годов (Наш современник. – 1999. – № 11):
Воробьям и синицам облом! Нынче царство бомжей и ворон. Поделили дворцы и помойки, С четырех наступая сторон, Захватили столицу и трон — Да и Кремль взяли после попойки. Батьковщина! Отчизна! Страна! Ты родному глаголу верна, Отчего же картавые Карлы Твоего отхлебнули вина? Отказалась от нас старина, У врагов на рогах наши лавры…И в этом стихотворении, и еще больше в некоторых других стихах 90-х годов просматриваются следы педагогического влияния на поэта его учителя по Литературному институту Юрия Кузнецова. Дело это естественное и нормальное, тем более что связь с творчеством Кузнецова проявляется не механически, как у «постмодернистов», а опосредованно и не мешает развитию чисто тюленевских интонаций. Игорь Тюленев с его гражданскими стихами, с его лирикой работает в литературе, изживает некоторые стилистические неровности своего раннего творчества и продолжает вызывать искренний читательский интерес.
В конце 90-х неожиданно ушел из жизни Геннадий Касмынин.
Касмынин Геннадий Григорьевич (1948–1998) – поэт, автор книг «Горький клевер» (1975), «Грибница» (1979), «Вещий камень» (1981) и др. Работал заведующим отделом в журнале «Наш современник». Жил в Звенигороде и Москве.
В 1996 году журнал «Наш современник» издал его новую книгу «Гнездо перепелки».
В юности мы, ровесники, были товарищами, и автор этих строк любил ездить к нему в старинный Звенигород, где он жил среди простых людей, не имеющих никакого отношения к литературе, но зато прямодушных и бесхитростных. Касмынин считал себя учеником поэта Николая Старшинова, да и являлся таковым фактически, когда учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Ранние его стихи, по преимуществу имевшие характер личной лирики, отличались и достоинствами и недостатками, аналогичными достоинствам и недостаткам произведений Старшинова. Однако тот, будучи долгие годы главным редактором выходившего в СССР альманаха «Поэзия», активно продвигал Касмынина и других своих учеников в печать, сыграв в их творческих судьбах весьма важную роль. Известно, как искренне Касмынин был ему за это благодарен.
В 90-е годы характер творчества Г. Касмынина заметно изменился. Он оставил после себя (неожиданно погибнув от сердечной недостаточности) стихи гражданско-публицистического звучания:
Родился я и под иконой, И под портретами вождей, Страны Советов сын законный, Ее мучительных идей, Ее войны и недорода, Великих строек и тюрьмы… Такого не было народа, Как вы да я, да вместе мы.(«Природа влажных полнозвучий…»)
Народ, обманутый под эгидой «перестройки» своими сладкоголосыми лидерами, проявил, однако, огромное чувство ответственности как народ крупнейшей страны планеты, ядерной державы, и не запалил «красного петуха» гражданской войны на своей гигантской территории. Напрашивается пушкинское выражение: народ безмолвствует. До поры:
Луна пройдет положенные фазы, И солнце не потухнет через год, И только не могу представить фразы, Что скажет завтра медленный народ. ‹…› Об этом я раздумывал под вечер, Следя за угасаньем облаков, А ночью вдруг поднялся страшный ветер… И крыши поснимал с особняков!(«Ветер»)
Тех, кто во имя гнусно-эгоистических интересов и амбиций верховодил искусственным развалом Отчизны, нажив на нем политические и иные капиталы, честное и смелое слово поэта клеймит презрением. Касмынин едко иронизирует:
Словцом отгородились от народа, Элита! – не стыдясь, произнесли, При Пушкине разделись до испода И в гении себя произвели. Сошлися во владениях нарпита, Залезли на трибуну – и галдеж! Рога стучат, и цокают копыта, И тявкает на старших молодежь. До драки выясняют, кто же первый, И кто второй, и есть ли кто второй, Хотят своей искусственною спермой Преобразить некачественный строй. Они хотят улучшить наше стадо, И мы не против, если не слегка… Найдем коров, то самое, что надо Для каждого элитного быка.Гражданственные интонации одухотворяют и другие лучшие касмынинские стихи 90-х годов («Гляжу с горы на ледоход…», «Полет Ивана», «Зима», «А ну-тка, Анютка, молодка…», «Прогрохотал по рельсам ливень…», «Я изменил родимым небесам…», «Окно для шагов» и др.). Поэт ушел от нас в расцвете творческих сил, явно на подъеме. Больше он не скажет ничего…
О творчестве совсем молодых, опубликовавших первые стихи, говорить лучше осторожно – панегирические предсказания могут не сбыться (нередко с возрастом и стихи писать бросают), недостатки критиковать преждевременно (они могут оказаться энергично изжитыми в скором будущем). Все-таки, не возвышаясь до прогнозов, хотим указать на книгу студента Литературного института Федора Черепанова «Гремячий ключ» (М., 1998).
В стихотворении об Илье Муромце, набирающем силу от поднесенного ему прохожими людьми волшебного питья, поэтом придуман такой поворот: молодой Илья отказывается послушать совета и не делать третьего глотка, от которого возвеселятся враги и «добрую силу иссушат печали». Богатырь поступает вопреки предсказанию:
Старца дослушал и ветер послушал. «Все б ты пугал да учил, старина». Ковш повертел на ладони Илюша, Шапку надвинул и выпил – до дна.Но интересно, что так своенравно и находчиво «поворочивающий» сюжет былины молодой автор в лирике своей непосредственен, традиционен, склонен к медитативности и пока скуп в интонациях. При этом есть нечто, объективно побуждающее отметить Ф. Черепанова вслед за И. Тюленевым и Г. Касмыниным. В отличие от большинства «постмодернистов» у вышеупомянутых авторов есть свой индивидуальный поэтический слог, как говорится, «есть язык». Следовательно, они поэты – вопрос лишь в том, насколько это поэты крупные, насколько они овладели своей темой и вообще успели ее найти.
Слово «постмодернизм» стало укрепляться на отечественных просторах с начала 90-х годов. До того оно было принадлежностью жаргона западной эссеистики, а на Западе пошло едва ли не от давнего, еще довоенного, термина «постмодерн». Однако его смысловое наполнение на русской почве вначале было зыбким и лишь постепенно обретало терминологическую четкость (кстати, на Западе слово «постмодернизм» применялось вначале вовсе не к литературе, а к архитектуре).
Сначала «постмодернизм» в творческих исканиях своих характеризовался у нас заметным перекосом в сторону изобретения метафор. Авторы начала 90-х даже соперничали в этом, а тех же Еременко, Жданова и Парщикова кто-то пробовал в середине 80-х назвать почему-то «метаметафористами». Для них и еще кое для кого характерна сложная разветвленная метафора, известная, в принципе, еще литературному барокко, а у нас в серебряном веке возрожденная футуристами, – но при чем здесь какое-то «мета-»? Для оригинальности, не иначе. Один простодушный (хотя и тоже оригинальный) критик, пойдя дальше, предложил затем переименовать «метаметафору» в «метаболу». Но читатели знали, сколь медицински и физиологически неэстетичен метаболизм (в организмах), и такое пряное нововведение тем более не прижилось…
Отличался «постмодернизм» и невнятной иронией в некоторые «типовые» (многократно повторяющиеся) жизненные и литературные адреса; затем он быстро сделался перенасыщен совсем уж выглядящими как учебно-литературное упражнение текстами комбинаторного характера и текстами-кальками (с текстов авторов разных времен и различных народов; вышеупомянутая комбинаторика, по сути, лишь усложненный вариант подобных калек).
На заре отечественного «постмодернизма» было очень много сначала вроде милой, но скоро надоедающей своей футуристической устарелостью игры с ритмами и созвучиями, и в то же время немало опытов со свободным стихом, верлибром. С верлибром ситуация была особенно интересная. Бытовало представление, что ему в советское время из неких идеологических соображений мешали развиваться литературные цензоры и редакторы– видимо, как явлению «формалистическому». Как следствие, в годы «перестройки» наряду с различными литературными «диссидентами» некоторое время усиленно искали и печатали также «верлибристов» (см. сборники «Антология русского верлибра» и «Белый квадрат»). Однако уже в первой половине 90-х годов верлибром интересовались все более вяло, а сегодня уже ясно, что, несмотря на заведомое отсутствие идеологических «плотин» и препон, бурный поток «свободных стихов» так и не хлынул – вопреки ожиданиям энтузиастов. Русская поэзия не испытала объективной потребности ни «перейти на верлибр», ни просто прибегать к нему более широко, чем раньше. Откровенно говоря, ожидать того или другого и не следовало[20].
Короче говоря, верлибр – это не просто некий записанный «столбиком», по-стихотворному, текст, лишенный при этом ощутимой рифмовки и стихотворной метрической упорядоченности. Верлибр, прежде всего, – это особый ход мысли, далеко не каждому художнику слова присущий. Огромный процент считающихся у нас опытами «русского верлибра» словесных текстов на самом деле «верлибрами» не является. Истинный верлибр – уникальное смысловое явление.
Почти одиноким мастером подлинного верлибра в современной поэзии был и остался не имеющий отношения к «постмодернистам» Геннадий Айги.
Айги Геннадий Николаевич (род. в 1934 г.) – поэт, переводчик, автор книг «Избранные стихотворения» (1991), «Здесь» (1991), «Теперь всегда снега» (1992) и др. Живет в Москве и Чебоксарах.
Айги от природы таков: он мыслит как художник верлибром:
а как же видение входит когда давно уж спит как будто лоб – два глаза – сон один рука записывая еле ЛетаЭто миниатюрное произведение Айги («Снега-засматриваясь») все насквозь пронизано эллипсисами (словесно-смысловыми пропусками, которые читатель способен интуитивно восполнить). Эллиптичен речевой поток (между «снега» и «засматриваясь» чисто синтаксической связи попросту нет, дефис между ними намеренно «не на месте»; то же можно сказать про сочетания «два глаза – сон один рука записывая еле», «записывая еле Лета» и т. д.). Но насквозь эллиптичен и сам сюжет произведения – от него остались лишь «клочки», из которых, однако, читательское «сотворчество» может восстановить целостную картину, несмотря на то что разброс авторских ассоциаций от «снегов» до реки времен «Леты» грандиозен. Эти систематические эллипсисы даже создают в произведении особого рода ритм – чисто смысловой! Такие эллипсисы в настоящем верлибре играют важную организующую роль.
Г. Айги в своих произведениях то и дело «сливает» в новое целое части предложений, сами предложения, а шире говоря – раздельные, очень разные, очень непохожие друг на друга мысли, сюжетные компоненты и др. (Отсутствие знаков препинания в этом тоже участвует.) В итоге порождается другая черта верлибра как семантического феномена – необыкновенное ассоциативное напряжение, ему присущее.
Эти и многие другие необходимые черты отсутствуют в ряде современных текстов, публикующихся под эгидой «верлибров». Как следствие, такие тексты не имеют к верлибру строгого и прямого отношения, что бы ни думали их авторы. Чаще всего это короткая проза, записанная в столбик – возможно и неплохая, но проза (а не верлибр).
Итак, суммируя вышесказанное, в начале 90-х был перекос в сторону опытов с внешней формой в целях ее «новаторского обновления» – наподобие того, как это пытались делать в 1910-1920-е годы футуристы, конструктивисты и др. Затем и это прошло. Что же осталось?
Осталось и сделалось отчетливым понимание отечественными «постмодернистами» задач стихотворца как человека, занимающегося литературной «игрой». Поэзия для «постмодернистов» – не то, чем она была для Державина, Пушкина, Тютчева, Некрасова, Блока, Маяковского, Твардовского. Она для них и не то, чем была для О. Мандельштама, А. Тарковского, В. Соколова, Д. Самойлова. Ее гражданственность, ее философская глубина, ее нравственная высота, ее воспитательные функции ими игнорируются. То, что предлагается взамен, проще всего показать на конкретных примерах.
Некоторые поэты-«постмодернисты» претендуют на то, что образуют особую группу «куртуазных маньеристов» (Виктор Пеленягрэ, Вадим Стеианцов, Андрей Добрынин, Виктор Куллэ, Константин Григорьев и др.)[21]. Большинство из них – выпускники Литературного института, автор давно наблюдает за их творчеством и свое мнение успел сформировать. Наиболее интересными представляются стихи В. Пеленягрэ и А. Добрынина – хотя и не все. «Маньеристы» чаще всего тяготеют к написанию литературных стилизаций, более или менее удачных в чисто техническом, звуко-ритмическом и словесно-текстовом аспекте, но замкнутых на себе, не содержащих отчетливой «сверхзадачи», ради которой стилизованы манера того или иного автора-предшественника и его конкретные произведения. Кроме несомненной товарищеской человеческой близости их объединяет высокая культура стиха, которая сразу бросается в глаза читателю. Однако за этой культурой стоит не «маньеризм», а общая для многих участников этой группы писательская alma mater – Литературный институт! За ней удачная педагогическая работа моих коллег – преподающих там поэтов-профессионалов и профессоров-филологов, – которые и ознакомили своих студентов со стихосложением, с теорией литературы и историей родной словесности… Но, предположим, Юрий Кузнецов или Юрий Левитанский и др., да и иные преподаватели, могли лишь объяснять и показывать, как работали крупные поэты, как работают они сами – а вот свой талант не передашь, свою голову не приставишь. Отсюда определенная творческая неровность названных авторов. По их произведениям видно, насколько разные вещи – «культура стиха» и художественное содержание стихов. Впрочем, и культура бывает разного уровня, и культура предполагает развитие, углубление.
Вот «Новелла» В. Степанцова, стилизованная под «поэзу» Игоря Северянина:
Старик цветочник и Виолетта, старик цветочник и Виолетта. Какая прелесть, какая сказка, какая нега, какой полет! Стояло самое начало лета, он называл ее «мечта поэта», она кокетливо стреляла глазками и нарекла его «Мой Ланселот». Для Виолетты, смешливой феи, старик цветочник в оранжерее растил фиалки и гиацинты, цветы, так шедшие к ее глазам. Поутру шла она вдоль по аллее, и он букетик ей вручал, немея. Ах, лето дачное, ах, лень беспечная, заря клубничная, души бальзам! ‹и т. д.›Здесь более или менее «схвачены» длинная северянинская строка, скачущая ритмика, отчасти «изысканность» лексики (нега, Виолетта, Ланселот, фея и т. п.). «Заря клубничная» и «души бальзам» неудачны: они отнюдь не из мира северянинской образности. Сюжетец «Новеллы» и предполагаемые призвуки интонаций Надсона обсуждать не станем. Но где же излюбленные Северяниным неологизмы (особенно на приставку «о-»)? Где его ассонансы, которые «рубнули рифму сгоряча»? Где его рифма-диссонанс (в шелесте/шалости, аристотельство/правительство и т. п.), по которой сразу угадывается северянинская манера? Вот он сам, Игорь Северянин:
На Ваших эффектных нервах звучали всю ночь сонаты, А Вы возлежали в башне на ландышевом ковре… Трещала, палила буря, и якорные канаты, Как будто титаны-струны озвучили весь корвет.(«Сонаты в шторм»)
«Куртуазным маньеристам» (раз уж им нравится так называться) сейчас уже около сорока лет. Играть становится поздновато – сие занятие для мальчиков лет восемнадцати-двадцати. Звание поэта в России предполагает служение в одном строю с Пушкиным и Некрасовым, Лермонтовым и Тютчевым, Блоком и Маяковским, Пастернаком и Заболоцким. Эти гении были заняты не игрой, а серьезнейшим и ответственным делом. Хочется служить в одном строю с Северяниным? Пожалуйста, только и Северянин вовсе не играл «игры ради». Он тоже был из настоящей русской поэзии, с ее лишенным иронии искренним лиризмом, гражданственностью (а вот гражданственская или антимещанская тема как раз часто связана в ней с целенаправленной, четко функциональной иронией). Северянин писал:
В смокингах, в шик опроборенные, великосветские олухи В княжьей гостиной наструнились, лица свои оглупив. Я улыбнулся натянуто, вспомнил сарказмно о порохе, Скуку взорвал неожиданно неопоэзный мотив. Каждая строчка – пощечина. Голос мой – сплошь издевательство. Рифмы слагаются в кукиши. Кажет язык ассонанс. Я презираю вас пламенно, тусклые ваши сиятельства, И, презирая, рассчитываю на мировой резонанс!(«В блесткой тьме»)
Обо всем этом приходится говорить, потому что «маньеристы», как и прочие «постмодернисты», поощряемые определенными литературно-критическими умами, на протяжении 90-х годов пытались приучить читателя к некоей «другой» поэзии – к стихотворному творчеству, преследующему отнюдь не те цели, которые всегда ставили перед собой ранее русские поэты. Соответственно названные «умы» в своих статьях и даже книгах не раз пытались по-иному выстраивать «российскую», как принято выражаться в этих кругах, поэзию. Естественно, в таком строю Некрасов с Блоком побоку, а если и Пушкин, то под руку с Абрамом Терцем (псевдоним А. Синявского, автора пасквиля «Прогулки с Пушкиным»), зато есть иные «классики» – Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Всеволод Некрасов и др. Это было бы смешно, кабы не было грустно. Но маршировать в таком строю – дело явно бесперспективное. Если им занимаются, как в случае с большинством «маньеристов», талантливые и профессионально образованные люди, то они кем-то или чем-то дезориентированы, и остается лишь пожелать им поскорее осознать последнее (если, конечно, не хочется закрепиться в истории русской поэзии, условно выражаясь, в роли литературных маргиналов – или, прямее сказать, очередных шутов русской словесности).
Вот опубликованные в 1999 году (Знамя. – № 4) новые стихи одного из наиболее характерных «постмодернистов» – Тимура Кибирова.
Кибиров Тимур Юрьевич (род. в 1956 г.) – поэт, автор книг «Сантименты» (1994), «Парафразис» (1997). Живет в Москве.
Сколько волка ни корми — в лес ему охота. Меж хорошими людьми вроде идиота, вроде обормота я, типа охломона. Вновь находит грязь свинья как во время оно! Снова моря не зажгла вздорная синица. Ля-ля-ля и bla-bla-bla — чем же тут гордиться? Вновь зима катит в глаза, а стрекоза плачет. Ни бельмеса, ни аза. Что все это значит?Литературные реминисценции (со стрекозой и синицей) здесь банальны, поэтическая поза «непонятости» и «загадочности» переходит в шутовство, от комментирования «Ыа-Ыа» и его образно-художественных качеств предпочитаем воздержаться, – словом, «гордиться» автору текста в данном случае действительно нечем; его предполагаемая «тонкая самоирония», по сути, лишь невольная объективная самохарактеристика.
А вот заявка на пиитический «спор» с Ф. И. Тютчевым:
Умом Россию не понять – равно как Францию, Испанию, Нигерию, Камбоджу, Данию, Урарту, Карфаген, Британию, Рим, Австро-Венгрию, Албанию – у всех особенная стать.Это, однако, явно и заведомо разговор «не на равных». Перед нами, как и во многих других произведениях Кибирова, легковесное «пересмеивание» великих образов классической поэзии. Интонационно такого рода произведения немного напоминают популярное в серебряный век «сатириконское» стихотворчество. Однако нет сомнения, что последнее было несравненно разнообразнее и притом семантически глубже. Наконец, шутки сатириконцев были весьма целенаправленны – их отличал ярко выраженный антимещанский пафос (не случайно с сатириконцами охотно сотрудничал молодой Маяковский). Что до Кибирова, дело в том, что автор – судя по характеру его шуток – явно воспринимает саму прочитанную им классику довольно поверхностно. Она доступна ему как читателю преимущественно с внешней стороны, да и то лишь с какого-то определенного бока. Например, сложнейшие философские стихи Тютчева он прочел, не понял и субъективно переосмыслил как нечто вроде легкомысленного водевильчика, на который «водевильчиком» же ответил.
А вот Тютчев прочел когда-то такое эротическое и картинное стихотворение Владимира Бенедиктова:
Прекрасна дева молодая, Когда покоится она, Роскошно члены развивая Средь упоительного сна. Рука, откинута небрежно, Лежит под сонной головой, И, озаренная луной, Глава к плечу склонилась нежно. ‹…› И дева силится вздохнуть; По лику бледность пролетела, и пламенеющая грудь В каком-то трепете замлела… И вот – лазурная эмаль Очей прелестных развернулась. Она и рада, что проснулась, И сна лукавого ей жаль.Тютчев написал в ответ одно из самых лукаво-грациозных и тонких своих стихотворений. В основе его – парафразис бенедиктовского текста, его творческая переработка. Но как одухотворил великий поэт Тютчев картину, прообраз которой увидел у крупного поэта Бенедиктова!
Вчера, в мечтах обвороженных, С последним месяца лучом На веждах, томно озаренных, Ты поздним позабылась сном. Утихло вкруг тебя молчанье, И тень нахмурилась темней, И груди ровное дыханье Струилось в воздухе слушней. ‹…› Вот тихоструйно, тиховейно, Как ветерком занесено, Дымно-легко, мглисто-лилейно Вдруг что-то порхнуло в окно. Вот невидимкой пробежало По темно брезжущим коврам, Вот, ухватясь за одеяло, Взбираться стало по краям, — Вот, словно змейка извиваясь, Оно на ложе взобралось, Вот, словно лента развеваясь, Меж пологами развилось… Вдруг животрепетным сияньем Коснувшись персей молодых, Румяным, громким восклицаньем Раскрыло шелк ресниц твоих!Подобные стихи без длинных к ним комментариев сами за себя говорят, сами доказывают, что, действительно, в принципе, парафразисы, вариации, стилизации могут приводить к художественно ценным результатам. Это особые приемы творчества, намеренно прочерчивающие связь текста с текстом, стиля со стилем и объединяющие произведения разных авторов как бы в одну «планетную систему». Лермонтов написал однажды в стихотворении «Три пальмы»:
В песчаных степях аравийской земли Три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной, Журча, пробивался волною холодной, Хранимый, под сенью зеленых листов, От знойных лучей и летучих песков. И многие годы неслышно прошли; Но странник усталый из чуждой земли Пылающей грудью ко влаге студеной Еще не склонялся под кущей зеленой, И стали уж сохнуть от знойных лучей роскошные листья и звучный ручей.Это задумано и исполнено так, чтобы всплыло в памяти читателя и скрепилось с лермонтовским текстом художественно-смысловой связью:
И путник усталый на Бога роптал: Он жаждой томился и тени алкал. В пустыне блуждая три дня и три ночи, И зноем и пылью тягчимые очи С тоской безнадежной водил он вокруг, И кладез под пальмою видит он вдруг. И к пальме пустынной он бег устремил, И жадно холодной струей освежил Горевшие тяжко язык и зеницы…Перед нами строки из «Подражаний Корану» А. С. Пушкина[22]. А вот начало стихотворения А. С. Пушкина «Узник»:
Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе орел молодой, Мой грустный товарищ, махая крылом, Кровавую пищу клюет под окном.Сравним с этими строками начало стихотворения М. Ю. Лермонтова «Пленный рыцарь»:
Молча сижу под окошком темницы; Синее небо отсюда мне видно: В небе играют все вольные птицы; Глядя на них, мне и больно и стыдно.Это не подражание слабого поэта сильному – подобные связи выстраиваются намеренно и сознательно. В умелых руках они могут послужить мощным средством смыслового усиления текста, равноправного «подключения» его к системе классической поэзии.
Примеры из классики, подобные приведенным, избавляют нас от попыток (Боже упаси) «поучать» кого-то из «постмодернистов». Просто приходится констатировать: к сожалению, в функциональном плане парафразисы и вариации Т. Кибирова имеют мало общего с приемами Тютчева и Лермонтова, вообще ряда поэтов прошлых времен, эти приемы использовавших (парафразисы писали у нас еще в XVIII веке Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков и многие другие). Подобные «постмодернистские» парафразисы и вариации типологически ближе всего к вялой пародии – как в случае с цитировавшимся образчиком пересмеивания Кибировым философских стихов Тютчева. Но вот и собственные философствования «постмодерниста», видимо, претендующие на «трагизм»:
Объективности ради мы запишем в тетради: Люди – гады, и смерть неизбежна. Зря нас манит безбрежность, или девы промежность. Безнадежность вокруг, безнадежность. Впрочем, в той же тетради я пишу Христа ради: Ну не надо, дружок мой сердешный! Вихрь кружит центробежный, мрак клубится кромешный… Ангел нежный мой, ангел мой нежный!Мышление Т. Кибирова, как и «маньеристов», перенасыщено литературными мотивами – жизнь как таковая идет где-то там, извне. Цинизм тут деланый («люди – гады», «девы промежность» и т. п.), пессимистические «философствования» все-таки опять банальны, литературные реминисценции («ангел мой нежный») невыразительны – словом, все вместе вряд ли создает смысловую основу для серьезного и глубокого поэтического произведения. Многое портят все та же «самоценная» непросыхающая ирония и наигранность, поза. Перед нами снова «эстетика капустника» – мы о ней уже говорили в этом пособии.
Сказанное все-таки не относится или почти не относится к наибольшим удачам Кибирова – например, к его «державинскому» циклу. Тем не менее, повторим, стихотворчество для него – род игры, «Неуловимый налет игры» присутствует едва ли не на всех его произведениях.
Имеет ли подобное творчество право на существование? Разумеется имеет, однако с общепонятными нравственно-этическими ограничениями. Пошлость внелитературна. Кроме того, необходимо ясно сознавать скромное место такого творчества в системе русской поэзии. (Это относится не к одному Т. Кибирову, но еще в гораздо большей степени к Ю. Арабову, опубликовавшему в 90-е годы несколько стихотворных подборок в журнале «Знамя» и книгу «Простая жизнь» (1991), С. Гандлевскому с его книгой «Праздник» (1995), В. Друку, издавшему книгу «Коммутатор» (1991), И. Иртеньеву, автору сборника «Ряд допущений» (1998), и др.) Самоценно-игровое творчество – неизбежно поэтическая периферия, задворки литературы. У поэзии на протяжении веков неизменно были другие, куда более важные задачи. То, что в 90-е годы поэзия уделяла несомненно очень много внимания подобному занятию, никак не говорит в ее пользу. Напротив, это вернейший симптом упадка, В 1705 году поэт и теоретик литературы Феофан Прокопович писал в «Поэтике», что «сам предмет, которым обычно занимается поэзия, придает ей огромную важность и ценность. Поэты сочиняют хвалы великим людям и память о их славных подвигах передают потомству… Затем многие поэты поведали о тайнах природы и о наблюдениях над движением небесных светил». «Точно так же», – продолжал Прокопович, – поэты сочиняют «хвалы святым, хвалы самому Богу». «Столь великому значению поэзии, – заканчивает он, – не могут повредить и некоторые срамные стихотворения, сочиненные людьми с большим, но бесстыдным дарованием»[23].
Люди с небольшим и бесстыдным дарованием, а также с большим бесстыдством без всякого дарования более часты в литературе; сегодня они часты особенно. Однако их сочинения тем более не соответствуют высоким задачам поэтического искусства. Короче, слова Ф. Прокоповича остаются верными и в конце XX века.
Особый комментарий, с привлечением немалого количества современных примеров, мог бы быть дан, кстати, его упоминанию о «срамных» стихотворениях. Уж этого добра в 90-е годы печаталось предостаточно. Еще хуже то, что их не раз пытались глубокомысленно изучать, искусственно «приплетая» к ним и бахтинский карнавал, и его же профанацию (речь идет о терминах, используемых в книгах М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» и «Творчество Франсуа Рабле») – лишний пример того, что от великого до ничтожного, как и от великого до смешного, один шаг. Тем не менее у такого рода литературы в 90-е годы были и энергичные пропагандисты и «теоретики», которые, если им поверить, якобы обнаружили среди неизменно наивных в своей массе упражнений отечественных «постмодернистов» «стереопоэмы», «деконструкции», «архетипы» и т. д. и т. п. – лишний пример того, что звучные слова (в другом применении нередко обладающие реальным смыслом) можно имитационно прилагать к чему угодно.
Державин в «Памятнике», а затем Пушкин в одноименном «Памятнике» силу свою видят в том, что Державин «первым дерзнул» «В сердечной простоте беседовать о Боге / И истину царям с улыбкой говорить», Пушкин – «чувства добрые» «лирой пробуждал», «восславил свободу» и «милость к падшим призывал»… До их духовности и гражданственности «постмодернизму», по правде сказать, несколько далековато. Он всячески «пробуждал» легкомысленный хохот, смех, и, извините, нередко смех просто пошловатый. Толкуют, правда, об «интеллектуализме» «постмодернистского» творчества. Смысловое богатство – черта привлекательная, лишь бы это не была имитация глубокомыслия. На самом деле за интеллектуализм у «постмодернистов» добрые люди часто принимают их неотступную демонстрацию своей «начитанности». В «центонной» поэзии «постмодернистов» раскавыченные «чужие» цитаты и реминисценции сыплются как из рога изобилия. Центон, по классическому определению А. П. Квятковского, «род литературной игры, стихотворение, составленное из известных читателю стихов какого-либо одного или нескольких поэтов; строки должны быть подобраны таким образом, чтобы все „лоскутное“ стихотворение было объединено каким-то общим смыслом или, по крайней мере, стройностью синтаксического построения, придающего ему вид законченного произведения»[24]. Однако такое изобилие немедленно ставит вопрос о том, для чего, в какой художественной функции все это применяется авторами.
Художественные функции варьирования и стилизации, применения цитат, реминисценций потенциально могут быть весьма важными и серьезными. Об этом, пожалуй, ярче всего сказал не какой-либо писатель или литературовед, а русский композитор. Кто? Игорь Стравинский, которого в музыкальных кругах считают одним из самых смелых новаторов XX века. Слова, о которых я завел речь, привести уместно еще и потому, что Стравинский сопоставляет свою композиторскую работу и работу одного из крупнейших поэтов нынешнего столетия. Он говорит в «Диалогах»: «Не пытались ли Элиот и я сам ремонтировать старые корабли?.. Настоящим делом художника и является ремонт старых кораблей»[25].
Пытаться ремонтировать старые корабли – возвращать к жизни заброшенные невнимательными (или отвлекшимися на нечто более «современное») потомками стилевые традиции, темы; углублять, подхватывая, художественные идеи прошлого, давно кажущиеся «наивными» поверхностному взору – возвращать нашему времени культуру ушедших времен, одним словом! – это благородное и необходимое дело. И уж во всяком случае оно не означает присвоения себе «чужого». Любят, например, повторять, не особенно вдумываясь в их суть, известные слова Достоевского про «всемирную отзывчивость» Пушкина, про его способность к «перевоплощению своего духа в дух чужих народов» и про то, что в этом – «национальная русская сила» его гения. Но многие ли литературоведы исследовали, в чем конкретно состоит пушкинская «отзывчивость»? Во всей необходимой конкретике и подробностях суть «перевоплощений» в пушкинском творчестве рассмотрел когда-то академик В. В. Виноградов[26]. Точно мощный водоворот, втянуло это творчество в русскую культуру, переплавило, иначе говоря, в национальном горниле множество разнохарактерных смысловых «сгустков», открыв при этом в простом – сложное, преобразив наивное в философски-мудрое (либо создав конгениальный русский вариант тех или иных инолитературных образно-сюжетных коллизий, как в случае с пушкинским «байронизмом») и придав вселенское звучание тому, что в своей первой жизни (в иной национальной культуре) говорило еле слышным слабым голоском… Вспомним хотя бы «Маленькие трагедии» Пушкина, его антологическую лирику, «Песни западных славян»! Это сделал для своей молодой тогда литературы великий поэт огромной страны, по сей день занимающей необозримые территории Евразии, на протяжении XIX–XX веков многократно влиявшей на судьбы всего человечества (борьба от имени христианского мира с исламом на Востоке, с Наполеоном на Западе, Октябрьская революция, победа во второй мировой войне)… После Пушкина русская литература вышла на первое место в Европе. Лучшим европейским писателем люди на Западе (братья Гонкуры, Жорж Санд, Альфонс Доде и др.) на разные голоса называли уже Тургенева, Лев Толстой позже стал своего рода литературным «гуру» для людей во всем мире. А Достоевский, а Шолохов, а Булгаков! Но почву для них когда-то создал именно Пушкин.
И в других искусствах идет «ремонт старых кораблей», нужный для тех же важнейших целей. И вот Стравинский окрашивает интонациями XX века вызванные им из прошлого темы «наивных» менуэтов, жиг и чакон, исполненные грациозного самолюбования формы композиторов эпохи барокко… Отсюда же – «Моцартиана» Чайковского и «Шопениана» Глазунова, парафразы Баха, Генделя, Моцарта, Листа…
Сегодня литературе, как в пушкинскую эпоху, требуется радикальное смысловое обогащение. В поэзии это особенно ощутимо. Не «рывок» – отечественной литературе не к лицу тщиться кого-то «догнать и перегнать». Нет, самоуглубление – путем сосредоточения на самой себе при максимальной открытости вовне, т. е. все той же «всемирной отзывчивости», которая всегда была одной из самых сильных наших сторон. (Впрочем, одновременно – одной из самых слабых, но это уже особый вопрос.) Нужен поиск, выводящий к заброшенным отмелям, где рассыхаются забытые «старые корабли». В искусстве очень многое можно, но одного нельзя – отбрасывать с пренебрежением прошлое, как мы сделали в XX веке (да еще под выспреннюю декламацию о «верности традициям»). Нельзя отбрасывать прошлое и в неявной форме, превращая его в неприкасаемую музейную диковину.
Современный модернизм и «постмодернизм», однако, никак нельзя признать осуществляющими этого рода «ремонт». Задача если и понята, то пока вульгарно, с «точностью до наоборот». Корабли должны плавать, а не рассыхаться ни на отмелях, ни даже на пьедесталах. Или, используя другое сравнение, старыми мощными инструментами надлежит работать, но они обретают смысл только в результате умелого применения. Воссоздавать старые инструменты ради того лишь, чтобы на них глазеть – тем более глазеть, глумясь и потешаясь, – почти бессмысленно. Равным образом само по себе массовое сочинение центонов имеет не более смысла, чем имело бы, предположим, массовое сочинение акростихов, буриме, сонетов и т. п. Пока оно замкнуто на себе, т. е. не функционально, оно остается не более чем игрой, которая на протяжении 90-х годов делалась все более монотонной (впрочем, она до известной степени попадала в унисон с претендующими на юмористический тон, как правило, глупейшими стихотворными рекламными клипами 90-х). Между тем поэт – не ерник, не паяц, не изобретатель метафор, не сочинитель стихотворных ребусов, не гриб-трутовик, паразитирующий на стволах здоровых самостоятельно растущих деревьев, а если мастер, то отнюдь не «мастер скандала и эпатажа». Потому и ошибается стихотворец, основную цель свою видящий в вышеперечисленном (как и вообще в «обновлении» внешней формы), что пропорционально подобным его усилиям обычно ослабевает главное для поэзии – своеобразие мысли. Когда такое своеобразие не входит в авторские цели, в его «самозадание», мысль «провисает», выглядит вялой, безликой. И потом, будем уж до конца откровенны и прямы: ну какие из «постмодернистов» (не тех, которые теоретически возможны, а тех, которые реально есть) «формалисты»! Внешняя форма и техника стиха у них обычно как раз до непонятного слабы и монотонны.
В 1992 году в Петербурге умер Олег Григорьев, при жизни долго печатавшийся как детский поэт, по самиздату же известный как автор многочисленных, опубликованных позже «страшилок», исполненных черного юмора (к сожалению, порой невзыскательного), поэт с сюрреалистическими наклонностями и таковым же складом психики.
Григорьев Олег Евгеньевич (1943–1992) – поэт, автор книг «Чудаки» (1971), «Витаминроста» (1980), «Говоряищй ворон» (1989), «Стихи, Рисунки» (1993).
Он чем-то напоминает ленинградских обернутое («Вышел на Невский из кабака, На окне мальчишка лохматый Показал мне три языка, Потом четвертый, потом пятый…»), а кое-где проглядывают как бы стихотворные вариации маскируемых иронией трагических мотивов Венедикта Ерофеева. В среде «постмодернистов» О. Григорьев, что называется, не сановит – его редко вспоминают. Между тем он-то как раз и был в их кругу почти единственным поэтом с довольно богатой и разнообразной техникой. Он, простите, хоть рифмовать умел по-человечески и даже интересно экспериментировал с рифмой и ритмикой в футуристическом духе: «Сачком поймал я гения И оторвал крылышки. Сижу на кухне весь день я. Рвется пар из-под крышки», «Купил я капусту и свеклу, Стою на кухне, варю щи. Раздался звон, посыпались стекла, В дом ввалились товарищи» – и т. д. и т. п. (гения/день я, крылышки/крышки, варю щи/ товарищи). Но даже по этим примерам видно, что у О. Григорьева есть стихи, которые прочно западают в память еще и по причинам смысловой оригинальности и силы. Как вот это:
Четверорукими ногами Макака к дереву идет, Четвероногими руками Она бананы с веток рвет.Поэзия – особая смысловая стихия.
Если это так, то по-настоящему плодотворны те поиски и, если угодно, «эксперименты», которые изощряют именно ход поэтической мысли, открывают какие-то глубины смысла. Напомним об одном великом русском поэте, работа которого по своему характеру совершенно не вяжется, конечно, с «измами» нынешней литературы. Этот человек творил поэзию спокойную и классически ясную. Но одновременно его поэзия, без преувеличения, непостижимо трудна по своему смыслу и драматически одинока в своей непохожести на кого-либо и на что-либо и в русской литературе, и за ее обозримыми пределами. То есть это поэзия не просто «новаторская» или, допустим, «экспериментальная» – это поэзия уникальная.
Речь о Федоре Ивановиче Тютчеве. Вот поэт, вот творчество, где внешне, кажется, все «давно известно», но стоит вглядеться, и что ни шаг, то парадокс, то загадка. Вот где есть чему учиться! Не «пересмеивать» его стихи, как захотелось сделать Т. Кибирову, а всерьез учиться.
Говоря о Тютчеве, часто вспоминали рассказанное третьим из Аксаковых – Иваном Сергеевичем, тютчевским зятем. Иван Аксаков подчеркивает, что поэт в жизни своей почти не говорил и почти ничего не писал по-русски. Так сложилась жизнь – галломания родителей, долгие годы за границей, две жены-немки, потом – аристократические салоны Петербурга, где опять-таки положенная по этикету галльская речь… Но зато стихи, указывает Аксаков, писались только по-русски (несколько альбомных французских экспромтов не в счет). Про это тютчеведы помнят. Только трактуется все связанное с тютчевским русским языком упрощенно (поэт-де «сберег» родную речь для поэзии).
В. Гумбольдт когда-то точно сказал, что язык есть первое произведение любого народа. Еще нет фольклора, нет литературы – словом, вообще нет того, что первоочередно ассоциируем мы со словом «культура»! – но уже есть язык. Язык – материализация народного духа, его глубинной сути. По языку можно постигнуть многое в характере народа, увидеть, к чему народ предрасположен (поэзия, предпринимательство, философия и др.). Мысли Гумбольдта совершенно верны. Но ведь то же самое можно отнести и к отдельной личности! Вообразите себе человека, который на данном языке делает одно-единственное: пишет стихи. Слово Ивану Аксакову: Тютчев, «по его собственному признанию, тверже выражал свою мысль по-французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писал исключительно на французском языке и, конечно, на девять десятых более говорил в своей жизни по-французски, чем по-русски» (здесь и далее цитируется аксаковская «Биография Федора Ивановича Тютчева» по московскому изданию 1886 года).
И об этом не забудем: «Тютчев обладал способностью читать с поразительной быстротою, удерживая прочитанное в памяти до малейших подробностей, а потому начитанность его была изумительна» (И. Аксаков). Итак, жизнь оберегала его могучую память от засорения всяким бытоговорением, зато русская поэзия вся эту память насквозь пропитала. И вот у такого человека весь его «личный» русский язык абсолютно, без остатка растворяется в одном лишь роде «говорения» – поэтическом.
Таким образом, пускай с поправкой на аксаковскую «десятую», но надлежит прямо и твердо сказать: парадокс это или не парадокс, диковинно это или не диковинно, только поэзия Тютчева есть его русский язык, а язык Тютчева есть его поэзия. Если первейшее творческое деяние каждого народа и каждого отдельно взятого человека (с его детства) – пробуждение в глубинах своего «я» родного языка, то в своеобразной личности и своеобразной биографии Тютчева закон этот преломился так. Полностью уйдя в поэтическое «говорение», Тютчев на протяжении жизни продолжал свое личное языкотворчество не просто для поэзии, а в качестве поэзии.
Записывая новые стихотворения, Тютчев, по сути, закреплял на бумаге фрагменты того непрерывно движущегося, клубящегося и протекающего в его душе «меж черновиком и беловиком» незавершимого и недостижимого, как гегелевская «абсолютная идея», поэтического Произведения, в которое превратились его русская грамматика, его лексика, его синтаксис. Другие фрагменты так и не «закрепил» – не записал. Несомненно, что родной язык в тютчевской душе жил не так и не для того, как и для чего он бытует в любом из нас, принужденных по причинам объективным повседневно разменивать родной язык на пустяки. Эта неотменимая и неумолимая объективность приводит к печальным результатам: все мы в какой-то мере «глухи», у всех ослаблено знание «лица языка», его целостного облика, а раздутые мелочи, частности для нас порой на первом месте. Что говорить! В своем однобоком и плоскостном «знании языка» люди нередко за деревьями не видят леса.
Тютчеву, бывало, востроглазые критики указывали на «странности» языка в его стихах и, упирая на многолетний отрыв поэта от родной почвы, стыдили за разлад с русской грамматикой. (Даже Иван Аксаков защищает Тютчева от подобных критиков с дипломатическими оговорками.) Между тем Тютчев явил своему народу впервые (либо восстановил) или не замеченные ранее русскими поэтами, или забытые способы художественно-речевой смыслопередачи… Рекомые «странности» – просто разрозненные, чуть проступившие вовне следы тютчевских раскопок в смысловом потенциале родного языка. Безусловно, после «постмодернизма» поэты смогут многое открыть именно на таких тютчевских дорогах!
Поэзии 2000-х годов предстоит, образно выражаясь, пойти вперед, но при этом одновременно как бы «назад, к Тютчеву». Помимо великой значимости его стихотворений как таковых, колоссально значение открытых в них путей развития мысли. Поэзии необходимо их, эти пути, освоить. Пушкинская стилевая традиция разрабатывается уже почти два века, тютчевская пока совершенно не воспринята. В. Гумбольдт когда-то предложил понимать стиль как «отражение картины внутреннего развития мысли», т. е. отражение особого хода мысли, присущего данному художнику[27]. И может быть, глубже всего проникнет в Тютчева тот, кто сумеет в себе выработать навык к «слиянию» его стихотворений в нечто высшее, незримую субстанцию, – как бы к чтению «поверх текстов». Вместе с тем, несмотря на эпиграмматическую краткость, в стихах Тютчева сосредоточено сложнейшее содержание. Так есть же и какие-то «материальные» средства, которыми он достигает этого эффекта! И в общем сориентироваться в этих средствах можно-в той мере, в какой можно и уместно проникнуть в «творческую лабораторию» художника. Так, Тютчев мыслит «полюсами», между которыми – гигантское «смысловое расстояние» (Хаос – Гармония, Мир Живых – Мир Теней, Смерть – Сон и т. п.). Реальный фонтан внезапно превращается у него в «смертной мысли водомет» («Фонтан»), тень от дыма – в картину жизни человеческой («Как дымный столп светлеет в вышине»). Увиденные по пути из родного Овстуга «два-три кургана» «да два-три дуба», которые «выросли на них», побуждают (без всякой мотивировки, постепенности, плавного перехода – как поступил бы, пожалуй, любой поэт-современник) вознестись фантазией в необозримые натурфилософские сферы:
Природа знать не знает о былом, Ей чужды наши призрачные годы, И перед ней мы смутно сознаем Себя самих – лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, Свершающих свой подвиг бесполезный, Она равно приветствует своей Всепоглощающей и миротворной бездной.В сюжетах Тютчева часто намечаются лишь крайние смысловые точки, как тут. Самому читателю в воображении своем «писать» здесь, добираться к «истокам», заполняя содержанием огромное межполюсное пространство! Причем Тютчев делает озадачивающие пропуски не просто в поэтическом своем синтаксисе – он оставляет бездонные пропасти в самом развитии мысли (синтаксическая отрывочность и ей подобные особенности речевой формы – лишь внешние проявления этих смысловых бездн!). Выражаясь по-иному, Тютчев особым образом пользуется эллипсисами. И Тютчева даже не стоит обставлять оговорками: «Конечно, от такого отношения к русской речи случались подчас синтаксические неправильности…» (И. Аксаков). Во-первых, вряд ли тут неправильности. Академик Ф. И. Буслаев еще в 40-е годы XIX века подметил: «Русская речь отличается опущениями»; «эллипсис иногда так сжимает предложение, что трудно оное распутать по синтаксическим частям; напр., он первое ученье ей руку отсек; впрочем, мысль понятна и притом сильно выражена, ибо два предложения нечувствительно сливаются и взаимными силами усиливают мысль»[28].
Во-вторых, именно тут, в речевом микрокосме, надо бы и ловить жар-птицу тютчевской философии, на которую искатели тщетно расставляют тенета в его сюжетах. Язык Тютчева – целая «миротворная бездна» философии. А язык, как я уже посягал утверждать, и есть потайное Большое Произведение Тютчева-поэта. Оно, это Произведение, являло лишь свои отдельные грани или разрозненные частицы, давая ведомые нам, читателям, воплотившиеся в стихи «выплески». Главное, основное так и не запечатлелось на бумаге, осталось навсегда в душе поэта. В каком-то смысле можно сказать: поэзии XXI века предстоит написать стихи, не написанные Тютчевым… Эти стихи предстоит написать (или записать?) тем, кто по-тютчевски поэтические свои искания сосредоточит не в сфере внешней формы, узко понятой техники, а в смысловых глубинах родного языка…
Здесь мы, однако, невольным образом возвращаемся к модернистам. Дело в том, что о языке-произведении, о языке-герое и языке-теме творчества рассуждают обычно, имея в виду не Тютчева с аристократическим совершенством его поэзии, а совсем другого автора, отличающегося от Тютчева как земля от небес, – Велимира Хлебникова. Надо их «размежевать».
Хлебниковский «язык-произведение», конечно, основан на иных началах. И – с какой симпатией ни относись к Хлебникову – вряд ли его работа с языком плодотворнее тютчевской. Как бы не наоборот. По сути, эти два художника-полная друг другу противоположность. Именно там, где обдуманно и тактично замолкает тютчевская муза, раздается голос Хлебникова. Судите сами. Тютчев постигнут степень неопределенности человеческого взаимопонимания. Сколько горечи в его сетовании:
Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется, — И нам сочувствие дается, Как нам дается благодать…Лучшие люди XIX века мучились тем же. «В самом ли деле мы понимаем друг друга? – вопрошал В. Ф. Одоевский в „Русских ночах“. – Мысль не тускнеет ли, пройдя через выражение?»[29] «Всякое понимание поэтому всегда есть вместе и непонимание, всякое согласие в мыслях и чувствах – вместе и расхождение», – заключал В. Гумбольдт[30]. А. А. Потебня доказывал: «Говорить – значит не передавать свою мысль другому, а только возбуждать в другом его собственные мысли»[31]. Не случайно Потебня был одним из первых исследователей Тютчева и так любил его знаменитое «Silentium!». Тютчев в «Silentium!» излагает целую философскую программу:
Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, — Питайся ими – и молчи.Хлебникову же, напротив, словно дела нет, поймут ли его. (Я не гадаю, хорошо это или плохо, лишь отмечаю сам факт.) Ведь в своих исканиях он то и дело «взрывает» истоки родного языка и его корни (последние – как в смысле метафорическом, так и в строго языковедческом, если помнить о его неологизмах). Хлебников со своим эпатажем то и дело неосторожно или демонстративно «возмущает ключи» – ну и поднимает, само собой разумеется, немало смысловой мути! Более того, его «Смехачи» звучат раскатистым ироническим хохотом, отвечающим на тютчевские сомнения, «как отзовется», будет ли понято слово поэта. Поймут! Мы, будетляне, заставим их понять. Устроим «Заклятие смехом»! И вот оно:
О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеянствуют смеяльно, О, засмейтесь усмеяльно! О…– и т. д.
Итог общего футуристам волюнтаризма в отношении к читателю сказался и на Хлебникове. Спонтанное и смутное ощущение, что был это человек огромного таланта, живет во многих людях. Но читать так, как читают поэзию (Пушкина, Тютчева, например), многие его творения невозможно. Рискнем заявить, что неточно само выражение «поэт Хлебников». Хлебников кто угодно – гений, феномен, чудо XX века и т. п., но звать его поэтом узко и часто неверно потому хотя бы, что историософские вычисления были частью его натуры не менее существенной, чем потребность облекать свои выводы в стихотворную форму, а его мифологизирующие язык опыты над лексикой и синтаксисом зачастую совершенно независимы от каких-либо собственно поэтических задач. И читатель сам себя вводит в заблуждение, если относится к хлебниковскому творчеству в его целом как к поэзии в обычном смысле слова. Это особое синтетическое творчество, характерное для серебряного века (но в случае с Хлебниковым беспримерно яркое)[32]. Вяч. Иванов писал: «Так как мы живем доселе в мире трех измерений и пяти внешних чувств, ‹…› то центробежные влечения одиноких художников невольно заносят их не в пустоту, где могли бы образоваться новые миры форм, а в смежные солнечные системы, в угодья соседних Муз, и воззывают двусмысленные гибридные формы творчества, оказавшегося не in artibus, но inter artes».
Иванов видит объяснение таких влечений «в относительном истощении равно творческих, как и воспринимательных энергий, в некоторой старческой нашей изношенности, требующей либо раздражений легчайших и утонченнейших, либо аккумуляции впечатлений, чего-то варварски изысканного, вроде соединения наслаждений поэзией, музыкой, живою пластикой, красками и запахами одновременно»[33]. (В случае с Хлебниковым к перечисленному Ивановым следует прибавить математику, грамматику и кое-что еще.)
Впрочем, футурист Хлебников очень мало заботился о том, чтобы вызвать в ком-то своими произведениями «эстетическое наслаждение». Волновало его нечто иное – что есть смысл, семантика; возможно ли вовлечь сей феномен в меняющие его природу превращения. Искусство всегда этим занято? Да, но косвенно-результат художников заботит больше, чем процесс (обычного читателя черновики и варианты не интересуют). Лабораторию, мастерскую не показывают – показывают продукцию. Этого же человека, похоже, интересовал именно поиск, процесс (и очень мало результат).
Стихи он переделывал, не умея остановиться, непрерывно работая на процесс ради процесса. И даже его стихотворные произведения (те, где без математики и тому подобной «непоэзии») – это поиск, в самом себе переживающий свой непрерывный «итог». Это семантика в чистом виде. Смысловое движение, которое можно созерцать, по-своему переживать, от которого можно получать импульс для собственного творчества… Словом, сегодня важно читать Хлебникова, но нужно заранее быть готовым читать его совершенно особым зрением. Соответственно можно призывать творческих людей следовать за Хлебниковым. Но только следовать за ним поэтам надо совсем не так, как пытаются нынешние модернисты, «постмодернисты» и т. п. Не так и не в том.
Пафос автора этих строк, в сущности, прост. Есть скрытая и незримая (в отличие от внешней формы) сфера иной формы – внутренней, О ней и шла речь, и эта сфера действительно таит по сей день не востребованные поэзией смысловые пласты и глубины. В них, этих глубинах, и сделал важнейшие стилевые открытия Тютчев (как, впрочем, и Хлебников – хотя это совсем иные открытия). (Трудно возразить что-либо конструктивное по поводу сказанного выше о языке-произведении Тютчева, о новаторстве Тютчева и Хлебникова в сфере внутренней формы, семантической уникальности их творчества и его значимости для поэтов будущего. В таких случаях обычно не возражают, а прибегают к туманно-многозначительным оборотам типа «это спорно» или иным образом уводят от сути дела. Но бесспорно лишь банальное.) Ну а проникнуть туда, где работали Тютчев и Хлебников, современным поэтам и поэтам будущего можно, наверное, только при наличии природой отпущенных творческих сил. Тут ведь внешними эффектами не возьмешь. Тут необходим крепкий художественный дар. Если он есть, беспокойство о «признании» и «непризнании» как-то само собой отходит на второй план. Не случайно оба – и Тютчев и Хлебников – об этом самом не особенно-то беспокоились…
Краткости ради сверну дальнейшие сентенции, заменив прозаическое разъяснение моей личной позиции по поводу идей «Silentium!» и «Нам не дано предугадать…» еще одним своим стихотворением – как раз на тему читательского понимания и литературного «признания»:
Бродит время по хоромам, тени бродят и огромны — вещь высвечивает Хронос с разных точек фонарем. И стекают вслед неясны (как в бутылочном стекле!): суть светлеет, и нюансы перемещаются в стихе. Тени страшны, тени гулки. Канделябр на стену прет. Точно монумент чугунный, встало классика перо. Был новатор. О Камены! Жил на тощий гонорар… Стих в канон окаменеет, гений станет генерал. Хроно сходит, плыл кругами, прет прозрение повально… Запинаемся, ругая – пауза… Заря похвал. И возлюбим чей-то птичий, певший там – в лесу, левей. И «сумбур формалистический» назовется «соловей».Впрочем, тут вот что еще неотменимо обязательно: чтобы дар у человека-то был дар Божий. А не чей-либо иной.
Что до «постмодернизма», то как сумеет (и сумеет ли) он выпутаться из своих трудностей, судить не беремся. Он существует в отечественной литературе не менее десяти лет. Его представители имели время показать, на что они способны. Сегодня уже совершенно очевидно: «постмодернистам» явно не о чем писать. Судьба Родины, патриотическая тема, вообще гражданские проблемы их как творцов не волнуют – это для них абстрактные категории и даже предмет издевок; философская лирика предполагает крупный масштаб личности, а он ни у кого тут пока не обнаружен; чистой лирике, теме любви мешает проявиться общий им цинизм. Отсюда весь их «интеллектуальный» кич. К тому же, повторяем, данное литературное течение так и не выдвинуло Поэта с большой буквы. Это, кстати, главное. «Авансы», которые щедро выдавали некоторые критики участникам этого течения, оказались в общем преждевременными. Но в любом случае в свое время (и, очевидно, уже скоро) «постмодернизм» естественным порядком сойдет со сцены, а потому едва ли не больший интерес вызывает то, что будет после него.
Сказанное выше в целом относится и к «постмодернизму» в прозе. Правда, нельзя не оговориться, что последний во многом отличен от поэтического. Проза имеет свои законы, с которыми излюбленные, но однобоко освоенные «постмодернистами» парафрастические приемы (стилизация, вариация, реминисценция и пр.) согласуются по-иному. Приведем в пример роман Виктора Пелевина «Чапаев и пустота» (Знамя. -1996. – № 4–5). Сюжет фантасмагоричен. Здесь и революция, и Чапаев, и Останкинская башня, и Шварценеггер, и многое другое. В центре, однако, стилизованное повествование о приключениях рассказчика на бегло набросанном фоне гражданской войны, известные деятели которой, а также основные персонажи «чапаевского» фольклора сталкиваются автором самым неожиданным образом:
«На белых скулах Котовского выступили два ярко-красных пятна.
– Да, – сказал он, – вот теперь понял. Поправил ты меня, Василий Иванович. Крепко поправил.
– Эх, Гриша, – сказал Чапаев печально, – что ж ты? Ведь сам знаешь, нельзя тебе ошибаться сейчас. Нельзя. Потому что в такие места едешь, где тебя уже никто не поправит. А как скажешь, так все и будет.
Не поднимая глаз, Котовский повернулся и выбежал из амбара на улицу.
– Сейчас выступаем, – сказал Чапаев, убирая дымящийся маузер в кобуру. – Не поехать ли нам с тобой в коляске, которую ты вчера у Гришки отыграл? И поговорим заодно.
– С удовольствием, – сказал я.
– Вот я и велел запрячь, – сказал Чапаев. – А Гришка с Анкой на тачанке поедут.
‹…›
– Петька! – закричал сзади Чапаев, – пора!
Я похлопал коня по шее и пошел к коляске, косясь на тачанку, где уже сидели Анна и Котовский. Анна была в белой фуражке с красным околышем и простой гимнастерке, перетянутой ремешком с маленькой замшевой кобурой. Синие рейтузы с узким красным лампасом были заправлены в высокие ботинки на шнуровке. В этом наряде она казалась нестерпимо юной и походила на гимназиста. Поймав мой взгляд, она отвернулась».
Достаточно прочесть на фоне этого отрывка сопоставимый по объему отрывок из романа «Чапаев» Дмитрия Фурманова, чтобы убедиться, насколько Пелевин проигрывает ему в словесном мастерстве и лексико-синтаксическом богатстве. Сюжетная фантазия «постмодерниста» впечатляет, но его работа с языком невыразительна – личного «слога» в общем-то нет, нет и умения стилизовать эпоху в языковом плане. Вряд ли есть и семантическая сверхзадача, ради которой имеет серьезный смысл создавать подобные композиции. В конце концов для полного, так сказать, сюрреализма рассказчик уезжает со своим Чапаевым на броневике во Внутреннюю Монголию: «Чапаев совершенно не изменился, только его левая рука висела на черной полотняной ленте. Кисть руки была перебинтована, и на месте мизинца под слоями марли угадывалась пустота».
Это произведение в большом ходу и почете у «постмодернистов»-прозаиков и поклонников их творчества. Но в остальном почти вся «постмодернистская» проза представлена куда более слабыми, чем данный роман Пелевина (или другие его книги – например, роман «Жизнь насекомых»), попытками писать «продолжения» известных произведений мировой литературы и вариациями на их темы – в основном вяло-ироническими. А между тем и здесь все могло бы быть по-другому. (В русской литературе в прошлом делались весьма серьезные опыты с подобными вариациями. Например, современный читатель, как правило, ничего не знает о вышедшей в 1959 году и прочно забытой книге Бориса Иванова «Даль свободного романа». Автор был человеком большой культуры и немалого писательского таланта. Он хорошо знал и художнически чувствовал пушкинскую эпоху. Его произведение (автор обозначил его как роман) представляет собой оригинальную «фантазию» на тему «Евгения Онегина», исполненную любви к этой гениальной книге и интерпретирующую по-своему ряд загадочных мест в пушкинском произведении.)
Чтобы как-то закончить с темой «постмодернизма», к которому (не в теоретико-литературном и философски эстетическом плане, а в том виде, как он реализовался за десять лет) трудно относиться как к серьезному, глубокому и перспективному явлению литературы, прибегнем к несколько неожиданному сопоставлению. У «постмодернизма» (в силу предельно ясных причин, о которых даже нет смысла распространяться) немало клакеров в среде литературной журналистики, и его «раскручивали» в 90-е годы с бешеной, хотя и все более тщетной, энергией. Но в «литературном поле» этого времени имеется другое внутренне сплоченное течение, которого ни озабоченные судьбами «постмодернизма» круги, ни серьезные критика и литературоведение совершенно не замечали. С «постмодернизмом» это течение сходится в одном: в слабости литературной техники, в сильном налете непрофессионализма и любительства. Тем самым по значимости своей в этом плане оба явления аналогичны.
Речь идет о немалом количестве авторов, с большей или меньшей степенью яркости выражающих ныне в словесно-текстовом творчестве свою политическую оппозиционность, – но в основном не о гражданских поэтах как таковых, а преимущественно о непрофессионалах. Их искренние и чистые, горячие, хотя часто весьма неровные в художественном отношении, стихи из года в год печатали в 90-е газета НПСР «Патриот», реже газеты «День», «Завтра» и некоторые другие немногочисленные издания. Множество таких произведений вообще не попадало в печать и распространялось совсем в духе прежних времен путем самиздата. Наиболее заметные авторы этого рода – Анатолий Лукьянов (Осенев), Владимир Галкин, Владимир Гревцев и др.
«Октябрьский триптих» Осенева посвящен, например, «сороковинам» расстрела Белого дома:
Воронья стая над страной, Горланя, реет. Железом пахнет и войной. Но воля зреет! Идет прозренье, и не зря В окошках свечи. Сороковины октября — Борьбы предтеча!А Владимир Гревцев так возвращается в своих стихах к образу все того же В. И. Ленина:
Я хотел бы услышать Ленина — Коренастого волгаря, Что задиристо и уверенно Подается вперед, говоря. В темном времени, в тронном Питере, Где рябит от жандармских рож, Я хотел бы слова его впитывать — Так, как степи глотают дождь. Я хотел бы, явившись к Ленину В виде лапотного ходока, Вдруг понять: мироеды – временны, А Коммуния – на века!Повторяю: степень художественно-творческой состоятельности большинства этих авторов вполне аналогична степени состоятельности обильно цитировавшихся и упоминавшихся выше «постмодернистов». Уже поэтому, так много места уделив первым, неверно было бы умолчать о вторых. Однако «постмодернисты» со своими невнятно-ироническими «интеллектуалистскими» упражнениями буквально заполоняют страницы журнала «Знамя» и некоторых других, а стихи политических оппозиционеров всячески третируются. Так что вопрос состоит не в том, чем они хороши, а чем они, собственно, хуже «постмодернистов». То же обстоятельство, что им совершенно чужды эгоцентризм и нарциссизм, широко распространенные в «постмодернистской» среде, что они искренне болеют душой за Родину, за народ (пусть порой и формулируя это коряво), говорит лишь в пользу таких выражающих себя, открывающих свою душу в литературном творчестве идейных оппозиционеров. Оно, это обстоятельство, придает их творчеству несомненную, пусть и специфическую, ценность, которой произведения «постмодернистов» заведомо лишены. Так что у людей, имеющих наивность относиться с пиететом к «постмодернизму» в его нынешней «любительской» реализации, нет никаких оснований смотреть свысока на техническую непрофессиональность этих авторов. Объекты пиетета ушли от них недалеко.
Но политически заостренным литературным творчеством занимаются, конечно, и профессиональные поэты – например, Игорь Ляпин и Иван Савельев, Олег Шестинский и др. Жизнь подтолкнула, как говорится (или прямая честная душа побудила).
Так, у Ивана Савельева есть стихотворение «Нищий академик» (1997), герой которого – доведенный до отчаянного положения старый ученый, нищенствующий «полуживой академик», давно изгнанный из заброшенной и разваленной властями в начале 90-х «космической» отрасли. Фигура, принципиальную жизненно-фактическую достоверность которой для «постсоветского» десятилетия и доказывать не нужно. Как выражается автор, «Русь – бомжиха. Век двадцатый. Академик хочет есть». Блуждая по центру Москвы, по переименованным улицам, вдруг ставший не нужным стране советский ученый душой по-прежнему пребывает в великом и чистом времени своей молодости:
… несет в душе былое: Космос. Королев. «Восток»… А его за фалды ловят: «Гля, из цирка старичок!»Известный поэт Олег Шестинский писал в том же 1997 году, обращаясь к лицу, занимавшему тогда пост президента России:
Люди взывают в Ивановской области, Чтя терпеливо права, К вашей загадочной толстокожести, Наш всероссийский глава. Что им красивые радиопряники Ваших невнятных речей, Коль малышу на уроке ботаники Грезится хруст сухарей? Пытку психоза познал не наслышкою Я на голодных ветрах, Сверстников хоронил я мальчишкою На Пискаревских во рвах. Я вам отнюдь не читаю нотации, Боль моя – смерти острей. Вы – президент вымирающей нации, Князь казнокрадов-рвачей.Приведенные выше строки лишний раз напоминают, что поэзия 90-х годов богата интонациями и разнопланова (как, впрочем, и разномасштабна). Яркой интимной лирики в эти годы было создано заметно меньше, чем в любое из предшествующих десятилетий. Однако современная политика окрасила стиховое творчество данного времени весьма выразительно. В принципе это глубоко естественно. В свое время друг Пушкина поэт князь П. А. Вяземский прозорливо писал: «Политика, не кабинетная, не газетная, а в особенности не уличная, не площадная, должна быть в некотором отношении в сродстве с литературою и даже с поэзиею.
…когда Поэзия не сумасбродство,как сказал Державин, который в лучших своих одах был иногда горячим и метким памфлетером и публицистом»[34].
Разумеется, важный нюанс в том, что подразумевается не «уличная» политика, т. е. не митинговое горлопанство, мода на которое в недавнее время возобновлялась деятелями «перестройки».
Из поэтов поколения шестидесятников весьма ярко после долгого перерыва проявила себя в конце десятилетия Белла Ахмадулина.
Ахмадулина Изабелла Ахатовна (род. в 1937 г.) – поэт, автор книг «Струна» (1962), «Уроки музыки» (1969), «Стихи» (1975), «Метель» (1977), «Свеча» (1977), «Сны о Грузии» (1977), «Тайна» (1983) и др. Живет в Москве.
Ее обширная публикация в журнале «Знамя» (1999. – № 7) напомнила, что перед читателем одна из самых талантливых женщин-поэтов нынешнего времени (в середине 90-х Б. Ахмадулина издала также книгу избранного «Самые мои стихи»). Эта публикация объемом с книгу занимает изрядную часть журнального номера и состоит из новых стихов. Стихи тематически разнообразны, хотя многие написаны в одном месте – больнице. Им присуще подлинно ахмадулинское тонкое словесное письмо, порой изощренно-тонкое.
Когда о Битове… (в строку вступает флейта) я помышляю… (контрабас) – когда… Здесь пауза: оставлена для Фета отверстого рояля нагота… Когда мне Битов, стало быть, все время… (возбредил Бриттен, чей возбранен ритм строке, взят до-диез неверно, но прав) – когда мне Битов говорит о Пушкине… (не надобно органа, он Битову обмолвиться не даст тем словом, чья опека и охрана надежней, чем Жуковский и Данзас) — Сам Пушкин… (полюбовная беседа двух скрипок) весел, в узкий круг вошед. Над первой скрипкой реет прядь Башмета, удел второй пусть предрешит Башмет. Когда со мной… (двоится ран избыток: вонзилась в слух и в пол виолончель) — когда со мной застолье делит Битов, весь Пушкин – наш, и более ничей. Нет, Битов, нет, достанет всем ревнивцам щедрот, добытых алчностью ума. Стенает альт. Неможется ресницам. Лик бледен, как (вновь пауза) луна. Младой и дерзкий опущу эпитет. Сверг вьюгу звуков гений «динь-динь-динь». Согласье слез и вымысла опишет (все стихло) Битов. Только он один.(«Отступление о Битове»)
Ахмадулина – поэт на редкость искренний, чуждый свойственного многим шестидесятникам иронического «наигрыша» и позы. Ее традиция – частью в серебряном веке, частью в поэзии 20-х годов, но одновременно и в русской классике, которую она любит и чувствует – не «по-постмодернистски», а с настоящей глубиной.
Отсияли два новогодия, стали досталью причин для кручин. Март уж копит день многоводия Алексея, что разбил свой кувшин. Алексея звать с «ятью» надо бы, по старинке Новый год повстречав. То ль колдобины, то ли надолбы нагадал мне воск, да при трех свечах. Ляксей-с гор-вода, водяными ли застращаешь ты меня, свят-свят-свят? Мне сказали бы во Владимире: хватит врать и алешки распускать. Вот весна придет всемогущая, под Рождественской мне не жить звездой. Бледноликая, знай, Снегурочка: станешь ростопель, истечешь водой.Интересно, что Ахмадулнна одна из немногих сохранила особую культуру рифмы, которая отличала когда-то шестидесятников, но позже была большинством из них утрачена. Это, например, рифма «предударная»: рифмуются не только концы слов, как обычно, но нередко их начала или середины (всемоГУщая/снеГУрочка). Для Ахмадулиной также характерна приблизительная, «пунктирная» прорифмовка слов насквозь: новогодия/многоводия, кручин/кувшин, надо бы/надолбы и др.
Когда-то имя Ахмадулиной могло звучать просто как еще одно имя в ряду шестидесятников. Поскольку печаталась она всегда нечасто, то и многим не казалась первой в этом ряду, начинавшемся, как следует напомнить, обычно именами Е. Евтушенко и А. Вознесенского… Белла Ахмадулина на исходе XX века уже, по существу, женщина-классик отечественной поэзии. Она не разменивала свой талант в конъюнктурных политических играх, как Евтушенко, не ослабляла свои произведения все более безнадежными попытками неуклонно следовать за молодежной литературной модой, как Вознесенский. В то же время никто из мужчин-шестидесятников не умел искренне, как она, «любить товарищей своих», а тем более – пытаться вставать за них горой в трудные минуты, как случалось делать этой хрупкой женщине.
Песенная поэзия 90-х – особое явление. Подобно драматургии, она рассчитана на синтетическое соединение с произведением другого искусства (музыка). Как и драматургия, она требует потому особого специального разговора. О песне советского времени написана другая книга[35].
Впрочем, есть один принципиально важный момент, который не связан со второй ипостасью песни – музыкальной и целиком зависит от словесного текста. Состоит он в том, что можно бы – в рабочем порядке – наименовать «драматургическим» или «сценическим» началом песенного стиля. У каждой песни, само собой разумеется, свое особое лицо. Но такая «драматургичность» – черта универсальная. Это становится ясно и из анализа сборников фольклорных песен, и из разбора русских песен «писательского» происхождения. Вот некоторые известные коллизии.
Тюремная камера; в ней узник; за окном, на фоне решетки, виден молодой орел, пожирающий добычу («Сижу за решеткой в темнице сырой», А. С. Пушкин). С первых строк четко обрисовано именно «сценическое пространство», в котором звучит внутренний монолог узника. Перед нами не просто статическая картина, а драматургическое действие (переносить действие в темницу очень любила песня фольклорного происхождения).
Другая сцена, другие декорации: столбовая дорога; мчащаяся по ней тройка; слышатся звон колокольчика и пение ямщика («Вот мчится тройка удалая», Ф. Н. Глинка).
Дорога; подымая пыль, проносится тройка; у колокольчика берущий за душу плачущий звук; этот плач навевает путнику философско-лирическое настроение («Тройка мчится, тройка скачет…», П. А. Вяземский).
Дорога над пропастью, по самому ее краю погоняет коней (видимо, тройку) лирический герой, ощущая «гибельный восторг» от опасности («Кони привередливые», Владимир Высоцкий).
Такая «сценичность» дополнительно осложняет синтетическую природу песни. Анализируя словесный текст, мы всегда анализируем не песню как целое, а лишь ее часть, хотя и основную. Тексты песен в XX веке писали такие крупные поэты, как Б. Корнилов, М. Исаковский, В. Лебедев-Кумач, А. Фатьянов и др. Вместе с тем для современной песни характерны фигуры авторов, объединяющих в себе одном создателя текста, музыки и исполнителя (Ю. Ким, И. Тальков, Б. Гребенщиков и др.; к их числу относились также вышеупомянутый В. Высоцкий, А. Галич, А. Башлачев, Б. Окуджава, Ю. Визбор и др.).
Юлий Ким (род. в 1936 г.) – типичный шестидесятник-песенник. Впрочем, он автор нескольких пьес, одна из которых парафразирует ряд мотивов драматургии и поэзии Маяковского и называется «Баня во весь голос» (1990). В 90-е годы Ким пробовал писать также детские пьесы («Иван-Царевич», «Сказка об Иване-солдате», «Кто царевну поцелует»). Песенное творчество с начала «перестройки» и в 90-е годы на редкость политизировано («Адвокатский вальс», «Капризная Маша», «Истерическая перестроечная», «Штатский марш» и др.). Между тем Ким как поэт-песенник силен несомненно – той наивной, но светлой студенческой романтикой, которая и сделала его имя популярным в 60-е годы.
Игорь Тальков был прилюдно убит во время своего концерта в конце 1991 года. Его убийце, как сие было характерно для того времени, с циничной наглостью дали возможность неторопливо уехать за границу (в Израиль). Только тогда полу огласили имя преступника. Пользовавшиеся огромной популярностью песенная лирика Талькова, его яркая, хотя и наивная, песенная публицистика теперь достояние прошлого. В 1992 году издательство «Художественная литература» выпустило его книгу «Монолог».
Этот талантливый человек искренне любил Россию. В годы «перестройки», страшно обеспокоенный, как и многие другие патриоты, «пошедшим процессом», Тальков пел:
Родина моя Скорбна и нема… Родина моя, Ты сошла с ума.(«Родина моя»)
Он много написал стихов, где так и сяк изобличаются и винятся за все «большевики» (например, «Товарищ Ленин, как у Вас дела в аду?», «КПСС», «Кремлевская стена» и др.). Однако торжествующе-злобная ирония, издевательство над «этой страной», которым занимались в те годы и позже многие литературные индивидуумы, Талькову совершенно чужды:
Я пророчить не берусь, Но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через сто веков, В страну не дураков, а гениев. И, поверженный в бою, Я воскресну и спою На первом дне рождения страны, вернувшейся с войны.Борис Гребенщиков (род. в 1953 г.) живет и здравствует.
Песни Бориса Гребенщикова довольно популярны у молодежи. Трагизма и тематической серьезности Игоря Талькова в нем, увы, заведомо нет. А вот что есть:
Когда попал впервые Беринг в Северо-Западный проход, он вышел на пустынный берег, а мимо ехал пароход. Там Бонапарт работал коком, но не готовил он еды. Лишь озирал свирепым оком сплошную гладь пустой воды. Так мчался дико между скал он, и резал воду как кинжал. Увы, не счастия искал он, и не от счастия бежал.Легкий жанр – та стихия, в которой живет и естественно чувствует себя этот поэт-песенник. Он долго возглавлял известную музыкальную группу «Аквариум», в 90-е создал свою собственную. Тексты пишутся Гребенщиковым часто в расчете на скачущую ритмику рок-музыки, а порой, видимо, и просто «подкладываются» под нее. Как следствие, стихи, опубликованные в книге Б. Гребенщикова «Дело мастера Бо» (1991), весьма неровны. Если у раннего Гребенщикова явно слышны интонации песенных шестидесятников (Визбора, Кима, Окуджавы и др.), то в позднейшие уже привнесены «постмодернистские» отзвуки:
Верю я, что сбудется предвестье, мной предвосхищенное в мечтах, и пройдет по тихому предместью Лев Толстой в оранжевых портах. И Тургенев, дурь смешавший с дрянью, дружески прошепчет в ухо мне: Чу, смотри, Есенин гулкой ранью поскакал на розовом слоне.Воздержусь от комментариев – о подобного рода иронических упражнениях над русской классикой, в которых ирония замыкается на самой себе, нефункциональна. Все необходимое уже сказано нами выше.
Здесь говорится только о некоторых поэтах-песенниках. Вообще же в 90-е годы авторов, писавших для эстрады, было немало – только вот, по-видимому, далеко не все из них поэты. Раз песенная поэзия – своего рода автономная область на территории поэзии, часть от целого, то в наши дни она болеет теми же болезнями, что и поэзия как таковая. Особая, небывалая проблема современной русской эстрадной песни состоит в следующем. Регулярный заработок большинство исполнителей и групп в нынешнее время получают не на радио, не на телевидении и не на государственной эстраде, как ранее, а в различного рода закрытых и полузакрытых «клубах» и развлекательных заведениях, по преимуществу ночных. Переводя эту витиеватую фразу на великий, могучий и прямой русский язык, можно сказать: музыку и слова современным авторам-эстрадникам часто заказывает так называемая «братва» (или, если хотите, «мафия»), А каков заказчик, такова и продукция. Всяческие путаны, наркоманы, голубые, крутые и разного рода вульгарная сюжетика в 90-е годы, к сожалению, заполоняли текстовое пространство эстрадной песни. Эту несусветную чушь писали и распевали (по принципу «все на продажу») даже небесталанные люди. Не от хорошей жизни сочиняется такое…
В XVIII–XIX веках песенное творчество было делом притягательным и в высшей степени престижным для поэтов. Все крупные художники отдали ему дань. У одних получалось, у других удач было меньше – просто поэзия и песенная поэзия требуют разнохарактерного дарования. У Пушкина получалось, кажется, без всякого внутреннего усилия – вроде и не стремился создавать песни и романсы, а стихи начинали петься по всей стране. Похоже было потом с Некрасовым. А вот знаменитый Алексей Кольцов написал немало произведений под названием «Песня», однако именно в качестве песен они распространения не получили. Но зато песни никому среди современников не известного актера Николая Цыганова все ушли в народ и многие до сих пор поются в качестве «русских народных». Время покажет, как сложится судьба современных произведений песенной лирики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У литературы 90-х годов XX века на редкость своеобразное лицо. Ее произведения трудно с чем-либо спутать. Катастрофизм ее интонаций по силе и безысходности своей уникален. Но, не зная, в какой общественной ситуации создавались произведения этой литературы, многое в них просто объективно невозможно правильно понять. Откуда такой катастрофизм, такое обилие не только драматических, но и поистине страшных сюжетных ситуаций и героев со сломанными судьбами? Ведь в русской литературе XIX–XX веков преобладало светлое жизнеутверждающее начало! «Обличительные таланты» (М. Е. Салтыков-Щедрин, в поэзии Н. А. Некрасов и др.) бывали в ней, но все-таки не превалировали среди крупных писателей. Читатель будущего, по-видимому, с трудом сможет постепенно осознать и поверить, что страшные «катастрофические» сюжеты рождались в 90-е годы отнюдь не в силу неожиданного массового увлечения писателей приемами гиперболизации, шаржирования и литературного гротеска, а что таковой часто была реальная жизнь.
Потому в анализе произведений русских писателей 90-х годов сегодня приходится (как придется и в будущем) использовать намеченный еще в XIX веке в трудах академика А. Н. Пыпина подход к написанию истории литературы, так называемый «пыпинский» подход. Этот подход как раз предполагает рассмотрение развития литературы на фоне современных ей общественных процессов. «Пыпинский» подход к истории литературы был распространен в советском литературоведении, но он применялся однобоко, будучи подавленным и деформированным расхожими схемами истмата. В этом пособии в необходимой мере присутствует такой подход, но в его первоначальном, дореволюционном варианте.
В дореволюционном русском академическом литературоведении предлагались и другие перспективные подходы к написанию истории литературы. Например, академик Ф. И. Буслаев предлагал строить историю литературы на фоне других искусств, несловесных (музыка, живопись и др.). Этот его принцип великолепно подходит для литературы серебряного века, когда идея синтеза искусств владела многими художниками, начиная с глубоко разработавших ее теоретически символистов[36]. Далее, А. А. Потебня также еще в XIX веке предлагал выстраивать историю литературы (в ее словесно-текстовом аспекте) на фоне истории языка. Данный принцип, помимо того, что он необходим при решении глобальных проблем диалектики словесного искусства, также отлично приложим к серебряному веку, к 20-м годам и еще к некоторым конкретным литературным периодам, когда, с одной стороны, шли систематические эксперименты со словом (футуристы, имажинисты, лефовцы, конструктивисты и др.), а с другой – после революции происходило быстрое обновление лексико-синтаксических средств языка и наблюдались решительные подвижки языковой нормы. В пособии, особенно в разделах, посвященных поэзии 90-х годов, использовался и потебнианский подход.
Возможны и иные подходы к написанию истории литературы, продиктованные теми или иными конкретными ее чертами, например, бывают моменты, когда литература более или менее «погружается в себя», сосредоточиваясь на так называемых «вечных темах» – любви, дружбе, философии природы и др. Увы, 90-е годы – совсем другой период!
Искусственно разрушенный СССР был в 50-80-е годы мощной, но миролюбивой, доброй и хорошей страной; это была страна, в управлении которой активно участвовал народ, это была и чадолюбивая страна: такой государственной заботы о детях после гибели СССР и представить себе нельзя. Эту страну невозможно было победить – ее можно было лишь обмануть. Так и поступили в годы «перестройки». Недостатки существовавшего жизненного уклада, неизбежные в человеческом обществе (всегда объективно несовершенном), были пропагандистски выпячены и абсолютизированы, народу устроили небывалое массовое «промывание мозгов» и парализовали его волю к сопротивлению. Подавленным людям реклама жвачки, пива и американская детективно-сексуальная пошлятина, само собой, ближе и понятнее гражданских идей Достоевского, Толстого, Шолохова и Маяковского! К власти в ходе «перестройки» в качестве якобы «реформаторов» пришли обладающие не созидательным, а разрушительным потенциалом циничные деятели.
К чести русских писателей нельзя не отметить, что заметное большинство их прозорливо понимало суть происходящего в годы «перестройки». Литература 90-х почти всегда оплакивает погибшее Отечество и выражает свое неприятие происходящих в стране безобразий. К середине десятилетия она уверенно утвердилась на выражающей подобные мотивы тематике. А «обретя тему», овладев ею, осуществила новые художественные открытия.
После распада СССР прекратилось развитие советской литературы. В связи с этим с начала 90-х годов по объективным причинам начался новый самостоятельный период литературного развития. Сейчас уже видно, что он продолжался все десятилетие – явления, которые к нему относятся, функционально-типологически однородны, Иной вопрос, завершился он или еще продолжится в первые годы XXI века. Во многом это зависит от того, произойдут ли в стране на грани веков принципиальные качественные общественные перемены и рациональная смена курса. 90-е годы были удручающе монотонны и исполнены инерционного движения по явной «дороге никуда». Литература же всегда в той или иной степени отражает состояние общества. Новейшая русская литература отличается данным качеством в весьма высокой мере.
Разумеется, в литературе рассмотренного периода, как и во всякое время, можно встретить и подлинно художественное, настоящее, и, так сказать, сочиненное, надуманное. В целях обобщенной характеристики последнего позволим себе дополнительно прибегнуть к словам современного православного богослова, написавшего специальный труд о православном воззрении на человеческое творчество. Автор труда говорит:
«Всякое надуманное человеком произведение всегда остается на уровне плоских, эгоистических интересов самого автора; оно, собственно, и создается-то (точнее: сочиняется!) автором ради тех или иных его корыстных интересов приземленного порядка. Такие авторы „считают жизнь нашу забавою и житие прибыльною торговлею; ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы и из зла“ (Прем. 15, 12). Потому псалмопевец и говорит: „Вымыслы человеческие ненавижу“ (Пс. 118, 113) ‹…›
Человек, будучи сам создан по образу и подобию творца, обязан быть соработником в непрекращающемся акте творения Божия и, следовательно, своим творчеством обязан воздействовать на мироздание только в положительном отношении, то есть в соответствии с Промыслом Божиим»[37].
Помимо необходимых иллюстративных примеров, которым в пособии давалась прямая и ясная оценка, автор намеренно избегал обсуждать литературные «вымыслы», подобные вышеохарактеризованным. Но все же если сравнить картину 90-х годов с каким-то предшествующим десятилетием (например, с литературой 70-х), обилие в 90-е «сочиненного», т. е. малохудожественного, бросится в глаза. Про конкретные причины этого не раз говорилось выше. Беспрецедентно унижение властями предержащими с начала 90-х годов профессионального статуса писателя, самой литературы. Фигурально выражаясь, прежние чиновники «шибко много понимали» в этой самой литературе (к чему писатели уже давно как-то притерпелись, порой даже и посмеиваясь над идеологической «опекой»!), но нынешние ее, похоже, попросту попытались «отменить» за отсутствием приспособленности к бизнесу… Душа писательская ранима, а шок был небывалый. Многие были выбиты из колеи, а главное – временно сбиты с темы, с творческого интонационного настроя. Однако внутренне сильный человек от ударов судьбы только крепнет, и многие талантливые люди уже снова выпрямляются в полный рост.
Неоднократно высказанные на страницах этого пособия оптимистические надежды, конечно, не означают, что теперь, с начала 2000-х годов, как из рога изобилия на читателя посыплются шедевры – так никогда нигде не бывает. Гении не министры – их не назначают. Хотя, положим, современные великие писатели и литературные шедевры у России по-прежнему есть. О них рассказано выше.
Высшие художественные достижения литературы конца XX века находятся в рамках жанров сюжетных повестей, рассказов, романов, традиционных для русской художественной словесности со времен Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и А. П. Чехова. Таковы рассмотренные произведения крупнейших писателей старшего поколения – от Л. Леонова и А. Солженицына до В. Распутина, В. Белова и Ю. Бондарева. То же относится к произведениям авторов, творчески проявившихся в 90-е годы (А. Варламова, Л. Костомарова и др.). Этот факт литературоведчески весьма интересен. В начале XX века на фоне многочисленных тогда художественных экспериментов возникло мнение, что жанры податливы на искусственное и целенаправленное «новаторское обновление». Отражая такие представления, автор известного руководства по теории литературы, вполне как человек своего времени, писал: «Жанры живут и развиваются. Жанр испытывает эволюцию, а иногда и резкую революцию»[38]. Он ссылался в подтверждение этого на опыты Б. Пильняка, А. Белого и др. (особенно характерно отражающее типичный ход мысли человека той своеобразной эпохи упоминание жанровой революции!). Однако сегодня уже ясно, что экстравагантные новинки вроде литературных «симфоний» и ритмопрозы не стали родоначальниками новых полноценных жанров. «Объясняя» это, ссылались, бывало, на некие советские идеологические препоны. Тем интереснее, что за десять постсоветских лет никто из мало-мальски серьезных писателей не проявил интереса к каким-либо «симфониям» или чему-то подобному. Литература явно не испытывает внутренней потребности в дальнейшем развитии и распространении подобных «новаций». Они так и остались на протяжении XX века фактами личного творчества, пусть и весьма яркого, вышеназванных авторов (да, может быть, двух-трех их малозаметных подражателей). Ни волюнтаристская эволюция, ни тем более успешная «революция» в жанровой сфере неосуществимы. Жанр претерпевает историческое развитие по сложным объективным причинам, не зависящим от прихоти и произвола отдельных творческих личностей и школ. Художник может принять активное участие в жанровом обновлении, когда он со своим творчеством как бы попадает в унисон с идущим в литературе объективно-историческим процессом развития, ускорив и усилив существующие тенденции (пример – деятельность Пушкина), но не когда пытается гордо идти наперекор традиции. Правда, в последнем случае он все-таки может создать яркий экстравагантный личный (индивидуальный) стиль, который запечатлеется в истории литературы (А. Белый, В. Хлебников и др.).
Нельзя не отметить как безусловно положительную и обнадеживающую черту то, что «национальный дух», национальная специфика в литературе интересующего нас периода являли себя нередко более раскрепощенно, чем это могло бы наблюдаться в советское время. Правда, у такой неожиданной раскрепощенности была не особенно здоровая основа: литературу, повторим, бросили на произвол судьбы. Но, лишившись цензурного контроля и идеологической «опеки», она отнюдь не занялась в 90-е годы муссированием «тоталитарного» прошлого, а повернулась лицом к настоящему. Именно ему неоднократно произнесли свой прямодушный приговор герои В. Распутина, В. Белова, Ю. Бондарева и др. При этом теплое русское отношение ко всем «языцам», приходящим на нашу землю с добром, а не злом, было сбережено литературой и в это трудное для народа России время.
На протяжении 90-х годов было опубликовано еще немало заслуживающих внимания художественных произведений. Назовем последний роман рано ушедшего из жизни замечательного русского прозаика Юрия Коваля «Суер-Выер» (М., 1998), роман Михаила Алексеева «Мой Сталинград» (Роман-газета. – 1993. – № 1), роман Сергея Алексеева «Возвращение Каина» (М., 1994), повесть Юрия Козлова «Геополитический романс» (Роман-газета. – 1994. – № 23), его же роман «Проситель» (Москва. – 1999. – № 11 – 12; 2000. – № 1), роман Андрея Волоса «Чужой» (Знамя. – 1997. – № 7), повесть Максима Гуреева «Калугавда» (Октябрь. – 1997. – № 10), роман Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры» (Знамя. – 1994. – № 12), поэму в прозе Тимура Зульфикарова «Алый цыган!» (Юность. – 1997. – № 11), исторический роман Бориса Васильева «Утоли моя печали…» (М., 1998), исторический роман Александра Сегеня «Тамерлан» (Роман-газета. – 1997. – № 16), его же роман «Общество сознания Ч.» (Наш современник. – 1999. – № 3–4), роман Михаила Попова «Пора ехать в Сараево» (Роман-газета XXI век. – 1999. – № 3), роман Леонида Зорина «Авансцена» (М., 1998) и др. Еще хотелось бы отметить «роман-странствие» Андрея Битова «Оглашенные» и его «стихопрозу» «Жизнь без нас», роман Эдуарда Лимонова «Палач. История одного садиста» и его книгу «Смерть современных героев. Роман. Рассказы», исторический роман Владимира Личутина «Раскол», роман «Бегство в Россию» Даниила Гранина и др.
О переходе поэтов на прозу мы говорили выше не без тени иронии, но в ряду этого рода творческих попыток отдельно назовем небезынтересные прозаические опыты поэта Станислава Куняева в жанре повестей и рассказов «Средь шумного бала…» (М., 1996) и написанную им совместно с Сергеем Куняевым книгу «Сергей Есенин» (М., 1995).
В «женской» прозе следует отметить кроме разбиравшихся уже произведений Л. Петрушевской и Л. Улицкой роман Лилии Беляевой «Очарование вчерашнего дня» (М., 1995), книгу повестей и рассказов Виктории Токаревой «Летающие качели» (М., 1996), роман Валерии Нарбиковой «Инициалы» (Стрелец. – 1996. – № 2), повесть Нины Садур «Девочка ночью» (Стрелец. – 1996. – № 2) и роман Ларисы Васильевой «Сказки о любви» (М., 1995).
Не могу не отметить и одну – в момент, когда пишутся эти строки, – совсем новую книгу стихов, появившуюся в 2000 году. Это изданный в Великом Новгороде сборник Евгения Курдакова «Стихотворения». Профессиональный живописец и скульптор, он также автор нескольких поэтических сборников, вышедших в разных городах. В 90-е годы Евгений Курдаков стал (как поэт, а не живописец) лауреатом Пушкинской премии, и только характерная для настоящего времени предельная разобщенность литературных сил, заметный упадок интереса к литературе, ее неслыханная общественная униженность – о чем уже много говорилось выше – вынуждают как бы «знакомить» читателя с одним из, безусловно, наиболее ярких современных русских поэтов. Книга «Стихотворения» для автора итоговая. Она довольно объемна и позволяет увидеть основные грани творчества поэта. При этом она опубликована ничтожным тиражом (да еще на периферии) и потому о ней необходимо сказать нечто конкретное.
Медитативная лирика, как всегда, преобладает у Е. Курдакова. Занятия живописью расширили круг его ассоциаций, придав ему вдобавок своеобразный поворот («Я слышал – под утро грачи прилетели, / Их крик, пробиваясь сквозь взломанный сон, / Метался в глухой предрассветной метели / И снова стихал, словно сном унесен». Курсив мой. – Ю. М.). Разнообразны интонации поэта – от философской проникновенности пейзажной лирики до острого драматизма стихов о личном и наболевшем («Сойду ли, сведут ли, с пути ли, с ума ли, / Но мне б за минуту от смерти узнать, / Что вы хоть немного меня понимали, / Пускай забывая любить и прощать»). Пожалуй, как никто остро и непримиримо высказался Е. Курдаков на особую, тоже реальную для литературы (вернее, литературного быта) 90-х годов тему – тему эгоцентрического равнодушия и личного процветания, если не паразитирования в годину бед народных. Приведем стихотворение (оно имеет эпиграфом строку из «Поэтессы» Ив. Бунина):
Все то же полвека спустя, и все та же В писательском баре, глупа и дурна, Сидит поэтесса в густом макияже, В привычном кругу за стаканом вина. О Бродском бормочет, о метафоризме, О том, что не знает, не видит, не ждет… – Бессмертна, – шепчу я, – бессмертнее жизни, — Планета погибнет, она не умрет. И будет все также с привычным юродством Гнусавить, глумясь, у беды на краю О метаболизме, фонизме, о Бродском, — В блузоне с плебейским клеймом – I love you.Евгений Курдаков закончил в середине 90-х годов Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. В широком смысле можно и его причислить к писателям Литературного института. Кстати, тоже совсем недавно сорок писателей, ныне в нем преподающих, рассказали о себе сами в книге «Литинститут в творческих семинарах мастеров. Портрет несуществующей теории» (М., 2000). Кроме авторов, о творчестве которых говорилось выше в нашем пособии, здесь делятся с читателем личным творческим (и педагогическим) опытом прозаики Самид Агаев, Борис Анашенков, Николай Евдокимов, Михаил Лобанов, Анатолий Приставкии, Александр Рекемчук, Александр Сегень, Семен Шуртаков; поэты Эдуард Балашов, Татьяна Бек, Игорь Волгин, Владимир Костров, Юрий Кузнецов, Игорь Ляпин, Олеся Николаева, Евгений Рейн, Валентин Сидоров, Алексей Тиматков, Владимир Цыбин; детские писатели Роман Сеф и Сергей Иванов; критики и публицисты Юрий Апенченко, Галина Вишневская, Светлана Молчанова, Галина Седых, Сергей Чупринин; переводчики Владимир Бабков, Роберт Винонен, Виктор Голышев, Мария Зоркая, Владимир Модестов, Александр Прокопьев, Александр Ревич, Евгений Солонович, Татьяна Сотникова, Владимир Харитонов. Большинство из них в 90-е годы продолжало активно действовать в литературе. Впрочем, важно ведь вообще не количество, а качество.
Как известно, русские долго запрягают, да быстро ездят. Если отнести это к сегодняшнему состоянию литературы, то можно оптимистически заключить: все впереди.
* * *
…История культуры повернута в прошлое и создается на основе анализа и систематизации различных реально свершившихся фактов деятельности реальных людей и ее результатов. Тот же принцип положен в основу теории культуры – культурологии. Методологически это совершенно естественно. Хорошая теория – литературы, культуры и пр. – «растворена» в самой литературе или культуре. Ее надо лишь профессионально умело «извлечь» и рационально переформулировать в понятийных категориях. Г. Лейбниц когда-то совершенно справедливо писал, что «непросвещенная публика находится в вечном замешательстве вследствие плохо понятой разницы между практикой и теорией»; «ведь практика по сути это та же теория, только более сложная и более специальная, нежели обычная теория»[39].
Вспомним высказанный в начале пособия исходный тезис, что художественная литература помимо всего прочего есть своего рода вероятностный прогноз некоторых черт реального будущего, их «теория» (в лейбницевском смысле), их культурология. Такой прогноз присутствует в неявной форме, требует профессионального обнаружения и анализа, но тем не менее имеет место как диалектическая противоположность истории культуры – противоположность, повернутая не к прошлому, а к будущему. Их внешняя асимметрия, заведомое различие приемов и методик не могут обманывать и неспособны скрыть это диалектическое нерасторжимое двуединство. Вместе с тем литература участвует в формировании черт будущей реальной жизни.
Как применит реальная жизнь образы и сюжеты, подобные рассмотренным в пособии, применит ли вообще? Да ведь уже применяет…
ЛИТЕРАТУРА
Художественные тексты. Проза
Айтматов Чингиз. Тавро Кассандры // Знамя. – 1994. – № 12.
Аксенов Василий. Остров Крым. – М., 1990.
Алексеев Михаил. Мой Сталинград // Роман-газета. – 1993. – № 1.
Алексеев Сергей. Возвращение Каина. – М., 1994.
Астафьев Виктор. Затеей // Наш современник. – 1993. – № 6.
Астафьев Виктор. Прокляты и убиты // Новый мир. – 1992. – № 10–12; 1994. -№ 10–12.
Афанасьев Анатолий. Московский душегуб //Москва. – 1996. – № 1–2.
Белов Василий. Лейкоз // Наш современник. – 1995. – № 3.
Белов Василий. Медовый месяц // Наш современник. – 1995. – № 3.
Белов Василий. У котла // Наш современник. – 1995. – № 3.
Белов Василий. «Во саду при долине» // Наш современник. – 1999.-№ 2.
Беляева Лилия. Очарование вчерашнего дня. – М., 1995.
Битов Андрей. Оглашенные. – СПб., 1995.
Битов Андрей. Жизнь без нас// Новый мир. – 1996. – № 9.
Бондарев Юрий. Искушение. – М., 1992.
Бондарев Юрий. Непротивление // Молодая гвардия. – 1994. – № 10; 1995.-№ 10.
Бондарев Юрий. Бермудский треугольник // Наш современник. – 1999. -№ 11–12.
Бородин Леонид. Этого не было // Юность. – 1998. – № 4.
Варламов Алексей. Лох // Октябрь. – 1995. – № 2.
Варламов Алексей. Рождение // Новый мир. – 1995. – № 7.
Варламов Алексей. Затонувший ковчег // Октябрь. – 1997. – № 3–4.
Варламов Алексей. Купол // Октябрь. – 1999. – № 3–4.
Варламов Алексей. Ночь славянских фильмов // Новый мир. – 1999. -№ 10.
Васильев Борис. «Утоли моя печали…». – М., 1998.
Васильева Лариса. Сказки о любви. – М., 1995.
Веллер Михаил. А вот те шиш! (Повести и рассказы). – М., 1997.
Волос Андрей. Чужой // Знамя. – 1997. – № 7.
Гранин Даниил. Бегство в Россию. – СПб., 1995.
Гуреев Максим. Калугавда // Октябрь. – 1997. – № 10.
Гусев Владимир. Дневники. – М., 1995.
Гусев Владимир. С утра до утра. – М., 1999.
Давыдов Георгий. Иоанн на Патмосе // Москва. – 1998. – № 8.
Довлатов Сергей. Собрание прозы в трех томах. – СПб., 1995.
Довлатов Сергей. Малоизвестный Довлатов. – СПб., 1997.
Ерофеев Венедикт. Вальпургиева ночь, или Шаги командора // Театр. – 1989. – № 4.
Ерофеев Венедикт. Василий Розанов глазами эксцентрика // Зеркала. – М., 1989.
Ерофеев Венедикт. Москва – Петушки. – М., 1989.
Ерофеев Венедикт. Моя маленькая лениниана // Юность. – 1993. -№ 1.
Ерофеев Венедикт. Оставьте мою душу в покое. Почти все. – М., 1995.
Есин Сергей. Казус, или Эффект близнецов // Московский вестник. – 1992. – № 2–5.
Есин Сергей. В сезон засолки огурцов. – М., 1993.
Есин Сергей. Затмение Марса // Юность. – 1994, октябрь.
Есин Сергей. Смерть титана // Публикация начата в журнале Юность. – 1997.
Залыгин Сергей. Предисловие // Новый мир. – 1998. – № 2.
Зорин Леонид. Авансцена. – М., 1998.
Зульфикаров Тимур. Алый цыган! // Юность. – 1997. – № 11.
Искандер Фазиль. Человек и его окрестности. – М., 1993.
Искандер Фазиль. Софичка: Повести и рассказы. – М., 1997.
Кенжеев Бахыт. Портрет художника в юности // Октябрь. – 1995. -№ 1.
Ким Анатолий. Онлирия // Новый мир. – 1995. – № 2–3.
Ким Анатолий. Сбор грибов под музыку Баха // Ясная Поляна. – 1997.-№ 1.
Ким Анатолий. Стена // Новый мир. – 1998. – № 10.
Ким Анатолий. Близнец // Октябрь. – 2000. – № 2.
Киреев Руслан. Мальчик приходил // Знамя. – 1994. – № 10.
Киреев Руслан. Музы любви. – М., 1995.
Киреев Руслан. Избранное. – М., 1996.
Коваль Юрий. Суер-Выер. – М., 1998.
Козлов Юрий. Геополитический романс // Роман-газета. – 1994. – № 23.
Козлов Юрий. Проситель // Москва. – 1999. – № 11 – 12; 2000. – № 1.
Костомаров Леонид. Земля и Небо // Москва. – 1999. – № 4–5.
Крупин Владимир. Москва – Одесса // Москва. – 1994. – № 9.
Крупин Владимир. Слава Богу за все // Наш современник. – 1995. -№ 2.
Крупин Владимир. «Едрит твой налево», – сказала королева // Москва. – 1995. -№ 3.
Крупин Владимир. Янки, гоу хоум! // Москва. – 1995. – № 5.
Крупин Владимир. Люби меня, как я тебя // Роман-газета XXI век. – 1999. -№ 1.
Крупин Михаил. Самозванец. – Нижний Новгород, 1994.
Культяпов Николай. Прикчючения пехотинца Павла Петрова // Роман-газета XXI век. – 1999. – № 1.
Куняев Станислав. «Средь шумного бала…». – М., 1996.
Куняев Станислав, Куняев Сергей. Сергей Есенин. М., 1995.
Куркин Борис. Два рассказа //Наш современник. – 1999. – № 2.
Леонов Леонид. Пирамида. – М., 1994. – Ч. 1–2.
Лимонов Эдуард. Палач. – Минск, 1992.
Лимонов Эдуард. Смерть современных героев: Роман: Рассказы. – М., 1993.
Личутин Владимир. Раскол // Советская литература. – 1990. – № 10–12; // Наш современник. – 1993. – № 10–11; 1994. – № 1–6, 11/12; 1996.-№ 3–6, 11–12.
Молчанов Андрей. Схождение во ад // Москва. – 1995. – № 8–9.
Нарбикова Валерия. Инициалы // Стрелец. – 1996. – № 2.
Носов Евгений. Яблочный спас// Роман-газета. – 1997. – № 21.
Носов Евгений. Алюминиевое солнце //Москва. – 1999. – № 7.
Носов Евгений. Памятная медаль // Москва. – 2000. – № 1.
Орлов Владимир. Аптекарь. – М., 1993.
Паламарчук Петр. Нет. Да// Москва. – 1995. – № 8–9.
Паламарчук Петр. Наследник российского престола // Литературная учеба. – 1997. – № 3–4.
Пелевин Виктор. Чапаев и пустота // Знамя. – 1996. – № 4–5.
Петрушевская Людмила. Тайна дома. – М., 1996.
Петрушевская Людмила. Донна Анна, печной горшок // Новый мир. – 1999. – № 5.
Попов Евгений. Жду любви невероломной. – М., 1988.
Попов Евгений. Подлинная история «Зеленых музыкантов» // Знамя. – 1998. – № 6.
Попов Михаил. Пора ехать в Сараево // Роман-газета XXI век. – 1999. -№ 3.
Проскурин Петр. Седьмая стража // Роман-газета. – 1995. – № 21–22.
Проскурин Петр. Дружеский ужин // Наш современник. – 1998. – № 1.
Проханов Александр. Чеченский блюз. – М., 1998.
Проханов Александр. Красно-коричневый // Наш современник. – 1999. – № 1–8.
Пьецух Вяч. История города Глупова в новые и новейшие времена // Вяч. Пьецух. Новая московская философия. – М., 1989.
Пьецух Вяч. Два рассказа // Октябрь. – 1998. – № 9.
Распутин Валентин. В больнице // Наш современник. – 1995. – № 4.
Распутин Валентин. В ту же землю… // Наш современник. – 1995. -№ 8.
Распутин Валентин. В одном сибирском городе // Роман-газе– та. – 1995. -№ 17.
Распутин Валентин. Поминный день //Роман-газета. – 1996. – № 11.
Распутин Валентин. Новая профессия // Наш современник. – 1998. -№ 7.
Распутин Валентин. Изба //Роман-газета XXI век. – 1999. – № 1.
Распутин Валентин. На родине // Наш современник. – 1999. – № 2.
Садур Нина. Девочка ночью // Стрелец. – 1996. – № 2.
Сегень Александр. Тамерлан // Роман-газета. – 1997. – № 16.
Сегень Александр. Общество сознания Ч. // Наш современник. – 1999. -№ 3–4.
Солженицын Александр. Адлиг Швенкиттен // Новый мир. – 1999. -№ 3.
Солженицын Александр. Желябугские Выселки // Новый мир. – 1999. – № 3.
Солженицын Александр. Угодило зернышко промеж двух жерновов // Новый мир. – 1999. – № 2.
Токарева Виктория. Летающие качели. – М., 1996.
Трапезников Александр. Романтическое путешествие в Гонконг // Москва. – 1995. – № 4.
Трапезников Александр. Уговори меня бежать // Роман-газета. – 1996, -№ 7.
Улицкая Людмила. Медея и ее дети. – М., 1996.
Улицкая Людмила. Зверь // Новый мир. – 1998. – № 4.
Фаликов Илья. Белое на белом // Октябрь. – 1995. – № 8.
Хазанов Борис. Хроника М // Октябрь. – 1995. – № 9.
Чулаки Михаил. Кремлевский амур, или Необычайное приключение второго президента России // Нева. – 1995. – № 1.
Поэзия
Айги Геннадий. Избранные стихотворения. – М., 1991.
Айги Геннадий. Здесь. М., 1991.
Айги Геннадий. Теперь всегда снега. – М., 1992.
Арабов Юрий. Простая жизнь. – М., 1991.
Ахмадулина Белла. Новые стихи // Знамя. – 1999. – № 7.
Бобков Сергей. Возгласы. – М., 1977.
Бобков Сергей. Хождение за три времени. – М., 1983.
Бобков Сергей. Сегодня или никогда. – М., 1987.
Гандлевский Сергей. Праздник. – М., 1995.
Горбовский Глеб. Покаянный свет // Москва. – 1999. – № 7.
Горбовский Глеб. В час разлуки // Москва. – 2000. – № 1.
Гребенщиков Борис. Дело мастера Бо. – М., 1991.
Григорьев Олег. Говорящий ворон. – Л., 1989.
Григорьев Олег. Стихи. Рисунки. – СПб., 1993.
Друк Владимир. Коммутатор. – М., 1991.
Еременко Александр. Добавление к сопромату. – М., 1990.
Еременко Александр. Стихи. М., 1991.
Жданов Иван. Портрет. – М., 1982.
Жданов Иван. Неразменное небо. – М., 1990.
Жданов Иван. Место земли. – М., 1991.
Иртеньев Игорь. Ряд допущений. – М., 1998.
Касмынин Геннадий. Гнездо перепелки. – М., 1996.
Кибиров Тимур. Сантименты. – М., 1994.
Кибиров Тимур. Парафразис. – М., 1997.
Кузнецов Юрий. До свиданья! Встретимся в тюрьме… – М., 1997.
Курдаков Евгений. Стихотворения. – Великий Новгород, 2000.
Куртуазные маньеристы: Сочинения // Знамя. – 1990. – № 9.
Лапшин Виктор. Воля. М., 1986.
Лапшин Виктор. Мир нетленный. – М., 1989.
Минералов Юрий. Эмайыги. – Таллин, 1979.
Минералов Юрий. Красный иноходец. – Киев, 1995.
Минералов Юрий. Хроники пасмурной Терры. – М., 2000.
Ошанин Лев. Осколки любви. – М., 1992.
Сорокин Валентин. Будь со мной. – М., 1996.
Сорокин Валентин. Лицо. – Оренбург, 1997.
Тальков Игорь. Монолог. – М., 1992.
Тюленев Игорь. Альфа и омега на цепи // Наш современник. – 1999. -№ И.
Черепанов Федор. Гремячий ключ. – М., 1998.
Черепанов Федор. Устье каменных гор. – М., 2000.
Эпоха куртуазного маньеризма // Московский вестник. – 1996. – № 5–6.
Примечания
1
О литературных стилизации, вариации, парафразисе, аллюзии и т. п. см. в кн.: Минералов Ю. И. Теория художественной словесности. – М., 1999.
(обратно)2
См. кн.: Терехин В. Л. Против течений. Утаенные русские писатели / Ответ. ред. Ю. И. Минералов. – М., 1995. Здесь детально прослежена роль художественной литературы в становлении целого поколения стриженых нигилисток и непреклонных Базаровых да Рахметовых – уже не в условном мире литературы, а в российской реальности.
(обратно)3
С такого рода ложью современное научно-объективное исследование: Семанов С., Кардашев В. И. В. Сталин. – М., 1997.
(обратно)4
Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1981. – Т. VII. – С. 38.
(обратно)5
Свт. Василий Великий. Творения. – М., 1846. – Ч. IV. – С. 348–349.
(обратно)6
Одоевский В. Ф. Русские ночи. – Л., 1975. – С. 202.
(обратно)7
Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М., 1976. – С. 190.
(обратно)8
В послесловии к журнальной публикации романа А. Варламов повествует, что, собирая материалы для произведения, якобы «прикинулся неофитом, завел знакомства и дурачил хитрых расчетливых людей в одной секте, после чего едва унес оттуда ноги. ‹…› В «Затонувшем ковчеге» при всем том, что его сюжет имеет самостоятельное значение, я зашифровал некоторые события литературной жизни девяностых годов… а за образами главных героев скрываются знакомые мне очно или заочно писатели и критики» (Октябрь. – 1997. -№ 4. -С. 116). Если это признание – не просто авторский «эпатаж», то роман еще более интригующе интересен.
(обратно)9
О внутренней форме см.: Минералов Ю. И. Теория художественной словесности. – М., 1999.
(обратно)10
См.: Любчикова Л. Монолог о Ерофееве // Театр. – 1991. – № 9. – С. 85.
(обратно)11
См.: Орлов Вл. Я вытравил в себе газетчика: Беседа с Надеждой Горловой // Книжное обозрение. – 1999. – № 44. – С. 5.
(обратно)12
Розов В. Искусство – это свет // Советская культура. – 1989. – 21 сентября. – С. 5.
(обратно)13
Свт. Василий Великий, Творения. – М., 1846. – Ч. IV. – С. 348–349.
(обратно)14
Достоевский Ф. М. Ряженый // Полн. собр. соч. – Л., 1980. – Т. 21. – С. 88.
(обратно)15
Кюхельбекер В. К. Дневник // Русская старина. – 1875. – Т. 14. – С. 85.
(обратно)16
См. в кн.: Минералов Ю. И. Теория художественной словесности. – М., 1999.
(обратно)17
Подробное и детальное сравнительно-типологическое исследование стилей Державина и Маяковского см. в кн.: Минералов Ю. И. Теория художественной словесности.
(обратно)18
См. в кн.: Минералов Ю. И. Поэзия. Поэтика. Поэт. – М., 1984.
(обратно)19
См.: Книгоиздатели обсуждают свои задачи (В Госкомиздате СССР) // Книжное обозрение. – 1980. – № 13. – С. 4.
(обратно)20
Подробнее о верлибре см. в кн.: Минералов Ю. И. Теория художественной словесности.
(обратно)21
См.: Куртуазные маньеристы: Сочинения // Знамя. – 1990. – № 9; Эпоха куртуазного маньеризма // Московский вестник. – 1996. – № 5–6 и др.
(обратно)22
Данный пример с Лермонтовым и Пушкиным заимствован из трудов А. А. Потебни. См. в кн.: Потебня А. А. Теоретическая поэтика. – М., 1990. – С. 123–125.
(обратно)23
Прокопович Феофан, Сочинения. – М.; Л., 1961. – С. 341.
(обратно)24
Квятковский А. П. Поэтический словарь. – М., 1966. – С. 332.
(обратно)25
Цит. по кн.: Друксин М. С. Игорь Стравинский. – Л., 1982. – С. 91; см. также отечественное издание: Стравинский Игорь. Диалоги. – Л., 1971.
(обратно)26
См. в кн.: Виноградов В. В. Стиль Пушкина. – М., 1940.
(обратно)27
См.: Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – С. 187.
(обратно)28
Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка. – Л., 1941. – С. 181–182.
(обратно)29
Одоевский В. Ф. Русские ночи. – Л., 1975. – С. 24.
(обратно)30
Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – С. 84.
(обратно)31
Потебня А. А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. – С. 541.
(обратно)32
О синтезе в искусстве см.: Минералова И. Г. Русская литература серебряного века. Поэтика символизма. – М., 1999.
(обратно)33
Иванов Вяч. Борозды и межи. – М., 1916. – С. 339–340.
(обратно)34
Русские писатели о литературе. – Л., 1939. – Т. 1. – С. 198.
(обратно)35
Минералов Ю. И. Так говорила держава (XX век и русская песня). – М., 1995.
(обратно)36
Подробнее см. в кн.: Минералова И. Г. Русская литература серебряного века. Поэтика символизма.
(обратно)37
Священник Михаил (Труханов). Православный взгляд на творчество. – М., 1997. – С. 23, 34.
(обратно)38
Томашевский Б. В. Теория литературы. – М.; Л., 1930. – С. 159–160.
(обратно)39
Лейбниц Г. Соч.: В 4 т. – М., 1985. – Т. 3. – С. 476, 489.
(обратно)


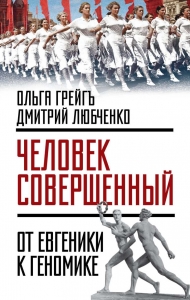
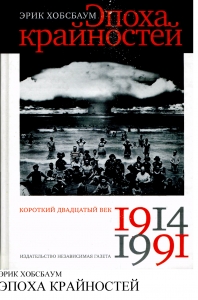

Комментарии к книге «История русской литературы. 90-е годы XX века», Юрий Иванович Минералов
Всего 0 комментариев