Максим Иванович Жук История зарубежной литературы конца XIX – начала XX века: учеб. пособие
Предисловие
Изучение зарубежной литературы конца XIX – начала XX века представляет определенную сложность для студентов. В эту переломную, во многом кризисную эпоху зарождаются и развиваются различные тенденции, характерные для литературы Новейшего времени: поворот к углубленному психологизму, интеллектуализация литературы, ассимилирование разных философских теорий, новаторские изменения в поэтике. Рубеж XIX и ХХ веков отличает крайняя пестрота литературного процесса, тесное переплетение традиционных и новаторских элементов в искусстве. Сложность изучения этого периода заключается и в его сравнительно малой исследованности в целом и отдельных литературных явлений (например, неоромантизма) в частности, а также в многоаспектности теоретических проблем (природа и эстетическая сущность декаданса, эстетика символизма и натурализма).
Эти обстоятельства обусловили необходимость появления учебного пособия, которое помогло бы студенту сориентироваться в сложном и объемном материале курса, акцентировать внимание на проблемных темах, необходимой учебной и научной литературе, развить навыки филологического анализа.
В учебное пособие включены материалы, необходимые для работы в течение семестра. Во введении к курсу даются характеристика историко-культурного развития эпохи конца XIX – начала ХХ века, обзор основных философских направлений, определяется специфика литературного процесса и основных литературных течений данной эпохи. Пособие содержит темы лекционных и практических занятий, списки художественной, учебной и научной литературы, а также хрестоматию историко-литературных материалов и исследовательских работ.
Основные тенденции развития историко-литературного процесса в конце XIX – начале XX века
Конец XIX – начало ХХ века, так называемый рубеж веков, – особый исторический этап в развитии западного общества, культуры и литературы. В эту переломную эпоху возникают и развиваются многие явления, которые повлияют на ход историко-культурного процесса ХХ века. Хронологическими границами рубежа веков считается период с начала 70-х годов XIX века до конца 10-х годов ХХ века.
Период рубежа XIX и ХХ веков является и самостоятельной литературной эпохой и, одновременно, своеобразным прологом к
XX веку. Несмотря на то что календарно ХХ столетие началось в 1900 г., основные специфические черты его истории, культуры и искусства складываются только к концу 1910-х годов. Как известно, изменения в искусстве происходят тогда, когда меняется сознание человека и общества. Для того чтобы сложилось искусство ХХ века, была необходима трансформация мировоззрения общества, менталитет Х1Х века должен был уступить место сознанию ХХ столетия. Периодом формирования нового сознания и, соответственно, нового искусства ХХ века стал рубеж веков.
Можно выделить основные историко-культурные черты, определяющие специфику эпохи рубежа XIX—ХХ веков.
Прежде всего историю, культуру и искусство этого периода характеризует переходность. Возникают и начинают развиваться многие явления, которые окажут влияние на ход истории и развитие литературного процесса ХХ века. Появляются предпосылки для возникновения таких исторических реалий ХХ столетия, как Первая и Вторая мировые войны, фашизм, коммунизм. Многие политические, социальные и экономические конфликты начинают складываться именно на рубеже веков. Тогда же постепенно формируются элементы такого явления искусства ХХ века, как модернизм, и его отдельных течений – сюрреализма, экспрессионизма, футуризма и других.
Еще одна важная черта рубежа веков – парадоксальность[1]. Историко-культурное движение рубежа веков неоднозначно, двойственно.
С одной стороны, в конце XIX – начале ХХ века происходит обновление всех видов искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, литературы). Ускоренным темпом идет развитие технического прогресса, появляется большое число новых изобретений, которые способствуют облегчению человеческого труда и жизни: динамо-машина, динамит, железобетон (1867), электрическая лампа (1874), телефон (1876), радио (1893), беспроводной телеграф, кинематограф, рентгеновский луч (1895), вертолет (1905). В 1887 г. открывается первая линия электрического трамвая, в 1903 г. появляется первый конвейер для сборки автомобилей, совершается первый полет аэроплана братьев Райт, в 1905 г. – первая неоновая реклама и т.д.
Как следствие активного развития прогресса на рубеже веков состоялись грандиозные, с точки зрения технического обновления, события: сооружение в Нью-Йорке Бруклинского моста (1883), открытие в нью-йоркской гавани статуи Свободы (1886), возведение в Париже Эйфелевой башни (1889), прокладка трансатлантического кабеля (1904), строительство в 1904—1914 гг. Панамского канала и др. Новые географические достижения стирают последние «белые пятна» на карте земного шара: в 1908 г. люди достигли Северного полюса, в 1911 г. – Южного.
С другой стороны, на рубеже веков мир делится на сферы влияния между крупными капиталистическими странами (Англией, Францией, Германией, США, Россией). Как следствие этого ведутся постоянные войны, в которых сталкиваются экономические интересы разных государств, претендующих на роль политического и экономического лидера. Это череда локальных войн: франко-прусская (1870—1871), русско-турецкая (1877—1878), японо-китайская (1894—1895), испано-американская (1898– 1899), русско-японская (1904—1905), итало-турецкая (1911 – 1912), балканские войны (1912—1913) и как своеобразный итог процесса – Первая мировая война (1914—1918). К этому следует добавить большое количество колониальных войн, целью которых был захват новых экономических ресурсов (месторождений полезных ископаемых, плодородных земель и т.д.). Так, Франция в 1890-х годах захватывает колонии в Африке, Западном Судане, Мадагаскаре, Марокко; Англия в конце XIX века ведет колониальные войны в Центральной Африке, Египте, Судане. Нередко захваты колоний вызывали вооруженные конфликты между странами-конкурентами. Характерный случай: Германия спровоцировала серьезные столкновения в Трансваале с Англией (1896), в Марокко с Францией (1905 и 1911).
Постоянное политическое и экономическое противостояние стран-конкурентов сопровождалось и социальными конфликтами, вызванными ростом капиталистических отношений. Характерные явления этого времени – забастовки (например, Пуллмановская забастовка – 1894), восстания рабочих (шахтерское восстание в Бельгии – 1886, Хеймаркетский бунт – 1886), революции (русские революции – 1905, 1917; мексиканская революция – 1910—1917; буржуазно-демократическая революция в Китае – 1911; Ноябрьская революция в Германии – 1918).
Таким образом, парадоксальность, неоднозначность бурного историко-культурного развития эпохи рубежа веков (искусства, науки и техники) заключается в том, что оно происходило параллельно с многочисленными политическими, социальными и экономическими конфликтами, а нередко было и взаимосвязано с ними. Искусство и наука оказались бессильными оказать позитивное влияние на западно-европейскую цивилизацию, удержать общество от катастрофы. Более того, технический прогресс способствовал нарастанию напряженности между конкурирующими державами.
Под влиянием социально-исторических процессов в европейском обществе рубежа XIX—XX веков складывается особого рода духовная атмосфера, которую принято обозначать термином «синдром конца века», или fin de siécle (фр.)[2]. Это мироощущение характеризуется чувством неуверенности в будущем, ощущением тревоги, предчувствием грядущей катастрофы.
Томас Манн, крупнейший немецкий писатель ХХ века, писал о трагическом смысле выражения fin de siécle, ставшего очень популярным в европейском обществе рубежа веков: «это была формула близкого конца, сверхмодная и претенциозная формула, выражавшая чувство гибели определенной эпохи, а именно – буржуазной эпохи».
Такое трагическое мировосприятие порождается спецификой историко-культурного развития этого периода. Прежде всего на рубеже XIX—ХХ веков под воздействием научных открытий стали резко меняться привычные представления о сущности человека и об окружающем его мире. Во всех областях знания совершались новые открытия, расширявшие и менявшие прежние представления о вещах. например, физиология описала сложные, взаимозависимые законы жизни организма: химическая атомистика уничтожила разрыв между живой и неживой природой. Закон сохранения и превращения энергии, сформулированный Робертом Майером, доказал способность веществ переходить друг в друга, превращаться одни в другие. Элементы материи были признаны разными формами одного и того же универсального движения.
Чарльз Дарвин, опубликовав свои труды «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859) и «Происхождение человека и половой отбор» (1871), навсегда изменил традиционные представления о происхождении и сущности жизни, об истории человечества. Ученый провозгласил естественный отбор основной движущей силой эволюции. Дарвин утверждал, что в природе преимущественно выживают и оставляют потомство те особи, которые лучше приспособлены. Соответственно, многообразие животных и растительных видов – результат длительного эволюционного процесса живой природы, движение от низших форм организмов к высшим.
Идеи Дарвина опровергали метафизические представления о неизменяемости природы, т.е. историю творения, представленную в Ветхом завете. Исследователь не только теоретически обосновал свою концепцию, но и показал на фактическом материале изменения видов, с позиций строгой логики объяснил механизмы эволюции.
Открытие в 1869 г. Дмитрием Ивановичем Менделеевым Периодического закона химических элементов кардинально поменяло представления о материи. До этого элементы разбивались на отдельные группы и семейства по принципу их химического сходства и каждая группа рассматривалась обособленно от других. Менделеев сопоставил между собой не только сходные, но и несходные элементы, систематизировал их. Периодический закон показал всеобщую связь между химическими элементами, теперь они рассматривались как единые по своей природе, органичные звенья одной цепи веществ природы.
Открытия физиков конца XIX – начала ХХ века коренным образом изменили научную картину мира. например, работы Вильгельма Конрада Рентгена, Пьера и Марии Кюри, Эрнеста Резерфорда, Фредерика Содди и Джозефа Томсона устранили представление об атомах как неделимых последних частицах материи: эти элементы оказались более сложными и изменчивыми. теория относительности Альберта Эйнштейна, представленная в 1905 г., изменила представление о независимости времени и пространства как основных форм бытия.
Таким образом, научные открытия рубежа веков радикально меняли представления об устройстве жизни. Если в XIX веке английский физик Уильям Томсон утверждал, что человеку известно, как устроен мир, и ученым осталось уточнять лишь отдельные детали, то открытия рубежа веков показали по меньшей мере преждевременность этого утверждения. Мир, заново открытый учеными, оказался нестатичным, подвижным, многовариантным. Разнородные элементы материи, явления и силы природы обнаружили сложную взаимосвязь, с большим трудом поддающуюся классификации.
В динамичной и напряженной атмосфере рубежа веков открытия ученых расшатывали привычные мировоззренческие категории, представления о законах и процессах, управляющих природой.
Говоря о духовной атмосфере европейского общества конца XIX – начала ХХ века, следует помимо научно-технического прогресса учитывать, что рубеж веков – это напряженное и тревожное время. Как уже отмечалось, конфронтация между крупнейшими капиталистическими государствами постоянно нарастала, социальные и политические конфликты приобретали все более острый, агрессивный характер. Сообщения о катастрофах, военных столкновениях, дипломатических проблемах, стачках, волнениях, революциях благодаря новым средствам связи (телеграфу и телефону, связавшим Европу и Америку, а впоследствии Азию и Африку) распространялись с невиданной скоростью и заставляли человечество постоянно ощущать свою зависимость от этих событий, чувствовать угрозу и опасность, исходящие от них.
Постоянная взрывоопасная ситуация в мире провоцировала масштабное беспокойство, предчувствие катастрофы, громадных социальных потрясений. Не случайно современники называли последнюю треть XIX столетия эпохой упадка западной цивилизации, «закатом Европы». Часто говорилось о смертельной усталости от жизни и о бесполезности всякой деятельности.
Французский писатель Альфонс Доде писал: «Глаза нашего поколения не горят огнем. У нас нет пыла ни к любви, ни к отечеству <...>. Мы все <...> поражены скукой и истощением, побеждены до начала действия, у всех у нас души анархистов, которым не достает храбрости для действия». Столь же депрессивно звучат слова Ги де Мопассана: «Счастливы те, которые не замечают с неизмеримым отвращением, что ничто не изменяется, ничто не проходит, и все утомляет <...>. И как это до сих пор публика нашего мира не закричала: «Занавес!» – не потребовала следующего акта с другими существами, отличными от людей, с другими формами, с другими праздниками, с другими растениями, с другими звездами, с другими изобретениями, с другими приключениями». Марк Твен мрачно подметил: «Самое удивительное, что полки библиотек не завалены книгами, которые осмеивали бы этот жалкий мир, эту бессмысленную вселенную, это кровожадное и презренное человечество – осмеивали бы и изничтожали всю эту омерзительную систему».
Надо отметить, что предчувствие грядущих социальных и политических катаклизмов не обмануло человечество. Как известно, в дальнейшем политические и экономические конфликты между соперничающими капиталистическими странами привели к Первой мировой войне, которая стала страшным потрясением, социальной и духовной катастрофой для западноевропейского общества начала ХХ века. В свою очередь, в конце 30-х годов ХХ столетия неразрешенные и усугубленные конфликты спровоцировали Второю мировую войну.
Еще одно важное обстоятельство, формирующее «синдром конца века», связано с завершением эпохи относительно гармоничного, «патриархального» развития общества XIX века с его устоявшимися социальными, этическими и эстетическими традициями. Взамен привычных понятий начинают вырабатываться другие, идет процесс переоценки традиционных принципов, идеалов и создания новых, отвечающих иным историческим условиям.
Итак, на рубеже веков мир стремительно менялся, появлялись все новые реалии, которые активно вторгались в жизнь и вытесняли привычные явления и представления. Человек оказался в ситуации, когда одна эпоха уже закончилась, а другая еще не сформировалась. Динамичная, непредсказуемая, жесткая действительность порождала чувство тревоги, ощущение близящейся катастрофы.
Мироощущение рубежа веков отражено во многих произведениях искусства того времени: «Слепые» М. Метерлинка, «Будденброки» Т. Манна, «Сага о Форсайтах» Д. Голсуорси, «Остров пингвинов» А. Франса, «Вишневый сад» А.П. Чехова. Возможно, одно из самых ярких визуальных воплощений fin de siécle – это картина норвежского художника Э. Мунка «Крик» (1893): на фоне кроваво-красного заката изображена фигура кричащего человека, чье бесполое лицо похоже на череп, человек плотно зажимает уши ладонями, будто этот крик может его убить. На заднем плане видны удаленные силуэты двух незнакомцев, которые кажутся совершенно равнодушными к крику.
Философская мысль рубежа XIX—ХХ веков
Переходя к литературному процессу конца XIX – начала ХХ века, следует дать обзор основных философских направлений этой эпохи. Эти мировоззренческие концепции, с одной стороны, отражают духовное состояние общества и, с другой, оказывают влияние на развитие литературы.
Растерянность интеллигенции перед противоречиями и жестокостью нового времени, ее духовные поиски проявились в увлечении новыми философскими идеями: философией позитивизма (О. Конт, И. Тэн), идеями А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и К. Маркса.
Позитивизм как особое философское направление возникает в 30-е годы XIX века во Франции. Его крупными представителями были Огюст Конт (1789—1857) и Ипполит Тэн (1828– 1893).
О. Конт, автор шеститомного труда «Курс позитивной философии», утверждает, что философия не может эффективно познавать реальность, поскольку ее предметом являются метафизические, а не объективные проблемы существования. Эта наука основана на абстрактных представлениях о мире, не подкрепленных материальным опытом. Соответственно, проблемы, которые она изучает, не могут быть ни разрешены, ни проверены, ни аргументированы. Отсюда О. Конт делает вывод о несостоятельности философии как науки, претендующей на высшее постижение реальности.
Согласно теории позитивизма подлинное знание о мире могут дать только науки, опирающиеся на конкретные факты. Истинным является только то знание, которое получено и проверено опытным путем. Все мистическое и метафизическое должно быть устранено из области научного познания.
Ключевое положение позитивистской философии О. Конта заключается в утверждении, что познанию подлежат лишь факты эмпирического опыта, явления, а не сущности: «Мы считаем, безусловно, недоступным и бессмысленным искание так называемых причин, как первичных, так и конечных». Говоря другими словами, наука не должна стремиться к постижению сути явлений. Она должна отвечать на вопрос, как происходит то или иное явление, а не почему. Например, ученый-физик должен стремиться понять, как действует закон всемирного тяготения, но не задаваться вопросом, почему этот закон действует?
Таким образом, все исследования сводились позитивизмом к простому описанию деталей и фактов внешнего мира. О. Конт провозглашает требование изучать только достоверные факты, не делая при этом никаких обобщений, не выводя никаких закономерностей. Разрабатывая идею общества как развивающегося организма, О. Конт стал одним из основоположников социологии, создал эволюционную теорию социального развития, систему законов и принципов социологии.
Французский философ, историк искусства Ипполит Тэн развивает некоторые положения концепции О. Конта. Во «Введении к истории английской литературы» он выделяет три фактора, формирующие личность человека, народ и культуру. Это раса, среда и момент.
Раса – врожденные, наследственные склонности, которые появляются вместе с человеком. Обстоятельства могут рассеять народ по свету, изменить в течение веков его облик, однако духовное и кровное родство все равно будет обнаруживаться в языках, религиях и философских системах данной расы. Раса – стабильный фактор, это то, что лежит в основе личности, народа или культуры.
Среда – это окружающий человека материальный мир: климат, географическое местоположение, религиозные традиции, нравственные представления, политические и экономические события, социальные условия и прочее. Эти относительно случайные обстоятельства, считает И. Тэн, накладываются на первичную базу расы.
И, наконец, момент – определенная историческая эпоха. тот или иной период истории – это не просто какой-то условный отрезок времени, но прежде всего определенное мировидение, которое оказывает огромное влияние на человеческую личность, характер культуры и духовную атмосферу данного общества.
В целом человек и мир рассматривались позитивистами как итог определенных процессов, как нечто такое, что можно разложить на части и логически объяснить.
Философия позитивизма оказала большое влияние на методологию естественных и общественных наук второй половины XIX века (социология, право, политическая экономия, историография, литературоведение), на формирование эстетических принципов такого литературного течения рубежа веков, как натурализм (Ж. и Э. де Гонкур, Э. Золя, П. Алексис, Ж. – К. Гюисманс и др.).
Социологическая сторона позитивизма получила свое развитие в трудах английского философа-позитивиста Герберта Спенсера (1820—1903). Он утверждает, что деление общества на классы является следствием биологических причин (одаренность и деловитость одних и леность и тупость других), что оно так же естественно, как и строение живого организма. Г. Спенсер распространяет теорию эволюции Ч. Дарвина на все человечество, создав социальный дарвинизм. Его философская концепция оказала большое влияние на Д. Лондона, т. Драйзера и многих других писателей.
Большой популярностью на рубеже XIX—ХХ веков пользовалась философская теория Артура Шопенгауэра (1788—1860). В своем основном труде «Мир как воля и представление» (1819) философ рассматривает мир в качестве производного некой духовной силы, которой дает наименование «Мировой Воли». Это основа всех вещей, истинная сущность мира, которая для человека представлена в форме бесчисленных объектов природы и истории. Она иррациональна, не подвластна никакому контролю, и постижение ее с помощью разума невозможно.
Мировая Воля не соотносится ни с какими идеалами или морально-нравственными ценностями человека. Она абсолютно безразлична к своим творениям в мире явлений, к живым существам и к людям, которые брошены ею на произвол случайно складывающихся обстоятельств.
А. Шопенгауэр утверждает, что мир, являющийся нам в представлении, выступает в форме, зависящей от познающей способности субъекта. Другими словами, человек различает в мире не реальность, а свое представление, свои знания об этой реальности. Мир, каким мы его знаем, – в значительной мере наше собственное создание. Это значит, что позитивная или негативная оценка цвета, звука, запаха, а также признание или отрицание разного рода нравственных ценностей и вытекающие из этого интерпретации и концепции реальности, – все это больше проекции представлений человека о мире, чем подлинная реальность.
Однако это не означает, что мир непознаваем. Его постижение возможно, но только через интуицию, иррациональные чувство или через творческое озарение, но никак не через рациональное познание. немецкий философ оспаривает такую категорию познания, как разум, который, согласно его учению, функционирует не по своему рациональному плану, а по иррациональным указаниям Мировой Воли.
Человек, считает философ, не управляет своей жизнью, его судьба зависит от Мировой Воли. Жизнь человеческого индивида есть, по Шопенгауэру, постоянная борьба со смертью, постоянное умирание, временно прерываемое жизненными процессами – дыханием, пищеварением, кровообращением и т.д. Развиваясь, вкладывая свой интеллект в создание чего-либо, человек растрачивает жизненную энергию и постепенно умирает.
Жизнь, по Шопенгауэру, всегда и при всех обстоятельствах есть страдание. Беспрестанные усилия освободиться от страданий приводят лишь к замене одного страдания другим. Причину страданий философ видит в эгоистических желаниях и стремлениях, порождаемых в человеке Мировой Волей. Философ полагает, что путь избавления от страданий состоит в преодолении желаний. Это так называемое самоубийство Воли, потому что бессознательное желание – есть сущность Воли. Преодоление страданий возможно двумя путями: аскетизм и искусство.
Аскетическая альтруистическая жизнь – это обретение бесстрастия и ясного осознания того, что все окружающее– одни лишь видимости. В этом случае Воля перестает действовать, так как здесь человек не стремится реализовать себя и удовлетворить свои желания. Искусство приобщает человека к подлинной сущности мира, которая находится вне сферы физического бытия. А. Шопенгауэр, размышляя о сущности искусства, считает, что его смысл не в отражении внешней, физической реальности, а в выражении внутренней, скрытой, тайной сути мира.
Все виды искусства, согласно учению немецкого философа, являют собой разные ступени объективации Мировой Воли, т.е. выражения сущности мира. Низшая из этих ступеней – архитектура (она выражает физические формы); за ней следуют пейзажная живопись и садово-парковое искусство (растительный мир); затем скульптура, изображающая животных и человека в его физической природе. Только в словесном и драматическом искусстве (поэзия, драма, трагедия) объективация воли осуществляется на уровне человеческого духа. Высшим же из искусств философ считает музыку – «снимок самой воли».
Пессимистическая философская концепция А. Шопенгауэра отразила мироощущение большой части общества рубежа веков. Его концепция интуитивного бессознательного постижения мира дала толчок развитию тем формам искусства, которые противопоставляли себя реализму и отражали стремление художников уйти в мир чистых идей, субъективных переживаний, в поклонение абстрактной красоте (символизм, эстетизм). Отголоски многих идей философа можно увидеть в творчестве О. Уайльда, Т. Гарди, Дж. Конрада, Т. Манна, Г. де Мопассана и других крупных писателей этой эпохи.
Настроения европейской интеллигенции конца XIX века нашли свое яркое отражение в трудах немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900). В работе «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), оценивая человеческую культуру, философ выделяет в ней два основных начала – дионисийское и аполлоновское. Дионисийское начало связано с хаосом, трагедией, беспорядком, буйством жизненных сил. Воплощенное в определенных видах искусства (танец, музыка, лирика), оно несет людям утешение и опьянение, помогает им преодолеть болезненное чувство одиночества и разобщенности. Аполлоновское начало воплощает в себе гармонию, логику, правило, меру. Выраженное в искусстве, оно помогает возродить волю к деятельности и борьбе за быстротечные радости жизни.
Идеал культуры для Ницше – гармония и синтез дионисийского, с его радостным утверждением инстинктивной жажды жизни, и аполлоновского, придающего этой бьющей через край жизни одухотворяющую цельность и оформленность.
Однако европейская культура, считает Ф. Ницше, пошла в своем развитии по пути подавления дионисийского начала «разумом», «истиной», «Богом», т.е. гипертрофированным аполлонизмом. Наука, говорит философ, стремится превратить мир в сплошную и обозримую упорядоченность. Обыденная жизнь строго регламентируется, в ней остается все меньше места для героизма и самовыражения, все более торжествует посредственность. Христианская религия и аскетическая мораль отрывают человека от истоков самого существования – от жизни. Иначе говоря, формальная сторона культуры подавила и вытеснила содержание жизни. Современная культура мертва, поскольку в ней нет места творчеству, которое берет свой исток в иррациональном дионисийским начале.
Исследуя состояние культуры своего времени, Ницше сделал вывод, что в Европе наступил период упадка, разложения подлинных ценностей и возвышения ценностей мнимых. Особую роль в создании подобного положения сыграла религия с ее фарисейской моралью, направленной на то, чтобы уравнять всех людей: сильных сделать слабыми, а слабых – сильными.
Отсюда берет свое начало ницшеанская критика традиционной христианской морали.
Все моральные догматы христианства необходимы слабому, самодовольному большинству, чтобы управлять более одаренным и свободным меньшинством. Мораль понимается философом как разлагающий элемент культуры, она является инстинктом толпы, орудием управления людскими массами.
В работах «По ту сторону добра и зла» (1886) и «К генеалогии морали» (1887) Ф. Ницше утверждает, что всякая мораль является тиранией по отношению к «природе» и «разуму», мораль учит ненавидеть слишком большую свободу, насаждает в людях потребность в ограниченных горизонтах, содействует глупости как условию жизни и роста. Моральный инстинкт повиновения способствовал культивированию в Европе стадного типа человека, считающего себя на сегодняшний день единственно возможным типом человека вообще.
Мораль, по мысли философа, воплощает в себе формальную сторону существования человека и общества. Лишившись жизненного наполнения, она превращается в автоматическое соблюдение правил, что не дает человеку возможности свободно творить, т.е. развивать культуру. Поэтому Ницше призывает к переоценке ценностей, к уничтожению омертвевших моральных норм, считая их безнравственными. Подчеркнем, что Ф. Ницше не отвергает мораль полностью, он призывает к тому, чтобы она не была заимствована из внешних источников (религии, законов, традиций и прочего), а была рождена внутри человека его собственным сознанием. Мораль, рожденная из души, а не вследствие какого-либо принуждения, является истинной.
Философ, возвышая отдельную личность над стадом, предлагает новую мораль – «мораль господ». Ее суть заключается в следующем: человек имеет обязанности только по отношению к равным себе, по отношению же к существам более низкого ранга он может поступать, как ему заблагорассудится, поскольку сильный человек не связан никакими навязанными моральными нормами.
Религия, утверждает Ницше, исчерпала себя, она не способна решить кардинальные проблемы жизни. Произнося свои знаменитые слова «Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили!» («Веселая наука», 1882), философ констатирует, что христианство из личной веры в Бога усилиями института церкви переродилось в систему власти, социальных табу и запретов, не имеющих под собой живого основания.
«Для Ницше <...> Бог – это не дедушка с бородой, не нечто реальное, а <...> образ, чувство, которое вдохновляет людей и дает им творческую энергию, энергию созидать. Бог живет не в ритуалах, не в чтении священных текстов, Бог проявляется в создании новых ценностей жизни, в создании образа жизни (то есть морали, религии и философии Запада), а не в их сохранении и продолжении. <...> Когда Бог перестает вдохновлять людей на радикальное, новаторское строительство жизни, развитие, он умирает»[3].
Главный принцип философии Ницше – учение о «воле к власти». Воля – не стремление сделать карьеру любой ценой, но творческая, созидательная сила самоутверждения личности. Она является основой подлинной морали, стоит по ту сторону добра и зла; это природная сила, а волеизъявление личности – часть этой силы. Стремление к власти осуществляет особая раса «господ»,сверхчеловеков.
«Сверхчеловек», согласно концепции Ф. Ницше, – вершина духовной эволюции человечества. Это создатель нового мира, творец новых законов, опирающийся на свой разум, а не на предрассудки. Только «лучшие», «высшие» люди наделены внутренней свободой, «волей к власти», способностью к самоопределению, к осознанию себя центром мироздания; «стаду» же, «наихудшим» не суждено стать самими собой. Человек, утверждает Ф. Ницше, ценен не сам по себе, а только как переход, путь к сверхчеловеку, к новому этапу духовной эволюции: «В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и гибель» («Так говорил Заратустра», 1884).
Многие идеи Ф. Ницше оказались близки писателям рубежа веков, их привлекал бунтарский дух, критика современной буржуазной системы, ее религии, культуры и морали[4]. Влияние идей ницшеанства можно увидеть в творчестве Р. Киплинга, К. Гамсуна, Т. Манна, Д. Лондона, Г. Ибсена, Т. Драйзера и других писателей.
Тем не менее при всем своем обновленческом пафосе теория Ф. Ницше содержала в себе ряд деструктивных моментов: культ силы, противопоставление жизни и морали, оправдание насилия, презрение к слабому. Поэтому многие писатели (Т. Манн, Д. Лондон, Г. Уэллс, Б. Шоу), пережив увлечение ницшеанством и сохранив уважение к личности и таланту философа, позднее критически переосмыслили крайние стороны его идеологии[5].
Существенное значение для духовной и политической жизни конца XIX – начала ХХ века имело учение Карла Маркса (1818—1883). Согласно этому учению, человек существует в связях и отношениях с другими людьми. История отдельного индивида определяется историей предшествовавших ему или современных индивидов. Традиции, обычаи, культурные стереотипы формируют человеческую личность. Таким образом, добро и зло в человеческой природе, любовь или эгоизм Маркс объясняет социальными обстоятельствами. Тем не менее не все в человеке определяется влиянием общества: индивид обладает свободой выбора, он может встать на сторону «добра» или на сторону «зла».
Человек, по К. Марксу, осуществляет себя в непосредственном практическом действии. Иными словами, человек является тем, что он делает, его личность выражает себя не в мышлении, не в фантазии, не в восприятии другого, а в каком-либо действии, труде. Жизнь человека – это не что-то метафизическое, это созидание, т.е. творческий труд.
Однако, считает философ, в условиях капитализма человеческая личность нивелируется из-за нарушения естественной трудовой последовательности. Капиталистическое производство организовано таким образом, что индивид отчуждается от результатов своего труда: человек не может соотнести свою личность с произведенным им продуктом и, соответственно, его труд и жизнь лишаются смысла. Отнимая у человека возможность реализовать себя в предметной среде, вложить свою личность во что-то конкретное, капиталистическая система разрушает человеческую индивидуальность. К. Маркс полагал, что под давлением технологического развития капитализм прекратит свое существование, и предсказывал неизбежность социалистических революций.
Труды философа внесли большой вклад в формирование интеллектуальной, духовной и политической жизни периода рубежа веков. Влияние марксизма в той или иной степени испытали такие личности, как Б. Шоу, Д. Лондон, К. Сэндберг, С. Льюис, Д. Рид и др.
В завершение обзора философской мысли конца XIX – начала ХХ века необходимо отметить, что в тревожной атмосфере того времени, с одной стороны, огромную популярность получили философские доктрины, отрицающие наличие в мире какой-либо разумной силы – будь то христианское божественное предопределение или творческий человеческий разум, познающий действительность и преобразующий ее для всеобщего блага. Такова идейная основа философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, отразившая утрату веры в разум, разочарование и пессимизм общества рубежа веков. С другой стороны, философские доктрины позитивизма и марксизма, в противоположность
А. Шопенгауэру и Ф. ницше, связаны с идеей рационального познания и преобразования мира, с ожиданием перемен, устремленностью в будущее, в новое общество, которое будет создано на более гармоничных основаниях, чем настоящее.
Однако при всех своих идеологических различиях философы этой эпохи сходятся в одном: мир уже не может существовать в прежнем состоянии, он должен измениться. В своей совокупности позитивизм, философия пессимизма А. Шопенгауэра, ницшеанство и марксизм отразили сложную социальную и духовную реальность жизни западно-европейского общества конца XIX – начала ХХ века, они создали новый язык для описания человека и мира.
Специфика литературного процесса конца XIX – начала ХХ века
Вся сложность и противоречивость историко-культурного развития рубежа веков отразилась в искусстве этой эпохи и, в частности, в литературе. Можно выделить несколько специфических особенностей, характеризующих литературный процесс конца XIX – начала ХХ века.
литературная панорама рубежа веков отличается исключительной насыщенностью, яркостью, художественным и эстетическим новаторством. Развиваются такие литературные направления и течения, как реализм, натурализм, символизм, эстетизм и неоромантизм. Появление большого количества новых направлений и методов в искусстве стало следствием перемен в сознании человека рубежа веков. Как известно, искусство является одним из способов объяснения мира. В бурную эпоху конца ХX – начала ХХ века художники, писатели, поэты разрабатывают новые способы и приемы изображения человека и мира, чтобы описать и истолковать быстро меняющуюся реальность.
Тематика и проблематика словесного искусства расширяются благодаря открытиям, сделанным в разных областях знания (Ч. Дарвин, К. Бернар, У. Джеймс). Философские и социальные концепции мира и человека (О. Конт, И. Тэн, Г. Спенсер, А. Шопенгауэр, Ф. ницше) активно переносились многими писателями в область литературы, определяли их мировидение и поэтику.
Литература на рубеже веков обогащается в жанровом отношении. Большое многообразие форм наблюдается в области романа, который был представлен широким спектром жанровых разновидностей: научно-фантастический (Г. Уэллс), социально-психологический (Г. де Мопассан, т. Драйзер, Д. Голсуорси), философский (А. Франс, О. Уайльд), социально-утопический (Г. Уэллс, Д. Лондон). Возрождается популярность жанра новеллы (Г. де Мопассан, Р. Киплинг, т. Манн, Д. Лондон, О. Генри, А.П. Чехов), переживает подъем драматургия (Г. Ибсен, Б. Шоу, Г. Гауптман, А. Стриндберг, М. Метерлинк, А.П. Чехов, М. Горький).
В отношении новых тенденций в романном жанре показательно появление романа-эпопеи. Желание писателей постигнуть сложные духовные и социальные процессы своего времени способствовало созданию дилогий, трилогий, тетралогий, многотомных эпопей («Ругон-Маккары», «Три города» и «Четвероевангелие» Э. Золя, дилогия об аббате Жероме Куаньяре и «Современная история» А. Франса, «Трилогия желания» т. Драйзера, цикл о Форсайтах Д. Голсуорси).
Существенной чертой литературного развития эпохи рубежа веков стало взаимодействие национальных литератур. В последней трети XIX века обозначился диалог русской и западно-европейской литератур: творчество л.н. толстого, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, М. Горького оказало плодотворное влияние на таких зарубежных художников, как Г. де Мопассан, Д. Голсуорси, К. Гамсун, т. Драйзер и многих других. Проблематика, эстетика и общечеловеческий пафос русской литературы оказались актуальными для западного общества рубежа веков. не случайно в этот период углубились и расширились непосредственные контакты между русскими и зарубежными литераторами: личные встречи, переписка.
В свою очередь, русские прозаики, поэты и драматурги с большим вниманием следили за европейской и американской литературами, брали на вооружение творческий опыт зарубежных писателей. Как известно, А.П. Чехов опирался на достижения Г. Ибсена и Г. Гауптмана, а в своей новеллистической прозе – на Г. де Мопассана. Несомненно влияние французской символистской поэзии на творчество русских поэтов-символистов (К. Бальмонт, В. Брюсов, А. Блок).
Другая важная часть литературного процесса рубежа веков – вовлеченность писателей в события общественно-политической жизни. В этом отношении показательно участие Э. Золя и А. Франса в деле Дрейфуса[6], протест М. Твена против испано-американской войны, поддержка Р. Киплингом англо-бурской войны, антивоенная позиция Б. Шоу по отношению к Первой мировой войне.
Неповторимую черту этой литературной эпохи составляет восприятие бытия в парадоксах, что особенно ярко отразилось в творчестве О. Уайльда, Б. Шоу, М. Твена. Парадокс стал не только излюбленным художественным приемом писателей, но и элементом их мировосприятия. Парадокс обладает способностью отражать сложность, неоднозначность мира, поэтому неслучайно он становится таким востребованным элементом художественного произведения именно на рубеже веков. Примером парадоксального восприятия действительности могут служить многие пьесы Б. Шоу («Дома вдовца», «Профессия миссис Уоррен» и др.), новеллы М. Твена («Как меня выбирали в губернаторы», «Часы» и др.), афоризмы О. Уайльда.
Писатели расширяют сферу изображаемого в художественном произведении. Прежде всего это касается писателей-натуралистов (Ж. и Э. де Гонкуры, Э. Золя). Они обращаются к изображению жизни низов общества (проституток, нищих, бродяг, преступников, алкоголиков), к описанию физиологических сторон жизни человека. Помимо натуралистов область изображаемого раздвигают поэты-символисты (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме), стремившиеся выразить в лирическом произведении невыразимое содержание бытия.
Важной особенностью литературы данного периода является переход от объективного изображения реальности к субъективному. Для творчества многих писателей данной эпохи (Г. Джеймса, Дж. Конрада, Ж. – К. Гюисманса, Р.М. Рильке, позднего Г. де Мопассана) первостепенным становится не воссоздание объективной действительности, а изображение субъективного восприятия мира человеком[7].
Важно отметить, что интерес к области субъективного раньше всего обозначился в таком направлении живописи конца XIX века, как импрессионизм, оказавшем большое влияние на творчество многих писателей и поэтов рубежа веков (например, таких как Э. Золя, Г. де Мопассан, П. Верлен, С. Малларме, О. Уайльд и др.).
Импрессионизм (от франц. impression – впечатление) – направление в искусстве последней трети XIX – начала XX века,основанное на стремлении художника передать свои субъективные впечатления, изобразить реальность в ее бесконечной подвижности, изменчивости, запечатлеть богатство нюансов. Крупнейшими художниками-импрессионистами были Эд. Мане, К. Моне, Э. Дега, О. Ренуар, А. Сислей, П. Сезанн, К. Писсаро и др.
Художники-импрессионисты пытались не изобразить объект, а передать свое впечатление от объекта, т.е. выразить субъективное восприятие реальности. Мастера этого направления стремились непредвзято и как можно более естественно и свежо зафиксировать мимолетное впечатление от быстро текущей, постоянно меняющейся жизни. Сюжеты картин для художников были второстепенны, они их брали из повседневной жизни, которую хорошо знали: городские улочки, ремесленники за работой, сельские пейзажи, привычные и всем знакомые здания и т. д. Импрессионисты отвергали тяготевшие над академической живописью каноны прекрасного и создавали свои.
Важнейшим литературным и культурологическим понятием эпохи рубежа веков является декаданс (позднелат. decadentia – упадок) – общее наименование кризисных, пессимистических, упадочных настроений и деструктивных тенденций в искусстве и культуре. Декаданс не представляет собой конкретного направления, течения или стиля, это общее депрессивное состояние культуры, это дух эпохи, выраженный в искусстве.
К декадентским чертам можно отнести: пессимизм, неприятие действительности, культ чувственных наслаждений, утрату морально-нравственных ценностей, эстетизацию крайнего индивидуализма, неограниченной свободы личности, страх перед жизнью, повышенный интерес к процессам умирания, распада, поэтизацию страдания и смерти[8]. Важный признак декаданса – неразличение или смешение таких категорий, как прекрасное и безобразное, наслаждение и боль, мораль и безнравственность, искусство и жизнь.
В наиболее отчетливом виде мотивы декаданса в искусстве конца XIX – начала ХХ века можно увидеть в романе Ж. – К. Гюисманса «Наоборот» (1883), пьесе О. Уайльда «Саломея» (1893), графике О. Бёрдсли. Отдельными чертами декаданса отмечено творчество Д.Г. Россетти, П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме, М. Метерлинка и других.
Перечень имен показывает, что умонастроения декаданса затронули творчество значительной части художников рубежа XIX—ХХ веков, в том числе многих крупных мастеров искусства, творчество которых в целом не может быть сведено к декадансу. Декадентские тенденции обнаруживаются в переходные эпохи, когда одна идеология, исчерпав свои исторические возможности, сменяется другой. Устаревший тип мышления уже не отвечает требованиям действительности, а другой еще не сформировался настолько, чтобы удовлетворить социально-интеллектуальные потребности. Это и рождает настроения тревоги, неуверенности, разочарования. так было в период упадка Римской империи, в Италии в конце XVI века и в странах Европы на рубеже XIX и ХХ столетий.
Источником кризисных умонастроений интеллигенции рубежа веков послужила растерянность многих художников перед резкими противоречиями эпохи, перед бурно и парадоксально развивающейся цивилизацией, которая находилась в промежуточном положении между прошлым и будущим, между уходящим XIX столетием и еще не наступившим ХХ.
Завершая обзор специфических черт литературы рубежа веков, следует отметить, что разнообразие литературных направлений, жанров, форм, стилей, расширение тематики, проблематики и сферы изображаемого, новаторские изменения в поэтике, – все это стало следствием сложного парадоксального характера эпохи. Экспериментируя в области новых художественных приемов и методов, развивая традиционные, искусство конца XIX – начала ХХ века пыталось объяснить быстро меняющуюся жизнь, подобрать наиболее адекватные слова и формы для динамичной реальности.
Характеристика основных литературных течений конца XIX – начала Хх века
К основным литературным течениям рубежа веков относятся реализм, натурализм, символизм, эстетизм и неоромантизм.
Реализм конца XIX – начала ХХ века (Г. де Мопассан, Т. Гарди, М. Твен, Дж. Голсуорси и др.) вошел в постклассическую стадию. Он показал свою преемственность по отношению к реализму XIX столетия (Ч. Диккенс, О. де Бальзак, Г. Флобер) и одновременно обнаружил новые черты.
Прежде всего в реалистическом искусстве рубежа веков происходит углубление психологизма. В творчестве таких писателей, как Г. де Мопассан, К. Гамсун, Г. Джеймс и других, более важную роль начинает играть описание внутреннего мира личности. Одновременно с психологизмом заостряется социально-критическое начало, публицистичность и полемичность («Профессия миссис Уоррен» Б. Шоу, «Враг народа» Г. Ибсена, «Американская трагедия» Т. Драйзера).
Традиционное реалистическое бытописание в значительной степени обогащается символикой, аллегорией, гротеском, фантастикой («Тэсс из рода д'Эрбевиллей» Т. Гарди, «Остров пингвинов» А. Франса).
Для реализма рубежа веков характерной становится «бессюжетность»: уменьшается событийность произведений. Поэтика жизнеподобия, служившая воспроизведению «жизни в формах самой жизни» и определявшая облик реалистической литературы XIX века, постепенно уступает место иным структурообразующим тенденциям; существеннейшую роль начинает играть условность («Остров пингвинов» А. Франса, «Тележка с яблоками» Б. Шоу, «Облик грядущего» Г. Уэллса).
Обновление реалистического искусства на рубеже веков затрагивает и драматургию. Как следствие в европейском театре конца XIX века появляется «новая драма» (Генрик Ибсен, Бернард Шоу, Герхард Гауптман). Она возникла во время господства так называемых «хорошо сделанных пьес», далеких от жизни, основанных на разработке интриги, с точным расчетом сценических эффектов, с ориентацией на вкусы среднего зрителя. Представители «новой драмы», напротив, обращаются к важным социально-общественным и философским проблемам; они переносят акцент с внешнего действия и событийного драматизма на усиление психологизма, создание подтекста и многозначной символики. В историко-литературной перспективе «новая драма» послужила реформации драматургии XIX столетия и ознаменовала собой начало драматургии XX века.
Натурализм — литературное направление, сложившееся в Европе и США в последней трети XIX века. Представителями натурализма являются Эдмон и Жюль де Гонкур, Эмиль Золя, Анри Сеар, Поль Алексис, Жорис-Карл Гюисманс, Фрэнк Норрис, Стивен Крейн и др. Отдельные черты натурализма можно обнаружить в творчестве писателей-реалистов: Г. де Мопассана, Т. Гарди, Д. Голсуорси, Т. Драйзера, Д. Лондона, драматургов Г. Ибсена, А. Стриндберга и некоторых других.
Основа натуралистической эстетики – философия позитивизма О. Конта и И. Тэна (см. выше). Кроме того, большую роль в формировании натурализма сыграли достижения в области естественных наук – биологии, физиологии и психологии. Писатели-натуралисты проецировали законы природы, открытые учеными-естествоиспытателями (Ч. Дарвин, Ш. Летурно, К. Бернар, Ч. Ломброзо), на жизнь человеческого общества.
Под влиянием философии позитивизма, провозгласившей истинным только достоверное знание, полученное и проверенное опытным путем, в эстетике натурализма формируется особая концепция писателя и творчества. Писатель-натуралист является ученым, который беспристрастно исследует жизнь человека и общества; творчество в концепции натурализма становится научным исследованием, а не игрой воображения ради эстетического удовольствия. Э. Золя, теоретик и практик натурализма, характеризуя свой творческий метод, говорил: «Я не хочу, подобно Бальзаку, быть моралистом, политиком, философом. Я хочу быть ученым, изучать факты, изображать их – вот и вся моя задача».
Основная задача натуралистической литературы – правдивое, точное и всестороннее изображение действительности.
Творчество для писателя-натуралиста – это акт познания. Художественную ценность имеет только такое произведение, которое рисует современное общество во всех его проявлениях.
Натуралисты настаивали на предельно объективном, безличном изображении реальности. Автор должен был самоустраниться из произведения, отказаться от каких-либо оценочных категорий при изображении им реальных фактов. В произведении, построенном на принципах строгого факта, изображаемое должно говорить само за себя. Оценка явления должна быть отражена в его изображении. Таким образом, должна отпасть необходимость вмешательства писателя с разъяснениями и обобщениями.
Отсюда вытекает принцип документальности: писатель должен опираться только на подлинные документы, каждое произведение должно быть строго документально. Натуралистическая теория отвергла право автора на воображение, на вымысел. Например, написанию каждого романа Э. Золя предшествовала огромная подготовительная работа: сбор документального материала, фактов, интервью, наблюдения и т.д. Создавая «Жерминаль», роман о шахтерах, писатель побывал в поселках горняков, спускался в забои, делал зарисовки того, как работают отбойные молотки, извлекается порода, движутся вагонетки в стволах шахт и т.д. Работая над историческим романом «Разгром», в котором описывается поражение Франции во франко-прусской войне, Э. Золя собрал и творчески переработал огромный документальный материал. Помимо всевозможных приказов, распоряжений, сводок, донесений, записных книжек и дневников участников войны, из которых он черпал многочисленные детали, писатель собрал целую библиотеку книг, альбомов, карт, инструкций и наставлений по военной технике, справочников с описанием формы и знаков отличия французских и прусских генералов и офицеров всех родов оружия и другие документы.
Важнейший принцип натурализма – детерминизм, т.е. причинная обусловленность жизненных обстоятельств и ситуаций, предопределенность характера и темперамента личности различными факторами. Общество и индивид рассматривались натуралистами как результат определенных воздействий, внутренних и внешних, который можно изучить и объяснить. В этом они следовали за философом-позитивистом И. Тэном. Его учение о трех первичных силах (раса, среда, момент) натуралисты положили в основу характеристики персонажей.
В соответствии с фактором расы натуралисты подчеркивали необходимость изучать наследственность, физиологию личности, ее темперамент. Э. Золя вслед за философами-позитивистами утверждал: «Наследственность определяет лицо мира».
Характерной чертой натурализма было обращение к запретным темам. Натуралисты, исходя из концепции творчества как научного исследования, полагали, что искусство должно изображать все стороны человеческой жизни без исключения. Отрицая запретные темы в литературе, натуралисты считали, что безобразное, достоверно изображенное, приобретает в художественном произведении эстетическую ценность. Именно поэтому во многих произведениях натуралистов воплощаются темы «дна общества» (проститутки, преступники, бродяги), социальных пороков, проблема общественного неравноправия и др. Э. и Ж. де Гонкуры писали: «<...> неужели так называемые «низкие классы» не имеют право на роман, неужели этот низший «свет» – народ – должен оставаться под литературным запрещением и пользоваться презрением авторов, обходивших до сих пор молчанием душу и сердце, которые у него могут оказаться?» Обращаясь к запретным темам, писатели-натуралисты не стремились шокировать читателя, они старались создать в своем творчестве объемную и достоверную картину жизни человеческого общества.
Таким образом, натурализм стремился к предельно объективному изображению мира, к полной правде, к реальному факту. Писатель-натуралист должен был стать объективным ученым и писать только о том, что он досконально изучил. Для него не может быть ничего красивого или некрасивого, он должен быть эстетически нейтральным по отношению к изображаемому. Анализ человека и общества строился натуралистами на основе строгого биологического, социального и исторического детерминизма (раса, среда, момент)[9].
Как самостоятельный метод к началу XX века натурализм перестает существовать, но такие принципы этого направления, как объективизация авторской позиции, документальность и детальное воспроизведение физиологических сторон человеческой жизни, прочно вошли в арсенал творчества писателей последующих поколений.
Символизм как литературное направление складывается во Франции в 1870-е годы и существует до конца 1890-х годов. Во Франции наиболее видными представителями символизма были Поль Верлен, Артюр Рембо и Стефан Малларме, в Бельгии – Морис Метерлинк и Эмиль Верхарн, в Германии – Герхард Гауптман и Стефан Георге, в России – Константин Бальмонт, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов, Александр Блок и др.
Предтечами символистов, заложившими элементы символистского художественного метода, были романтики и поэты-парнасцы. Кроме того, непосредственным предшественниками символистов стали Шарль Бодлер и Лотреамон (Изидор Дюкас). На символистское мировидение и концепцию искусства большое влияние оказали философские теории Платона, И. Канта, Г. Гегеля и в особенности А. Шопенгауэра.
В основе эстетики символизма лежит идеалистическая концепция двоемирия, согласно которой весь реальный мир – вторичен, он является лишь тенью, отражением истинного мира – мира идей. Существующий вне пространства и времени мир идей является подлинным, вечным. Основную задачу искусства символисты видели не в изображении действительности, а в постижении и изображении мира идей, в выражении высшего духовного смысла, сути мира. Поэт-символист должен «исследовать незримое, слышать неслыханное» (А. Рембо).
Образно говоря, символисты сделали объектом изображения не реальность, а вечность как пространство, в котором находятся все подлинные и неизменные категории бытия. Один из поздних символистов, Поль Валери писал: «Поэзия – это тонкое прекрасное объяснение мира <...> это симфония, объединяющая мир, который нас окружает, с миром, который нас посещает».
Одна из основ эстетики символизма – теория символа. Смысл ее в том, что познание и выражение мира идей возможно с помощью символа – многозначного художественного образа, который обладает способностью условно обозначать сущность явления вместо его конкретно-образного выражения. С помощью символа поэт пытается передать отголоски высшего духовного мира. Символ становится своеобразным окном в мир высшей духовной реальности. С. Малларме, объясняя принципы символистской поэтики, писал: «Я говорю: цветок. И вот из глубин забвения, куда звуки моего голоса отсылают силуэты всевозможных цветков, всплывает нечто иное, чем виденные мной раньше чашечки цветков, – сама музыкальная идея цветка, сладостная, ее не найдешь ни в одном букете».
С теорией символа тесно связана теория соответствий, согласно которой все явления природы (цвета, звуки, запахи) – это символы, отголоски идеального мира, его проекции, тесно связанные друг с другом. В символистском произведении эти явления становятся многозначными образами, с их помощью поэт ассоциативно познает и отражает высшую духовную реальность. А. Рембо в сонете «Гласные» описывает цепь ассоциаций. Здесь каждый гласный звук соответствует определенному цвету и ряду ассоциативных образов в воображении поэта:
«А» черный, белый «Е», «И» красный, «У» зеленый, «О» голубой – цвета причудливой загадки: «А» – черный полог мух, которым в полдень сладки Миазмы трупные и воздух воспаленный. Заливы млечной мглы, «Е» – белые палатки, Льды, белые цари, сад, небом окропленный; «И» – пламень пурпура, вкус яростно соленый- Вкус крови на губах, как после жаркой схватки. «У» – трепетная гладь, божественное море, Покой бескрайних нив, покой в усталом взоре Алхимика, чей лоб морщины бороздят. «О» – резкий горний горн, сигнал миров нетленных, Молчанье ангелов, безмолвие вселенных; «О» – лучезарнейшей Омеги вечный взгляд! (Пер. В. Микушевича)Уподобление звука цвету дает поэту возможность выразить трансцендентальное, «невыразимое». Каждый гласный звук связывается с определенными явлениями и понятиями человеческого и вселенского бытия. Можно проследить движение ассоциаций. Например, с гласной «У» связан зеленый цвет, обладающий способностью передавать состояние покоя, умиротворенности. Зеленый цвет неслучайно ассоциируется с тихим морем, безмятежными просторами, усталостью после плодотворного трудового дня. Звук «О» ассоциативно связан с резкими звуками трубы, поскольку они распространяются в воздухе, то, соответственно, вызывают в памяти образ небесной голубизны, а голубой цвет ассоциируется с небесным пространством, образами ангелов, неведомыми мирами[10].
С. Малларме – поэт, теоретик символизма разработал теорию подтекста, согласно которой в символистском произведении должен содержаться подтекст, который выражает глубинный, тайный смысл вещей. Яркий пример воплощения теории подтекста – стихотворение С. Малларме «Лебедь»:
Могучий, девственный, в красе извивных линий, Безумием крыла ужель не разорвет Он озеро мечты, где скрыл узорный иней Полетов скованных прозрачно-синий лед? И Лебедь прежних дней, в порыве гордой муки Он знает, что ему не взвиться, не запеть: Не создал в песне он страны, чтоб улететь, Когда придет зима в сиянье белой скуки. Он шеей отряхнет смертельное бессилье, Которым вольного теперь неволит даль, Но не позор земли, что приморозил крылья. Он скован белизной земного одеянья, И стынет в гордых снах ненужного изгнанья, Окутанный в надменную печаль. (Пер. М. Волошина)В сонете рассказывается о лебеде, замерзающем на озере, которое сковал лед. Поэт связывает образ лебедя – прекрасной птицы, парящей над землей, – с высоким искусством. Белый цвет лебединого оперения становится метафорой чистого, самоценного творческого начала. Лебедь – хрупкое, незащищенное существо – гибнет при соприкосновении со льдом – символом бездушия, холодности обыденной жизни. Лед озера также символизирует невоплощенные мечты, погибший талант, катастрофу, которую нельзя предотвратить.
Важный принцип символистской поэзии – музыкальность. Символисты стремились к слиянию поэзии с музыкой, добиваясь музыкальности звучания стиха. Они считали, что музыка – самый глубоко действующий вид искусства, способный выразить невыразимое, высшую духовную реальность. Музыкальность приводит к расширению смыслового пространства художественного произведения. В программном стихотворении «Поэтическое искусство» П. Верлен сформулировал принцип музыкальности:
О, музыки всегда и снова! Стихи крылатые твои Пусть ищут за чертой земного, Иных небес, иной любви! (Пер. В. Брюсова)Большое значение в эстетике символизма имеет понятие суггестивности, разработанное П. Верленом и С. Малларме. Суггестивность (от лат. suggestio – внушение, намек, подсказывание) – особое свойство некоторых поэтических произведений, состоящее в их способности воздействовать на подсознание, воображение, чувства читателя посредством ассоциаций. Суть суггестивности не в назывании предметов, а во внушении эмоций, в ослаблении основного и усилении дополнительного смыслового оттенка слова. Поэт не навязывает, а за счет прихотливых поэтических ассоциаций внушает читателю ту или иную эмоцию. например, в стихотворении «Закат» П. Верлен с помощью особого ритма, размытой, ассоциативной образности передает читателю неясное чувство печали, грусти:
Вечерняя даль Румянцем объята, На поле печаль Струится заката. Струится печаль О бывшем когда-то… Кого-то мне жаль Под песню заката. И движется ряд Багряных видений, Встают и скользят Их странные тени, Встают и скользят В причудливой смене И в алый закат Уходят их тени. (Пер. В. Брюсова)С разработкой основных принципов символизма связано новаторство в области стихосложения. новый объект поэзии потребовал новой гибкой поэтической формы. Символисты разрушили традиционный для французской поэзии классический 12-сложный александрийский стих, строгие рамки которого не отвечали задачам символистской поэзии. П. Верлен использовал так называемый освобожденный стих, который сохраняет ритмические контуры стиха, но нарушает рифму, заменяя ее созвучиями, ассонансами. А. Рембо ввел «свободный стих» (верлибр), который отвергает рифму и предполагает многообразную и гибкую ритмику. Ш. Бодлер, А. Рембо и С. Малларме разработали одну из самых распространенных форм в символистской поэзии – стихотворения в прозе.
Символизм был важным этапом развития литературы, представители этого направления много сделали для обновления поэзии: расширили изобразительные возможности слова; разработали ассоциативный принцип построения образов; осуществили реформу стиха; развили принципы эстетики безобразного (например, стихотворения А. Рембо «Искательницы вшей», «Венера Анадиомена»). творчество поэтов-символистов сыграло важную роль в развитии искусства ХХ века. В дальнейшем символизм окажет непосредственное влияние на формирование сюрреализма, экспрессионизма, театра абсурда и других модернистских течений литературы ХХ столетия.
Эстетизм – одно из течений искусства рубежа веков – складывается в 1880—1890-е годы в Англии, возникая как реакция на викторианскую идеологию и мораль, на философию позитивизма, учение Ч. Дарвина, работы Г. Спенсера. теоретиками эстетизма были философы Джон Раскин (1819—1900) и уолтер Пейтер (1839—1894). Они провозгласили новую концепцию искусства и красоты.
Д. Раскин считал, что искусство выполняет дидактическую функцию: утверждает важные «общественные и политические добродетели». Искусство служит усовершенствованию общества и возвышению души как самого художника, так и почитателей его таланта. Д. Раскин полагал, что в области красоты этическое должно превалировать над эстетическим, т.е. сфера творчества художника должна ограничиваться моралью, нравственностью. наиболее близка идеалу нравственной красоты Д. Раскина эпоха Средневековья периода расцвета готики, в то время как Возрождение означало для него упадок и разложение.
У. Пейтер, напротив, придерживался субъективистского варианта концепции «искусства для искусства»: для него искусство не должно учить добру, оно безразлично к морали. теоретик эстетизма не признавал этических ограничений в области искусства и призывал к безграничной свободе художественного творчества. Красота стоит выше категорий добра и зла, поскольку является высшей ценностью, через которую человек приобщается к истине.
Общее в концепциях искусства Д. Раскина и У. Пейтера было в том, что они оба видели в искусстве альтернативу прагматической идеологии капиталистического общества. Искусство и красота для них – единственное средство вернуть человеку утраченную целостность и приблизить его к высшей духовности.
Преемниками У. Пейтера стали деятели искусства, объединившиеся вокруг журналов «Желтая книга» и «Савой», которые стали выходить в свет в 1894 и 1895 гг. Это были поэты Артур Саймонз, Эрнест Доусон, Джон Дэвидсон, художник и писатель Обри Бердсли. Писатели-эстеты выступали против этических и эстетических стереотипов викторианской идеологии, противопоставляя им гедонистическое мировоззрение. Кроме того, эстетизм полемизировал с реализмом и натурализмом, обвиняя эти направления в абсолютизации животной природы человека и сведении его к существу биологически и социально детерминированному, т.е. фактически лишенному индивидуальности и одухотворенности.
В условиях кризиса христианских ценностей рубежа веков искусство становится для эстетов формой религии, потому что через него человек познает содержание жизни и открывает истину. Красота рассматривалась писателями-эстетами и как основной объект и критерий искусства, и как единственная сила, способная преобразить и усовершенствовать повседневную жизнь. Постигая красоту, человек познает подлинное содержание мира, потому что красота и есть истина, представленная в бесконечном многообразии форм.
Важная категория эстетизма – идея «чистого искусства», или «искусства ради искусства». Это концепция художественного творчества, максимально абстрагированного от действительности. Реальность, согласно теории «чистого искусства», не может быть эстетическим объектом, поскольку красота (а значит и истина) проявляется не в изображении обыденной жизни, а в совершенной форме художественного произведения.
Вождем эстетизма после смерти У. Пейтера становится Оскар уайльд (1854—1900). Вслед за своим учителем О. Уайльд развивает философию искусства. По его мнению, объектом искусства должна быть не реальность, а воображение, фантазия, т.е. нечто нереальное, волшебное, не подчиненное никаким прагматическим целям. О. Уайльд протестовал против стремления писателей воспроизводить в художественном произведении современную действительность, поскольку она уродлива и непоэтична. По словам писателя, «великие произведения полны жизни – в сущности, полны жизни они одни <...> Потому что жизнь ужасающе бесформенна <...> жизнь – всегда неудача».
В своем знаменитом эссе «Упадок искусства лжи» теоретик эстетизма утверждал, что искусство более значимо и существенно, чем сама реальность. Реальность рассматривалась им как нечто вторичное по отношению к искусству.
О. Уайльд считал искусство аморальным в том значении, что оно стоит над моралью, поскольку прекрасное, выражаемое искусством, шире рамок моральных ограничений. «Эстетика выше этики», – говорил он. – «Она принадлежит сфере более высокой духовности <… > мы достигаем совершенства, о котором мечтали святые, совершенства тех, для кого грех невозможен». Таким образом, искусство, согласно О. Уайльду, обладает самостоятельной ценностью, оно противопоставлено обыденной реальности и не выражает ничего, кроме своего внутреннего глубинного смысла.
Эстетизм, просуществовав относительно недолго, оставил заметный след в европейской литературе рубежа веков: он обобщил и обогатил эстетические идеи Платона, Шопенгауэра, романтиков, поэтов-парнасцев и символистов. Кроме того, мировоззрение и система ценностей эстетов, проникнув в широкие слои общества конца XIX века, реализовывались в моде на определенный интерьер, изысканные костюмы, стиль поведения и культ яркой индивидуальности.
Другое течение, сформировавшееся на рубеже веков, – неоромантизм (Роберт Льюис Стивенсон, Джозеф Конрад, Редьярд
Киплинг, Эдмон Ростан). Неоромантиков не устраивала современная действительность, казавшаяся им пошлой и однообразной, поэтому в своих произведениях они воспевали романтику опасностей и приключений. Они воскрешают в конце XIX века романтическую концепцию двоемирия, но в отличие от романтиков начала XIX столетия, переносят своих героев из дисгармоничной реальности не в идеальный мир мечты, воображения, а в мир экзотических стран, необыкновенных приключений, неординарных событий, в обстановку, требующую исключительного мужества. Таким образом, поиск идеала неоромантики осуществляют в действительности, а не в мире искусства, фантазии, мечты, как это было у романтиков. Именно поэтому для неоромантизма характерен культ приключений, мужества, опасностей и стремление к необычному.
Например, в повести Дж. Конрада «Тайфун» (1902) рассказывается о сражении корабля под командованием капитана Мак-Вира с разбушевавшейся морской стихией. Благодаря его личному мужеству, выносливости, умению организовать и подбодрить в тяжелую минуту людей корабль держится на плаву, побеждает разгул стихии. Сюжет повести является воплощением идеи борьбы с роком, судьбой, разрушительными силами, лежащими в основе бытия.
В неоромантической литературе меняется классический тип романтического героя: писатели не противопоставляют исключительного героя обществу, толпе, напротив, они открывают исключительное в обыкновенном человеке. Неоромантический герой, пройдя сквозь испытания и опасности, обновляется, раскрывает свой духовный потенциал. Неоромантические тенденции будут различимы и в литературе ХХ столетия в творчестве Э. Хемингуэя, А. де Сент-Экзюпери и ряда других писателей.
Большинство упомянутых литературных направлений рубежа веков, за исключением реализма, не пережили своей эпохи: изменившись, они либо перешли в нечто другое, либо исчезли совсем. Это показывает, что все они носили переходный, экспериментальный характер в сложную, многообразную и противоречивую эпоху. Однако факт переходности ни в коей мере не обесценивает литературы рубежа веков. Напротив, конец XIX – начало ХХ века представляет исключительно важный и плодотворный этап развития мировой культуры, преддверие литературы ХХ века. Писатели этой эпохи создали большое количество произведений, обладающих вневременной ценностью: стихотворения А. Рембо, П. Верлена, Э. Верхарна; новеллы Г. де Мопассана, его романы «Жизнь» и «Милый друг»; «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда; «Пер Гюнт» и «Кукольный дом» Г. Ибсена; «Американская трагедия» Т. Драйзера и многие другие.
Художественный опыт рубежа веков в значительной мере обогатил мировое искусство. Новаторские открытия писателей этой эпохи в области художественной формы и содержания (углубленный психологизм, ассоциативная образность, интеллектуализация литературы, расширение сферы изображаемого) стали неотделимой частью всего последующего литературного процесса.
Литература
1. Аствацатуров А.А. Феноменология текста: игра и репрессия. М., 2007.
2. Власов В.Г., Лукина Н.Ю. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм: Терминологический словарь. СПб., 2005.
3. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века. М., 2005.
4. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы конца XIX – начала ХХ века. М., 2006.
5. Дмитриева Н.А. Живое прошлое. Судьбы искусства: век XIX, век ХХ // Иностранная литература. 1988. № 1—2.
6. Зарубежная литература XX века / под ред. Л.Г. Андреева. М., 2000.
7. Зарубежная литература конца XIX – начала ХХ века / под ред. В.М. Толмачева. М., 2003.
8. Зарубежная литература ХХ века / под ред. И.В. Кабановой. М., 2007.
9. История западноевропейской литературы XIX века: Франция, Италия, Испания, Бельгия / под ред. Т.В. Соколовой. М., 2003.
10. Кубарева Ы.П. Зарубежная литература последней трети XIX – начала ХХ века. М., 2004.
11. Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. Минск, 1998.
12. Обломиевский Д. Французский символизм. М., 1973.
13. Руднев В. Энциклопедический словарь культуры ХХ века. М., 2003.
14. Современная западная философия. Словарь / сост. В. Малахов, В. Филатов. М.,1998.
15. Урнов М.В. На рубеже веков: Очерки английской литературы. М., 1970.
Темы лекционных занятий
1. Основные тенденции развития историко-литературного процесса в конце XIX – начале XX века.
2. Историко-литературный процесс во Франции. Общая характеристика.
3. Французский натурализм.
4. Творчество Э. Золя.
5. Творчество Г. де Мопассана.
6. Творчество А. Франса.
7. Французский символизм (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме).
8. Историко-литературный процесс в Бельгии. Общая характеристика.
9. Творчество Э. Верхарна.
10. Творчество М. Метерлинка.
11. Историко-литературный процесс в Германии. Общая характеристика.
12. «Поэтический реализм» (В. Раабе, Т. Шторм, Т. Фонтане).
13. Творчество Г. Гауптмана.
14. Историко-литературный процесс в Австрии. Общая характеристика.
15. Творчество Г. фон Гофмансталя.
16. Творчество Р.М. Рильке.
17. Историко-литературный процесс в Скандинавии. Общая характеристика.
18. Творчество К. Гамсуна.
19. Творчество А. Стриндберга.
20. Творчество Г. Ибсена.
21. Историко-литературный процесс в Великобритании. Общая характеристика.
22. Английский неоромантизм (Р. Киплинг, Р.Л. Стивенсон, Дж. Конрад, А. Конан Дойл).
23. Английский эстетизм и творчество О. Уайльда.
24. Творчество Т. Гарди.
25. Творчество Д. Голсуорси.
26. Творчество Г. Уэллса.
27. Творчество Б. Шоу.
28. Историко-литературный процесс в США. Общая характеристика.
29. Творчество М. Твена.
30. Творчество Г. Джеймса.
31. Творчество Д. Лондона.
32. Творчество Т. Драйзера.
Темы для самостоятельного изучения
1. «Братство прерафаэлитов». Деятельность и творчество Д.Г. Россетти, Э. Бёрн-Джонса и У. Морриса.
2. Импрессионизм и литература конца XIX – начала ХХ века.
3. Творчество Ж. – К. Гюисманса.
4. Творчество Э. Ростана.
5. Творчество Б. Бьёрнсона.
6. Творчество С. Георге.
7. Творчество Л. Пиранделло.
8. Творчество У.Д. Хоуэллса.
9. Натурализм в литературе США (Х. Гарленд, Ф. Норрис, С. Крейн).
10. Творчество Э. Синклера.
Литература
Обязательная художественная литература
1. Поль Верлен. Стихи (одно стихотворение наизусть).
2. Артюр Рембо. Стихи (одно стихотворение наизусть).
3. Эмиль Золя. Один из романов на выбор: Карьера Ругонов, Чрево Парижа, Западня, Нана, Жерминаль.
4. Ги де Мопассан. Жизнь. Милый друг. Пышка.
5. Анатоль Франс. Остров пингвинов.
6. Генрик Ибсен. Пер Гюнт. Кукольный дом. Дикая утка.
7. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Саломея.
8. Редьярд Киплинг. Стихи (одно стихотворение наизусть). Рассказы (За чертой, Саис мисс Йол, Дочь полка, Лиспет, На голоде, Маленький Тобра, Ворота Ста Печалей, Три мушкетера, Строители моста). Сказки (на выбор).
9. Джозеф Конрад. Сердце Тьмы.
10. Томас Гарди. Тэсс из рода д'Эрбервиллей (или Джуд Незаметный).
11. Герберт Уэллс. Война миров (или любой другой научно-фантастический роман).
12. Бернард Шоу. Профессия миссис Уоррен. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца.
13. Джон Голсуорси. Собственник.
14. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Таинственный незнакомец. Рассказы (Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса, Мои часы, Как я редактировал сельскохозяйственную газету, Как меня выбирали в губернаторы, Человек, который совратил Гедлиберг).
15. Джек Лондон. Мартин Иден. Рассказы (Любовь к жизни, На сороковой миле, Белое безмолвие, Северная Одиссея, Смок Белью, Человек со шрамом, Тысяча дюжин).
16. Теодор Драйзер. Американская трагедия.
Дополнительная художественная литература
1. Эдмон и Жюль де Гонкур. Жермини Ласерте.
2. Жорис-Карл Гюисманс. Наоборот.
3. Эдмон Ростан. Сирано де Бержерак.
4. Алджернон Чарльз Суинберн. Стихи.
5. Арнольд Беннет. Повесть о старых женщинах.
6. Роберт Льюис Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Стихи.
7. Герхарт Гауптман. Перед восходом солнца. Одинокие. Потонувший колокол. Перед заходом солнца.
8. Райнер Мария Рильке. Стихи.
9. Эмиль Верхарн. Стихи.
10. Морис Метерлинк. Непрошенная. Слепые. Там, внутри. Смерть Тентажиля. Монна Ванна. Синяя птица.
11. Кнут Гамсун. Голод. Мистерии. Соки земли.
12. Август Стриндберг. Красная комната. Фрекен Юлия. На пути в Дамаск.
13. О. Генри. Новеллы.
14. Генри Джеймс. Письма Асперна. Поворот винта. Женский портрет.
15. Эптон Синклер. Джунгли.
Учебная литература
1. Аникин Г.Н., Михальская Н.П. История английской литературы. М., 1975.
2. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы конца XIX – начала ХХ в. М., 2006.
3. Гиленсон Б.А. История литературы США. М., 2003.
4. Зарубежная литература конца XIX – начала XX века / под ред. В.М. Толмачева. М., 2003.
5. История всемирной литературы: в 9 т. Т. 7, 8. М., 1991.
6. История западноевропейской литературы. XIX век: Англия / под ред. Л.В. Сидорченко и И.И. Буровой. СПб.; М., 2004.
7. История западноевропейской литературы XIX в.: Франция, Италия, Испания, Бельгия / под ред. Т.В. Соколовой. М., 2003.
8. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX в.: курс лекций / под ред. М.Е. Елизаровой, Н.П. Михальской. М., 1970.
9. Кубарева Н.П. Зарубежная литература последней трети
XIX – начала ХХ века. М., 2004.
10. Михальская Н.П. История английской литературы. М., 2006.
11. Трыков В.П. Зарубежная литература конца XIX – начала
XX в.: практикум. М., 2001.
Научная литература
Французская литература
1. Андреев Л.Г. Феномен Рембо // А. Рембо. Поэтические произведения в стихах и прозе: сб. М., 1988.
2. Балашов Н.И. Рембо и связь двух веков поэзии // А. Рембо. Стихотворения. М., 1982.
3. Бачелис Т.И. Заметки о символизме. М., 1998.
4. Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств: Франция: конец XIX – начало ХХ века. М., 1987.
5. Владимирова А.И. Франция на рубеже XIX и XX веков: Литература, живопись, музыка, театр. СПб., 2004.
6. Владимирова М.М. К вопросу об истоках и функциях образной символики «Ругон-Маккаров» Э. Золя // Мировоззрение и метод. Л., 1979.
7. Владимирова М.М. Проблемы художественного познания во французской литературе рубежа веков (1890—1914). Л., 1976.
8. Владимирова М.М. Романный цикл Э. Золя «Ругон-Маккары». Художественное и идейно-философское единство. Саратов, 1984.
9. Вульфович Т.Л. Творчество Мопассана. М., 1962.
10. Данилин Ю.И. Жизнь и творчество Мопассана. М., 1968.
11. Данилин Ю.И. Очерки французской поэзии XIX в. М., 1974.
12. Дынник В. Анатоль Франс. М., 1934.
13. Европейский символизм / отв. ред. И.Е. Светлов. СПб., 2006.
14. Емельяников С.П. «Ругон-Маккары» Эмиля Золя. М., 1965.
15. Косиков Г.К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М., 1993.
16. Кучборская Е.П. Реализм Эмиля Золя. М., 1973.
17. Лиходзиевский С. Анатоль Франс. Ташкент, 1962.
18. Лозовецкий В.С. Творчество Мопассана. Ростов н/Д, 1974.
19. Мелик-Саркисова Ы.В. Концепция человека и творческий метод Э. Золя. Махачкала, 1975.
20. Обломиевский Д. Французский символизм. М., 1973.
21. Реизов Б.Г. Вопросы эстетики Золя // Учен. зап. ЛГУ. Л., 1955. Вып. 22. № 184.
22. Соколова Т.В. От романтизма к символизму: Очерки истории французской поэзии. СПб., 2006.
23. Флоровская О. Мопассан-новеллист. Кишинев, 1979.
24. Французский символизм. Драматургия и театр. СПб., 2000.
25. Фрид Я. Анатоль Франс и его время. М, 1975.
26. Юльметова С.Ф. Новаторство Эмиля Золя. Уфа, 1988.
27. Юльметова С.Ф. Поэтика мифа в романах Э. Золя // Поэтика реализма. Куйбышев, 1984.
Английская литература
1. Акимова О.В. Этика и эстетика Оскара Уайльда. СПб., 2008.
2. Аникин Г.В. Эстетика Джона Рескина и английская литература XIX века. М., 1986.
3. Аникст А.А. Оскар Уайльд // О. Уайльд. Избранные произведения: в 2 т. М., 1960.
4. Балашов П.С. Художественный мир Бернарда Шоу. М., 1982.
5. Воропанова М.И. Джон Голсуорси. Красноярск, 1968.
6. Гражданская З. Бернард Шоу. М., 1965.
7. Динамов С. Бернард Шоу. М.; Л., 1931.
8. Дубашинский И.А. «Сага о Форсайтах» Д. Голсуорси. М., 1979.
9. Дьяконова Ы.Я. Джон Голсуорси. М., 1960.
10. Дьяконова Ы.Я. Стивенсон и английская литература XIX века. Л., 1984.
11. Дюпре К. Джон Голсуорси. М., 1986.
12. Кагарлицкий Ю.М. Герберт Уэллс. М., 1963.
13. Кеттл А. Введение в историю английского романа. М., 1966.
14. Ковалева О.В. Оскар Уайльд и стиль модерн. М., 2002.
15. Кружков Г.М. У. Б. Йетс: Исследования и переводы. М., 2008.
16. Ламборн Л. Эстетизм. М., 2007.
17. Ланглад Ж. де. Оскар Уайльд, или Правда масок. М., 1999.
18. Любимова А.Ф. Проблематика и поэтика романов Г. Уэллса 1900—1940-х гг. Иркутск, 1990.
19. Некрасова Е.А. Прерафаэлиты, Рескин и Моррис // Романтизм в английском искусстве. М., 1975.
20. Образцова А.Г. Волшебник или шут?: Театр Оскара Уайльда. СПб., 2001.
21. Образцова А.Г. Драматургический метод Бернарда Шоу. Л.; М., 1965.
22. Пирсон Х. Бернард Шоу. М., 1972.
23. Ромм А.С. Герберт Уэллс. Л., 1959.
24. Ромм А.С. Джордж Бернард Шоу. М., 1965.
25. Соколянский М.П. Оскар Уайльд. Очерк творчества. Киев; Одесса, 1990.
26. Тугушева М.И. Джон Голсуорси: жизнь и творчество. М., 973.
27. Тумбина О.В. Лекции по английской литературе. СПб., 2003.
28. Урнов М.В. На рубеже веков: Очерки английской литературы. М., 1970.
29. Урнов М.В. Томас Гарди: Очерк творчества. М., 1969.
30. Федоров А.А. Идейно-эстетические аспекты развития английской прозы (70-е—90-е гг. XIX в.). Свердловск, 1990.
31. Федоров А.А. Эстетизм и художественные поиски в английской прозе последней трети XIX века. Уфа, 1993.
32. Хорольский В.В. Эстетизм и символизм в поэзии Англии и Ирландии рубежа XIX—XX веков. Воронеж, 1995.
33. Чуковский К. Оскар Уайльд // К. Чуковский. Люди и книги. М., 1960.
34. Эллманн Р. Оскар Уайльд. М., 2000.
35. Яковлев Д.Е. Философия эстетизма. М., 1999.
36. Яковлева А.Ф. новые миры Герберта Уэллса. М., 2006.
Скандинавская литература
1. Адмони В.Г. Генрик Ибсен. М., 1950.
2. Берковский н.Л. Ибсен // Статьи о литературе. М.; Л., 1962. То же: Берковский н.Л. Ибсен // Лекции и статьи по зарубежной литературе. СПб., 2002.
3. Будур н.В. Гамсун. Мистерия жизни. М., 2008.
4. Ибсен, Стриндберг, Чехов: сб. статей. М., 2006.
5. Мацевич А.А. Август Стриндберг: Жизнь и творчество: 1849—1912. М., 2003.
6. неустроев В.П. Литература скандинавских стран. М., 1980.
7. Торн Ф.В. История скандинавской литературы. М., 1983.
8. Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975.
9. Храповицкая Г.н. Бьернстьерне Бьернсон. Творчество и жизнь. Орск, 2008.
10. Храповицкая Г.н. Ибсен и западноевропейская драма его времени. М., 1979.
Литература США
1. Анцыферова О.Ю. Повести и рассказы Генри Джеймса: от истоков к свершениям. Иваново, 1998.
2. Боброва М. Марк Твен. М., 1962.
3. Богословский В.н. Джек Лондон. М., 1964.
4. Быков В.М. Джек Лондон. М., 1964.
5. Засурский Я.н. Американская литература XX в. М., 1984.
6. Засурский Я.н. Теодор Драйзер. М., 1964.
7. Зверев А.М. Джек Лондон. М., 1975.
8. Зверев А.М. Мир Марка Твена. Очерк жизни и творчества. М., 1985.
9. Литературная история США: в 3 т. М., 1978. Т. 2—3.
10. Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. М., 1987.
11. Мендельсон М. Марк Твен. М., 1964.
12. Морозкина Е.А. Творчество Теодора Драйзера и литературное развитие США на рубеже XIX—XX веков. Уфа, 1994.
13. Николюкин А.н. Утраченные надежды (американская литература и крушение «американской мечты»). М., 1984.
14. Орлова Р. «Мартин Иден» Джека Лондона. М., 1967.
15. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли: в 3 т. Т. 3. М., 1963.
16. Селитрина Т.Л. Проблематика и поэтика романов Г. Джеймса 1890-х годов. Уфа, 1991.
17. Старцев А. Марк Твен и Америка. М., 1963.
Темы и планы практических занятий
Тема 1. Творчество Ги де Мопассана
Вариант 1
Поэтика романа Ги де Мопассана «Жизнь» и особенности творческого метода писателя
1. Эстетические принципы Г. де Мопассана. Статья «О романе» (Предисловие к роману «Пьер и Жан»).
2. Проблематика романа «Жизнь».
3. Тема разрушения «дворянских гнезд».
4. Конфликт и система образов.
5. Образ Жанны. Особенности психологизма в создании образа героини.
6. Тема природы и функции пейзажа.
7. Особенности композиции (принцип цикличности).
8. Концепция жизни в романе. Семантика названия.
9. Черты натурализма и реализма в творческом методе Г. де Мопассана.
Художественная литература
Ги де Мопассан. Жизнь (любое издание).
Исследовательская литература
1. Ги де Мопассан. О романе (Предисловие к роману «Пьер и Жан») // Хрестоматия по зарубежной литературе ХХ в.: в 3 т. / под ред. Б.И. Пуришева, Ы.П. Михальской. М., 1981. Т. 1. С. 31—38.
2. Вульфович Т.Л. Творчество Мопассана. М., 1962.
3. Данилин Ю. Жизнь и творчество Мопассана. М., 1963.
4. Евнина Е.М. Западно-европейский реализм на рубеже XIX—ХХ веков. М., 1967.
5. История всемирной литературы: в 9 т. Т. 7—8. М., 1991 – 1994.
6. Лозовецкий В.С. Творчество Мопассана. Ростов н/Д, 1974.
Вариант 2
Поэтика новеллы Ги де Мопассана «Пышка»
1. Новеллистика Ги де Мопассана:
а) основные темы;
б) художественное своеобразие.
2. История создания новеллы «Пышка».
3. Особенности композиции новеллы.
4. Конфликт и система образов в новелле.
5. Функция психологической детали.
6. Роль пейзажа в новелле.
7. Традиции французской новеллистики XIX века в новелле «Пышка».
Художественная литература
Г. де Мопассан. Пышка. Мадемуазель Фифи. В порту. Лунный свет. Ожерелье. Мать уродов. Прогулка. Орля (любые издания).
Исследовательская литература
1. Вульфович Т.Л. Творчество Мопассана. М., 1962.
2. Данилин Ю. Жизнь и творчество Мопассана. М., 1968.
3. Евнина Е.М. Западно-европейский реализм на рубеже XIX—ХХ веков. М., 1967.
4. Лану А. Мопассан. М., 1971.
5. Лозовецкий В.С. Творчество Мопассана. Ростов н/Д, 1974.
6. Флоровская О. Мопассан-новеллист. Кишинев, 1979.
Тема 2. Роман Эмиля Золя «Жерминаль» (К проблеме метода)
1. Натурализм как метод и литературное течение.
2. Концепция экспериментального романа Э. Золя.
3. Место романа «Жерминаль» цикле Э. Золя о Ругон-Макка-рах.
4. Замысел романа «Жерминаль» и его реализация.
5. Концепция личности у Э. Золя и ее художественное воплощение в романе.
6. Основная проблематика. Семантика названия.
7. Конфликт и система образов в романе.
8. Образ Этьена Лантье.
9. Образы отца и матери Маэ.
10. Трактовка категории «среда» в романе и изображение среды. Бальзаковские традиции у Э. Золя.
11. Особенности поэтики и метода Э. Золя:
а) функция детали в связи с теорией среды;
б) символические образы, лейтмотивы;
в) мифологические образы;
г) повествовательная манера и стиль;
д) сочетание натуралистического объективизма и романтического пафоса.
12. Влияние Э. Золя на западноевропейский и американский романы XX века.
Художественная литература
Э. Золя. Жерминаль (любое издание).
Исследовательская литература
1. Владимирова М.М. Романный цикл Э. Золя «Ругон-Маккары»: Художественное и идейно-философское единство. Саратов, 1984.
2. Емельяников С.П. «Ругон-Макары» Эмиля Золя. М., 1965.
3. Кучборская Е.П. Реализм Эмиля Золя: «Ругон-Маккары» и проблемы реалистического искусства XIX в. во Франции. М., 1973.
4. Мелик-Саркисова н.В. Концепция человека и творческий метод Э. Золя. Махачкала, 1975.
5. Роман Э. Золя «Жерминаль» // н.П. Михальская. Практические занятия по зарубежной литературе. М., 1981. С. 156—163.
6. Творчество Эмиля Золя и его роман «Жерминаль» // В.А. Луков. Зарубежная литература конца XIX – начала ХХ века: практикум.
М., 2002 .
7. Юльметова С.Ф. Поэтика мифа в романах Э. Золя // Поэтика реализма. Куйбышев, 1984.
Тема 3. Эстетика и поэтика французского символизма в поэме Артюра Рембо «Пьяный корабль»
1. А. Рембо: биография и творческая судьба.
2. История и время создания поэмы «Пьяный корабль».
3. Теория ясновидения Рембо, эстетические принципы и разнородность образов.
4. Путь «пьяного корабля».
5. Основные символические образы и мотивы. Образ «пьяного корабля» – поэта.
6. Характер символической образности:
а) суггестивность, ассоциативность;
б) теория соответствий;
в) эстетика безобразного;
г) музыкальность стиха.
7. Поэтика финала.
Художественная литература
Рембо А. Гласные. Пьяный корабль (любое издание).
Исследовательская литература
1. Рембо А. Письмо Полю Демени («письмо Ясновидящего») // Хрестоматия по зарубежной литературе ХХ в.: в 3 т. / под ред. Пуришева Б.И., Михальской н.П. М., 1981. Т. 1. С. 100.
2. Андреев Л.Г. Феномен Рембо // А. Рембо. Поэтические произведения в стихах и прозе: сб. М., 1988.
3. Балашов н.И. Рембо и связь двух веков поэзии // А. Рембо. Стихотворения. М., 1982.
4. Витковский Е.В. У входа в лабиринт. Одиссея в восьми … капканах о неблагополучном плавании «Пьяного корабля» Артюра Рембо по волнам русской поэзии на протяжении более чем трех четвертей столетия (1909—1986) // Литературная учеба. 1986. № 2. С. 199—211.
5. Косиков Г.К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора / сост., общ. ред., вступ. ст. Г.К. Косикова. М., 1993. С. 5—62.
6. Обломиевский Д. Французский символизм. М., 1973
7. Сурова О.Ю. Артюр Рембо: алхимия слова // Сквозь шесть столетий. К 75-летию Л.Г. Андреева. М., 1997.
8. Сурова О.Ю. Перекресток Артюра Рембо: жизнь и текст на рубеже веков // На границах литературных эпох (от литературы средневековья до современности). М., 1998.
тема 4. Жанровые особенности романа Анатоля Франса «Остров пингвинов»
1. Идейный замысел и проблематика романа.
2. Особенности сюжета и композиции:
а) пародийный элемент;
б) учебник истории Пингвинии;
в) «сатира на все человечество».
3. Объекты сатирического изображения:
а) церковь, религиозные догмы в романе;
б) возникновение цивилизации;
в) возникновение государства и частной собственности;
г) политика;
д) природа и происхождение человека.
4. Концепция истории. Поэтика финала.
5. Жанровый скептицизм романа.
Художественная литература
А. Франс. Остров пингвинов (любое издание).
Исследовательская литература
1. Дынник В. Анатоль Франс. М.; Л., 1934.
2. Лиходзиевский С. Анатоль Франс. Очерк творчества. Ташкент, 1962.
3. Трыков В. Франс // Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь: в 2 ч. Ч. 2. М., 1997. С. 363—366.
4. Фрид Я. Анатоль Франс и его время. М, 1975.
5. Юльметова С.Ф. Анатоль Франс и некоторые вопросы эволюции реализма. Саратов, 1978.
Тема 5. Творчество Генрика Ибсена
Вариант 1
Поэтика драмы Генрика Ибсена «Пер Гюнт»
1. Время создания драматической поэмы «Пер Гюнт», ее переходный характер (от романтизма к реализму).
2. Сюжетно-композиционные особенности драмы. Развитие конфликта. Хронотоп.
3. Образ главного героя, особенности его трактовки: тема человеческого призвания и ее реализация в характере героя; двойственность: романтическое и реалистическое содержание образа Пера Гюнта.
4. Художественные особенности драмы:
а) фольклорные образы и мотивы;
б) символические образы;
в) философское содержание драмы в фольклорных и символических образах.
5. Поэтика финала.
Художественная литература
Г. Ибсен. Пер Гюнт (любое издание).
Исследовательская литература
1. Адмони В.Г. Генрик Ибсен. М., 1989.
2. Берковский Н.Я. Ибсен // Статьи о литературе. М.; Л., 1962. То же: Берковский Н.Я. Ибсен // Лекции и статьи по зарубежной литературе. СПб., 2002.
3. Неустроев В.П. Литература скандинавских стран (1870—1970). М., 1980.
4. Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975.
5. Храповицкая Г.Н. Ибсен и западно-европейская драма его времени. М., 1979.
Вариант 2
Реалистическая социально-психологическая драма Генрика Ибсена «кукольный дом»
1. Европейская драматургия на рубеже XIX—ХХ веков: «новая драма» (Г. Ибсен, Б. Шоу, Г. Гауптман) и «хорошо сделанные» пьесы (Э. Скриб).
2. Драма идей. Проблемная драма.
3. Проблематика пьесы «Кукольный дом». Семантика названия.
4. Сюжетно-композиционные особенности: аналитическая / ретроспективная композиция.
5. Особенности конфликта:
а) развитие внешней стороны конфликта, ее содержание;
б) развитие внутренней стороны конфликта, ее содержание;
в) сюжетное развитие действия и конфликт, этапы развития конфликта, роль сюжетных тайн.
6. Особенности психологизма:
а) образ Норы;
б) подтекст и средства его создания (особенности диалога, монолога, ремарок, жестов);
в) реалистическая символика и ее функции в пьесе.
7. Поэтика финала.
Художественная литература
Г. Ибсен. Кукольный дом (любое издание)
Исследовательская литература
1. Адмони В.Г. Генрик Ибсен и его творческий путь // Г. Ибсен. Драмы. Стихотворения. М., 1972.
2. Адмони В.Г. Генрик Ибсен: очерк творчества. М., 1989.
3. Неустроев В. Литература Скандинавии (1870—1970). М., 1985.
4. Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975.
5. Храповицкая Г.Н. Ибсен и западно-европейская драма его времени. М., 1979.
Вариант 3
Эволюция жанра и метода в поздней драматургии генрика Ибсена («Дикая утка»)
1. Характеристика поздней драматургии Г. Ибсена («Дикая утка», «Гедда Габлер», «Строитель Сольнес», «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»).
2. Особенности проблематики (углубление психологического аспекта) пьесы «Дикая утка». Семантика названия.
3. Сюжетно-композиционные особенности и конфликт, его трагическое содержание.
4. Система образов и развитие конфликта.
5. Психологизм в создании образов.
6. Символические образы и мотивы. Характер символики.
7. Поэтика финала.
Художественная литература
Г. Ибсен. Дикая утка (любое издание).
Исследовательская литература
1. Адмони В.Г. Генрик Ибсен и его творческий путь // Г. Ибсен. Драмы. Стихотворения. М., 1972.
2. Адмони В.Г. Генрик Ибсен: очерк творчества. М., 1989.
3. Берковский Н. Я. Ибсен // Статьи о литературе. М.; Л., 1962. То же: Берковский Н.Я. Ибсен // Лекции и статьи по зарубежной литературе. СПб., 2002.
4. Неустроев В.П. Литература скандинавских стран (1870—1970). М.,
1980.
5. Хейберг Х. Генрик Ибсен. М., 1975.
6. Храповицкая Г.Н. Ибсен и западно-европейская драма его времени. М., 1979.
Тема 6. Эстетическая концепция Оскара Уайльда в романе «Портрет Дориана Грея»
1. Место романа «Портрет Дориана Грея» в творчестве О. Уайльда.
2. История создания романа.
3. Эстетическая система О. Уайльда (статьи: «Упадок лжи», «Критик как художник», «Кисть, перо и отрава», предисловие к роману «Портрет Дориана Грея»):
а) соотношение искусства и жизни, слова и действия;
б) понятие искусства и красоты;
в) о «бесполезности» искусства, функции искусства;
г) связь эстетического и этического, аморальность искусства.
4. Реализация эстетической системы О. Уайльда:
а) основная проблематика романа;
б) тема искусства в романе;
в) идейное значение образов Бэзила Холлуорда и Сибиллы Вейн;
г) идейная и композиционная роль образа лорда Генри;
д) тема красоты в романе;
е) сущность трагедии Дориана Грея.
5. Авторская позиция в романе. Особенности ее идейного звучания.
6. Особенности поэтики романа:
а) декоративный стиль романа и его функции;
б) фантастический элемент;
в) литературные и мифологические аллюзии;
г) парадокс, виды парадокса, роль парадокса в романе.
Художественная литература
1. О. Уайльд. Портрет Дориана Грея (любое издание).
2. О. Уайльд. Статьи: «Упадок лжи», «Кисть, перо и отрава» (любое издание).
Исследовательская литература
1. Акимова О.В. Этика и эстетика Оскара Уайльда. СПб., 2008.
2. Аникст А.А. Оскар Уайльд // О. Уайльд. Избранные произведения: в 2 т. М., 1960.
3. Аствацатуров А.А. Эстетизм и Оскар Уайльд // История западноевропейской литературы. XIX век / под ред. Л.В. Сидорченко и
И.И. Буровой. СПб.; М., 2004. С. 498—524.
4. Ланглад Ж. де. Оскар Уайльд, или Правда масок. М., 1999.
5. Соколянский М.П. Оскар Уайльд. Очерк творчества. Киев; Одесса, 1990.
6. Урнов М.В. Ужасные дети // М.В. Урнов. На рубеже веков. Очерки английской литературы. М., 1970.
7. Федоров А.А. Эстетизм и художественные поиски в английской прозе последней трети XIX века. Уфа, 1993.
8. Чуковский К. Оскар Уайльд // К. Чуковский. Люди и книги. М., 1960.
9. Эллманн Р. Оскар Уайльд. М., 2000.
10. Яковлев Д.Е. Философия эстетизма. М., 1999.
Тема 7. Проблематика и поэтика повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы»
1. Неоромантизм в английской литературе конца XIX в. и творчество Д. Конрада. Характеристика метода.
2. Влияние философии А. Шопенгауэра на мировоззрение и творчество Д. Конрада.
3. Социальная и философская проблематика повести «Сердце Тьмы».
4. Семантика названия.
5. Образы Марлоу и Курца.
6. Художественные особенности повести:
а) инверсия времени;
б) прием «точки зрения»;
в) символические образы (корабль, город, тьма, река, туман, лес);
г) мифологические образы (Мойры / Парки, Стикс, мир мертвых);
д) аллюзии к «Божественной комедии» Данте Алигьери.
7. Концепция мира и человека.
8. Экранизация повести Ф.Ф. Копполой (фильм «Апокалипсис сегодня»).
Художественная литература
Д. Конрад. Сердце Тьмы (любое издание).
Исследовательская литература
1. Аствацатуров А.А. Джозеф Конрад // История западноевропейской литературы. XIX век: Англия / под ред. Л.В. Сидорченко и И.И. Буровой. СПб.; М., 2004.
2. Дьяконова н.Л. Стивенсон и английская литература XIX в. Л., 1984.
3. Попова И.Ю. Английский роман: от Т. Харди до Д.Г. Лоренса // Зарубежная литература конца XIX – начала XX века / под ред. В.М. Толмачева. М., 2003.
4. Соловьева н.А. От викторианства к ХХ веку // Зарубежная литература ХХ века / под ред. Л. Г. Андреева. М., 1996.
5. Толмачев В.М. неоромантизм и английская литература начала ХХ века // Зарубежная литература конца XIX – начала XX века / под ред. В.М. Толмачева. М., 2003.
6. Урнов Д.М. Джозеф Конрад. М., 1977.
7. Урнов М.В. на рубеже веков: Очерки английской литературы. М., 1970.
8. Царик М. Типология неоромантизма. М., 1986.
тема 8. Творчество Бернарда Шоу
Вариант 1
Драматургический метод Бернарда Шоу в пьесе «Профессия миссис Уоррен»
1. Европейская драматургия на рубеже XIX—ХХ веков: «новая драма» (Г. Ибсен, Б. Шоу, Г. Гауптман) и «хорошо сделанные» пьесы (Э. Скриб).
2. Драматургические принципы Б. Шоу (книга «Квинтэссенция ибсенизма»).
3. Особенности проблематики пьесы «Профессия миссис Уоренн» («проблемная драма»). Цикл «неприятные пьесы».
4. Особенности конфликта («драма идей», пьеса-дискуссия).
5. Система образов и развитие конфликта:
а) образ миссис Уоррен;
б) образ Виви Уоррен («герой-реалист»);
в) образ Джорджа Крофтса.
6. Парадокс как основа творческого метода Б. Шоу:
а) парадокс ситуации;
б) парадокс характера;
в) лексический парадокс.
7. Поэтика финала.
Художественная литература
Б. Шоу. Профессия миссис Уоррен (любое издание).
Исследовательская литература
1. Б. Шоу о драме и театре. М., 1965.
2. Писатели Англии о литературе ХШ—ХХ веков. М., 1983.
3. Образцова А.Г. Драматургический метод Б. Шоу. М., 1965.
4. Ромм А.С. Бернард Шоу. Л., 1957.
Вариант 2
Жанровые особенности пьесы Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца»
1. Европейская драматургия на рубеже XIX—ХХ веков: «новая драма» (Г. Ибсен, Б. Шоу, Г. Гауптман) и «хорошо сделанные» пьесы (Э. Скриб).
2. Драма идей. Проблемная драма.
3. Особенности проблематики пьесы «Дом, где разбиваются сердца». Семантика названия.
4. Смысл подзаголовка пьесы. Чеховские мотивы.
5. Авторское предисловие к пьесе: композиция, содержательные задачи, эстетические функции.
6. Содержание и проблематика конфликта. Тема английской интеллигенции в пьесе. Оппозиция «лошадники» / «невротики».
7. Художественное время и пространство пьесы.
8. Система образов: особенности характерологии. Образ капитана Шотовера. Парадокс в создании характеров.
9. Символические образы и мотивы, их роль в раскрытии идейного содержания. Образ «Дома-корабля».
10. Поэтика финала.
11. Новаторство Б. Шоу – драматурга.
Художественная литература
Б. Шоу. Дом, где разбиваются сердца. Предисловие к пьесе.
Исследовательская литература
1. Балашов П.С. Художественный мир Бернарда Шоу. М., 1982.
2. Бернард Шоу о драме и театре. М., 1965.
3. Деннингхаус Ф. Театральное призвание Бернарда Шоу. М., 1978.
4. История всемирной литературы: в 9 т. Т. 6. М., 1991 – 1994.
5. Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX—XX веков. М, 1974.
6. Образцова А.Г. Драматургический метод Б. Шоу. М.; Л., 1965.
7. Ромм А.С. Бернард Шоу. Л., 1957.
тема 9. Творчество Марка Твена
Вариант 1
Жанровое своеобразие романа Марка Твена «Янки при дворе короля Артура»
1. Место романа «Янки при дворе короля Артура» в творчестве М. Твена.
2. Социально-философская проблематика романа.
3. Трактовка исторической темы в романе, традиции исторического жанра:
а) изображение средневековой Англии;
б) образы рыцарей;
в) образ короля Артура.
4. Роль пародийного и фантастического начал в романе.
5. Социальный анализ американской действительности конца XIX в. в романе, сатирическая направленность.
6. Концепция мира и человека в романе.
7. «Янки при дворе короля Артура» как явление жанрового синкретизма.
Художественная литература
М. Твен. Янки при дворе короля Артура (любое издание).
Исследовательская литература
1. Зверев А.М. Мир Марка Твена. Очерк жизни и творчества. М., 1985.
2. Мендельсон М. Марк Твен. М., 1964.
3. История американской литературы: в 2 т. Т. 1. М., 1971.
4. История всемирной литературы: в 9 т. Т. 8. М., 1991 – 1994.
5. Шемякин А.М. Историческая проза Марка Твена // Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. М., 1987.
Вариант 2
Позднее творчество Марка Твена (Повесть «таинственный незнакомец»)
1. Характеристика позднего творчества М. Твена:
а) эволюция мировоззрения (крах демократических идеалов);
б) трансформация природы комического;
в) появление трагических мотивов.
2. История создания повести, разные версии сюжета.
3. Философская проблематика повести.
4. Сюжетно-композиционные особенности.
5. Художественное время и пространство повести.
6. Образ Сатаны.
7. Концепция мира и человека.
Художественная литература
1. М. Твен. Таинственный незнакомец (перевод А.И. Старцева) // Марк Твен. Собрание сочинений: в 12 т. Том 9. М., 1961. С. 567—674.
2. М. Твен. № 44, таинственный незнакомец (перевод Л. Биндеман) // М. Твен. Таинственный незнакомец. М., 1989.
Исследовательская литература
1. Зверев А.М. Мир Марка Твена. Очерк жизни и творчества. М., 1985.
2. Зверев А.М. Последняя повесть Марка Твена // Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. М., 1987.
3. Зверев А.М. Философская проза Марка Твена // М. Твен. Таинственный незнакомец. М., 1989.
4. Морозова Т.Л. Проблема трагического в творчестве Марка Твена // Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. М., 1987.
5. Старцев А.И. Марк Твен и Америка // М. Твен. Собр. соч.: в 8 т. Т. 1. М., 1980.
6. Шогенцукова Ы.А. Антиутопическое начало в позднем творчестве Марка Твена и современная антиутопия // Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. М., 1987.
Тема 10. Поэтика романа Теодора Драйзера «Американская трагедия» (К проблеме метода и жанра)
1. Замысел и история создания романа Т. Драйзера «Американская трагедия».
2. Проблематика романа. Тема «американской мечты» в литературе США конца XIX – начала XX в.
3. Семантика названия.
4. Образ Клайда Гриффитса, его особенности:
а) типичность, «усредненность» по сравнению с героями других романов Т. Драйзера (Дженни Герхарт, Френк Каупервуд);
б) социал-дарвинистские мотивы в создании образа;
в) социальный и психологический детерминизм в образе героя;
г) разрушительное влияние «американской мечты» на личность и судьбу героя;
д) развитие образа Клайда Гриффитса.
5. Образы Роберты Олден и Сондры Финчли:
а) контрастное сопоставление;
б) значение образов в раскрытии темы «американской мечты».
6. Сюжетно-композиционные особенности романа:
а) кольцевая композиция романа, ее функция в решении темы;
б) поэтика финала.
Художественная литература
Теодор Драйзер. Американская трагедия (любое издание).
Исследовательская литература
1. Батурин С.С. Драйзер. М., 1971.
2. Засурский Я.Ы. Американская литература XX века. М., 1966.
3. Засурский Я.Ы. Теодор Драйзер. М., 1964.
4. Зверев А.М. Американский роман 20—30-х годов. М., 1982.
5. Литературная история США: в 3 т. Т. 3. М., 1967.
6. Мендельсон М.О. «Американская трагедия» Теодора Драйзера. М., 1971.
7. Николюкин А.Ы. Утраченные надежды (американская литература и крушение «американской мечты»). М., 1984.
8. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли: в 2 т. Т. 1. М., 1963.
9. Старцев А.И. От Уитмена до Хемингуэя. М., 1981.
Вопросы к зачету (экзамену)
1. Общие тенденции развития зарубежной литературы в конце XIX – начале XX века.
2. Французский натурализм: философские и литературные истоки, периодизация, основные черты.
3. Проблема творческого метода и особенности поэтики Э. Золя.
4. Замысел и композиция цикла о Ругон-Маккарах Э. Золя.
5. Эстетика французского символизма.
6. Творчество П. Верлена: периодизация, специфика верленовского символизма (лирический символизм), художественное новаторство.
7. Творчество А. Рембо: периодизация, тематика, художественное новаторство.
8. Творчество С. Малларме: периодизация, эстетические принципы.
9. Особенности творческого метода Г. де Мопассана.
10. Роман Г. де Мопассана «Жизнь»: философское и социальное содержание, особенности психологизма.
11. Роман Г. де Мопассана «Милый друг»: жанровые особенности, проблематика.
12. Новеллистика Г. де Мопассана: тематика, художественное своеобразие.
13. Эволюция творческого метода А. Франса.
14. Поэтика романа А. Франса «Остров пингвинов».
15. Лирика Э. Верхарна: новаторство, основные мотивы.
16. Драматургия М. Метерлинка: эстетические принципы, художественное своеобразие.
17. Творчество Р.М. Рильке: новаторство, тематика.
18. Творчество Г. Гауптмана: философско-эстетические взгляды, особенности художественного метода, тематика.
19. Эволюция творческого метода Г. Ибсена.
20. Драма Г. Ибсена «Пер Гюнт»: философское содержание, художественные особенности.
21. Новаторство социально-психологической драмы Г. Ибсена.
22. Творчество К. Гамсуна: периодизация, концепция субъективной прозы, основные элементы стиля.
23. Творчество А. Стриндберга: новаторство, специфика философско-эстетических взглядов, многожанровость.
24. Английский эстетизм: концепция искусства и красоты (Д. Раскин, У. Пейтер, О. Уайльд).
25. Эстетическая теория О. Уайльда в романе «Портрет Дориана Грея».
26. Неоромантизм: концепция мира, тип героя.
27. Творчество Р. Киплинга: основная тематика, жанровое многообразие, художественное новаторство.
28. Творчество Д. Конрада: проблематика и поэтика.
29. Творчество Т. Гарди: особенности поэтики, проблематика, концепция трагического.
30. Творчество Д. Голсуорси: проблематика, особенности реалистической поэтики. Традиции и новаторство.
31. Специфика творческого метода Г. Уэллса (на примере любого романа).
32. Особенности поздней фантастики Г. Уэллса.
33. Драматургия Б. Шоу: традиция и новаторство, типология героев.
34. Поэтика поздней драмы Б. Шоу.
35. Эволюция творчества М. Твена.
36. Новаторство романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна», его значение для литературы США.
37. Трагические мотивы в позднем творчестве М. Твена.
38. Психологическая проза Г. Джеймса: тематика, особенности повествования.
39. Новеллистика Д. Лондона: тематика, типология героев.
40. Тип героя и характер конфликта в романе Д. Лондона «Мартин Иден».
41. Особенности творческого метода Т. Драйзера.
42. Тип героя и характер конфликта в романе Т. Драйзера «Американская трагедия».
Хрестоматия
Историко-литературные материалы
Ипполит Тэн[11] История английской литературы
Введение. Раздел V (в сокращении)
Возникновению <...> первоначального нравственного состояния содействуют три различных источника: раса, среда и момент. Под словом раса мы разумеем то врожденное наследственное предрасположение, которое человек вносит за собой в мир и которое обыкновенно сопровождается явственными отклонениями, смотря по темпераменту и организму. Оно меняется для каждого. Разновидности, естественно, бывают и между людьми, как бывают между быками и лошадьми. Есть разновидности энергические и умные, есть тихие и ограниченные: одни способны на высшее понимание и творчество, другие осуждены довольствоваться начальными идеями и открытиями. <… > Тут, очевидно, есть сила, обозначенная до такой степени ярко, что несмотря на значительные отклонения, сообщаемые двумя другими двигателями, она все-таки остается преобладающей, и какая-нибудь раса, как, например, древний арийский народ, рассеянный от Ганга до Гебридов, поселившийся во всех климатах, стоящий на всех ступенях цивилизации, преобразованный тридцатьювековой революцией, все-таки обнаруживает в своих языках, религиях, литературах и философиях кровное и духовное родство, связывающее и до сих пор его отрасли. <… > Таков первый и самый изобильный источник основных свойств, дающих начало историческим событиям, и если его сила бросается в глаза с первого раза, то потому, что он не простой источник, а нечто вроде озера или глубокого бассейна, куда вливали воды свои остальные источники в продолжении неисчислимого ряда веков.
Определив таким образом внутреннюю структуру расы, необходимо рассмотреть среду, в которой раса эта живет, потому что человек не один в мире. Его окружает природа и другие люди. на первобытный и постоянный склад ума ложатся случайные и второстепенные обстоятельства, а физические или социальные условия изменяют или пополняют природный характер. Иногда влияет климат. <...> Присмотритесь внимательнее к регулирующим инстинктам и коренным способностям какой-нибудь расы, – другими словами, к тому умственному направлению, в силу которого эта раса теперь думает и действует, – чаще всего вы откроете в нем результат одного из этих долговременных положений, тех окружающих обстоятельств, тех постоянных и колоссальных давлений, которые действовали на людей, как в общей их массе, так и на каждого порознь, не переставали гнуть и клонить их своим усилием из поколения в поколение. <...>
Существует, однако ж, третий род причин, потому что рядом с внешними и внутренними силами существует еще произведение, созданное их соединенным усилием, которое, в свою очередь, участвует в совершении последующего произведения. Кроме постоянного импульса и данной среды, есть еще приобретенная скорость. Когда действуют национальный характер и окружающие обстоятельства, то действуют не на чистую страницу, но на страницу, где уже обозначены отпечатки. Смотря по тому, в тот или другой момент берете вы страницу – отпечаток на ней будет различен, а довольно этого, чтобы общий результат был различен. Возьмите, например, два момента какой-нибудь литературы или искусства – французскую трагедию при Корнеле и при Вольтере, греческий театр при Эсхиле и при Еврипиде, латинскую поэзию при Лукреции и при Клавдиане[12], итальянскую живопись при Винчи и при Гвидо[13]. Конечно, в каждой из этих крайних точек общая концепция не изменилась, – задача состоит в изображении кистью и пером все того же человеческого тела; форма стиха, постройка драмы, тип тела – все это осталось. но в числе прочих различий не последнюю роль играет уже то, что один из художников предшественник, а другой последователь <...>. В каждой из <… > эпох господствовала известная преобладающая концепция; люди в продолжение двухсот или пятисот лет стремились к известному идеалу человека: в средних веках к идеалу рыцаря и монаха, в наш классический век к идеалу царедворца и краснобая. Эта творческая и мировая идея захватывала всю среду деятельности и мысли и, покрыв мир своими невольно систематическими произведениями, ослабела, потом исчезла, а на ее место выступила новая идея, предназначенная на такое же безраздельное преобладание и на такое же многообразное творчество. Согласитесь, что вторая идея зависит частью от первой и что первая, соединяя свое действие с проявлениями национального духа и окружающих обстоятельств, придаст возникающему порядку свое направление и свою форму. <… > …Хотя средства изучения неодинаковы в нравственных и физических науках, тем не менее материал обеих один и тот же и состоит равным образом из сил, направлений и величин, а потому у тех и у других окончательный вывод получается решением того же правила (окончательный итог есть сумма данных, вполне определяемых величиною и направлением производящих сил. – Из опущенного текста. – Состав.). Вывод бывает более или менее – смотря по тому, велики или малы основные силы и более или менее направлены они в одну сторону, а также смотря по тому, соединяются ли различные действия расы, среды и момента для взаимного действия или для взаимного уничтожения друг друга. Этим именно путем объясняется продолжительное бессилие или блестящий успех, обнаруживающиеся неправильно и без видимой причины в жизни народа; причины их кроются во внутреннем совпадении или противоречии. Таково было совпадение, когда в семнадцатом столетии общительный характер и врожденная разговорная наклонность во Франции встретились с салонными привычками и моментом ораторского анализа; когда в девятнадцатом веке гибкий и глубокий германский ум встретился с эпохой философских синтезов и космополитической критики. Таково было противоречие, когда в семнадцатом столетии грубоватый и объединившийся английский ум неловко опробовал усвоить себе новейшую вежливость, когда в шестнадцатом столетии светлый и прозаический французский ум бесполезно пытался возродить живую поэзию. <… > Можно с полнейшим убеждением сказать, что неизвестное творчество, к которому уносит нас течение времени, будет всецело вызвано и управляемо тремя основными началами <...>, что если мы <… > желали бы теперь составить себе некоторое понятие о своей будущей судьбе, то наши предположения должны непременно основываться на рассмотрении этих сил; потому что, исчисляя их, мы берем полный круг действующих сил, и, рассмотрев расу, среду, момент, т.е. внутреннее побуждение, давление извне и приобретенную скорость, мы тем самым не только исчерпаем все действительные, но даже и все возможные причины движения.
Эмиль Золя Предисловие к циклу «Ругон-Маккары»
Я хочу показать небольшую группу людей, ее поведение в обществе, показать, каким образом, разрастаясь, она дает жизнь десяти, двадцати существам, на первый взгляд глубоко различным, но, как свидетельствует анализ, близко связанным между собой. наследственность, подобно силе тяготения, имеет свои законы.
Для разрешения двойного вопроса, о темпераментах и среде, я попытаюсь отыскать и проследить нить, математически ведущую от человека к человеку. И когда я соберу все нити, когда в моих руках окажется целая общественная группа, я покажу ее в действии, как участника исторической эпохи, я создам ту обстановку, в которой выявится сложность взаимоотношений, я проанализирую одновременно и волю каждого из ее членов и общий напор целого.
Ругон-Маккары, та группа, та семья, которую я собираюсь изучать, характеризуется безудержностью вожделений, мощным стремлением нашего века, рвущегося к наслаждениям. В физиологическом отношении они представляют собой медленное чередование нервного расстройства и болезней крови, проявляющихся из рода в род, как следствие первичного органического повреждения; они определяют, в зависимости от окружающей среды, чувства, желания и страсти каждой отдельной личности – все естественные и инстинктивные проявления человеческой природы, следствия которых носят условные названия добродетелей и пороков. Исторически эти лица выходят из народа, они рассеиваются по всему современному обществу, добиваются любых должностей в силу того глубоко современного импульса, какой получают низшие классы, пробивающиеся сквозь социальную толщу. Своими личными драмами они повествуют о Второй империи, начиная от западни государственного переворота и кончая седанским предательством.
В течение трех лет я собирал материалы для моего большого труда, и этот том был уже написан, когда падение Бонапарта, которое нужно было мне как художнику и которое неизбежно должно было по моему замыслу завершить драму, – на близость его я не смел надеяться, – дало мне жестокую и необходимую развязку. Итак, мой труд закончен, он движется в замкнутом кругу; он превращается в картину умершего царствования, необычайной эпохи безумия и позора.
Этот труд, включающий много эпизодов, является в моем представлении естественной и социальной историей одной семьи в эпоху Второй империи. И первый из эпизодов, «Карьера Ругонов», имеет научное название «Происхождение».
Эмиль Золя Париж, 1 июля 1871 года.
Эмиль Золя Экспериментальный роман (Отрывки)
<...> Прежде всего напрашивается следующий вопрос: возможен ли эксперимент в литературе? Ведь до сих пор в ней применялось только наблюдение. <… >
Я не имею возможности следовать за Клодом Бернаром[14] в его разборе различных определений эксперимента и наблюдения, существовавших до сего времени. Как я уже говорил, он приходит к заключению, что, по сути дела, эксперимент есть сознательно вызванное наблюдение. <… > В общем, можно сказать, что наблюдение «показывает», а эксперимент «учит».
Ну что ж, обратившись к роману, мы и тут увидим, что романист является и наблюдателем и экспериментатором. В качестве наблюдателя он изображает факты такими, какими он наблюдал их, устанавливает отправную точку, находит твердую почву, на которой будут действовать его персонажи и развертываться события. Затем он становится экспериментатором и производит эксперимент – т.е. приводит в движение действующие лица в рамках того или иного произведения, показывая, что последовательность событий в нем будет именно такая, какую требует логика изучаемых явлений. <… > Конечная цель – познание человека, научное познание его как отдельного индивидуума и как члена общества. <…. >
Нам, писателям-натуралистам, бросают нелепый упрек – будто мы хотим быть только фотографами. Никто не слушает наших утверждений, что мы принимаем в расчет и темперамент, и другие проявления личности человека, нам продолжают приводить в ответ дурацкие доводы, говорят о невозможности рисовать точнейшим образом действительность и о необходимости «аранжировать» факты, чтобы создать хоть сколько-нибудь художественное произведение. Ну что ж, примените в романе экспериментальный метод, и все разногласия исчезнут. Идея эксперимента влечет за собой идею модификации. Мы исходим из подлинных фактов, действительность – вот наша несокрушимая основа; но чтобы показать механизм фактов, нам нужно вызывать и направлять явления, и тут мы даем волю своей творческой фантазии. <...>
Не решаясь формулировать законы, я все же полагаю, что наследственность оказывает большое влияние на интеллект и страсти человека. Я придаю также важное значение среде. <...> Человек существует не в одиночку, он живет в обществе, в социальной среде, и мы, романисты, должны помнить, что эта социальная среда непрестанно воздействует на происходящие в ней явления. Главная задача писателя как раз и состоит в изучении взаимного воздействия – общества на индивидуум и индивидуума на общество. <...>
Итак, я пришел к следующим выводам: экспериментальный роман есть следствие научной эволюции нашего века; он продолжает и дополняет работу физиологии, которая сама опирается на химию и физику; он заменяет изучение абстрактного, метафизического человека изучением человека подлинного, созданного природой, подчиняющегося действию физико-химических законов и определяющему влиянию среды; словом, экспериментальный роман – это литература, соответствующая нашему веку науки, так же как классицизм и романтизм соответствовали веку схоластики и теологии. <...>
Экспериментальный метод в физиологии и в медицине служит определенной цели: он помогает изучать явления, для того чтобы господствовать над ними. <...> Мы стремимся к той же цели, мы тоже хотим овладеть проявлениями интеллекта и других свойств человеческой личности, чтобы иметь возможность направлять их. Одним словом, мы – моралисты-экспериментаторы, показывающие путем эксперимента, как действует страсть у человека, живущего в определенной социальной среде. Когда станет известен механизм этой страсти, можно будет лечить от нее человека, ослабить ее или, по крайней мере, сделать безвредной. Вот в чем практическая полезность и высокая нравственность наших натуралистических произведений, которые экспериментируют над человеком, разбирают на части и вновь собирают человеческую машину, заставляя ее функционировать под влиянием той или иной среды. Настанет время, когда мы будем знать эти законы, и нам достаточно будет воздействовать на отдельную личность и на среду, в которой она живет, чтобы достигнуть наилучшего состояния общества. Итак, мы, натуралисты, занимаемся практической социологией и своими трудами помогаем политическим и экономическим наукам. <...>
Перейду к важному обвинению в фатализме, которое критики считают себя вправе предъявлять писателям-натуралистам. Сколько раз нам пытались доказать, что, поскольку мы не принимаем принципа свободы воли, а человек для нас – живая машина, действующая под влиянием наследственности и среды, то мы впадаем в грубый фатализм, низводим человечество до положения стада, которое бредет под палкой судьбы! Тут нужно внести ясность: мы не фаталисты, мы детерминисты, а это не одно и то же. Клод Бернар прекрасно объясняет оба эти термина: «Мы называем детерминизмом непосредственную причину или определяющее условие явлений. Никогда нам не приходится воздействовать на сущность явлений природы, а только на их непосредственную причину, и уж тем самым, что мы воздействуем на нее, детерминизм отличается от фатализма, где никакое воздействие невозможно. Фаталисты полагают, что явление возникает неизбежно и независимо от определяющих его условий, тогда как детерминисты утверждают, что явление возникает не по воле судьбы, а при наличии необходимых для него условий».
Я говорил лишь об экспериментальном романе, но я твердо убежден, что самый метод, уже восторжествовавший в истории и в критике, восторжествует повсюду – в театре и даже в поэзии. Это неизбежная эволюция. Что бы ни говорили о литературе, она тоже не вся в писателе – она также и в натуре, которую он описывает, и в человеке, которого он изучает. <...> Метафизический человек умер, все наше поле наблюдений преобразилось, когда на него вступил живой человек, интересный и для физиолога. Разумеется, гнев Ахилла, любовь Дидоны останутся вечно прекрасными картинами; но вот у нас появилась потребностьпроанализировать и гнев и любовь, увидеть, как действуют эти страсти в человеческом существе. Совсем новая точка зрения – и роман становится экспериментальным вместо философского. В общем, все сводится к великому факту: экспериментальный метод в литературе, как и в науке, находит сейчас определяющие условия природных явлений, событий личной и социальной жизни, которым метафизика давала до сих пор лишь иррациональные и сверхъестественные объяснения.
Ги де Мопассан О романе (Предисловие к роману «Пьер и Жан»)
<...> Каковы основные признаки критика?
От критика требуется, чтобы он, без предвзятости, без заранее принятого решения, не поддаваясь влиянию той или иной школы и независимо от связей с какой бы то ни было группой художников, умел понимать, различать и объяснять все самые противоречивые стремления, самые противоположные темпераменты и признавать закономерность самых разнообразных художественных исканий. <… >
Вот почему тот критик, который после «Манон Леско», «Поля и Виржини», «Дон Кихота», «Опасных связей», «Вертера», «Избирательного сродства», «Клариссы Гарло», «Эмиля», «Кандида», «Сен-Мара», «Рене», «Трех мушкетеров», «Мопра», «Отца Горио», «Кузины Беты», «Коломбы», «Красного и Черного», «Мадемуазель де Мопен», «Собора Парижской богоматери», «Саламбо», «Госпожи Бовари», «Адольфа», «Господина де Камор», «Западни», «Сафо»[15] и т.д. еще позволяет себе писать: «То – роман, а это – не роман», – кажется мне одаренным проницательностью, весьма похожей на некомпетентность.
Обычно такой критик понимает под романом более или менее правдоподобное повествование по образцу театральной пьесы в трех действиях, из которых первое содержит завязку, второе – развитие действия и третье – развязку.
Подобная форма композиции вполне приемлема при том условии, что одинаково допустимы и все остальные.
В самом деле, существуют ли правила, как писать роман, при несоблюдении которых произведение должно называться по-другому?
Если «Дон Кихот» – роман, то роман ли «Западня»? Можно ли провести сравнение между «Избирательным сродством» Гете, «Тремя мушкетерами» Дюма, «Госпожой Бовари» Флобера, «Господином де Камор» г-на О. Фейе и «Жерминалем» г-на Золя? Какое из этих произведений – роман? Каковы эти пресловутые правила? Откуда они взялись? Кто их установил? По какому принципу, по чьему авторитету, по каким соображениям?
Однако критикам этим как будто самым доподлинным и неоспоримым образом известно, что именно составляет роман и чем он отличается от другого произведения, которое не роман. Попросту же говоря, все дело в том, что, не будучи сами художниками, они примкнули к определенной школе и, по примеру ее представителей – романистов, отвергают все произведения, задуманные и выполненные вне их эстетических правил.
Проницательному критику, напротив, следовало бы выискивать именно то, что менее всего напоминает уже написанные романы, и по возможности толкать молодежь на поиски новых путей.
Все писатели, и Виктор Гюго и г-н Золя, настойчиво требовали абсолютного, неоспоримого права творить, т.е. воображать или наблюдать, следуя своему личному пониманию задач искусства. Талант порождается оригинальностью, которая представляет собой особую манеру мыслить, видеть, понимать и оценивать. И критик, пытающийся определить существо романа соответственно представлению, составленному по романам, которые ему нравятся, и установить некие незыблемые правила композиции, всегда обречен бороться против темперамента художника, работающего в новой манере. Критику же, безусловно достойному этого имени, следовало бы быть только аналитиком, чуждым тенденций, предпочтений, страстей, и, подобно эксперту в живописи, оценивать лишь художественную сторону рассматриваемого им произведения искусства. Способность понимать решительно все должна настолько господствовать у него над личными вкусами, чтобы он мог отмечать и хвалить даже те книги, которые ему как человеку не нравятся, но которым он отдает должное в качестве судьи.
Однако большинство критиков, в сущности, только читатели, а это значит, что они распекают нас почти всегда понапрасну; если же хвалят, то не знают ни удержу, ни меры. <… >
Критик должен оценивать результат, исходя лишь из природы творческого усилия, и не имеет права быть тенденциозным.
Об этом писали уже тысячу раз. Но постоянно приходится повторять то же самое.
И вот вслед за литературными школами, стремившимися дать нам искаженное, сверхчеловеческое, поэтическое, трогательное, очаровательное или величественное представление о жизни, пришла школа реалистическая, или натуралистическая, которая взялась показать нам правду, только правду, всю правду до конца.
Надо с одинаковым интересом относиться ко всем этим столь различным теориям искусства, а о создаваемых ими произведениях судить исключительно с точки зрения их художественной ценности, принимая a priori[16] породившие их философские идеи.
Оспаривать право писателя на создание произведения поэтического или реалистического – значит требовать, чтобы он насиловал свой темперамент и отказался от своей оригинальности, значит запрещать ему пользоваться глазами и разумом, дарованными природой.
Упрекать его за то, что вещи кажутся ему прекрасными или уродливыми, ничтожными или величественными, привлекательными или зловещими, значит упрекать его за то, что он создан на свой особый лад и что его представления не совпадают с нашими.
Предоставим же ему свободу понимать, наблюдать, создавать, как ему вздумается, лишь бы он был художником. Но попытаемся подняться сами до поэтической экзальтации, чтобы судить идеалиста; ведь только тогда мы и сможем ему доказать, что мечта его убога, банальна, недостаточно безумна или недостаточно великолепна. А если мы судим натуралиста, – покажем ему, в чем правда жизни отличается от правды в его книге.
Вполне очевидно, что столь различные школы должны пользоваться совершенно противоположными приемами композиции.
Романисту, который переиначивает неопровержимую, грубую и неприятную ему правду ради того, чтобы извлечь из нее необыкновенное и чарующее приключение, незачем заботиться о правдоподобии; он распоряжается событиями по своему усмотрению, подготавливая и располагая их так, чтобы понравиться читателю, чтобы взволновать или растрогать его. План его романа – только род искусных комбинаций, ловко ведущих к развязке. Все эпизоды рассчитаны и постепенно доведены до кульминационного пункта, а эффект конца, представляющий собой главное и решающее событие, удовлетворяет возбужденное в самом начале любопытство, ставит преграду дальнейшему развитию интереса читателей и настолько исчерпывающе завершает рассказанную историю, что больше уж не хочется знать, что станется на другой день с самыми увлекательными героями.
Но романист, имеющий в виду дать нам точное изображение жизни, должен, напротив, тщательно избегать всякого сцепления обстоятельств, которое могло бы показаться необычным. Цель его вовсе не в том, чтобы рассказать нам какую-нибудь историю, позабавить или растрогать нас, но в том, чтобы заставить нас мыслить, постигнуть глубокий и скрытый смысл событий. Он столько наблюдал и размышлял, что смотрит на вселенную, на вещи, на события и на людей особым образом, который свойствен только ему одному и исходит из совокупности его глубоко продуманных наблюдений. Это личное восприятие мира он и пытается нам сообщить и воссоздать в своей книге. Чтобы взволновать нас так, как его самого взволновало зрелище жизни, он должен воспроизвести ее перед нашими глазами, стремясь к самому тщательному сходству. Следовательно, он должен построить свое произведение при помощи таких искусных и незаметных приемов и с такой внешней простотой, чтобы невозможно было увидеть и указать, в чем заключается замысел и намерения автора.
Вместо того чтобы измыслить какое-нибудь приключение и так развернуть его, чтобы оно держало читателя в напряжении вплоть до самой развязки, он возьмет своего героя или своих героев в известный период их существования и доведет их естественными переходами до следующего периода их жизни. Таким образом, он покажет, как меняются умы под влиянием окружающих обстоятельств, как развиваются чувства и страсти, как любят, как ненавидят, как борются во всякой социальной среде, как сталкиваются интересы обывательские, денежные, семейные, политические.
Его искусный замысел будет, следовательно, заключаться вовсе не в том, чтобы взволновать или очаровать, не в захватывающем начале или потрясающей катастрофе, но в умелом сочетании достоверных мелких фактов, которые выявят окончательный смысл произведения. Чтобы уместить на трехстах страницах десять лет чьей-нибудь жизни и показать, каково было ее особенное и характерное значение среди всех других окружающих ее существований, автор должен суметь исключить из множества мелких, незначительных, будничных событий те события, которые для него бесполезны, и особенным образом осветить все те, которые остались бы незамеченными недостаточно проницательным наблюдателем, хотя они-то и определяют все значение и художественную ценность книги.
Разумеется, подобная манера композиции, столь отличная от старинного, понятного для всех способа, часто сбивает с толку критиков, и они по могут обнаружить эти тонкие, скрытые, почти незаметные нити, используемые некоторыми современными художниками вместо той единственной веревочки, которая звалась Интригой.
Словом, если вчерашний романист избирал и описывал житейские кризисы, обостренные состояния души и сердца, то романист наших дней пишет историю сердца, души и разума в их нормальном состоянии. Чтобы добиться желаемого эффекта, т.е. взволновать зрелищем обыденной жизни, и чтобы выявить свою идею, т.е. в художественной форме показать, что же представляет собою в его глазах современный человек, автор должен пользоваться только теми фактами, истинность которых неопровержима и неизменна.
Но даже становясь на точку зрения художников-реалистов, следует все же обсуждать и оспаривать их теорию, которую, по-видимому, можно выразить в таких словах: «Только правда, и вся правда до конца».
Так как цель их в том, чтобы делать философские выводы из некоторых постоянных и обычных фактов, им нередко приходится исправлять события в угоду правдоподобию и в ущерб правде, потому что
Бывает не всегда правдоподобна правда[17].
Реалист, если он художник, будет стремиться не к тому, чтобы показать нам банальную фотографию жизни, но к тому, чтобы дать нам ее воспроизведение, более полное, более захватывающее, более убедительное, чем сама действительность.
Рассказать обо всем невозможно, так как потребовалось бы писать минимум по книге в день, чтобы изложить те бесчисленные незначительные происшествия, которые наполняют наше существование.
Значит, необходим выбор, а это уже первое нарушение теории всей правды до конца.
Кроме того, жизнь состоит из событий самых разнообразных, самых непредвиденных, самых противоположных, самых разношерстных; она груба, непоследовательна, бессвязна, полна необъяснимых, нелогичных и противоречивых катастроф, которым место в отделе происшествий.
Вот почему художник, выбрав себе тему, возьмет из этой жизни, перегруженной случайностями и мелочами, только необходимые ему характерные детали и отбросит все остальное, все побочное.
Вот один из множества примеров.
Количество людей, умирающих каждый день от несчастных случаев, довольно велико на земле. Но можем ли мы сбросить черепицу с крыши на голову главного действующего лица или швырнуть его под колеса экипажа в самой середине повествования под тем предлогом, что нужно уделить место и несчастному случаю?
Далее, в жизни все идет по своему плану: события то ускоряются, то бесконечно затягиваются. Задача искусства, наоборот, состоит в том, чтобы осмотрительно подготовлять события, изобретать искусные скрытые переходы; освещать полным светом с помощью умелой композиции основные события, придавая всем остальным ту степень реальности, которая соответствует их значению; все это необходимо для того, чтобы заставить глубоко почувствовать ту особенную правду, которую требуется показать.
Показывать правду – значит дать полную иллюзию правды, следуя обычной логике событий, а не копировать рабски хаотическое их чередование.
На этом основании я считаю, что талантливые Реалисты должны были бы называться скорее Иллюзионистами.
К тому же, какое ребячество верить в реальность, если каждый из нас носит свою собственную реальность в своей мысли и в органах чувств! Различие нашего зрения, слуха, обоняния, вкуса создает столько истин, сколько людей на земле. И наш ум, получая указания от этих органов, обладающих различной впечатлительностью, понимает, анализирует и судит так, как если бы каждый из нас принадлежал к другой расе.
Итак, каждый из нас просто создает себе ту или иную иллюзию о мире, иллюзию поэтическую, сентиментальную, радостную, меланхолическую, грязную или зловещую, в зависимости от своей натуры. И у писателя нет другого назначения, кроме того, чтобы точно воспроизводить эту иллюзию всеми художественными приемами, которые он постиг и которыми располагает.
Иллюзию прекрасного, которая является человеческой условностью! Иллюзию безобразного, которая является преходящим представлением! Иллюзию правды, никогда не остающуюся незыблемой! Иллюзию низости, привлекательную для столь многих! Великие художники – это те, которые внушают человечеству свою личную иллюзию.
Не будем же возмущаться ни одной теорией, поскольку каждая из них – это лишь общее выражение анализирующего себя темперамента.
Две из этих теорий особенно часто подвергались обсуждению, но их противопоставляли одну другой, вместо того чтобы принять их обе: это теория романа чистого анализа и теория романа объективного. Сторонники анализа требуют, чтобы писатель неукоснительно отмечал малейшие этапы умственной жизни и потаеннейшие побуждения, которыми определяются наши поступки, а самому событию уделял бы второстепенное значение. Событие есть лишь отправной пункт, простая веха, только повод к роману. Следовательно, по их мнению, нужно писать такие повести, точные и сочиненные, где воображение сливается с наблюдением, – как у философа, который стал бы писать книгу о психологии, – т.е. излагать причины, черпая их из самых отдаленных истоков, объяснять все почему всех желаний и распознавать все отклики души, побуждаемой к действию выгодой, страстями или инстинктом.
Сторонники объективности (какое противное слово!) имеют в виду, наоборот, дать нам точное воспроизведение того, что происходит в жизни; они тщательно избегают всяких сложных объяснений, всяких рассуждений о причинах и ограничиваются тем, что проводят перед нашим взором вереницу персонажей и событий.
По мнению этих писателей, психология в книге должна быть скрыта, подобно тому как в действительности она скрыта за жизненными фактами.
Роман, задуманный по этому принципу, выигрывает в отношении интереса, подвижности повествования, красочности, жизненной живости.
Итак, вместо того чтобы пространно объяснить душевное состояние какого-нибудь персонажа, объективные писатели ищут тот поступок или жест, который неизбежно будет сделан человеком в определенном душевном состоянии, при определенных обстоятельствах. Они заставляют героя вести себя с начала и до конца книги таким образом, чтобы все его поступки, все его порывы являлись отражением его внутренней природы, отражением его мыслей, желаний или сомнений. Они, следовательно, скрывают психологию, вместо того чтобы выставлять ее напоказ, и делают из нее остов произведения, подобный тем невидимым глазу костям, которые составляют скелет человеческого тела. Художник, рисуя наш портрет, не показывает же нашего скелета.
Мне кажется еще, что роман, написанный таким способом, выигрывает в отношении искренности. Прежде всего он правдоподобнее, – ведь люди, действующие вокруг нас, отнюдь не сообщают нам о побуждениях, которым они повинуются.
Необходимо считаться также с тем, что если мы, постоянно наблюдая людей, можем достаточно точно определить их характер, чтобы предвидеть их поведение почти при любых обстоятельствах, если мы с уверенностью можем сказать: «Такой-то человек, обладающий таким-то темпераментом, в таком-то случае поступит так-то», – из этого вовсе не следует, что мы сможем определить одну за другой все сокровенные последовательные извилины его мысли, непохожей на нашу мысль, все таинственные зовы его инстинктов, иных, чем у нас, все смутные побуждения его природы, органы которой, нервы, кровь и плоть, отличаются от наших. <… >
Умение здесь состоит только в том, чтобы не дать читателю угадать это я под различными масками, предназначенными скрывать его.
Но если с точки зрения полной точности чистый психологический анализ является спорным, он может все-таки дать нам столь же прекрасные произведения искусства, как и всякий другой метод работы.
Вот сейчас появились символисты. А почему бы и нет? Их мечта, как художников, достойна уважения; особенно же ценно в них то, что они сознают и не скрывают, как трудно создать произведение искусства. <… >
… Я понял, что самые известные писатели почти никогда не оставляли после себя более одного тома и что надо прежде всего найти и выбрать среди множества тем, предоставленных нашему выбору, ту тему, которая способна привлечь к себе все наши способности, все наше мужество, все наши творческие силы.
Позднее Флобер, с которым я иногда встречался, почувствовал ко мне расположение. <… >
Я работал и часто приходил к нему снова, чувствуя, что нравлюсь ему, потому что он в шутку стал называть меня своим учеником.
В течение семи лет я писал стихи, писал сказки, писал новеллы, написал даже отвратительную драму. Ничего из этого не осталось. Учитель прочитывал все, а потом в следующее воскресенье, за завтраком, приступал к критике, шаг за шагом внедряя в меня те два-три принципа, которые представляли собой итог его длительных и терпеливых поучений. «Если обладаешь оригинальностью, – говорил он, – нужно прежде всего ее проявить; если же ее нет, нужно ее приобрести».
«Талант – это длительное терпение». Необходимо достаточно долго и с достаточным вниманием рассматривать все то, что желаешь выразить, чтобы обнаружить в нем ту сторону, которая до сих пор еще никем не была подмечена и показана. Решительно во всем есть что-нибудь неисследованное, потому что мы привыкли пользоваться своим зрением не иначе, как вспоминая все высказанное до нас по поводу того, что мы созерцаем. Ничтожнейший предмет содержит в себе частицу неведомого. Надо его найти. Чтобы описать пылающий огонь или дерево на равнине, остановимся перед огнем и этим деревом и будем рассматривать их до тех пор, пока они не перестанут походить в наших глазах ни на какой другой огонь.
Именно так и вырабатывается оригинальность. <… >
В другом месте я изложил идеи Флобера о стиле[18]. В них много общего с теорией наблюдения, только что приведенной мною.
Какова бы ни была вещь, о которой вы заговорили, имеется только одно существительное, чтобы назвать ее, только один глагол, чтобы обозначить ее действие, и только одно прилагательное, чтобы ее определить. И нужно искать до тех пор, пока не будут найдены это существительное, этот глагол и это прилагательное, и никогда не следует удовлетворяться приблизительным, никогда не следует прибегать к подделкам, даже удачным, к языковым фокусам, чтобы избежать трудностей.
Можно передавать и описывать тончайшие ощущения, следуя этому стиху Буало:
Огромна власть у слов, стоящих там, где нужно[19].
Для того чтобы выразить все оттенки мысли, вовсе нет надобности в том нелепом, сложном, длинном и невразумительном наборе слов, который навязывают нам сегодня под именем художественной манеры письма…<...> Постараемся лучше быть отличными стилистами, чем коллекционерами редких словечек.
В самом деле, гораздо труднее обработать фразу по-своему, заставить ее сказать все, даже то, чего она буквально не выражает, наполнить ее подразумеваемым смыслом, тайными и невысказанными намерениями, чем выдумать новые выражения или выискивать в недрах старых, забытых книг такие обороты речи, которые утратили для нас свое значение, перестали быть употребительными и звучат ныне, как мертвые письмена.
Впрочем, французский язык подобен чистой воде, которую никогда не могли и не смогут замутить вычурные писатели. <… > Наш язык – ясный, логичный и выразительный. Он не даст себя ослабить, затемнить или извратить.<… >
Артюр Рембо Из письма Полю Демеыи, Шарлевиль, 15 мая 1871 г.[20]
<… > таков был ход вещей, человек не работал над собой, не был еще разбужен или не погрузился во всю полноту великого сновидения. Писатели были чиновниками от литературы: автор, создатель, поэт – такого человека никогда не существовало!
Первое, что должен достичь тот, кто хочет стать поэтом, – это полное самопознание; он отыскивает свою душу, ее обследует, ее искушает, ее постигает. А когда он ее постиг, он должен ее обрабатывать! Задача кажется простой… Нет, надо сделать свою душу уродливой. Да, поступить наподобие компрачикосов[21]. Представьте человека, сажающего и взращивающего у себя на лице бородавки.
Я говорю, надо стать ясновидцем, сделать себя ясновидцем.
Поэт превращает себя в ясновидца длительным, безмерным и обдуманным приведением в расстройство всех чувств. Он идет на любые формы любви, страдания, безумия. Он ищет сам себя.
Он изнуряет себя всеми ядами, но всасывает их квинтэссенцию. Неизъяснимая мука, при которой он нуждается во всей своей вере, во всей сверхчеловеческой силе; он становится самым больным из всех, самым преступным, самым проклятым – и ученым из ученых! Ибо он достиг неведомого. Так как он взрастил больше, чем кто-либо другой, свою душу, и так богатую! Он достигает неведомого, и пусть, обезумев, он утратит понимание своих видений, – он их видел! И пусть в своем взлете он околеет от вещей неслыханных и несказуемых. Придут новые ужасающие труженики; они начнут с тех горизонтов, где предыдущий пал в изнеможении…
<… > Итак, поэт – поистине похититель огня. Он отвечает за человечество, даже за животных. То, что он придумал, он должен сделать ощущаемым, осязаемым, слышимым. Если то, что поэт приносит оттуда, имеет форму, он представляет его оформленным, если оно бесформенно, он представляет его бесформенным. Найти соответствующий язык, – к тому же, поскольку каждое слово – идея, время всеобщего языка придет! Надо быть академиком, более мертвым, чем ископаемое, чтобы совершенствовать словарь…
Этот язык будет речью души к душе, он вберет в себя все – запахи, звуки, цвета, он соединит мысль с мыслью и приведет ее в движение. Поэт должен будет определять, сколько в его время неведомого возникает во всеобщей душе; должен будет сделать больше, нежели формулировать свои мысли, больше, чем простое описание своего пути к Прогрессу!
Так как исключительное станет нормой, осваиваемой всеми, поэту надлежит быть множителем прогресса.
Будущее это будет материалистическим, как видите. Всегда полные Чисел и Гармонии, такие поэмы будут созданы на века. По существу, это была бы в какой-то мере греческая Поэзия.
Такое вечное искусство будет иметь свои задачи, как поэты суть граждане. Поэзия не будет больше воплощать в ритмах действие; она будет впереди.
Такие поэты грядут! Когда будет разбито вечное рабство женщины, когда она будет жить для себя и по себе, мужчина – до сих пор омерзительный – отпустит ее на свободу, и она будет поэтом, она – тоже! Женщина обнаружит неведомое! Миры ее идей – будут ли они отличны от наших? Она найдет нечто странное, неизмеримо глубокое, отталкивающее, чарующее. Мы получим это от нее, и мы поймем это.
В ожидании потребуем от поэта нового – области идей и форм. Все искусники стали бы полагать, что они могут удовлетворить такому требованию: нет, это не то!
Романтики первого поколения были ясновидцами, не очень хорошо отдавая себе в этом отчет: обработка их душ начиналась случайно: паровозы, брошенные, но под горячими парами, некоторое время еще несущиеся по рельсам. Ламартин порой бывает ясновидящ, но он удушен старой формой. У Гюго, слишком упрямой башки, есть ясновидение в последних книгах: «Отверженные» – настоящая поэма. «Возмездие» у меня под рукой. «Стела» может служить мерой ясновидения Гюго. Слишком много Бельмонте и Ламеннэ, Иегов и колонн, старых развалившихся громадин.
Мюссе, четыреждынадцать ненавистен нам, поколениям, означенным скорбью и осаждаемым видениями…
Второе поколение романтиков – в сильной степени ясновидцы. Теофиль Готье, Леконт де Лиль, Теодор де Банвилль. Но исследовать незримое, слышать неслыханное – это совсем не то, что воскрешать дух умерших эпох, и Бодлер – это первый ясновидец, царь поэтов, истинный Бог. Но и он жил в слишком художническом окружении. И форма его стихов, которую так хвалили, слишком скудна. Открытия неведомого требуют новых форм.
<...> в новой, так называемой парнасской, школе два ясновидящих – Альбер Мера и Поль Верлен, настоящий поэт. – Я высказался.
Итак, я тружусь над тем, чтобы сделать себя ясновидцем <...>.
Уолтер Пейтер[22] Из книги «Очерки по истории ренессанса»
ПРЕДИСЛОВИЕ
<… > Красота, как почти весь человеческий чувственный опыт, есть нечто относительное; поэтому определение ее тем менее имеет смысла и интереса, чем оно абстрактнее. Задача истинного эстетика заключается в том, чтобы определить красоту не в абстрактных терминах, но в возможно более конкретных, – в том, чтобы найти не универсальную, а особенную формулу, которая всего лучше выражает то или иное откровение красоты.
<...> Задача эстетической критики заключается в том, чтобы распознать, проанализировать и освободить от случайных придатков то свойство, благодаря которому картина, ландшафт, благородная личность в жизни или в книге производит это особое впечатление красоты или удовольствия, и указать, где источник этого впечатления и при каких условиях оно переживается. <… >
заключение
<...> Вначале опыт словно заливает нас потоком внешних предметов, угнетающих своей резкой, назойливой реальностью и вовлекающих нас в тысячи действий. но когда мы начинаем размышлять об этих предметах, они рассеиваются; сила сцепления, словно волшебством, перестает действовать; каждый предмет распадается в сознании наблюдателя на группу впечатлений: цвет, запах, вещество. И если мы будем углубляться мыслями не в этот мир предметов сам по себе, которые язык облекает покровом понятия, но в мир мимолетных, колеблющихся, непостоянных впечатлений, вспыхивающих и вновь угасающих в нашем сознании, – этот мир сожмется еще теснее: вся область наших наблюдений сократится в тесную камеру индивидуальной души. <...> Психологический анализ идет еще дальше и учит нас, что эти впечатления отдельного духа, эти личные опыты вечно меняются и текут; что каждый из них ограничен другим, и так как время делимо до бесконечности, то и впечатление делимо бесконечно. Действительное в нем – это короткий момент, убежавший прежде, чем мы его успели уловить; о нем вернее будет сказать, что прекратился, а не то, что он есть. К этому блуждающему огоньку, беспрестанно вспыхивающему на поверхности потока, к единственному острому впечатлению, оставляющему привкус ушедшего момента, и сводится все, что есть действительного в нашей жизни. <...>
Когда все уходит из-под наших ног, мы можем ухватиться за какую-нибудь изысканную страсть, за какой-нибудь вклад в науку, на мгновение поднимающий завесу и проясняющий горизонт, за раздражение чувств, за редкую краску, за новый тонкий аромат, за произведение руки художника, за черточку на лице друга. <… >
…Ускоренный пульс жизни могут дать нам великие страсти, восторги и муки любви, различные формы захватывающей деятельности, бескорыстной или иной, наполняющей жизнь столь многих. Ясно лишь одно, только страсть может принести нам этот плод ускоренного возвышенного сознания. И больше всего житейской мудрости именно в поэтической страсти, в стремлении к красоте, в любви к искусству ради искусства. Ибо искусство подходит к нам с простодушным намерением дать наивысшую радость быстролетным мгновениям нашей жизни и просто ради этих мгновений.
Оскар Уайльд Из книги «Замыслы»
УПАДОК ЛЖИ
Диалог (Отрывок)
Сирил….Чтобы как-нибудь не ошибиться, я попрошу вас изложить мне вкратце догматы этой новой эстетики.
Вивиан. Вот они в немногих словах. Искусство ничего не выражает, кроме себя самого. Оно ведет самостоятельное существование, подобно мышлению, и развивается по собственным законам. Ему нет надобности быть реалистичным в век реализма или спиритуальным в век веры. Далеко не будучи созданием своего века, оно обыкновенно находится в прямой оппозиции к нему, и единственная история, которую оно сохраняет для нас, это история его собственного развития. Порою оно возвращается по своим следам и возрождает какую-нибудь античную форму; пример: архаистическое движение позднейшего греческого искусства и прерафаэлитское движение наших дней. Но чаще всего оно задолго предвосхищает свою эпоху и создает такие вещи, что проходит целый век, покуда люди научатся понимать эти вещи, ценить их и наслаждаться ими. Ни в коем случае оно не воспроизводит свой век. Великая ошибка всех историков заключается в том, что они по искусству эпохи судят о самой эпохе.
Второй догмат заключается в следующем. Все плохое искусство существует благодаря тому, что мы возвращаемся к жизни и к природе и возводим их в идеал. Жизнью и природой порою можно пользоваться в искусстве, как частью сырого материала, но, чтобы принести искусству действительную пользу, они должны быть переведены на язык художественных условностей. В тот момент, когда искусство отказывается от вымысла и фантазии, оно отказывается от всего. Как метод, реализм никуда не годится, и всякий художник должен избегать двух вещей – современности формы и современности сюжета. Для нас, живущих в девятнадцатом веке, любой век является подходящим сюжетом, кроме нашего собственного. Единственно красивые вещи – это те, до которых нам нет никакого дела. Я позволю себе процитировать себя самого: именно потому, что Гекуба[23] нам ничто, ее горести составляют вполне пригодный мотив для трагедии. Притом только современное становится всегда старомодным. Золя кропотливо пытается дать нам картину Второй империи. Но кому нужна теперь Вторая империя? Она устарела. Жизнь движется быстрее реализма, но романтизм опережает жизнь.
Третий догмат: жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство подражает жизни. Это происходит оттого, что в нас заложен подражательный инстинкт, а также и оттого, что сознательная цель жизни – найти себе выражение, а именно искусство указывает ей те или иные красивые формы, в которых она может воплотить свое стремление. Это теория, которой никто еще не высказывал, но она необычайно плодотворна и бросает совершенно новый свет на всю историю искусства.
Отсюда следует, что и внешняя природа подражает искусству. Единственные эффекты, какие она может показать нам, это те эффекты, которые мы уже видели, благодаря поэзии и живописи. Вот тайна очарования природы, а вместе объяснение ее слабости.
Последнее откровение: ложь, передача красивых небылиц – вот подлинная цель искусства. <… >
Джон Голсуорси Предисловие к «Саге о Форсайтах»
Название «Сага о Форсайтах» предназначалось в свое время для той ее части, которая известна теперь как «Собственник», и то, что я дал его всей хронике семьи Форсайтов, свидетельствует о чисто форсайтской цепкости, присущей всем нам. Против слова «Сага» можно возражать на том основании, что в нем заключено понятие героизма, а героического на этих страницах мало. Но оно употреблено с подобающей случаю иронией; а кроме того, эта длинная повесть, хоть в ней и говорится о веке процветания и о людях в сюртуках и турнюрах, не лишена страстной борьбы враждебных друг другу сил. Несмотря на гигантский рост и кровожадность, которыми наделяет предание героев древних саг, они по своим собственническим инстинктам были очень сродни Форсайтам и так же беззащитны против набегов красоты и страсти, как Суизин, Сомс и даже молодой Джолион. И хотя в нашем представлении эти герои никогда не бывших времен сильно выделяются среди своего окружения – вещь неприемлемая для Форсайта времен Виктории, – мы можем с уверенностью предположить, что родовой инстинкт и тогда был главной движущей силой и что семья, домашний очаг и собственность играли такую же роль, какую играют сейчас, несмотря на все разговоры, с помощью которых их стараются в последнее время свести на нет.
Столько людей в своих письмах ко мне утверждали, будто прототипами Форсайтов послужили именно их семьи, что я почти готов поверить в типичность этой разновидности человеческого рода. Нравы меняются, жизнь идет вперед, и «Дом Тимоти на Бэйсуотер-Род» в наше время попросту немыслим во всех отношениях; мы не увидим больше такого дома, не увидим, возможно, и людей, подобных Джемсу или старому Джолиону. А между тем, отчеты страховых обществ и речи судей изо дня в день убеждают нас в том, что наш земной рай – и теперь еще богатый заповедник, куда украдкой совершают набеги Красота и Страсть, чтобы среди бела дня похитить у нас наше спокойствие. Как собака лает на духовой оркестр, так же все, что есть в человеческой природе от Сомса, неизменно и тревожно восстает против угрозы распада, нависшей над владениями собственничества.
«Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов» – это изречение было бы убедительнее, если бы прошлое когда-нибудь умирало. Живучесть прошлого – одно из тех трагикомических благ, которые отрицает всякий новый век, когда он выходит на арену и с безграничной самонадеянностью претендует на полную новизну. А в сущности никакой век не бывает совсем новым. В человеческой природе, как бы ни менялось ее обличье, есть и всегда будет очень много от Форсайта, а он, в конце концов, еще далеко не худшее из животных.
Оглядываясь на эпоху Виктории, расцвет, упадок и гибель которой в некотором роде представлены в «Саге о Форсайтах», мы видим, что попали из огня да в полымя. Нелегко было бы доказать, что в 1913 г. положение Англии было лучше, чем в 1886 г., когда Форсайты собрались в доме старого Джолиона на празднование помолвки Джун и Филипа Босини. А в 1920 г., когда весь клан снова собрался, чтобы благословить брак Флер с Майклом Монтом, положение Англии стало чересчур расплывчатым и безысходным, точно так же, как в 80-х годах оно было чересчур застывшим и прочным. Будь эта хроника научным исследованием о смене эпох, мы, вероятно, остановились бы на таких факторах, как изобретение велосипеда, автомобиля и самолета; появление дешевой прессы; упадок деревни и рост городов; рождение кино. Дело в том, что люди совершенно неспособны управлять своими изобретениями; в лучшем случае они лишь приспосабливаются к новым условиям, которые эти изобретения вызывают к жизни.
Но эта длинная повесть не является научным исследованием какого-то определенного периода; скорее она представляет собой изображение того хаоса, который вносит в жизнь человека Красота.
Образ Ирэн, которая, как, вероятно, заметил читатель, дана исключительно через восприятие других персонажей, есть воплощение волнующей Красоты, врывающейся в мир собственников.
Было замечено, что читатели, по мере того как они бредут вперед по соленым водам Саги, все больше проникаются жалостью к Сомсу и воображают, будто бы это идет вразрез с замыслом автора. Отнюдь нет. Автор и сам жалеет Сомса, трагедия которого – очень простая, но непоправимая трагедия человека, не внушающего любви и притом недостаточно толстокожего для того, чтобы это обстоятельство не дошло до его сознания. Даже Флер не любит Сомса так, как он, по его мнению, того заслуживает. Но, жалея Сомса, читатели, очевидно, склонны проникнуться неприязненным чувством к Ирэн. В конце концов, рассуждают они, это был не такой уж плохой человек, он не виноват, ей следовало простить его и так далее. И они, становясь пристрастными, упускают из виду простую истину, лежащую в основе этой истории, а именно, что если в браке физическое влечение у одной из сторон отсутствует, то ни жалость, ни рассудок, ни чувство долга не превозмогут отвращения, заложенного в человеке самой природой. Плохо это или хорошо – не имеет значения; но это так. И когда Ирэн кажется жестокой и черствой – как в Булонском лесу или в галерее Гаупенор, – она лишь проявляет житейскую мудрость: она знает, что малейшая уступка влечет за собой невозможную, немыслимо унизительную капитуляцию.
Говоря о последней части Саги, можно поставить в упрек автору, что Ирэн и Джолион – эти представители бунта против собственности – посягают как на некую собственность на своего сына Джона. Но, право же, это было бы уже чересчур критическим подходом к повести в том виде, в каком она дана читателю. Ни один отец, ни одна мать не позволили бы своему сыну жениться на Флер, не рассказав ему всех фактов; и решение Джона определяют именно факты, а не доводы родителей. К тому же Джолион приводит свои доводы не ради себя, а ради Ирэн, а довод самой Ирэн сводится к одному: «Не думай обо мне, думай о себе!» Если Джон, узнав факты, понимает чувства своей матери, это, по совести, едва ли можно считать доказательством того положения, что и она, в сущности, принадлежит к породе Форсайтов.
Однако, хотя главной темой «Саги о Форсайтах» являются набеги Красоты и посягательства Свободы на мир собственников, автор ее не может отвести от себя обвинение в том, что он в некотором роде забальзамировал класс крупной буржуазии. Как в древнем Египте мумии окружали предметами, необходимыми умершим в загробной жизни, так я попытался наделить образы теток Энн, Джули и Эстер, Тимоти и Суизина, старого Джолиона и Джемса и их сыновей тем, что обеспечит им хоть малую толику жизни «будущего века», что явится каплей бальзама в стремительном потоке всерастворяющего «прогресса».
Если крупной буржуазии, так же как и другим классам, суждено перейти в небытие, пусть она останется законсервированной на этих страницах, пусть лежит под стеклом, где на нее могут поглазеть люди, забредшие в огромный и неустроенный музей Литературы. Там она сохраняется в собственном соку, название которому – Чувство Собственности.
1922 г. Джон Голсуорси
Бернард Шоу Из книги «Квинтэссенция ибсенизма»
нОВАЯ ДРАМАТУРГИЧЕСКАЯ ТЕХнИКА В ПЬЕСАХ ИБСЕнА
(Отрывки)
До чего грустную картину являет собой современная критика! Она погребена под целой горой фраз и формул, которые проникают к критикам в мозг и оттого кажутся им жизненно важными, хотя для всех остальных эти формулы только мертвый и тоскливый хлам (в этом-то и состоит весь секрет академического педантизма). До сего дня критики слепы к новой технике создания популярных пьес, между тем как целое поколение признанных драматургов изо дня в день демонстрирует ее у них под носом. Главным из новых технических приемов стала дискуссия. Раньше в так называемых «хорошо сделанных пьесах»[24] вам предлагались: в первом акте – экспозиция, во втором – конфликт, в третьем – его разрешение. Теперь перед вами экспозиция, конфликт и дискуссия, причем именно дискуссия и служит проверкой драматурга. Критики тщетно протестуют. Они утверждают, что дискуссия не сценична, что искусство не должно поучать. Однако ни драматурги, ни публика не обращают на них ни малейшего внимания. Дискуссией ибсеновский «Кукольный дом» покорил Европу. И сегодня серьезный драматург видит в ней не только пробный камень для своего таланта, но и главный козырь своей пьесы. Иногда он даже ищет повод заранее заверить публику, что не преминет использовать в своей пьесе это последнее нововведение. <… >
По сути дела, сегодня может считаться интересной только та пьеса, в которой затронуты и обсуждены проблемы, характеры и поступки героев, имеющие непосредственное значение для самой аудитории. Бережливая публика хочет за свои деньги получить что-то от просмотренных ею пьес, причем она не просто уносит это «что-то» с собой, но и использует в дальнейшем в своей жизни. Перед этим пасуют все банальные предостережения театральной кассы. Напрасно опытный режиссер твердит, что в театр люди ходят развлекаться, а не слушать проповеди; что им не вынести длинных монологов; что в пьесе должно быть не больше восемнадцати тысяч слов; что спектакль нельзя начинать раньше девяти и кончать позже одиннадцати часов; что нужно избегать политических и религиозных тем; что нарушение этих золотых правил толкнет публику к дверям варьете; что в пьесе непременно должна быть героиня с дурным нравом, причем сыгранная очень обаятельной актрисой, и так далее и тому подобное. Все эти советы действительны только для тех пьес, в которых нечего обсуждать. Но ими может пренебречь автор, если он моралист, спорщик и, кроме того, еще искусный драматург. От такого автора – в пределах, неизбежно устанавливаемых временем и человеческой выносливостью, – зрители стерпят все, если только они достаточно культурны и образованны, чтобы оценить особую форму его искусства. Трудность заключается в том, что в наши дни зрелые и образованные люди не ходят и театр, как не читают дешевых романчиков. А если драматурги и готовят им особую пищу, то они не реагируют на нее, отчасти потому, что у них нет привычки ходить в театр, а отчасти потому, что не понимают, что новый театр совсем не похож на все обычные театры. Но когда они в конце концов поймут это, их будет привлекать к себе уже не холостая перестрелка репликами между актерами, не притворная смерть, венчающая сценическую битву, не пара театральных любовников, симулирующих эротический экстаз, и не какие-нибудь там дурачества, именуемые «действием», – а сама глубина пьесы, характеры и поступки сценических героев, которые оживут благодаря искусству драматурга и актеров. <… >
В новых пьесах драматический конфликт строится не вокруг вульгарных склонностей человека, его жадности или щедрости, обиды и честолюбия, недоразумений и случайностей и всего прочего, что само по себе не порождает моральных проблем, а вокруг столкновения различных идеалов. Конфликт этот идет не между правыми и виноватыми: злодей здесь может быть совестлив, как и герой, если не больше. По сути дела, проблема, делающая пьесу интересной (когда она действительно интересна), заключается в выяснении, кто же здесь герой, а кто злодей. Или, иначе говоря, здесь нет ни злодеев, ни героев. Критиков поражает больше всего отказ от драматургического искусства. Они не понимают, что в действительности за всеми техническими новшествами стоит неизбежный возврат к природе. Сегодня естественное – это прежде всего каждодневное. И если стремиться к тому, чтобы кульминационные моменты пьесы что-то значили для зрителя, они должны быть такими, какие бывают и у него, если не ежедневно, то по крайней мере раз в жизни. Преступления, драки, огромные наследства, пожары, кораблекрушения, сражения и громы небесные – все это драматургические ошибки, даже если такие происшествия изображать эффектно. Конечно, если провести героя сквозь тяжелые испытания, они смогут приобрести драматический интерес, хотя и будут слишком явно театральными, ибо драматург, не имеющий большого опыта личного участия в подобных катастрофах, естественно, вынужден подменять возникающие в нем чувства набором штампов и догадок. <...>
Драма возникла в древности из сочетания двух желаний: желания танцевать и желания послушать историю. Танец превратился в оргию; история стала ситуацией. Когда Ибсен начал писать пьесы, искусство драматурга сводилось к искусству изобретать ситуацию; при этом считалось, что чем она оригинальнее, тем лучше пьеса. Ибсен, наоборот, считал, что чем ситуация ближе нам, тем интереснее может быть пьеса. Шекспир выводил на сцене нас самих, но в чуждых нам ситуациях: ведь наши дяди редко убивают наших отцов и не часто становятся законными мужьями наших матерей. Мы не встречаемся с ведьмами. наших королей не всегда закалывают, и не всегда на их место вступают те, кто их заколол. наконец, когда мы добываем деньги по векселю, мы не обещаем уплатить за них фунтами нашей плоти.
Ибсен удовлетворяет потребность, не утоленную Шекспиром. Он представляет нам не только нас самих, но нас самих в наших собственных ситуациях. То, что случается с его сценическими героями, случается и с нами. Первым следствием этого является несравненно большее значение для нас его пьес по сравнению с шекспировскими. Второе следствие заключается в их способности жестоко ранить нас и пробуждать в нашей душе волнующую надежду на избавление от тирании идеалов, вызывая перед нами видения более совершенной будущей жизни.
Эти перемены в содержании пьес с неизбежностью повлекли за собой и перемены в их форме. Когда драматический поэт способен дарить вам надежды и видения, то такая старая мудрость, как «все искусство сцены заключается в нагнетании», сразу становится наивной, и ее можно оставить только тем незадачливым драматургам, которые, не умея создавать на сцене ничего действительно интересного, постоянно пытаются убедить аудиторию, что «сейчас вот-вот должно что-то произойти». Все старые трюки, которыми хотят завоевать и удержать внимание зрителя, кажутся глупыми и никчемными там, где драматург пронзает людей до самого сердца, показывая им воочию жестокость поступков, которые они совершили вчера или собираются совершить завтра. <… >
Драматургическое новаторство Ибсена и последовавших за ним драматургов состоит, таким образом, в следующем: во-первых, он ввел дискуссию и расширил ее права настолько, что, распространившись и вторгшись в действие, она окончательно с ним ассимилировалась. Пьеса и дискуссия стали практически синонимами. Во-вторых, сами зрители включились в число участников драмы, а случаи из их жизни стали сценическими ситуациями. За этим последовал отказ от старых драматургических приемов, понуждавших зрителя интересоваться несуществующими людьми и невозможными обстоятельствами; отказ от заимствований из судебной практики, от техники взаимных обвинений и разрушения иллюзии, от техники достижения истины через знакомые идеалы; и наконец, замена всего этого свободным использованием всех видов риторического и лирического искусства оратора, священника, адвоката и народного певца. <… >
Бернард Шоу Проблемная пьеса-симпозиум[25]
(Отрывок)
<...> 1. Всякая социальная проблема, возникающая из противоречия между человеческими чувствами и окружающей обстановкой, дает материал для драмы.
2. Предпочтение, которое большинство драматургов обычно отдает столкновениям человека, по-видимому, с неизбежными и вечными, а не временными и политическими факторами, в огромном большинстве случаев объясняется политическим невежеством драматурга (не говоря уже о невежестве зрителей) и лишь в немногих отдельных случаях – широтой его философских воззрений.
3. Огромные масштабы и сложность современной цивилизации и роль современной прессы, помогающей развитию нашего сознания, имеют своим результатом следующее: во-первых, они дискредитируют всеобъемлющие философские системы, так как обнаруживают больше фактов, чем в состоянии обобщить дажеспособнейшие из людей; во-вторых, они усиливают потребность в социальных реформах настолько, что заставляют служить этой цели даже вдохновение поэтов.
4. Обусловленное этим проникновение социальных проблем на сцену, в художественную прозу и поэзию будет исчезать по мере улучшения социального строя, когда все прозаические социальные проблемы можно будет успешно решать, не доводя их до такого обострения, чтобы они поглощали все внимание драматурга, романиста и поэта. <...>
Исследовательские работы
Б.Г. Реизов Вопросы эстетики Золя
I
<...> Первые произведения Золя фантастичны, сентиментальны, нарочито наивны. Но постепенно, не без колебаний и сомнений, он усваивает очередные задачи литературного дня. Если в 1860 г. он отказывался принять слово и понятие «реализм», считая, что задача искусства – украшать досуг, как цветы украшают жизнь, то уже в 1864 г., принимая обычное деление на «классицизм», «романтизм» и «реализм» (школа Шанфлери), он предпочитает экран реалистической школы, наименее искажающий рассматриваемую сквозь него действительность.
Золя все резче противопоставляет «реализм» «романтизму». Он вежливо, но жестоко критикует Гюго за его «Песни улиц и рощ», восхищается «Жермини Ласерте» Гонкуров, упрекает Доре за слишком буйное воображение, протестует против утилитаризма Прудона и против его интерпретации Курбе, ценность которого, как утверждает Золя, не в «морали», а в точности и правдивости. Золя подчеркивает, что и «реалисты» должны быть оригинальными и видеть мир по-своему: «Пишите розы, но пишите их живыми, если вы называете себя реалистом». «Пишите правдиво, и я буду удовлетворен; но главное, – пишите индивидуально и живо, я буду еще более доволен»[26].
Однако термин «реализм» не удовлетворяет Золя своей неопределенностью: если понимать под этим словом необходимость изучать натуру, то все художники должны быть реалистами[27].
Но как изображать природу, об этом термин не говорит ничего. <...>
В это время Золя уже задумывал свой первый «физиологический» и «натуралистический» роман.
<...> С натурализмом впервые познакомила Золя «История английской литературы» И. Тэна (1863). Эта книга послужила ему мостом от литературы к науке, навела его на мысль о связи художественного творчества с общественной жизнью и открыла перспективы, которые навсегда пленили его воображение. В 1866 г. в восторженной статье он называет Тэна своим учителем и повторяет это в 1880 г., утверждая, что романисты-натуралисты в своем творчестве пользуются методом Тэна[28]. Сражаясь с произволом вкусовых оценок, с понятием хорошего вкуса, с абсолютными критериями красоты, с телеологическим принципом историко-литературных построений, Тэн объяснял литературу причинами материального характера. Филология оказывалась прикладной психологией и почти сливалась с физиологией. Высокие понятия вдохновения, красоты, творчества были сведены с неба на землю и подверглись историческому и «физиологическому» объяснению. «Гений» приблизился к массе, так как стал плотью от плоти ее, выразителем ее чувств и стремлений. В этом детерминизме и заключался пафос теории. <...>
Усвоив теорию среды, Золя тотчас попытался применить ее в своем творчестве. В «Терезе Ракен» (1867) он следует заветам Тэна, однако анализирует среду и физиологию своих героев с гораздо большей конкретностью. В предисловии ко второму изданию романа (1868) он соглашается с замечаниями, сделанными ему Тэном в частном письме. Эти замечания он в полной мере использует при разработке замысла Ругон-Маккаров. В «Мадлене Фера» (1868), излагающей невероятный физиологический казус, семейная трагедия так же, как в «Терезе Ракен», объяснена с точки зрения физиолога и психолога. К моменту появления в свет «Карьеры Ругонов» (1871) Золя окончательно разрабатывает свою методологию и определяет свой путь на долгие годы. Можно говорить об эволюции его метода, о расширении, развитии или смещении его эстетических интересов. Но все же система его эстетических взглядов и творческая платформа оставались теми же вплоть до последних утопических романов «Четвероевангелия».
Основным положением эстетики Золя является детерминизм материалистического характера: сознание человека определяется не велениями божества и не нравственным законом, но условиями материального бытия, понимаемого натуралистически. Приняв этот тезис, Золя вступал в решительную борьбу с религией и официальным спиритуализмом и в оппозицию к современным общественным институтам: если условия жизни определяют сознание, то, следовательно, во всех бедствиях, пороках и преступлениях виноваты эти условия, жертвой которых является человек. Тезис этот проводится во многих сочинениях эпохи, публицистических и юридических, он характерен даже для «Отверженных» Виктора Гюго. Физиологи также говорили о том, что страсти, не получающие своего удовлетворения в неправильно организованной общественной среде, приводят к безумию и преступлению, – об этом Золя мог прочесть в «Физиологии страстей» Летурно, которую он штудировал в 1868 г. <...>
Уже в предисловии к «Терезе Ракен» Золя определял основную проблему своего творчества как «изучение темперамента и глубоких изменений организма под давлением среды и обстоятельств». Это решительный отказ от идеалистической морали, от абстрактно-психологических категорий и терминов, от «души», от «добродетели». Золя не интересует «характер», – он изучает «темперамент», т.е. психологию в ее обусловленности материальными факторами или, согласно терминологии эпохи, физиологию своих героев. Золя полемизирует с виталистами словами Клода Бернара: «Они рассматривают жизнь, как некое таинственное и сверхъестественное влияние, действующее по собственной свободной воле независимо от каких-либо причин, и называют материалистом всякого, кто пытается свести явления жизни к органическим и физико-химическим условиям…
Всякое явление в живых организмах, так же как в мертвых телах, целиком детерминировано»[29].
Задача романиста, по мнению Золя, в том, чтобы «создать нечто вроде научной психологии, дополняющей научную физиологию… Мы должны изучать характеры, страсти, явления жизни индивидуальной и общественной так же, как химик и физик изучают неорганическую материю, как физиолог изучает живое тело… Детерминизм – тот же повсюду. Это научное исследование, это экспериментальное рассуждение, разрушающее одну за другой все гипотезы идеалистов»[30].
Теория среды приобретает для Золя особенное значение и становится центром его методологии. «Я полагаю, что вопрос наследственности оказывает сильное влияние на интеллектуальную и эмоциональную деятельность человека. Я придаю также большое значение среде. Когда-нибудь физиология объяснит нам механизм мысли и страсти. Мы узнаем, как функционирует индивидуальный организм человека, как он думает, как любит, как приходит от разума к страсти и к безумию. Но эти процессы совершаются не изолированно и не в пустоте, человек живет не один, а в обществе, в социальной среде, а потому для нас, романистов, приобретает значение социальная среда, постоянно изменяющая эти явления. Больше того, главный предмет нашего изучения – это постоянное воздействие общества на человека и человека на общество»[31].
Золя отлично знает, что нет аналогий между мертвым телом и живым существом, между зверем и человеком. Ведь социальная среда – явление человеческое по существу, это не физико-химические условия жизни неорганического мира, не естественная среда животного. Это общество, состоящее из таких же индивидуумов, которые так же детерминированы внешне и внутренне. Поэтому задача романиста-натуралиста не совпадает с задачей физиолога: романист «берет изолированного человека из рук физиолога, чтобы продолжить исследование и научно разрешить вопрос, как ведут себя люди, вступившие в общество»[32].
Значит, основной задачей романиста является исследование среды, определяющей реальное бытие этого физиологического, абстрактного и потому несуществующего человека. Значит, романист, изучающий своего героя, оказывается прежде всего и больше всего социологом. Таково ясное и твердое теоретическое положение Золя.
Жизнь индивидуума и жизнь общества сливаются в бесконечно сложных взаимодействиях, без которых немыслим ни человек, ни общество. Человек испытывает влияние среды и в свою очередь на нее воздействует. Он врастает в общество, он создан им и создает его, и потому изучение среды превращается в изучение человека, а изображение человека оказывается изображением общества.
Ориентируясь на естественные науки, Золя переносит в свою эстетику закон, разработанный современными ему физиологами. Он мог найти его и у Клода Бернара. «Условия жизни, – пишет Клод Бернар, – не заключаются ни в организме, ни во внешней среде, но и в том, и в другом вместе. Действительно, стоит уничтожить или повредить организм, и жизнь прекращается, хотя среда остается; но жизнь прекращается и в том случае, если удалить или испортить среду, хотя бы организм и не был уничтожен. Таким образом, явления (жизни) предстают нам как простой результат соотношения тела с его средой. Если мысленно мы совершенно изолируем тело, мы тем самым его уничтожим; если же, напротив, мы сделаем его связи с внешней средой более тесными и многочисленными, мы увеличим и количество его свойств»[33].
Золя превосходно формулирует этот закон, возведенный во всеобщий философский принцип Спенсером и Тэном: живое существо немыслимо без среды, в которой оно живет, вместе со средой оно составляет нерасторжимое единство. Жизнь есть процесс связи живого существа со средой; возникнув из процессов неорганических, жизнь связана с ними прочной, хотя все более сложной и многообразной связью. Перенося этот принцип в общественную жизнь и, следовательно, переосмысляя его, Золя берет пример из энтомологии, в которой эта связь особенно наглядна. Зоолог, изучающий насекомое, должен подробно изучить растение, на котором оно живет, из которого оно извлекает свою плоть; он должен подробно описать это растение, вплоть до его формы и цвета, – и это описание явится анализом самого насекомого[34]. Поэтому и описание общества, в котором живет человек, является вместе с тем изучением человека.
Следовательно, индивидуальные, «физиологические» особенности человека оказываются особенностями общественными. Говоря, что в практической политике приходится иметь дело не только с логикой, но и с «хаосом идей, воль, честолюбий, безумств», Золя имеет в виду общественные страсти, а не чистую физиологию, каковы бы ни были эти неврозы и безумства[35]. Изучая «язвы» современного общества, проституцию и адюльтер, Золя объясняет то и другое не прирожденными пороками, но влиянием среды, которая в результате обратного действия разлагается под влиянием вызванного ею зла[36].
Золя часто обвиняли в фатализме. Действительно, философская ориентация на природу ведет за собою опасность общественной пассивности. Природа менее подвижна, чем общество, она следует своим извечным законам. В ее спокойной незыблемости она часто противопоставлялась бурному развитию и катастрофам общественной жизни. С другой стороны, сторонники идеалистически понимаемой «свободы воли» обвиняли детерминистов в том, что, объясняя все поступки и чувства причинами объективного порядка, они возвращали человека к древним представлениям о судьбе.
Однако Золя и природу рассматривает как непрерывное развитие, а в эволюционной науке и философии видит характерную черту эпохи[37]. Затем, он нисколько не отрицает власти человека над своей судьбой. Постигнув законы природы, поняв систему причин и следствий, человек может покорить природу и, руководствуясь наукой, направить жизнь к возможному идеалу. Это и будет свобода: «Если мы воздействуем на причинную обусловленность явлений, изменяя, например, среду, то, значит, мы не фаталисты»[38].
Здесь обнаруживается нравственный смысл натуралистического романа, его «мораль». Все изучить, все обнаружить, не смущаясь «грязью», мерзостью действительности, – такова нравственная задача романиста. «Отступать перед вопросом на том основании, что он волнителен, – подло. Это эгоизм счастливого человека и удовлетворенное лицемерие, возведенные в принцип: «Не будем касаться этого, скроем зло, прославим несуществующую добродетель и запьем все это прохладным вином!» Я понимаю нравственность иначе. Она заключается не в лирических декламациях, но в точном познании действительности. А это и есть натурализм, который так осмеивают и так глупо забрасывают грязью». <...>
Золя постоянно говорит об этой общественной функции своего творчества: нужно овладеть жизнью, чтобы управлять ею. Когда-нибудь врачи будут излечивать все болезни, и «мы вступим в эпоху, когда всемогущий человек подчинит природу и использует ее законы, чтобы утвердить на земле как можно большую сумму справедливости и свободы. Нет более благородной, более высокой, более великой задачи. Наша роль разумных существ – в том, чтобы познать причины вещей, чтобы стать сильнее вещей и сделать их своими послушными орудиями».
Золя продолжает мысль, лежащую в основе «Физиологии страстей» Летурно: изучать человека, его страсти, его неврозы и болезни, к которым приводит страсть, чтобы лечить его воспитанием, а для этого – перестроить общество на новых началах, согласных с данными физиологии. Основным выводом книги Летурно является отрицание биологизма. Физиология уничтожает «врожденные идеи», она рассматривает преступников как жертвы общества, а не как чудовища, которых нужно запирать в тюрьмы, мучить и убивать. Общество, осведомленное в физиологии, приложит все усилия, чтобы предупреждать преступления при помощи воспитания и перевоспитания. Основываясь на знании человека и его потребностей, можно организовать новое, более совершенное общество, поднять человека и человеческий род к жизни более высокой в нравственном и умственном отношении[39].
Это задача не только натуралиста-исследователя, но и романиста-натуралиста: «Мы тоже хотим подчинить себе явления ума и страсти, чтобы управлять ими. Словом, мы – моралисты-экспериментаторы, показывающие на опыте, как ведет себя та или иная страсть в той или иной социальной среде. В тот день, когда мы поймем механизм этой страсти, мы сможем лечить и облегчить ее или хотя бы сделать ее как можно более безвредной. Вот в чем заключается практическая польза и высокий нравственный смысл наших натуралистических произведений, ставящих опыты над человеком, разбирающих и собирающих человеческую машину, чтобы заставить ее работать под влиянием среды. Придет время, и мы познаем законы; тогда останется только воздействовать на личность и среду, чтобы прийти к лучшему общественному устройству. Так мы занимаемся практической социологией, и так наш труд помогает политическим и экономическим наукам»[40].
<...> Золя верит в безграничную мощь научного познания. «Конечно, наше знание еще мало в сравнении с огромным количеством того, чего мы не знаем. Это огромное окружающее нас неизвестное должно внушать нам только желание познать его, объяснить его при помощи научных методов». Золя сам упрекает в агностицизме Ренана, который, не отрицая бесконечного прогресса науки, все же для успокоения совести оставляет в мире некую тайну, нечто неведомое, чтобы торжество науки сделать торжеством идеализма. Этот кусочек непостижимого, этот идеалистический туман раздражают Золя. Он уверен, что «когда-нибудь наука совершенно уничтожит неизвестное». <...>
Золя часто заявлял, что не имеет никаких предвзятых мнений, что он просто экспериментирует, наблюдает и показывает[41]. Можно ли видеть в этом какой-нибудь признак объективизма? Его острая, страстная публицистика и разоблачительная сила его творчества никак не вяжутся с безразличным или пассивным отношением к действительности. Говоря о своем беспристрастии, Золя хотел подчеркнуть строгую «научность» и объективность своих художественных исследований, свою неподкупную честность художника-ученого, свою преданность личным убеждениям и правде жизни. но с этим связан и особый «безличный» способ изложения, которым Золя пользуется в своих романах. Он не хочет подсказывать читателю свое отношение к предмету специальными сентенциями или оценочными эпитетами. Задача его в том, чтобы, правдиво изобразив общественное явление, вскрыть его сущность, его глубокие причины и социальную роль, а это и есть объективная оценка, с его точки зрения, более значимая и действенная, чем прямые ламентации или восхваления. Оценка явления заключена в его показе.
Таким образом, натурализм Золя выходит далеко за пределы искусства. Это не сумма литературных правил, не поэтика, ограничивающая свои задачи советами «как писать». натурализм – это мировоззрение, особая позиция по отношению к действительности и особый метод исследования. Поэтому он должен проникнуть во все науки и во всякую теоретическую и практическую деятельность. И прежде всего натуралистической должна стать политика. Она также должна опираться на реальные факты, на данные опыта, она также должна стать наукой. Спасение Франции зависит от того, примет ли французская молодежь натурализм как свое мировоззрение, или обратится к идеализму[42]. В 1872 г. Тьер произнес свою крылатую фразу, вызвавшую негодование всех прогрессивных кругов: «Республика будет консервативной или ее не будет вовсе». В противопоставление Тьеру Золя создает свою знаменитую формулу: «Республика будет натуралистической или ее не будет вовсе»[43].
<...> Золя хотел сказать, что политику нельзя строить на «порыве», на предвыборной лжи, на красноречивом пустословии, на узком практицизме дельца. Она не может быть механическим осуществлением абстрактной формулы «республика», так как политика имеет дело с людьми, с их страстями, привычками, традициями. Чтобы действительно учредить республику, нужно знать материал, из которого строится государство, общественные силы, исторического, общественного человека. А это знание, по мнению Золя, может дать только натуралистическая наука и, в частности, натуралистическая литература[44]. И под названием «Экспериментальная политика» он пишет программную статью, в которой жажда более справедливого строя и более «научной» политики сочетается с идеями эволюционизма. Здесь вновь выражена теория «воспитания» и «просвещения», которые должны превратить старую монархическую страну в подлинную республику. Статья заканчивается не очень радужными перспективами: «Я лично убежден, что медленная эволюция ведет к Республике все народы; но это совершается при таких несхожих обстоятельствах среди народов и в странах столь различных, что даже в мечте нельзя предсказать эпоху, когда установится всеобщее равновесие»[45].
К современной политической «кухне» Золя относился чрезвычайно отрицательно. Свое презрение к политическим дельцам он выражал неоднократно, видя в них низких и бездарных карьеристов, ничего не разумеющих в нуждах страны и потребностях времени, в природе человека и в эволюции общества. Он считал бесполезной политическую работу и не советовал порядочным людям заниматься ею. Лучше быть образованным человеком, чем министром. И не только лучше, но и полезнее для общества. Труд исследователя, ученого, натуралиста ведет человечество к лучшему будущему, между тем как министры лишь вредят своей политической трескотней, отвлекая умы от практической работы и сбивая с толку граждан. Демократия развивается независимо от политики и вопреки ей. <...>
Таким образом, в социальном процессе исключительную, решающую роль играет наука, наука вообще, следовательно, ее представители и «жрецы», ученые. Республика, по мнению Золя, должна быть республикой ученых. <...> При всем своем демократизме он все же опасается подлинной демократии, – ведь не все французы одинаково просвещены, а потому не всех следует допускать к управлению государством: математическое равенство Золя принять не может. По его мнению, цивилизацией движет разум, а носителем разума является интеллигенция. Этот столь распространенный в то время взгляд объясняется политическим опытом эпохи. Стоит вспомнить плебисциты, устраивавшиеся Луи-Наполеоном в начале своей империи и в конце ее и всякий раз поддерживавшие этот режим, или буржуазные «национальные собрания», неизменно толкавшие Францию на путь реакции и дискредитировавшие самую идею парламентаризма. Золя <...>, не доверяя «массам», искал выхода в аристократии ученых.
II
Как же с этих «научных» позиций Золя изучает основной предмет своих интересов – человека?
В предисловии к «Терезе Ракен» Золя формулировал свои любимые идеи: «Я избрал персонажей, отданных во власть нервов и крови, лишенных свободы воли, в каждом своем поступке увлекаемых роком своих плотских побуждений. То, что я принужден был назвать угрызениями совести, есть просто органическое расстройство, восстание нервной системы, напряженной до крайности. Душа здесь совершенно отсутствует».
Золя словно пытается устранить всякие психологические категории и заменить их физиологическими – угрызения совести превращаются в расстройство нервной системы, любовь – в вожделение инстинкта, мысль – в секрецию мозга. Однако перечтем роман, и мы увидим, что он полон тонких и разнообразных психологических наблюдений, что здесь есть и нравственная борьба, и ужас перед содеянным, и любовь, и раскаяние, и угрызения совести – не по названию, а по существу. Следовательно,
Золя, отказавшись от души, не отрекается от психологии, хотя рассматривает ее принципиально иначе, чем школа Кузена с ее «психологическим методом». Психика для Золя оказывается производной от физиологии, или, вернее, обратной ее стороной. Устраняя «душу», Золя вместе с тем уничтожает автономность сознания и рассматривает его как простую регистрацию физиологических процессов. Причины поведения он открывает в глубине подсознательного. И здесь он использует достижения и ошибки современной ему науки. <...>
Во Франции в течение всего XIX в. продолжалась работа французских физиологов-медиков, говоривших о теснейшей зависимости психической жизни от жизни организма. <...> Из множества популярных работ по физиологии следует особо отметить книгу Ш. Летурно «Физиология страстей» (1868), интересную своей социологической тенденцией и вниманием, которое автор уделяет среде. Он объясняет психическую деятельность деятельностью нервной системы, утверждая, что нравственный склад человека и его страсти зависят не от одного только головного мозга, но от всей суммы его органов, и тем самым приходит к мысли о бессознательных психических процессах.
Золя читал «Физиологию страстей» в 1868 г. и делал из нее выписки, разрабатывая замысел «Ругон-Маккаров». На первых страницах книги он мог найти, вместе с определением жизни и отношения особи к среде, основы «натуралистической» психологии: «Если бы мы сознавали все жизненные акты, совершающиеся в нашем организме, если бы мы могли по желанию изменять ее течение, то у нас было бы столько же потребностей, сколько органов, тканей, элементов. но большая часть этих процессов протекает за пределами сознания, и нам ничего неизвестно о наиболее глубинных жизненных процессах… Единственные мозговые следствия этих растительных процессов – хорошее или плохое расположение духа, сила, слабость». Более близки к сознанию процессы, связанные с органами чувств, с половой жизнью и т.д. Каждый орган, каждая специальная ткань должны жить соответственно своей организации, отсюда ряд второстепенных потребностей, более осознанных, хотя и менее деспотических[46].
И Летурно посвящает анализу потребностей специальные главы, так как именно потребности превращаются в желания и являются основой психической деятельности. Это дает возможность изучать потребности чувства, т.е. потребности социальные, которым и посвящены дальнейшие главы.
Такова эта «физиология потребностей», идущая во французской науке от XVIII в. и приводившая к важным социальным выводам.
Еще большее значение для Золя в этом вопросе имел Тэн. Из его философских статей, собранных в книге «Французские философы XIX века» (1857), из «Исторических и критических опытов», из личных бесед Золя усваивал психологические взгляды Тэна, получившие свое полное выражение в 1870 г. в книге «Об уме и познании», над которой Тэн непрерывно работал с 1867 г. <...> В своих критических статьях, так поразивших Золя, Тэн дает образчики <...> «этономии», науки о характерах. <...> задачи этономии позволяют заключить, что Тэн свои историко-литературные труды рассматривал как историческую психологию и, с другой стороны, как подготовку философско-психологического исследования общего характера, осуществленного лишь в 1870 г. Поэтому и Золя в критических работах Тэна видел фрагменты общей психологии, труды теоретические по основной своей задаче. В теории познания и психологии Тэн был чистым идеалистом, определяя познание как «правдивую галлюцинацию» и приходя к одухотворению материального мира. Несомненно, что и в этом отношении он оказал влияние на Золя, которого, однако, интересовало прежде всего психологическое учение Тэна, возникшее на почве современной экспериментальной или опытной психологии.
<...> Золя покорила и методологическая «научность», и настойчивая физиологическая база рассуждений Тэна, и новая теория «тела» и «души». Он с восторгом принял <...> представление о человеке как о республике нервных центров с их сложной иерархией и непрерывным психическим трудом. Душа, растворенная во всем теле, неразлучно связанная с каждой клеткой и тем самым со всей окружающей средой, это единство внешнего и внутреннего мира, констатируемое каждым психическим движением, отчетливые материальные корни самых сложных и алогичных страстей, страхов и настроений – все это вызывало у Золя научное вдохновение и жажду художественного творчества. Его пленила даже идея родства между растительным и животным миром, также получившая отражение в его творчестве.
Золя встречался с Тэном как раз в то время, когда тот обдумывал и писал свой психологический труд. <...> Трансформируя учение Тэна, отбрасывая то, что было в нем явно идеалистического, сохраняя нужное и полезное, контролируя это действительностью, Золя строил свой психологический метод.
III
«Романисты и поэты, – говорит герой «Творчества», – должны обращаться к науке; в настоящее время это единственный возможный источник. Но вот в чем дело: что взять у нее, как идти с ней в ногу? Я тотчас же начинаю чувствовать, что сбиваюсь с пути. Ах, если бы я знал, если бы я знал, какую серию книг швырнул бы я в лицо толпе!»
В эпоху «Терезы Ракен» и тем более к концу шестидесятых годов Золя уже представлял себе путь, по которому следовало идти. Вводя в свои романы всю эту науку, он хотел расширить человеческую психику за пределы логически действующего «рассудка» и отчетливо осознанных представлений. «Господствующая страсть», вторгшаяся раз навсегда в сознание героев, эти слишком отчетливые размышления, побуждающие их к действию, монотонное единое чувство и единая идея не удовлетворяют Золя. Он хочет расслышать в своем герое целый оркестр чувств, неведомых самому герою, работу множества сил, происходящую в недрах физиологии, в глубине организма, живущего полною жизнью. Всякий орган, все нервные центры, все «души» участвуют в этой симфонии, а поведение и сознание возникают из коллективной жизни тела, из этой органической демократии клеток, так как абсолютная монархия сознания свергнута, и вместо одного голоса, идеи или страсти, звучат десятки голосов – воспоминаний, инстинктов, ощущений и чувств.
Чтобы понять, что творится на поверхности, нужно прислушаться к подземной работе созидающих сил. Там, в глубине – подлинное творчество, закономерное и разумное в своей инстинктивности и бессознательности. Одни только логические мотивы не могут объяснить поступки, так как из множества мотивов и актов сознание производит выбор под мощным давлением среды.
<...> Психология героев Золя подчиняется особым законам. В логику сознания неожиданно вторгаются чувства естественные, но удивляющие самих героев. Иногда это даже не чувства, а поступки, диктуемые инстинктом, противоречащие собственным намерениям и желаниям человека. Герои далеко не всегда и не во всем распоряжаются собою, и борьба чувств и идей, колебания и противоречия создают внутренние конфликты, объясняемые этой сложностью психологии, республики центров и душ, толкающих сознание на различные решения или решающих за него и без его ведома. В любом романе Золя можно найти множество примеров этой психологии. Не все герои в этом отношении одинаковы. На некоторых Золя обращает особое внимание, сложно и глубоко разрабатывая их психологию и наделяя внутренней борьбой драматического, или трогательного, или идиллического характера. Другие более непосредственно и бесконфликтно идут по пути, указанному их физиологией и средой. Но ничего принципиально звериного в этом натуралистическом человеке Золя не видел. Полина Кеню («Радость жизни»), Анжелика («Мечта»), Франсуаза («Земля»), Каролина («Деньги») и многие другие свидетельствуют о том, что физиология не была для Золя ни пороком, ни гнусностью, но законом психической жизни, что натуралистический метод не был средством разоблачения человека вообще. Как раз напротив: Золя защищал физиологию и человека от посягательств религии и спиритуализма. Он утверждал единство тела и духа в противоречии с религией и реакционной философией и освобождал человека со всей совокупностью его естественных сил от того греха, которым обременяла его дуалистическая философия. Более того, физиология, как всякий естественный процесс, обладает разумом, которого часто лишен сознательный разум, – она разумна тогда, когда не подвергается гибельным влияниям «дурной» среды, когда она не развращена всеми бедами современной цивилизации.
Таким образом, уже в самом начале физиология оказывается исследованием среды, – эта особенность творчества Золя постулирована всеми его теоретическими размышлениями и наукой его эпохи. Среда, которую изучает Золя, это прежде всего естественные и бытовые условия жизни, – к такому пониманию влекла его физиологическая точка зрения. Конечно, он не ограничивается только такой средой: многие герои изучены в контексте всей эпохи, в широком потоке идей, увлекающих поколение. Но часто персонаж у Золя возникает из узкой окружающей его обстановки, из событий его личной жизни, и круг его идей в значительной мере определен кругом его личных и бытовых впечатлений. Семья Маэ («Жерминаль»), Анжелика («Мечта»), бытовые герои «Чрева Парижа», почти вся семья Ругон-Маккаров в «Карьере Ругонов», крестьяне в «Земле», и т.д. при всем своем разнообразии прикованы к быту, что, конечно, еще не определяет их нравственных качеств. И тем не менее реакция на эту среду создает классовое сознание и политическую активность целых групп населения, и психология сытого мещанства, так же, как психология горняков, устраивающих грандиозную забастовку, являются откликом на материальное бытие класса, на роль, которую он играет в производстве и распределении.
Среда далеко не всегда ограничена только обстановкой и только эпохой. Серж Муре перерождается в чудесном саду, возвращающем ему вместе с физическим здоровьем и нравственное, но здесь среда воздействует особым образом. Вспомним эту пантеистическую идею, пробивавшуюся сквозь «научную» и «экспериментальную» методологию Тэна и других его предшественников, – идею психологического единства органического мира. Одни и те же законы определяют природу и человека, и потому воздействие природы на человека может превратиться в прямое поучение. Природа подает пример человеку, сбитому с пути человеческими измышлениями, гнусностями, ложной цивилизацией, а пример этот воспринимается чувствами, не достигающими отчетливости идеи.
Иллюстрацией этого может служить сцена в Параду, во второй части «Проступка аббата Муре». Дерево, под которым аббат совершает свой «проступок», не только символ. Это подлинный наставник, и сад по-настоящему втягивает двух молодых людей в ритм своей стихийной и здоровой жизни. Он торжествует над ними через подсознательные ощущения, т.е., по терминологии Золя, «физиологически». Ведь человек – это частица природы, он ей не противопоставлен, как в христианстве и спиритуализме, но включен в нее. Не только физической, но и психической жизнью он связан с природой и подчинен ее закономерностям. «Трава живет!» восклицает аббат Муре, возвращающийся к законам естественной жизни и вместе с тем к единству с природой. Он изумлен этой идеей и счастлив ею. В «Ракушках господина Шабра» роль дерева аббата Муре играет море, и его воздействием определено поведение Эстеллы, Сандоз мечтает написать книгу, в которой были бы описаны «вещи, звери, люди, весь огромный ковчег! и не в том порядке, в каком они расположены в руководствах по философии, в глупой иерархии, которой баюкает себя наша гордость, но в широком потоке мировой жизни; мир, в котором мы – только случайность, в котором бродячая собака и даже придорожный камень дополняют и объясняют нас; словом, великий универсум, без высшего и низшего, без грязи и чистоты, но такой, каким он живет».
В любом романе Золя есть это «дыхание универсума», которое в наивысшую минуту включает героя во всеобщий ритм. Без этого Золя не представляет себе человеческой жизни, так как она не может протекать вне среды, так как она без среды немыслима. <...>
Среда у Золя – понятие чрезвычайно широкое и нерасчлененное. Золя и не мог его расчленять, – для него это было бы отказом от его принципиальной физиологической точки зрения. Средой для него было все, что воздействует на организм, – идея, государственный закон, пища, зрелище, квартира. Но он внимательно изучал эти «среды», учитывал всю сумму их воздействия на личность и массы. И в его романах наиболее прочное, определяющее влияние имеет конечно, социальная среда, которая ни в какой мере не исключает влияния быта.
В каждом романе среда фигурирует в особом аспекте. В «Мечте» это профессия кустаря-вышивальщика при провинциальном соборе, изваяния и витражи с изображениями христианских легенд, все еще живые фамильные предания аристократического рода, в тени которого живет затхлая провинциальная семья. В «Западне» – быт ремесленника, живущего между тяжким трудом, кухней и кабаком. но эта бытовая среда насыщена всеми «дыханиями» и «испарениями», которые действуют на людей непосредственно, физиологически. В «Жерминале» – социальная среда, условия труда и жизни, быт в широком смысле слова создают классовое сознание, еще не выросшее в разработанную идеологию и философию общественной жизни, но четкое в своей реакции на систему эксплуатации и на действия классового врага. В «Деньгах» среда – это по преимуществу растлевающая сила денег, безумие спекуляции, распространяющееся, как эпидемия, в самых различных общественных кругах. В «Проступке аббата Муре» – две среды: волшебный сад Параду, среда «естественная», и клерикальные круги, овладевшие героем с детства.
Как видим, функции сред и характер их воздействия чрезвычайно разнообразны, и свести их только к испарениям и дыханиям никак нельзя. От быта и обстановки среда возвышается в более общую и идеологическую область. Она сращивается с человеком, но в то же время толкает его на размышления, определяя характеры, определяет и идеологию, вызывает сопротивление не только индивидуальное, но и классовое, и ее изучение превращается в глубокое, иногда поражающее своей правдивостью и в то же время воинствующее изучение общества.
Часто изображение среды у Золя утрачивает свою спокойную описательную точность, среда оживает, живет своей собственной чудесной и многозначительной жизнью. Цветы и растения в Параду живут и мыслят, совершают свой жизненный процесс почти как сознательные существа. Оживает паровоз в «Человеке-звере», колбасы в лавке Лизы Кеню, снедь и самый рынок в «Чреве Парижа» кажутся живыми существами с их особой, глухой, чудовищной жизнью. «Великий универсум», в котором бродячая собака и даже придорожный камень дополняют и объясняют нас, раскинулся в романах Золя во всю свою широту. Камни и деревья становятся средой, когда они оказывают на героев свое действие. Тогда они неизбежно оживают, становятся антропоморфными, между вещами и людьми протягиваются нити симпатии. Паровоз, не оживленный воображением машиниста и кочегара, не стал бы средой, цветы и деревья, которые ничего не говорят человеку, не окажут на него влияние, и только глухие, почти подсознательные ассоциации определяют действенность колбас в «Чреве Парижа» и знаменитого жареного гуся в «Западне».
Эти предметы идут сквозь весь роман, уже оторвавшись от восприятия окружающих. Оказывая свое действие на героев, принимая от них свой смысл, они становятся символом. Паровоз Лизон становится воплощением безумия всей Франции и влечет страну к катастрофе. Вход в шахту оказывается жерлом ненасытного чудовища, двери из палисандрового дерева, хранящие за собою «целые бездны порядочности», внушают благоговейный трепет прохожим и становятся символом лицемерия и гниения всей социальной группы. Здание биржи в «Деньгах», здание рынка в «Чреве Парижа», черная земля, предмет всеобщих вожделений, в «Земле», кабак в «Западне» играют такую же символическую роль. Романы все больше наполняются символами, символическими образами, повторяющимися, как рефрены, десятки раз. В «Четвероевангелии» рефрены заполняют целые страницы, настойчиво вбивая в сознание читателя одну и ту же идею.
Во всех этих случаях символический образ оказывается элементом среды, более или менее сросшимся с человеком или общественной группой, явлением социальным, – это еще раз свидетельствует о социальном направлении «физиологической» методологии Золя.
IV
Увлеченный современной экспериментальной наукой, Золя пытался применить ее метод к художественному творчеству. Эксперимент в литературе, по мысли Золя, заключался в том,чтобы, определив темперамент героя, подвергнуть его воздействию среды и следить за результатами. Давно уже было указано, в чем была ошибка Золя: ведь персонаж романа – не реальный человек, а среда, изображенная в романе, – не реальное общество, и потому опыт, который производил Золя со своими персонажами, остается с начала до конца вымыслом автора. Но в чем заключается эстетический и творческий смысл этой теории, которую Золя проповедовал с непоколебимым упорством?
<...> экспериментальным можно было бы назвать роман, основанный на наблюдении действительности. Но желая приблизить искусство к науке, Золя стал говорить о лабораторном эксперименте и, совершив ошибку, навлек на себя справедливые упреки, под которыми утонуло реальное эстетическое значение понятия «экспериментальный роман»[47].
Эксперимент, о котором говорит Золя, определяет основную проблему произведения – взаимодействия среды и человека, систематически и последовательно изученные. Вместе с тем теория эксперимента требует от писателя особой творческой дисциплины. Он должен рассматривать свое произведение как нечто не зависящее от его желаний. Он просто «ставит опыт». Он только констатирует реакцию личности на возбуждения среды и только наблюдает за течением опыта. В творчество вносится новая черта, «научность», – приходится употребить это слово, чтобы характеризовать не результат творческого процесса, но характер его. Писатель подчиняет себя воле персонажа, который в соответствии со своим темпераментом реагирует на условия среды. Писатель не смеет фантазировать, изображать поступки или чувства, не обусловленные средой, он должен проверять и объяснять судьбу героя материальными причинами, фактами окружающей его действительности. Герой должен быть изображен вместе со средой, в непрерывном взаимодействии, – в этом и заключается смысл художественного эксперимента.
Такой эксперимент был поставлен уже в «Терезе Ракен»: «Взять сильного мужчину и неудовлетворенную женщину, отыскать в них животное начало, видеть только это начало, вызвать жестокую драму и тщательно отмечать переживания и поступки этих людей… Изучить темперамент и глубокие изменения организма под влиянием среды и обстоятельств». Таким образом, теория эксперимента существовала у Золя еще за 12 лет до появления статьи «Экспериментальный роман», а следовательно, объяснить ее возникновение задачами полемики или потребностями рекламы нельзя.
Художественный эксперимент не допускает воображения, которое искажает действительность или заново ее создает. Золя противопоставляет воображению наблюдение и опыт[48]. Под воображением он понимает способность выдумывать события и чувства, не данные в опыте, не существующие в действительности[49]. Эта способность, утверждает Золя, характерна для романтиков, – хотя в романтической теории воображение играло совсем другую роль.
Однако тот эксперимент, который совершал в своих романах Золя, представляет собою не что иное, как акт воображения. Золя рассматривает этот акт как логический вывод из научных данных.
«Личное чувство художника должно быть подчинено контролю истины»[50]. Истина – это цель, и задача заключается в бесконечном приближении к ней. Старое определение произведения искусства, данное Золя в 1866 г., – «кусочек природы, рассмотренный сквозь тот или иной темперамент» – интерпретируется теперь иначе. Тогда Золя особенно настаивал на личном начале, на оригинальном видении мира, через пятнадцать лет темперамент для него оказывается лишь источником искажения природы, которого нужно избегать, приближаясь к недоступной еще математической точности передачи. Самое это определениедает критерий для оценки художественного произведения с точки зрения его правдивости[51].
Этому принципу подчиняется все его творчество. Здесь есть нечто ригористическое, и Золя не скрывает того, что искусство создается не для удовольствия, но для правды и пользы. Он обрушивается на «романтизм», придумывая свою собственную, «натуралистическую» теорию романизма, видя в нем только лакировку действительности, нелепую выдумку, ложь. <...> Гюго – великолепный версификатор и стилист, его стихи и проза могут даже доставить удовольствие, но он творит при помощи воображения и улетает за сто верст от правды, а потому с ним нужно бороться. <...> Золя часто заявляет, что и у него самого еще много романтического, корит себя за это и обещает исправиться в дальнейшем[52].
С этих позиций определяется и понятие типического. Процесс создания образа заключается для Золя не в выборе наиболее подходящих элементов из массы наблюденного, не в построении некоего синтетического персонажа из собранных повсюду материалов. Процесс типизации также оказывается экспериментом: художник берет некое биологически определенное существо, подвергает его воздействию обстоятельств и следит за результатами. Поведение героя составляет роман, характер его реакции на воздействия среды – содержание образа. Типическое – в закономерности этой реакции. Золя допускает в свои романы всякий персонаж: ведь в современной Франции живут миллионы разнообразнейших людей, занимающихся всевозможными профессиями и реагирующих по-разному на самые различные среды. Исключить из своего поля зрения хоть одну разновидность этой толпы – значит исказить действительность и ограничить искусство. Выбирать героев или складывать их из подобранных в разных местах кусочков – такое же искажение действительности, произвол и отрицание науки. Для Золя творчество заключается в объяснении того, что есть, а не в вымысле несуществующего, следовательно, главным предметом его интереса оказывается система закономерностей, управляющая общественной жизнью. Следовательно, и типическим герой становится лишь в той мере, в какой его поведение, его реакция на окружающую обстановку, его характер и идеология объяснены автором в системе этих естественных и общественных закономерностей. Совершенно очевидно, что тип у Золя имеет явно выраженный общественный смысл.
V
Итак, роман должен быть дневником экспериментатора или, по выражению Золя, протоколом. «Кузина Бетта», роман, в котором Бальзак поставил эксперимент с сластолюбцем Гюло, тоже, по словам Золя, является протоколом[53]. Писатель – это писец, записывающий под диктовку событий; ведь и Бальзак называл себя только секретарем общества, диктовавшего ему «Человеческую комедию». Поэтому писатель должен воздерживаться от каких-либо комментариев или оценок и, главное, отказаться от всяких выдумок, оставляя правду в неприкрашенном, чистом виде.
Вся поэтика Золя определяется этим основным эстетическим принципом. Он всегда протестовал против формалистических правил, против «риторики», подчеркивая определяющее значение материала[54].
Прежде всего это относится к композиции. Не следует комбинировать события так, чтобы вызвать наиболее драматический эффект. «Интрига не имеет большого значения для романиста, который не беспокоится ни об экспозиции, ни о завязке, ни о развязке; иначе говоря, он не должен вмешиваться, отсекать от действительности или добавлять к ней что-нибудь, он не должен строить весь остов целиком для доказательства заранее придуманной идеи. Нужно исходить из того взгляда, что одной действительности достаточно»[55].
Это, конечно, реакция против тонко построенной интриги таких мастеров, как Вальтер Скотт или Гюго, или, в другом плане, Александр Дюма с его приключениями. Золя в этом отношении опирается на Бальзака, хотя Бальзак считал Скотта величайшим мастером интриги, а собственные свои романы старался построить наиболее логически и вместе с тем драматически. Золя полемизирует также с Жорж Санд, находя, что ее роман «Мопра» слишком уж хорошо построен, слишком живописен и красив, чтобы быть правдивым. Золя утверждает, что рассчитанная, логическая композиция «Мопра» обнажает тенденциозность романа, свидетельствует о том, что Жорж Санд написала его специально для доказательства некоего тезиса, и потому выдумывает факты, а не изучает их[56]. Чем банальнее и обыденнее сюжет, тем более он правдив. «Заставить действительных героев жить в действительной среде, дать читателю кусок человеческой жизни – в этом весь натуралистический роман». Золя констатирует эту простую, обнаженную интригу у своих учеников, у Гюисманса, у Алексиса, но также и у Флобера, особенно в «Воспитании чувств». «Малейший человеческий документ хватает вас за душу сильнее, чем любая выдуманная интрига. Когда-нибудь писатели будут писать простые этюды, без перипетий и без развязки, анализ одного года жизни, историю одной страсти, жизнь одного человека, записи, сделанные с жизни и распределенные в известном порядке»[57]. И Золя восхищается окончанием повести Сеара «Чудесный день»: «Какой ужасающе банальный конец!»[58]
Приникнуть к жизни, не бояться ее, но и не смеяться над нею. Жорж Санд хотела быть апостолом блаженной жизни, она отвергала действительность и потому вымышляла другую, более ее удовлетворявшую[59]. Нет, не нужно утешать читателя розовыми вымыслами, нужно показать ему всю скудность, серость, тоску нашего существования! И Золя словно повторяет урок, данный Бальзаком в «Провинциальной музе», заканчивающейся обычной и ничуть не поэтической пошлостью, и Флобером в «Воспитании чувств». Жизнь не так хороша, но и не так плоха, как иногда кажется, – эти слова Флобера, которыми Мопассан закончил свою «Жизнь», выражают точку зрения Золя, обнаруживающуюся во многих его романах. «Натуралисты погружаются в пошлый ход жизни, показывают, как все на свете пусто и печально, чтобы протестовать против нелепого апофеоза и ложных великих чувств»[60]. Трагическая смерть, самоубийство, безысходное отчаяние героев Жорж Санд удивляют Золя: «Жизнь, к счастью, неплохая девушка. С ней всегда можно сговориться, если имеешь немножко добродушия, чтобы выносить неприятные минуты»[61].
Но примирение с жизнью не есть примирение с действительностью. Жить – значит трудиться для улучшения жизни. «Чтобы быть действительно сильным в наше время, не нужно смеяться над мещанами, которые являются глубоко интересными объектами для изучения; нужно знать Францию, прежде чем ехать в Китай курить опиум; нужно любить новый Париж. Не нужно сражаться с наукой во имя какой-то убогой фантазии, из жажды каких-то побрякушек и украшений». Принять жизнь ради науки и ради борьбы – такова философская основа этой новой, «банальной», «серой», «монотонной» натуралистической композиции.
Любопытно, что в этом отношении Золя ориентируется не на «Мадам Бовари», но на «Воспитание чувств» Флобера, так как трагическая смерть Эммы Бовари проигрывала перед безнадежным существованием Фредерика Моро. Любопытно также, что Золя находил романическим окончанием «Мадам Жарвезе» Гонкуров. Однако у самого Золя сколько угодно таких романических окончаний, и, может быть, их он считал плачевными остатками своего бывшего романтизма.
Золя и людей изображает так, словно наблюдает за результатами опыта: он описывает только их наружность – внутренние качества раскрываются в их поступках, в их реакции на события, т.е. так, как эти качества раскрываются наблюдателю, экспериментатору. Ведь Золя интересует не отвлеченная физиология, но общественный человек, не отвлеченные «качества», в действительности не существующие, а поведение, так как «качества» обнаруживаются только в поведении, в реакции на внешний мир. Вот почему он представляет нам своих героев вместе со средой, без которой они непонятны и невозможны.
В романе приключений рассказывается главным образом о внешних поступках людей, в романе психологическом автора занимает внутренний психический процесс. В том и в другом случае описание может быть сведено до минимума и заменено повествованием. Для натуралиста важны не поступки и не переживания сами по себе, но их причины и их связь со средой. Поэтому повествование в натуралистическом романе часто отодвинуто на второй план, а первую роль играет описание, занимающее большую часть романа, – ведь описать среду – значит объяснить и персонаж, и действие.
Враждебная критика, а после появления «Земли» и бывшие друзья дружно упрекали Золя за любовь к низким словам, к жаргону, к грязным выражениям, видя в этом чуть ли не нравственное извращение и принципиальное желание исковеркать французский язык. С восторгом вспоминали о сообщении Алексиса, будто бы первое слово, которое Золя научился произносить, было «cochon» (свинья)[62]. Такие обвинения казались Золя особенно оскорбительными. Ведь стиль, как и все произведение, был определен методом и материалом, а не произволом и не вкусом автора. «Язык – это логика, естественное и научное явление. Лучше всего пишет не тот, кто с наибольшей непринужденностью резвится посреди гипотез, а тот, кто идет прямо посреди истин»[63]. Литературный язык должен быть ближе к обычному разговорному языку. не нужно совсем отказываться от живописных эпитетов и музыки фразы. но нужно больше ясности и логики, чем в современном «хорошем» языке, – поменьше искусства и побольше «прочности»[64]. Язык персонажей не должен блистать остроумием, не должен изобиловать лиризмом, переходящим в безумие. Он должен быть правдивым, соответствовать переживаниям героя, определенного средой, и, характеризуя героя, он должен в то же время характеризовать среду. Для этой цели Золя широко пользуется «несобственной прямой речью». Поверхностному взору казалось, что сам Золя, по собственному своему вкусу и желанию, коверкает литературный французский язык, насыщая его жаргоном, бранными словами и вульгарными выражениями. но Золя и здесь подчинялся материалу, пытаясь отразить в языке своеобразие среды, характер интересов и манеру жизни данной общественной группы. И ошибки в языке зависели от ошибок в его понимании отдельных общественных групп и социального развития вообще.
С точки зрения натурализма, литература может изображать все, мещанскую действительность и идиллию в запущенном саду, салон и лачугу, спекуляции зачерствелого в разбойничестве банкира и мечты влюбленной девицы. Весь этот «ноев ковчег» современности должен быть изучен при помощи того же научного метода, того же натуралистического анализа[65]. Во второй части «Аббата Муре», на которую ссылается сам Золя, в «Мечте», в «Странице любви», в «Творчестве» применен тот же отныне неизбежный для Золя метод, метод «жестокого» анализа. Поэтому нельзя противопоставлять так называемые «документальные» романы Золя его так называемым «лирическим» романам, – документ и чувство для Золя неотделимы: в самом документальном романе есть лирические персонажи и в любом лирическом романе есть документация. Меняется только характер этой документации.
Мы уже говорили, что враждебной критике натуралистический метод Золя, объясняющий «свободную» деятельность человека и самые высокие его чувства причинами материального характера, казался оскорбительным для человечества. Основной темой почти всех критических отзывов было отсутствие положительных, «симпатичных» героев у Золя. Действительно, положительных героев в том смысле, в каком понимали это слово, например, Гюго и Жорж Санд, у Золя не было и быть не могло. Идеальных героев, обладающих всеми добродетелями и «приличных» по всем правилам буржуазного лицемерия, Золя считал нереальными, выдуманными и такое понимание человека решительно отвергал. Чтобы получить «симпатичного» героя, писал Золя, нужно коверкать природу, нужно не только наделять героя безупречной добродетелью, но и замалчивать его недостатки, вернее, придумывать его заново, согласно правилам хорошего тона и «порядочности»[66]. Золя не желал таких героев, так как не желал лжи. <...>
Золя как будто отказывается от положительных героев. Но неужели эти люди, участь которых должна внушить ужас и сострадание, жертвы общества и жертвы демагогов, являются отрицательными героями? Конечно, нет. Они не похожи на идеальных героев Гюго или Жорж Санд, ни на прописных мещанских героев Ожье или Дюма, ни на раздушенных и благовоспитанных героев Фейе. Они изнеможены трудом, испачканы углем, необразованы, они не могут служить примером хорошего тона <...>, но они вызывают сострадание и симпатию, иногда восхищение. И среди мерзости буржуазных эгоистов и разбойников неужели этих простых героев нельзя назвать положительными?
Конечно, в Ругон-Маккарах почти нет программных героев, которых Золя мог бы рекомендовать как образец для подражания. Ни Катрина Маэ («Жерминаль»), ни Франсуаза Муш («Земля»), ни Каролина Гамлен («Деньги»), ни Жак Маккар с его медленным умом («Разгром»), ни Полина Кеню с ее кругозором, не выходящим за пределы домика на морском берегу («Радость жизни»), ни добродушный и простоватый Вейс («Разгром»), ни Этьен Лантье с его необузданной страстью («Жерминаль») – никто из этих героев не соответствует эстетике идеальных героев. Но нравственная красота, тонкость чувств, самоотверженность, доходящая до героизма, нежность и восхищение, с которыми относится автор к своим персонажам, глубина жизни, которой он их наделил, ставят их в один ряд с лучшими положительными образами французской литературы. «Жестокий» анализ, о котором говорит Золя, только подчеркивает их положительную ценность, делая их более правдивыми. Высокое нравственное начало, которому они вольно или невольно подчиняют свое поведение, преодолевает эгоизм и придает этим простым людям подлинное величие, в котором Золя отказывает мещанам, аристократам, министрам и императорам.
С особенной симпатией Золя изображает рабочую среду. Семья Маэ обрисована без малейшей лакировки, рассказано все, что противоречит буржуазным представлениям о нравственности, условия жизни изображены с предельной откровенностью, ничто не утаено, – и тем не менее семья эта вызывает не только сострадание, но и глубокую симпатию. <...>
С необычайной отчетливостью Золя характеризует разоблачительный характер своего творчества, его общественные задачи, эту правдивость, которая противоречит интересам господствующего класса. Быть объективным значило для Золя быть разоблачителем и борцом.
В этой системе идей возникал замысел «Ругон-Маккаров». «Охватить всю землю, сжать ее в своем объятии, все видеть, все знать, все сказать. Я хотел бы на странице бумаги уместить все человечество, все существа, все вещи»[67]. Этот замысел вылился в грандиозную «Историю одной семьи в период Второй империи». О возникновении его было рассказано не раз. Обычно внимание обращали преимущественно на проблему наследственности. Указывали на сочинение Люка, из которого Золя почерпнул эту теорию, ссылались на черновую запись к «Доктору Паскалю»: «Дарвин, исправленный Гальтоном, Геккель, перигенез, Вейсман». Очевидно, это просто заготовки к последнему теоретическому роману серии, и делать из этого далеко идущие выводы не следует: ведь эта «эрудиция» возникает лишь в момент, когда вся серия почти написана.
В теории научного романа, как ее формулировал Золя, наследственность играет лишь очень небольшую роль. Она возникает после того, как «научный» метод получил свое выражение в «Терезе Ракен». Наследственность возникла у Золя как средство связи между задуманными романами, и только. Иногда она играет роль мотивировки действия, непонятной ни читателю, ни самому Золя, который любую особенность своих героев не задумываясь мог бы объяснить наследственностью. Она скрепляет серию несколькими героями, количество которых ничтожно в сравнении с другими, не имеющими отношения к злополучной семье. К тому же потомки Аделаиды Фук далеко не всегда играют первую роль. Жан Маккар в «Земле» и в «Разгроме», Этьен Лантье в «Жерминале», Марта Муре в «Завоевании Плассана», Октав Муре в «Кипящем горшке» не являются главными героями. Они растворены в среде, иногда даже противопоставлены ей, они отодвинуты в тень действительными протагонистами, ради которых и написаны эти романы. В других произведениях, где первую роль играют Ругон-Маккары, вопрос о наследственности лишь едва намечен – ни Саккар в «Добыче» и «Деньгах», ни его превосходительство Эжен Ругон, ни Жервеза Маккар в «Западне», ни Анжелика в «Мечте» ничего не объясняют в проблеме наследственности: при их помощи изучены «среды», социальные явления и классы. Законы наследственности в понимании Золя столь неопределенны, и столь неожиданны бывают результаты различных комбинаций и трансформаций, что любой характер можно было бы объяснить любой наследственностью, – так, в сущности, Золя и поступает. Далее: то, что Золя называет наследственными дефектами, проявляется только под влиянием среды и обстоятельств – Марта, вполне уравновешенная в первой половине романа, сходит с ума только после появления рокового Фожа, Жервеза гибнет под влиянием среды и под ударами обстоятельств, Нана развращается потому, что с детства попадает на улицу. С другой стороны, остается непонятным здоровье Октава Муре и здоровье Жака Маккара. Поэтому читатель легко забывает об этой непостижимой наследственности, – так же, как забывал о ней и сам Золя: в своих рукописях он должен был напоминать себе: «не забыть о наследственности».
Теорию наследственности Золя подчинил своим общественным интересам. На двух страничках предисловия к «Карьере Ругонов» он формулировал свой социально-политический замысел. Оказалось, что врожденный дефект семьи характеризует целую эпоху исторической жизни Франции, а по существу и всю вторую половину XIX в. Ругон-Маккары «отличаются разнузданностью вожделений, всеобщим, свойственным нашей эпохе яростным стремлением к наслаждению». Психическая и наследственная болезнь Ругон-Маккаров послужила для Золя определением целой эпохи «от преступления 2 декабря до предательства Седана». Разнузданные эгоисты, как звери, бросаются в жизнь, чтобы когтями и зубами урвать свой кусок добычи, и преуспевают только в этой зараженной атмосфере, в гнилом обществе Второй империи, между тем как другие, более приличные представители семьи, ведут полуголодное существование, либо гибнут, либо переходят в ряды революции. Тем самым наследственность оказывается как бы нейтрализованной. Врожденная болезнь, если она вообще проявляется, принимает различные формы в зависимости от среды, в которую попадают отдельные представители рода.
Наконец, среда может исцелить этот наследственный дефект, погасить окончательно болезнь. Золя не раз подчеркивает это: человека можно воспитать и перевоспитать уходом, заботой, трудом. Человек сам может перевоспитать себя, – таким образом, общественное и нравственное начало торжествует над бессильным «роком» наследственности. В завершающем серию романе с его научными рассуждениями и документацией, подводящей итог всей естественной и социальной истории Ругон-Маккаров, этот «фатализм» наследственности как будто получает свое последнее и наиболее полное выражение. Доктор Паскаль со своими папками и родословными словно венчает это порочное здание биологическим и по существу пессимистическим детерминизмом. Однако именно в этом романе, больше чем в других, биологический фатализм преодолен и отвергнут. Он преодолен той самой наукой, которая установила эти законы наследственности. Ведь познать историю болезни, причины ее возникновения и способы лечения, разоблачить общество, в котором процветают хищники и преступники, – значит сделать шаг к преодолению зла, приблизиться к новому обществу, построенному на более разумных началах более здоровыми людьми.
«Теперь каждый раз, как я принимаюсь за роман, я наталкиваюсь на социализм», писал Золя Сантен-Кольфу в 1890 г., работая над «Деньгами». <...> Золя замечательно характеризует свою политическую эволюцию: «Старый республиканец, каким я сейчас являюсь, и социалист, каким я, без сомнения, когда-нибудь стану»[68]. В скором времени Золя выступит на политическую арену с знаменитым «Я обвиняю», адресованным президенту Республики. <...> от своего пренебрежения к политике Золя приходит к решительному политическому акту, почувствовав, что «научного» романа недостаточно для борьбы с общественным злом.
Однако, видя и даже оправдывая классовую борьбу, Золя все же считал, что она скорее помешает, чем поможет будущему. Если классовая борьба является следствием не только плохой среды, но и дурно направленных инстинктов, то следует постепенно улучшать среду, лечить и воспитывать людей. Революционные стремления <...> кажутся Золя заблуждениями, и как всякое заблуждение, болезнью, вызванной соответствующей средой. Окончательно правыми оказываются люди, поднявшиеся выше «инстинктов», выше непосредственных воздействий быта, руководимые идеей справедливости, страстной жалостью и гуманизмом. Этьен Лантье стал политическим деятелем после того, как, убедившись в бесполезности насильственных действий, он освободился от «инстинкта» и от внушений быта и, движимый гуманистической идеей справедливости, стал действовать разумом и убеждением, т.е. «наукой».
Но большинство героев Золя, отрицательных и положительных, связано физиологией и бытом, словно они еще не совсем вышли из естественной руды, не очистились сознанием. Мы словно присутствуем при рождении нового мира. В этом зрелище есть нечто величественное и трогательное. На наших глазах человек вырастает из грубого быта и из области темных инстинктов вступает в сферу высших идей. Он не порывает связи со своей природой, но чувство все более просветляется разумом, сфера ассоциаций расширяется, интересы и страсти становятся все более общественными и нравственными. Так возникает будущее. В «Чреве Парижа», в испарениях снеди, среди торжествующего сытого мещанства бьется чистая революционная мысль Флорана и зреют художественные замыслы Клода Лантье. Полина Кеню озаряет радостью своего самопожертвования жалкое гнездо безумцев и эгоистов. Дениза Бодю превращает грандиозный магазин «Дамское счастье» в счастливую (и столь утопическую!) идиллию. Каролина Гамлен в царстве денег представляет собой человечество, которое в великих бедствиях сохраняет великую надежду и сквозь все катастрофы придет когда-нибудь к счастью и справедливости. <...> Паскаль создает новую науку, Сандоз – новую литературу, – и все это разрушает буржуазные традиции мысли и утверждает новый, более благородный, более высокий строй чувств.
Таков круг важнейших вопросов, привлекавших эстетическую и творческую мысль Золя. Нет ни малейших оснований говорить о каких-то противоречиях между его теорией и практикой, эстетикой и творчеством. Золя создал свою теорию «научного романа» для разрешения стоявших перед ним художественных задач. Его эстетика, так же, как его творчество, не была ограничена чистой биологией; исходя из глубоко продуманных посылок, она требовала широкого изображения общества и процессов, в нем происходящих. Каждый роман Золя, каждый изображенный им «ломоть жизни», каждая идея и образ осознаны, философски разработаны, поставлены на почву принятой Золя науки и созданной им эстетики. Понять творчество Золя без его эстетики так же невозможно, как понять его эстетические замыслы без их художественного осуществления.
Т.В. Соколова Еще один опыт интерпретации сонета Артюра Рембо «Гласные»
Сонет «Гласные» является своего рода «визитной карточкой» Артюра Рембо. Это одно из самых известных произведений французского поэта, но, как это ни парадоксально, и одно
из самых непонятных, вернее непонятых. Существует обширная литература, отражающая стремление расшифровать символику «Гласных», найти ключ к пониманию смысла сонета. Одна из попыток такого рода несколько лет назад была сделана и на страницах «Известий Ан, ОЛЯ» академиком Ю.С. Степановым[69]. Сюжет этот едва ли когда-нибудь может быть исчерпан, и столь же неисчерпаемо разнообразие предлагаемых трактовок, несмотря на то, что уже теперь их спектр достаточно широк.
Еще в начале века в символистском журнале «Mercure de France» была выдвинута «алфавитная» версия[70]: цвет гласных у Рембо – это якобы воспоминание о раскрашенных буквах алфавита в детской книге для чтения, по которой поэт учился грамоте. Тогда же появляются толкования в свете синестезии – поиски мотивировок аудио-визуальных соответствий[71], выявление свойственного Рембо цветового восприятия звука или «окрашенного слышания» (audition coloree). Эта традиция остается на сегодня преобладающей во французском литературоведении.
Большой резонанс в свое время вызвала мистическая концепция английской исследовательницы Э. Старки[72], настаивавшей на оккультном смысле символики гласных у Рембо. Эта концепция была скептически встречена во Франции[73], однако вскоре нашла сочувствующих[74], как, впрочем, и новых оппонентов[75].
С 1960-х гг. периодически возникают вариации сексуально-анатомического прочтения «Гласных», в свете которого сонет предстает как выражение эротических фантазий поэта, как «эротическая мистификация». Графические знаки – буквы ассоциируются с некоторыми анатомическими формами или посредством более или менее искусных мысленных трансформаций превращаются в образы частей тела. Однако подобного рода построения, иногда виртуозные, выглядят, как правило, мало достоверными, так как основываются исключительно на допущениях весьма субъективного свойства. Действительно ли Рембо воспринимал гласные в сексуальном аспекте? Где грань между его видением и тем, что видится интерпретатору? Может быть, эта грань нивелирована уже у самого основания концепции? В таком случае не больше ли смысла говорить о фантазиях и наваждениях интерпретатора, а не Рембо? Все эти вопросы остаются открытыми.
Обилие разноречивых трактовок «Гласных» стало неотъемлемой частью причудливого «мифа Рембо», сложившегося в литературоведении. В этом мифе много разночтений, но есть и общие места. К числу последних относится мнение: сонет «Гласные» – это одна из первых попыток реализовать теорию «ясновидения», изложенную поэтом в мае 1871 г. друзьям Жоржу Изамбару и Полю Демени.
В отечественном литературоведении упоминанию сонета «Гласные», как правило, сопутствуют замечания о крайне субъективной окраске гласных у Рембо и достаточно жесткие в оценочном плане суждения о «ясновидении», понимаемом у нас как намеренное «расстройство всех чувств» с помощью вина или наркотиков. Слова Рембо, традиционно переводимые как «расстройство всех чувств», звучат подобно заклинанию, которое, однако, не помогает рассеять чары, затемняющие смысл многих произведений поэта, в том числе и «Гласных». но если этот сонет – всего лишь порождение «расстроенных» чувств и галлюцинирующего сознания, то стоит ли вообще заниматься им – произведением, не просто смутным по смыслу, но и являющимся продуктом патологического состояния автора? не следует ли принять как некую аксиому известное высказывание Поля Верлена о том, что Рембо якобы, видя гласные звуки окрашенными определенным образом, не придавал этому никакого значения? Тогда разговор о «Гласных» можно было бы считатьисчерпанным. К такому «радикальному» решению проблемы побуждали и идеологические установки отечественного литературоведения советского времени. Однако погасить подлинно исследовательский интерес к загадочному сонету Рембо, как и к его творчеству в целом, к счастью, невозможно.
Проблема истолкования «Гласных» вновь и вновь возникает в работах академика Н.И. Балашова, который уже в 1945 г. защитил кандидатскую диссертацию о творчестве Рембо, в 50-е гг. написал главы о символистах, в том числе о Рембо, для третьего тома «Истории французской литературы»[76], а в начале 80-х гг. в серии «Литературные памятники» подготовил (совместно с И.С. Поступальским и М.П. Кудиновым) сочинения Рембо в русских переводах[77]. Это издание стало почти каноническим и послужило своеобразным импульсом к новому «витку» исследований поэзии Рембо.
Вместе с тем остаются еще достаточно устойчивыми некоторые сложившиеся в советское время концепции и предубеждения. Скажем, пресловутое «расстройство всех чувств» является камертоном всех отечественных трактовок «Гласных» и одновременно – камнем преткновения даже для наиболее серьезных и искушенных исследователей. Так, выдвинутый Л.Г. Андреевым в его статье «Феномен Рембо»[78] чрезвычайно важный тезис о «Гласных» как о произведении «доктринальном», предполагающем «новое видение, новый принцип формирования образов», остается не развернутым, не аргументированным именно потому, что это невозможно сделать на зыбком основании «расстроенных чувств» поэта.
Л.Г. Андреев пытается разграничить очевидное и неясное в стихотворении Рембо. Очевидным он, следуя традиции или скорее стереотипу восприятия, признает «принцип уподобления гласного звука цвету», а неясным – то, чем вызвано само уподобление, и заключает в итоге: «…нет никакой возможности ответить на вопрос, что имел в виду сам Рембо, какой смысл вкладывал в свою систему соответствий, какие задачи предполагал выполнить». Это – самое главное – ученый считает «не столь важным в конце концов». Тем не менее в концепции Л.Г. Андреева важно уже то, что «Гласным» в творчестве Рембо отводится роль программного произведения. И все-таки наметившийся было выход из тупика, к сожалению, не состоялся.
Ощущение тупика не рассеивается и при чтении главы о символизме в «Истории всемирной литературы», где сонет «Гласные» лишь упоминается как образец «радужной, сочной свето-цвето-звуковой словописи»[79]. О «расстройстве всех чувств» здесь тоже говорится, но только в связи с «Озарениями» как поэтическим циклом, в котором реализуются принципы «ясновидения». «Гласные» же остаются в стороне и во мраке неясности.
Попытка свернуть с проторенного пути была предпринята Ю.С. Степановым в упомянутой выше статье «Семантика «цветного сонета» Артюра Рембо». Автор статьи стремится увидеть в образных ассоциациях сонета нечто целостное, «взаимосвязанность образов в рамках единого целого», т.е. систему, которая служит выражению определенного смысла, однако выстраивает эту систему традиционно – по принципу соотнесенности образов цвета и гласных букв. Вводимое исследователем понятие гласных звуков «европейской речи вообще» остается очень спорным. Значительно важнее сама установка на выявление сущностного смысла символических образов сонета и некоторые частные замечания и наблюдения (например, о сине-лиловом цвете). Однако интереснейшим ассоциациям автора, соотносящего сонет Рембо с некоторыми идеями А. Блока, Врубеля, Тейяра де Шардена и даже мыслителя XV в. Николая Кузанского, парадоксальным образом недостает опоры на тексты самого Рембо – и сонета «Гласные», и других сочинений поэта.
Все сказанное выше – доводы к тому, что необходимо новое максимально внимательное прочтение загадочного сонета и новые попытки ответить на вопрос: в чем же суть поэтической программы Рембо? Необходимо скрупулезное исследование текста «Гласных» параллельно с письмами Рембо о «ясновидении» и другими его произведениями, помогающими прояснить цепь ассоциаций, из которых соткан «темный» сонет.
Новое прочтение «Гласных» должно быть непредубежденным, свободным от стереотипных установок и своего рода концептуальных клише. К числу последних относится аудиовизуальный ракурс восприятия стихотворения, стремление выявить аналогию – по типу бодлеровских «соответствий» – в каждой из аудио-колористических пар: А – черное, Е – белое, I – красное, U – зеленое, О – синее. Хотя это концептуальное клише очень устойчиво, суть предполагаемой цвето-звуковой гармонии сонета остается непостижимой, а сам принцип цветового восприятия звука, или «озвученного колорита» обрастает все новыми сомнениями. Практически этот способ трактовки «Гласных» дает основание к единственному выводу, который ничего не проясняет. Этот вывод таков: ассоциации Рембо абсолютно индивидуальны, он так видел гласные, и ничего более. Нечто подобное говорил Поль Верлен: «Я знаю Рембо, и мне известно, что ему было ровным счетом наплевать, какого цвета А – красного или зеленого. Он видел его определенным образом и все тут»[80]. За эту «спасительную соломинку» цепляются многие отчаявшиеся интерпретаторы Рембо, но она не спасает их, а только мешает продвинуться вперед, соблазняя возможностью самого простого решения.
Но, может быть, и Верлен лишь по-своему понял произведение друга? В таком случае его высказывание скорее всего и не следует воспринимать как абсолютную истину, тем более, что оно противоречиво: если Рембо «видел» гласные определенным образом, то почему он не придавал этому никакого значения? А если ему действительно было «наплевать», какого цвета А или О и окрашены ли они вообще, то может быть окрашенное видение гласных, приписываемое поэту – не более, чем домысел интерпретаторов? Может быть, идея межчувственных связей вообще не составляет сути его стихотворения, а главное в нем – вовсе не соответствие звукового выразительного ряда и цветового? Подобная идея нигде не сформулирована с определенностью обоснованного вывода, хотя и высказывается как догадка, например, в комментариях Сюзанны Бернар к знаменитому сонету[81]. Эта чрезвычайно важная догадка может и должна быть аргументирована с тем, чтобы стать исходным тезисом в еще одном толковании «Гласных».
Обратим внимание прежде всего на то, что у Рембо имеются в виду не гласные звуки, а буквы, и их пять, тогда как во французском языке пятнадцать гласных звуков, а правила произношения таковы, что каждая из букв в разных позициях читается по-разному, и сочетания гласных букв дают подчас удивительные результаты (например: eau читаются как «о» закрытое, ai – как «е» открытое, т.е. как звуки, не совпадающие ни с одной из букв, фигурирующих в сочетании). Во-вторых, последовательность гласных букв во французском алфавите: a-e-i-o-u-y, a в стихотворении Рембо: a-e-i-u-o («у» отсутствует, «о» и «и» меняются местами). Весь ряд гласных завершается буквой «о», которая в последней строке сонета названа омегой – это отсылает нас к гласным греческого алфавита: альфа, эпсилон, йота, ипсилон («и» – одно из превращений этой буквы в латинском письме), омега. Таким образом, весь ряд гласных выстраивается от альфы до омеги. Тем самым высвечивается идея «начало и конец», устойчиво связанная с выражением «альфа и омега».
Буквам алфавита иногда приписывается некая мистическая функция. Так, в кабалистике считается, что буквы занимают промежуточную позицию между двумя мирами – материальным и духовным, а значит, могут выполнять посредническую роль в отношениях между ними. Этим мотивируется мистическое толкование графических знаков. Однако утверждать, что Рембо имел в виду кабалистику, нет оснований. Известно лишь, что один из его друзей интересовался оккультными знаниями[82]. Считается вероятным то, что Рембо мог почерпнуть что-то об эзотерических доктринах из книг Э. Леви «История магии» (1860) и Ж. Мишле «Ведьма» (1862). Однако этого еще не достаточно для вывода, что по канве какой-либо из подобных доктрин он написал свой сонет или другое произведение. Слабость оккультной версии «Гласных» в том, что в ней слишком много предположений, подменяющих факты. Она сомнительна еще и потому, что создаваемый ею образ поэта-мыслителя, погруженного в мистические искания, плохо согласуется с чрезвычайно взрывным, подвижным, резким и анархическим характером 17—18-летнего Рембо, с его беспорядочным и вызывающе скандальным образом жизни.
Будем исходить из того, что широко функционирующее выражение «альфа и омега» не предполагает обязательной связи с какой бы то ни было оккультной доктриной. Оно служит знаком идеи целостного явления, заключенного в более или менее выраженных пределах (начало и конец), или ситуации, развивающейся через последовательные этапы, или процесса, стремящегося к определенному итогу. Так и у Рембо, с той лишь разницей, что он отмечает буквами не только начало и конец, но и промежуточные этапы становления, или аспекты, в которых раскрывается явление. Этим и ограничивается смысл букв, близкий к цифровому обозначению: первый, второй, третий и т.д. Но, в отличие от традиционного использования в такой функции первых букв алфавита а, b, с, Рембо прибегает к гласным. При этом от звуков, выражению которых могут служить буквы, поэт абстрагируется, все его внимание переключено на цветовые и пластические образы, возникающие на основе зрительного восприятия и акцентированные на ассоциативных связях цвета с определенными идеями.
Интерес Рембо к цвету проявляется уже в «Пьяном корабле», написанном раньше «Гласных», в сентябре 1871 г. «Пьяный корабль» расцвечен очень ярко: здесь мелькают разнообразные колористические вспышки – синий цвет, зеленый, желтый, лиловый, серебристый, перламутровый, золотой, огненный, коричневый, черный и оттенки многих из них (и это только те, что названы прямо). Но все это разноцветье являет собой неупорядоченную стихию, хаос цветовых пятен. В «Гласных» же отобраны лишь некоторые, немногие цвета – их всего пять, они выстроены по единой «канве», приведены в некую систему и представлены в определенной последовательности и взаимодействии.
В чем же суть взаимосвязей А – черного, Е – белого, I – красного, U – зеленого и О – синего? Что символизируют они в единой системе, которая последовательно разворачивается в пределах обрамляющей оппозиции от Альфы до Омеги?
Исходный, начальный момент процесса – этап А окрашен в черный цвет, и его сущностная характеристика воплощается в образе, поражающем натуралистической конкретностью: в рое черных мух, жужжащих над чем-то нестерпимо зловонным, а значит, отвратительным, низким, над нечистотами, грязью. Метафорический «черный волосистый корсет» (в него воображение поэта одевает мух) – это образ, которым акцентируется особый характер черного цвета – насыщенного, глубокого, бархатистого и отливающего проблесками как бы скрытого в нем иного колорита. Этим навевается идея чего-то затаенного в непроницаемости черного цвета. Другой образ черного – «заливы тьмы» (golfes d'ombre) – менее конкретен, но в дополнение к первому представляет темное, черное как нечто текучее («залив»), подвижное, а значит, подверженное изменению. В целом черное символизирует у Рембо темное в широком смысле: не только в колористическом – максимальную сгущенность всех красок фазу, но и в метафизическом – непонятное, неясное, «зашифрованное». Характерно, что при этом вне поля внимания поэта остается традиционный для черного цвета этический аспект иносказания. Черное – привычная эмблема зла, всего дурного, порочного, несправедливого. Однако поэтическое воображение Рембо увлекает за пределы сферы этического. В черном поэту явлено не просто нечто закрытое в силу своей непонятности, но скрытое, незримо присутствующее, тайное. Более того, это таинственное подвержено изменению, движению и превращению в нечто иное, новое.
Таким образом, черное у Рембо может быть истолковано как начало, отправной момент какого-то движения, процесса, трансформации, открывающей перспективу развитию явления или ситуации.
Своего рода импульсом к реализации этой потенциальной перспективы становится резкий контраст: «А черное» в первом катрене – и «Е белое» во втором. Белый цвет ассоциируется здесь с идеей чистоты, удаленности от «земного» в житейском смысле слова, высоты и открытых пространств. По канве этого комплекса идей выстраиваются образы легкого облака (candeurs des vapeurs), корабельных тентов и «пики гордых ледников». Менее понятным, «смутным» остается пока образ «белых царей» (rois blancs).
Противоположностью «белого» и «черного» их отношения не исчерпываются; у Рембо речь идет о более сложном взаимодействии, в основе которого лежит и некая общность, объединяющая оба компонента оппозиции. Действительно, в образах «белого», как прежде было в «черном», в той или иной степени присутствует идея непостоянства. Так, облако, скопление пара легко меняет форму или даже рассеивается; переменчивости сопутствует движение (тент на корабле, ледник); особенно же этот мотив – с акцентом на эфемерности, недолговечности – ощутим в образе «трепещущих» хрупких соцветий (frissons d'ombelles). Достаточно выражен во всех этих образах и знак начала: им отмечена и первозданная чистота, белизна, естественность облака или пара – бесформенной субстанции, готовой принять любую новую форму или перейти в иное физическое состояние, он присутствует и в белизне тента, т.е. неокрашенного холста; «гордость» ледников может быть мотивирована не только включенностью в «горний» мир, но и их возрастом от сотворения земли, т.е. их первозданностью.
Итак, смысловые оттенки начала, движения и трансформации сопутствуют и «черному», и «белому» одновременно. Это делает понятным дальнейший ход поэтической мысли, следующий этап развивающейся ситуации – «красный», обозначенный буквой I и составляющий содержание последних строк второго катрена. Здесь воплощена идея кульминации, апогея какого-то события, ключевого момента явления, происходит своего рода взрыв, вызванный контактом противоположностей, сближением несовместимого. Эти идеи выражены через образы, причастные к миру человеческих страстей: кровь на губах, гневный смех, «пьянящее раскаянье», они ассоциируются с неистовыми чувствами, с крайними проявлениями эмоций, горячих и необузданных. Это высшее напряжение, «окрашенное» в цвет пурпура и крови, пароксизм переживаний, подобный мистическому огню, который не уничтожает, а преображает.
Результат преображения представлен в заключающих сонет терцетах «U – зеленом» и «О – синем». После хаоса и необузданности горения появляются признаки упорядоченности и умиротворяющие ритмы – «божественные вибрации» зеленых морских волн, затем луга, на которых мирно пасутся животные. Эти два образа соотнесены и по цвету, и по иносказательной функции – оба навевают впечатление покоя и гармонии, свободы и простора, всегда так желанных человеческому духу.
Бросается в глаза то, что этот терцет, написанный под знаком «U», пронизан ассонансами звука «i» (cycles, vibrement, divin, virides, animaux, rides, alchimie, imprime). Эту своего рода «подмену» можно объяснить, учитывая происхождение букв «u» и «у» в латинском письме: оба графических знака, несмотря на разное звуковое воплощение, восходят к одному источнику: к греческой букве «Y» (ипсилон).
В последней строке терцета есть еще один штрих, исполненный смысла: в один ассоциативный ряд с образами природы (море, луг или пастбище) вписываются и морщины на лбу усердного алхимика. Эти морщины – своего рода печать усердных трудов и неустанных усилий исследовательского духа, устремленного к тайному, мистическому знанию. Упоминание алхимии в сонете Рембо отнюдь не случайно. В определенной мере это дань поэтической традиции XIX в. (ср., например: «Париж» Виньи, «Алхимия страдания» Бодлера, «Видения эмали» Эредиа; о «таинственной алхимии Поэзии» писал и Шелли в «Защите поэзии»). В то же время это и нечто большее. Любопытно отметить, что цвета черный, белый, красный в той же последовательности, что и у Рембо, служили в алхимии символами этапов «великого творения» – процесса получения благородных металлов, прежде всего золота, из неблагородного исходного материала[83]. Черное – это и есть первичное вещество, с которого начинается «великое творение» алхимика. В более широком смысле это символ первозданного хаоса, а также тьмы и земли (грязи). В то же время черное – это корень и первоисточник всех других цветов. Белое символизирует искомое алхимиками мистическое средство превращения «низкого» вещества в золото (философский камень). Крупицы этого «белого» должны быть добавлены в Анатор – печь, в которой совершается алхимическое таинство. В более широком смысле белое – символ очищения, преображения, обновления, а также приобщения к высшей мудрости, т.е. знак посвященных, отличающий их от профанов (в этом ключе могут быть истолкованы и «белые цари» у Рембо). наконец, красный цвет – символ огня и власти духа над материей. Четвертый цвет, фигурирующий в «Гласных», – зеленый – знак воды в алхимической доктрине (и у Рембо море зеленое).
Все эти совпадения едва ли случайны, но было бы наивно считать их основанием к выводу о приверженности Рембо алхимии. Герметическая мудрость алхимиков, цели и средства «великого творения» скорее всего являются развернутым и в то же время глубоко зашифрованным поэтическим символом, выражающим представления Рембо о творчестве вообще, вернее о том, каким должно быть искусство, которое отвечало бы духу склоняющегося к закату XIX столетия.
Заслуживает комментария и то, что три момента развивающейся ситуации отмечены присутствием, и более того, активностью человека, причем ряд штрихов подсказывают идею личности незаурядной, обладающей какими-то особыми возможностями, посвященной в некую тайну («белые цари»: белый – знак инициации) и переживающей исключительные состояния (красное – огненная стихия преображения); успокоение, сменяющее пароксизм чувственных и эмоциональных реакций и представленное в зеленом колорите, включает элементы высшей гармонии («божественные ритмы») и мудрости (морщины усердного алхимика – искателя скрытых тайн природы). Все это по смыслу и последовательности этапов вполне соотносимо с тем, как Рембо разъясняет стадии погружения в состояние «ясновидения», ключевой момент которого он называет «le dеrеglement de tous les sens». Традиционное в отечественном литературоведении толкование и перевод этого выражения – «расстройство всех чувств» – предполагает физиологическое состояние, достигаемое с помощью вина или наркотиков. Предосудительное само по себе, такое состояние опьянения заведомо ведет поэта в тупик отказа от творчества. Логика достаточно простая, но это не логика Рембо.
«Любой яд», о котором говорится в письме к П. Демени (главном из писем о «ясновидении») и который поэт готов «испытать на себе, чтобы извлечь из него квинтэссенцию», – это не вино или гашиш, это метафора бесконечного разнообразия «несказанных мук», которые он готов претерпеть, перевоплощаясь поочередно «в тяжелобольного, в великого преступника, в человека, проклятого всеми, – и в великого Ученого!» Испытывая, как бы пропуская через себя «все формы любви, страдания, безумия», поэт «приобщается к неведомому» и тем самым «совершенствует свою душу как никто другой»[84].
«Le dеrеglement de tous les sens» у Рембо – это не расстройство, а скорее «разупорядоченность чувств», т.е. высвобождение всех чувственных и эмоциональных состояний из колеи общепринятого, привычного, предписываемого здравомыслием и дозволенного морализаторской традицией. Эта «разупорядоченность» необходима для того, чтобы обрести способность воспринимать вещи по-новому – непредвзято, непосредственно и свободно, только тогда возможно постичь то, что до сих пор оставалось в них неведомым. И только на этих путях следует искать новый поэтический язык, который должен прийти на смену «рифмованной прозе», подменявшей, по мнению Рембо, поэзию в течение двух столетий, со времен Расина.
Вскоре после написания «Гласных», в поэтическом цикле «Сезон в аду» (1873), Рембо назовет свои поиски метода «Алхимией слова» – так озаглавлен фрагмент, в котором ретроспективно и с долей критического отношения он оценивает собственные произведения «ясновидца», в том числе и «Гласные». «Я выдумал цвет гласных», – говорит он. «Выдумал», т.е. самовольно и дерзко ассоциировал буквы с разными цветами, символизирующими определенные идеи. Это признание поэта в том, что он выходит из колеи межчувственных связей (цветозвуковых соответствий) в более широкую сферу аналогий, дающих бесконечные, неисчерпаемые ассоциативные и выразительные возможности. У Рембо, по существу, уже действует закон «универсальных аналогий», который позднее будет объявлен символистами как основополагающий принцип поэтической выразительности. В сонете «Гласные» через множество личных ассоциаций выстраивается общая аналогия между мистическим «великим творением» алхимика и творчеством поэта. «Альфа» того и другого – наличествующее, реальное, приземленное и часто грубое, примитивное, а «Омега» – извлечение из низменного благородной квинтэссенции, скрытой сущности.
O, supreme Clairon plein de strideurs еtranges, Silences travels des Mondes et des Anges: — O l'Omеga, rayon violet de Ses Yeux! «О» – резкий горний горн, сигнал миров нетленных, Молчанье ангелов, безмолвие вселенных; «О» – лучезарнейшей Омеги вечный взгляд! (Перевод В. Микушевича)При всех издержках перевода, его автор уловил и передал мысль Рембо о том, что «омега» поэзии относится к миру горнему, заоблачному, внеземному, к реальности метафизической. Чудесный звук, одновременно резкий, пронзительный и странный (strideurs еtranges), воспринимается как своего рода вызов или реплика изначальному звуковому образу – жужжанию черных мух. Звук неба, лазури (О – синий) издается символическим «Верховным Горном» (supreme Clairon), который неизбежно ассоциируется с трубой Страшного суда – с чем-то высшим, окончательным, неоспоримым. Одновременно О – синее воплощается и в «безмолвии пространств, сквозь которые движутся Миры и Ангелы» (если точно перевести вторую строку терцета). Безмолвие – и пронзительный «верховный звук»: в этой амбивалентности Омеги уловима идея вселенной как средоточия бесконечных пространств, сил и сущностей, из которых лишь некоторые явлены через предметный физический мир, лишь их звучание внятно человеческому слуху, лишь их цвет зрим.
Амбивалентность Омеги получает в сонете и цветовое воплощение: в последней строке сонета появляется новый колористический оттенок, не заявленный вначале, – лиловый или фиолетовый:
О l'Omega, rayon violet de Ses Yeux!Это цвет пространств, бесконечно удаленных от человека, таинственная окрашенность высших сфер, иных миров, цвет космоса. Чем дальше от земли, от дольнего мира, чем выше, тем более видимый и привычный для человека цвет неба – голубой, лазурный, теряет свою прозрачность, сгущается, становится темным и непроницаемым – и в прямом, физическом смысле, и в переносном, метафизическом. Темный колорит высокого неба – это знак таинственного, неведомого, загадочного.
Вводя темно-лиловый цвет в дополнение к синему, вернее, акцентируя темно-лиловый оттенок синего, Рембо следует давней и устойчивой изобразительной традиции, порожденной средневековыми (а, может быть, и ее более древними) представлениями о небесах, в разной степени удаленных от человека (седьмое небо было, очевидно, самым высоким из мыслимых). Вплоть до начала XIX в. темный колорит верхних частей неба оставался привычной деталью живописных полотен, включающих элементы природного фона. Отчасти этот эффект сохранялся и в живописи XIX в., хотя в ней, начиная с романтизма, внимание переносится на пространство, непосредственно окружающее человека. Вместе с тем темный колорит высоких небесных сферостается в числе мировоззренческих стереотипов (подкрепляемых к тому же и научными представлениями). В литературе с такими стереотипами можно встретиться, пожалуй, даже чаще, чем в живописи. Так, в романе Вилье де Лиль-Адана «Ева будущего» (1866) читаем: «Если посмотреть на небо за пределами атмосферы, на высоте всего четырех или пяти лье, вы увидите бездну чернильного цвета…»[85]. В романе подробно описывается фантастическое обиталище идеальной возлюбленной – искусственный, созданный с помощью электричества подземный мир, сконструированный как зеркальное отражение мира «подлунного», земного и его картину завершает та же характерная деталь: «Свод сплошной чернотой, наподобие могильного мрака, нависал над неподвижным светилом: это было черное и мрачное Небо – такое, каким оно видится за пределами атмосферы любой из планет». О «сине-лиловом мировом сумраке» позднее будет говорить и А. Блок в докладе «О современном состоянии русского символизма» (1910)»[86].
У Рембо темно-лиловый оттенок синего не просто назван, упомянут, но представлен в усложненном образе: «лиловый луч Его Глаз» – образе, который служит иносказанием высшего мистического начала, присутствующего в мире. На это указывает не только логика развития поэтической мысли Рембо, но и графические средства, к которым прибегает поэт: заглавные буквы слов «Его Глаза», «Горн», «Ангелы», «Миры». Немаловажен еще один штрих: лиловым окрашен не фон или пространство, а луч, исходящий из высшего источника. Этим образом акцентируется идея целенаправленного движения, заданная уже в первом катрене сонета, и, что особенно значимо, нисходящим лучом, идущим навстречу движению вверх (от «черного» – к «синему» и «лиловому»), скрепляется мистическое единство начала и конца.
Множественное число слова «Мир» заставляет думать, что представление поэта о сущем и о верховной силе, властвующей во вселенной, не исчерпывается традиционной христианской космогонией. Подобные «тонкости», к сожалению, утрачиваются почти во всех известных версиях перевода сонета, особенно его последней, ключевой строки:
«О» – лучезарнейший Омеги вечный взгляд! (В. Микушевич) Омега… Синие – твои глаза – Судьба! (И.И. Тхоржевский) Омега – синий цвет в глазах моей звезды! (М. Миримская) О – дивных глаз ее лиловые лучи. (А. Кублицкая-Пиоттух) Омега, ясный взор фиалковых очей. (В. Дмитриев)Темно-лиловый оттенок синего у В. Микушевича превращается в «лучезарнейший» (хотя в его версии все-таки присутствует идея чего-то необыкновенного, высшего); другие переводчики довольствуются просто «синими глазами» – Судьбы (И.И. Тхоржевский) или «моей звезды» (М. Миримская). В последнем случае перевод явно тяготеет к лирической интерпретации, не просто обедняющей, но искажающей авторскую мысль. В еще большей степени это относится к «дивным глазам ее» (А. Кублицкая-Пиоттух) и к «фиалковым очам» (В. Дмитриев): здесь и лексический выбор занижен до уровня салонной галантности. Издержки русских версий сонета Рембо, однако, нельзя отнести целиком на счет переводчиков, каждый из которых в определенной мере оказывается и интерпретатором. Ведь даже научные комментаторы в солидных французских изданиях сонета ведут серьезный спор по поводу того, о чьих глазах вспоминает Рембо: о глазах любимой девушки или Верлена?[87]
Пожалуй, вернее всего суть последней, ключевой строки сонета передана Ю.С. Степановым в переводе, сопровождающем вышеупомянутую статью: «Омега, Ока луч лилово-голубой».
В ассоциациях визуально-колористических образов Рембо с достаточной отчетливостью просматривается еще один аспект «соответствий» – цвет и четыре природные стихии: А – черное – земля; Е – белое – воздух; I – красное – огонь; U – зеленое – вода. Последний цвет – синий и его отливающие темно-лиловым вариации – это цвет «верховный», венчающий картину представлений поэта о мире и творчестве, он символизирует некое высшее начало, заключенное во всех явлениях сущего. Соотнесенность цветовых символов с природными стихиями не только не противоречит поэтической «алхимии» Рембо, но, напротив, органически включена в нее как одна из граней многозначной цветовой символики стихотворения.
Итак, «Гласные», вопреки своему названию, – не звуковой сонет, а «цветной», или цветовой, т.е. суть его зашифрована в ассоциациях визуальных образов. К этому, может быть, и сводится «изначальная тайна» гласных (звуков или букв?), о которой говорится в первых строках сонета: «…voyelles, je dirai quelque jour vos naissances latentes» (…гласные, когда-нибудь я открою тайну вашего рождения). Разгадка и своего рода мистификация – в том, что звуковую ипостась гласных поэт намеренно игнорирует и от традиционных поисков цветозвуковых соответствий в духе Бодлера, которых от него ожидают, уклоняется. Реминисценция из «Соответствий» Бодлера присутствовала в письмах о «ясновидении» – в контексте размышлений Рембо об «универсальном» поэтическом языке, «выражающем сущность всего: запахов, звуков, красок, мысли в ее связи с другой мыслью»[88]. В этих словах можно видеть намек на источник идеи цветовой выразительности в поэзии. Однако Рембо далек от намерения только иллюстрировать Бодлера или просто повторить его. О своей цели он говорит вполне определенно: радикально обновить язык поэзии. Сонет «Гласные» и написан этим новым языком «ясновидения», в котором главное – не просодические правила, а сложная, многозначная, порой изощренная образность, основанная на «универсальных аналогиях» и подчас прихотливых, вызывающе субъективных ассоциациях. Рембо убежден, что только художник, освоивший эти средства, и способен стать «похитителем огня», т.е. уловить и выразить связь тривиального – и высшего, личного – и универсального, земного – и «нездешнего», метафизического. Гласными буквами от Альфы до Омеги у Рембо обозначены этапы постижения сущности, тайны того, что явлено в природных феноменах и воспринимается человеком прежде всего на уровне чувственном, а лишь затем – иногда и не всеми, а только избранными – на уровне метафизического «ясновидения».
Таким образом, сонет «Гласные» представляет собой нечто много большее, чем иллюстрация частного случая аудиовизуальных соответствий. Более того, его суть совсем в другом. Это программное произведение, замечательное тем, что оно же является и опытом реализации программы. Если прежде стихотворение «Солнце и плоть» (1870), которое Рембо называл своим credo, выражало – в форме рифмованной декларации – принципы самого раннего периода творчества поэта, то в «Гласных» его новое credo воплощено средствами нового поэтического языка – ассоциативно-иносказательного «ясновидения». «Ясновидение» у Рембо, по существу, равноценно будущему понятию и термину «символизм», который утвердится лишь после 1886 г. Метод же сам по себе уже теперь, в начале 1870-х гг., найден поэтом, осознан им и явлен в поэтических образах небольшого, но исполненного смысла стихотворения.
Не случайно и то, что это стихотворение – сонет. «Пьяный корабль», написанный в сентябре 1871 г., вскоре после письма о «ясновидении», отвечал первому импульсу, в значительной мере стихийному и анархическому, влекущему поэта к свободе во всех смыслах – житейском, лирическом, социальном (скорее асоциальном), нравственном и творческом. «Пьяный корабль» выражает этот порыв, и смыслу произведения в полной мере отвечают и его форма, и даже объем: это большое стихотворение (иногда называемое поэмой), не связанное правилами конкретного поэтического жанра. «Гласные» же отлиты в строго выверенную сонетную форму, предполагающую высокую гармонию последовательно развивающейся поэтической мысли, весомость, смысловую и образную насыщенность каждого слова, лаконичность, концентрированность и глубину смысла в пределах малого объема стихотворения. Последнее привлекает Рембо еще и тем, что помогает избежать традиционной поэтической риторики и декларативности – атрибутов «рифмованной прозы». Все это влечет за собой и более высокий уровень иносказательности, которым отличаются «Гласные». Этот сонет стал своего рода ars poetica Рембо, его «Поэтическим искусством», выражением его «философии творчества», т.е. программным стихотворением, которое, в отличие от других произведений подобного рода, написано новым поэтическим языком. При этом свобода Рембо от казавшихся вечными традиций поэзии оборачивается в «Гласных» искусной, глубокой и трудно постижимой зашифрованностью.
В.Г. Адмони Эстетические взгляды Генрика Ибсена
Как критик и теоретик искусства Генрик Ибсен известен весьма мало. В годы своей мировой славы он был чрезвычайно скуп на публичные высказывания – в частности, на высказывания по вопросам искусства. Тем не менее у Ибсена была своя система взглядов на общие проблемы эстетики, на общие вопросы драматургии и театрального искусства. Конечно, эти взгляды менялись в течение его полувековой творческой деятельности, да и в пределах одного и того же периода они не были лишены значительных противоречий. но в них имелось и некое устойчивое ядро, которое оставалось неизменным на всех этапах творческого пути Ибсена. Если ибсеновские воззрения на искусство привлекают наше внимание в первую очередь тем, что они позволяют лучше и глубже понять творчество великого драматурга, то, с другой стороны, они интересны и сами по себе, как своеобразное явление в развитии эстетической мысли на Западе в XIX веке.
В начале 50-х и на рубеже 60-х годов Ибсен пишет большое число статей по вопросам искусства и отдельных рецензий. В эти же годы ряд стихотворений Ибсена трактует проблемы искусства и рисует образ художника. Образы музыканта, поэта нередко встречаются и в ибсеновской драматургии этого времени, а порой тема искусства вообще оказывается едва ли не в центре его ранних пьес («Иванова ночь», «Улаф Лильекранс», «Комедия любви»). Со второй половины 60-х годов Ибсен перестает писать статьи, к стихам обращается все реже и реже. но теперь вопросы искусства занимают довольно значительное место в его переписке, и на основе этих эпистолярных высказываний можно составить себе вполне отчетливое представление об эстетических взглядах зрелого Ибсена. Более того, эти взгляды даже легче определить и суммировать, чем эстетические взгляды молодого Ибсена, потому что в них нет той терминологической сложности, той склонности к абстрактным формулам, которые так характерны для ранних ибсеновских высказываний об искусстве.
В статьях и рецензиях Ибсена первого кристианийского периода (1850—1851) есть много наивного, много непереваренных заимствований из господствовавшей в середине прошлого века в Дании и Норвегии эстетики И.Л. Хейберга. некоторые из них носят даже ученический характер, что проявляется в полной безапелляционности их тона, в безоговорочном применении формулировок, категорий и терминов, усвоенных юным Ибсеном. Статьи и рецензии Ибсена второго кристианийского периода (1857—1864) производят значительно более зрелое и самостоятельное впечатление.
Для того чтобы лучше понять эстетические взгляды молодого Ибсена, надо представить себе всю сложность его общей позиции, в которой отразилось своеобразие исторического развития Норвегии, – его стремление воспринять и продолжить революционные и гуманистические традиции буржуазной мысли в ту пору, когда в целом на Западе буржуазное мировоззрение уже лишалось <...> подлинно гуманистического содержания. Надо также учесть, что Ибсен пришел в литературу в тот момент, когда социально-политическая жизнь Норвегии была охвачена тяжелым кризисом: освободительный подъем конца 40-х годов сменился периодом политической реакции, либеральная буржуазия и лидеры крестьянского движения, напуганные ростом рабочего движения, капитулировали перед консервативным правительством, а рабочее движение в результате ожесточенных репрессий распалось и заглохло. Как следствие всего этого в начале 50-х годов в духовной жизни Норвегии, вопреки тем здоровым началам, которые характеризовали в XIX веке норвежскую крестьянскую демократию, высокие освободительные идеалы снимаются с повестки дня, побеждает практицизм и утилитаризм, утверждается поверхностное и развлекательное искусство.
В борьбе против этих тенденций в развитии современного искусства и закладываются основы эстетических взглядов Ибсена. Его главное требование – требование поэтического и глубокого искусства. Он за искусство идеи, и притом значительной идеи, вообще за большое, поистине содержательное, «существенное» искусство, понимаемое им, правда, в несколько символическом духе.
В разных формах проявляется это требование Ибсена. Говоря о пьесах на национальные норвежские темы, он отмечает, что настоящим национальным писателем явится лишь тот, кто сумеет воспроизвести «основной тон, который несется нам навстречу с родных гор и из долин.» Характеризуя игру одного из лучших актеров Кристианийского театра Вихе, он особенно подчеркивает, что творчество Вихе было одухотворено «глубоким сознанием святости и высокого назначения искусства, вдохновенным стремлением не к грубому подражанию действительности, а к правде… »
Резкий протест Ибсена вызывает рабское копирование действительности, воспроизведение ее внешних и случайных сторон. Такое искусство, являющееся одной из разновидностей натурализма, Ибсен сопоставляет с фотографией, незадолго до того изобретенной. Он против полного отождествления искусства с действительностью, против того, чтобы произведения искусства превратились в «оттиски природы», копирующие реальные предметы «с мельчайшими подробностями, со всеми посторонними примесями, со всей случайной грязью».
Ибсен выступает и против пустого, развлекательного искусства, ловко скроенного и рассчитанного лишь на внешние эффекты. Он резко критикует новейшую французскую драматургию (Скриб, Дюверье и др.), отличающуюся «совершенством техники», но не имеющую ничего общего «с настоящей поэзией».
В собственной драматургии и лирике молодой Ибсен, в соответствии со своей эстетической программой, неизменно стремится затронуть существенную, хотя порой и несколько неопределенную проблематику: столкновение между призванием человека и его страстями, соотношение искусства и практической жизни и т.д.
Но было бы все же неверно, исходя из этой борьбы Ибсена против эмпирического и чисто развлекательного искусства, рассматривать его положительную эстетическую программу как программу реалистического искусства. Положительные эстетические взгляды Ибсена – явление чрезвычайно сложное. Реалистические элементы, и очень важные, в них несомненно содержатся. Однако общая окраска эстетической программы Ибсена в это время романтико-символическая.
Требование не ограничиваться изображением случайных деталей действительности порой перерастает у Ибсена в некоторое пренебрежение к этим деталям, вообще к тем конкретным формам, в которых действительность непосредственно воспринимается. Он даже считает необходимым преображать эти конкретные формы с точки зрения общего идеального замысла художественного произведения. Ибсен требует от писателей «умения обтачивать, отшлифовывать резкие грани действительности». Несмотря на свое отрицательное отношение к новейшей французской драме, он считает все же положительным моментом то, что в ней действительность непосредственно не внедряется в искусство. А свое стремление к «существенному», содержательному искусству, выявляющему значительные, типические черты изображаемого предмета, Ибсен склонен скорее обозначать как раскрытие символического значения этого предмета. Подобную символику он видит в истории («в жизни каждая выдающаяся личность является символической…») и соответствующей символики требует от искусства, настаивая только, чтобы была сохранена «естественность символики», чтобы она «проходила через все произведение скрыто», не навязываясь читателю или зрителю.
Крайним проявлением такой символизации в искусстве, такого пренебрежения к частному, к конкретным формам существования изображаемого предмета оказывается подчеркивание полной иллюзорности искусства: «… в царстве искусства есть место не для действительности, как она есть, а напротив, для иллюзии». Тем самым искусство вообще как бы отделяется от действительности и противопоставляется ей. Эстетика Ибсена, таким образом, приобретает определенно романтический характер.
Несомненно, в подобных формулировках Ибсена много от полемической заостренности, от стремления как можно более резко размежеваться с натуралистическими принципами искусства. Характерно, что за формулировкой об иллюзорности искусства сразу идет оговорка: произведение искусства, которое не содержит в себе действительности, также объявляется неправомерным, а французской драме противопоставляется немецкая драматургия середины XIX века (Гуцков и др.), достоинство которой усматривается и в том, что она с успехом изображает тривиальных, будничных людей. Но все же позицию Ибсена в этом вопросе нельзя объяснить лишь полемическим задором. Важное значение имели здесь и общая неопределенность, смутность положительных идеалов Ибсена, их абстрактность и отчужденность от реальной жизни.
<...> Ибсен <...> не безразличен и не может быть безразличен к предмету, изображаемому в искусстве. В своей оценке произведения искусства он подчеркивает важность его социально-этического содержания. Эстетическое оказывается сближенным с этическим началом.
Уже отмеченное нами стремление Ибсена к подлинной «существенности» искусства решительно противоречит формалистическому и релятивистскому подходу к эстетическим проблемам. И тем более несовместимой с формалистическими и релятивистскими тенденциями оказывается столь важная для всего ибсеновского мировоззрения и творчества его борьба за создание национального искусства. Везде, где проблематика национального искусства возникает, всякие соображения о соответствии данного произведения определенным требованиям жанра и т.п. отступают у Ибсена на задний план, и произведение искусства начинает рассматриваться и оцениваться в зависимости от того, насколько полно и верно оно передает основные черты и закономерности национальной жизни.
К проблематике национального искусства Ибсен обращается чрезвычайно часто. Многие его статьи написаны специально в защиту норвежского национального театра, против тех препятствий, которые воздвигалось на его пути руководителями Кристианийского театра, целиком ориентировавшимися на датский театр. По сути дела, и борьба Ибсена за постановку его пьес в Кристианском театре была лишь частным эпизодом в этой борьбе за утверждение самостоятельного норвежского театра. Призыв к созданию национального искусства звучит во множестве стихотворений Ибсена, особенно в прологах к спектаклям в Норвежском национальном театре в Бергене.
Проблема норвежского национального искусства ставится и в статьях Ибсена, посвященных более частным темам. Национальное содержание – это и есть в первую очередь то существенное содержание, глубокое и поэтическое, которого Ибсен требует от произведений искусства.
Борясь за развитие национального норвежского искусства, независимого от искусства других, даже самых близких и родственных народов, Ибсен вместе с тем отнюдь не хочет создать непреодолимые барьеры между культурами различных стран. Взаимодействие национальных культур представляется ему совершенно необходимым. Он говорит о «великой европейской культуре», но считает, что это понятие охватывает совокупность отдельных национальных культур, так что участие норвежцев в развитии «европейской культуры» можно лишь при условии их содействия прогрессу национальной культуры, вырастающей на народной почве.
<...> Ибсен противопоставляет «публику», т.е. в основном буржуазный контингент посетителей театра в больших городах, и народ, т.е. широкие демократические массы, в первую очередь крестьянские. Его важнейшее требование состоит в том, чтобы театр служил именно народу. Про буржуазную публику он говорит с презрением. Он обвиняет ее в отсутствии настоящего эстетического вкуса, в интересе лишь к внешнему, «фотографическому» искусству, в предрассудках и в стремлении хвастаться своей «образованностью», хотя на самом деле она тупа и невежественна. Вместе с тем Ибсен требует от драматурга уважения к зрителю, доверия к его поэтическому чутью. но здесь зритель для Ибсена уже не «публика», а народ. Ибсен подчеркивает, что «истинная победа поэта достигается непосредственным усвоением его произведения народом».
Стремление сделать художественное произведение близким народу заставляет Ибсена уточнить и тезис о «возвышенности» искусства. В рецензии на «Лорда Вильяма Рассела» А. Мунка (1857), следуя здесь за Лессингом, Ибсен требует, чтобы эта возвышенность не превращалась в полный отрыв от той жизни, которой живут обычные люди. Тайну успеха пьесы Мунка Ибсен видит, в частности, и том, что «в то время, как традиционная трагедия изображает маленьких божков, произведение Мунка изображает великих людей… »
Так развертывается у Ибсена широкая программа национального норвежского искусства, народного и глубокого. В наиболее отчетливом виде она выступает на рубеже 60-х годов. но и в это время она господствует не полностью, а сталкивается в эстетике Ибсена с релятивистскими и формалистическими тенденциями.
В основе борьбы Ибсена за национальное, народное норвежское искусство лежит национально-освободительная борьба норвежской крестьянской демократии. но отношение Ибсена к этой борьбе и вообще к левым политическим силам норвегии было двойственным. Порой он горячо сочувствовал им, но порой свойственная либеральным и крестьянским лидерам ограниченность и половинчатость отталкивала его. Как известно, уже в самом начале 50-х годов и затем во время второго пребывания Ибсена в Кристиании закладываются основы его глубокого недоверия к «политике и политикам». В результате такого разочарования в национально-освободительном движении усиливалось индивидуалистическое и релятивистское начало в мировоззрении и, в частности, в эстетике Ибсена, и у него возникала мучительная противоречивость, потому что до конца стать на позицию полной автономии искусства Ибсен тоже не мог.
Именно отсюда проистекают та ирония и тот трагизм, которые пронизывают ряд стихотворений Ибсена, прямо или косвенно трактующих проблемы искусства.
<...> В поэме «на высотах» (1859) искусство, вообще эстетическое восприятие жизни противопоставляется самой жизни, оказывается некоей холодной и мрачной силой. Для героя поэмы, покидающего долины с их обыденной жизнью, весь мир становится лишь красочным зрелищем. Эстетизм и индивидуализм получают здесь свое законченнейшее выражение, выявляют всю свою антисоциальность. Герой поэмы становится гордым и сильным, но одновременно он теряет свою непосредственную человечность, он каменеет, – и это воспринимается автором не как идеал, а как серьезная угроза человеческой личности.
Такова сложная и противоречивая эстетическая позиция Ибсена в 50-е и 60-е годы. <...> Со второй половины 60-х годов в творчестве Ибсена совершаются значительные перемены. Общее направление этих перемен – развитие в сторону реализма. Здесь можно наметить целый ряд этапов (развенчание романтизма в «Пере Гюнте», подчеркнутая прозаичность полуводевильной-полусатирической комедии в прозе из современной жизни «Союз молодежи» и т. д.). Завершается это развитие во второй половине 70-х годов созданием таких четко реалистических социально-критических произведений, как «Столпы общества» и «Кукольный дом». И в той мере, в какой все творчество Ибсена перестраивается на реалистический лад, преображаясь в одну из самобытных разновидностей искусства критического реализма, эстетическая теория Ибсена приобретает реалистический характер. Отражение этого процесса можно найти в письмах и речах великого норвежского драматурга.
Уже в середине 60-х годов, во время работы над «Брандом» Ибсен порывает с эстетизмом и формализмом. В письме к Бьёрнсону от 12 сентября 1865 года он подчеркивает, что был причастен к «эстетическому началу, как чему-то изолированному, самодовлеющему». Но теперь в подобной «эстетике», т.е. в эстетизме, он видит «великое проклятье для поэзии» и резко возражает против того, чтобы смотреть на жизнь, «как рассматривают картину, приставив к глазу сложенную трубкой руку». Если прежде, в поэме «На высотах», такие взгляды воспринимались как нечто возвышенное, хотя Ибсен и не присоединялся к ним целиком, так как видел, что они угрожают человеку «окаменением», то в середине 60-х годов такой подход к жизни вызывает у Ибсена уже лишь презрение, а о своих прежних друзьях-эстетах он говорит как об «умствующих ослах».
Показательно также отношение Ибсена к античному и ренессансному искусству, с которым он познакомился в Риме. Больше всего его привлекают здесь те мастера и те произведения, в которых есть характерное, индивидуальное. Ему кажется теперь, что искусство как чистое обобщение, как символ принадлежит к давно уже преодоленной эпохе исторического развития. Другими словами, прежняя ибсеновская концепция глубокого, «существенного» искусства, которой свойственно пренебрежительное отношение к конкретным деталям действительности, перестраивается – конкретные детали реальной жизни начинают рассматриваться как сугубо важные в эстетическом плане.
Интерес к характерному не означает здесь, однако, отказа от типического и от объективного начала в искусстве. В частности, Ибсен в эти годы резко высказывается против произвольного вторжения автора в ткань художественного произведения. Так, он соглашается с возражениями Г. Брандеса против общих сентенций, несомненно идущих от автора, вложенных в первом издании «Борьбы за престол» в уста персонажей. А в связи с полемикой вокруг «Союза молодежи» Ибсен подчеркивает, что хотел взять «ситуации и условия жизни», типические для норвежского общества, указывает на необходимость для комедии быть реалистической. Другими словами, здесь, правда, еще в смутном и неопределенном виде, намечается требование такого искусства, которое сочетало бы типическое и характерное, выражение существенного с изображением детали. Но подлинного синтеза всех этих начал в эстетических взглядах Ибсена 60-х годов еще не произошло, что в точности соответствует и характеру его драматургии этих лет. В «Бранде» и «Пере Гюнте» еще явственно преобладает обобщенное, типизирующее и символизирующее искусство, а в «Союзе молодежи», несмотря на имеющиеся в нем черты типизации, все же господствует принцип более внешнего искусства, искусства детали.
Но уже в ближайшие годы у Ибсена вырабатывается действительно цельная и единая эстетическая программа – программа критического реализма. Уже в самом начале 70-х годов Ибсен с новой силой формулирует принцип «существенного» искусства, вместе с тем подчеркивая, что полная точность и правдивость в частностях, в жизненных деталях является необходимой предпосылкой подлинной художественности произведения искусства.
Первоначально такая концепция искусства высказывается Ибсеном в связи с проблемой исторической драмы и служит обоснованием художественного метода, по которому построена его «всемирно-историческая» драма «Кесарь и Галилеянин» (1873). Философскому обобщенно-историческому содержанию этой пьесы Ибсен придавал очень большое значение. Именно в ней он предполагал развернуть свое положительное мировоззрение, между тем как в прежних пьесах он предпочитал «ставить вопросы». Но в то же время Ибсен видел свою цель в том, чтобы дать «вполне цельное, вполне реалистическое произведение», все образы которого должны пройти перед взором читателя «воочию, озаренные светом своей эпохи». Свое новое произведение Ибсен считает даже не «трагедией» в старинном значении слова – именно потому, что оно должно дать «полную иллюзию действительности», изобразить людей, а не богов. Стремлением к реализму объясняет Ибсен и необходимость отказаться в исторической драме от стихотворной формы; введенные в произведение для создания четкой картины эпохи мелкие будничные лица стерлись бы и смешались между собой, если бы автор заставил их говорить одним и тем же размером.
Все эти замечания непосредственно касаются «Кесаря и Галилеянина», но в них содержатся общие требования Ибсена к исторической драме, построенной по принципам современного искусства, которое Ибсен понимает как искусство реалистическое.
Одной из существенных предпосылок такого искусства Ибсен считает глубокое проникновение автора в свой предмет, в тот мир и в те события, которые он описывает. Автор должен пережить то, что он изображает, хотя бы ему не приходилось это лично прожить, – таков соответствующий тезис Ибсена, который он не устает провозглашать. В связи с этим, в частности, большие требования предъявляются к художнику, к его внутреннему миру, ко всей его жизни. Условием подлинного творчества Ибсен считает содержательность жизни писателя.
Глубокое проникновение художника в предмет предполагает и особое умение художника видеть. Ибсен однажды выдвигает даже тезис, что задача поэта «видеть, а не рассуждать». Но здесь подразумевается видение совершенно особого рода. Оно распространяется не только на внешний облик явлений, но и на их внутреннюю суть. С помощью своего зоркого взгляда, а также с помощью догадки и инстинкта поэт может и должен усвоить общие духовные веяния («предпосылки») своей эпохи. Без непосредственного видения своего предмета ни один писатель не сможет запечатлеть его в его подлинности, как бы обширны ни были его познания, – таково основное положение ибсеновской эстетики начиная с 70-х годов, и это положение несомненно является реалистическим.
Формулируясь сначала в связи с проблемой исторической драмы, тезисы реалистической эстетики Ибсена уже в этот момент обращены к современности. Ибсен требует, чтобы историческая драма выражала то, что не только пережито писателем, но что вообще находится в близкой связи с течениями современной жизни. С другой стороны, и во второй половине 70-х годов, когда Ибсен уже обращается в своей драматургии к современности, он считает необходимым широкий исторический кругозор у писателя. Нельзя правильно писать о современности, если не имеешь «основательных исторических познаний», – такова соответствующая точка зрения Ибсена. В этой последовательно проводимой идее о необходимости для писателя связывать современность и историю сказывается общая тенденция Ибсена в эти годы подходить к действительности исторически, рассматривать всякую эпоху и, в частности, эпоху, наступившую после 1871 года, в ее особых, своеобразных чертах.
В качестве важнейшего признака этой новой эпохи Ибсен выдвигает характерный для нее разрыв между благополучной видимостью и коренным внутренним неблагополучием, между наружным процветанием и внутренней гнилостью. Такое восприятие современной действительности, воплощенное в стихотворении «Письмо в стихах» в образе «трупа в трюме», ведет Ибсена к величайшей внимательности по отношению к конкретным проявлениям современной жизни, часто даже к таким, которые на первый взгляд могут показаться незначительными мелочами. Тщательно всматриваясь, Ибсен обнаруживает в них существенное содержание, скрывающуюся за ними трагедию. Поэтому со второй половины 70-х годов, когда Ибсен целиком переходит к современной тематике, его требование полной достоверности изображаемой жизни и, в частности, точности и верности деталей становится еще более настоятельным.
В применении к театральному искусству Ибсен выдвигает требование, чтобы «зрителям казалось, будто они слышат и видят нечто такое, что совершается в действительной жизни». Он хочет, чтобы на всей постановке лежала «печать действительной жизни». Он советует актерам ориентироваться в своей работе над ролью не на игру того или иного знаменитого актера, а на «жизнь, которая кипит вокруг», предлагает использовать наблюдения и впечатления из действительной жизни.
Особенно настойчиво требует Ибсен от современной драматургии полной естественности в языке. Диалог должен строиться совершенно непринужденно. Каждый персонаж должен быть наделен особой речевой манерой, потому что «люди никогда не говорят одинаково». Надо тщательно избегать всех книжных выражений. Ибсен теперь еще более решительно, чем во время работы над «Кесарем и Галилеянином», высказывается против использования стиха в драме.
Стремление к жизненной правдивости предполагает исключительно глубокое и полное знание драматургом того материала, о котором он пишет. Это один из общеэстетических мотивов, которые заставляют Ибсена в эти годы выступить вообще против обращения к исторической тематике в искусстве. По мнению Ибсена, только современность известна писателю настолько, что он может ее изобразить без всякой фальши. Но, конечно, такое отрицательное отношение к исторической тематике у Ибсена в это время определялось в первую очередь не общеэстетическими соображениями, а его стремлением самым непосредственным образом откликнуться на насущные вопросы современной жизни. Употребляя знаменитое в то время выражение Г. Брандеса, он хочет «ставить на обсуждение проблемы», выдвинутые обострившейся социально-политической обстановкой в Норвегии 70—80-х годов.
Сам Ибсен, однако, в своих теоретических высказываниях чрезвычайно сдержанно говорит о проблемах, которые выдвигаются в его пьесах. Он не отрицает их наличия, он даже не раз называет их и отмечает их важность (например, наличие «нигилистической закваски» под наружной оболочкой спокойствия в «Привидениях», идея «призыва к труду» в «Росмерсхольме» и т.д.). Но он постоянно подчеркивает, что непосредственно стремился всегда изображать людей и их судьбы. Ибсен отнюдь не противник идейного воздействия искусства на народ. Напротив, он неоднократно – особенно в годы создания «Привидений» – отмечает важность боевого искусства, которое искореняло бы пережитки мрачного средневекового, религиозного мировоззрения. Но это должно достигаться не общими рассуждениями, не простым высказыванием авторских тезисов, а конкретным показом жизни. Именно в этом смысл ибсеновского заявления о том, что «Привидения» вообще «ничего не проповедуют». В этом же смысл просьбы Ибсена постоянно помнить о том, что мысли, высказываемые персонажами его пьес, непосредственно принадлежат именно этим персонажам и не могут быть прямо приписаны самому автору. Вывод из пьесы должен формулироваться не в отдельных сентенциях, а вытекать из всей логики развития показанного на сцене куска жизни. Но наличествовать в пьесе такой вывод должен. И Ибсен с гордостью отмечает, в частности, что при разработке некоторых вопросов он пришел к тем же выводам, к которым путем научных изысканий пришли «социал-демократические философы-моралисты», хотя сам он стремился лишь «изображать характеры и судьбы людей».
Возможно, что такое подчеркивание своего стремления непосредственно лишь изображать жизнь, а не высказывать определенное мнение, было вызвано у Ибсена постоянными обвинениями со стороны реакционной критики в открытой тенденциозности, в абстрактном теоретизировании. Но по сути дела это ибсеновское положение составляет важную и неотъемлемую часть его общей программы реалистического искусства, в основе которой лежит требование воспроизводить жизнь как она есть. И в собственном творчестве Ибсена это требование давать определенные выводы не прямо от автора, а как итог прошедшей перед читателем или зрителем судьбы людей в значительной мере соблюдено. Характерно, что те диалоги, в которых высказываются наиболее общие положения по вопросам, затронутым в пьесе, даются, как правило, в конце произведения, как такой вывод, который самим персонажам приходится сделать из своей собственной судьбы. С этой точки зрения чрезвычайно важно, что Ибсен видит основу своего реалистического искусства не просто в правдивом изображении характеров, а также в правдивом изображении судьбы людей.
Заслуживает внимания, что в эстетической теории своего реалистического периода Ибсен подчеркивает необходимость детального воспроизведения конкретной действительности в произведении искусства. На самом деле ибсеновский реализм был значительно сложнее. Он характеризовался прежде всего наличием большого обобщенного содержания и своеобразным аналитическим углублением в действительность. Именно эти черты резко отграничивают ибсеновскую драматургию от натуралистического искусства, делают ее одним из проявлений критического реализма в последние десятилетия XIX века. Но, как мы уже видели, эти стороны своего реалистического метода
Ибсен теоретически выдвигает в значительно меньшей степени. Это связано, вероятно, с тем, что как раз прямое изображение конкретной жизни в ее мелочах и деталях было тем новым, что вошло в это время в искусство Ибсена, между тем как глубокая идейность, содержательность были свойственны и прежним этапам ибсеновского творчества.
Соответственно и в своих требованиях к языку драматургии Ибсен ставит во главу угла полную жизненность и разговорность, не касаясь таких важных черт своего диалога, как наличие в нем глубокого и великолепно оформленного подтекста. Решающим для всей эстетики Ибсена в это время является непосредственное приближение к современной жизни во всей ее конкретности. <...>
В период, начинающийся со второй половины 80-х годов, когда в творчестве Ибсена ослабевают непосредственные социально-критические тенденции и усиливаются элементы символики, перестройки его эстетических взглядов не происходит. Вплоть до начала 90-х годов мы встречаем у него многочисленные высказывания о необходимости для искусства строжайшим образом следовать за жизнью. Его указания актерам и режиссерам почти совпадают, когда он говорит и об исполнении роли Ялмара («Дикая утка»), и об исполнении роли Ребекки Вест («Росмерсхольм»), и о подборе актеров для «Гедды Габлер». Исходить из пьесы как целого и использовать для построения роли свои жизненные наблюдения и впечатления – тот совет, который Ибсен дает актерам на протяжении десятилетий.
И даже в самом конце 90-х годов Ибсен подчеркивает, что его задачей было изображать людей. Он по-прежнему резко протестует против попыток взять под сомнение объективность изображения людей в его пьесах, против отождествления их реплик с высказываниями самого автора.
Таким образом, те сдвиги, которые происходили в это время в стилевой системе ибсеновской драматургии, все же не воспринимались им самим как отход от выработанной им в 70-х годах системы реалистических взглядов. Допуская известные отклонения от реализма в художественной практике, Ибсен не порывает с ними в своей общей эстетической теории и в самих основах своего творчества.
Показательна в этом отношении последняя драма Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Это – единственное произведение из ибсеновских пьес последних десятилетий, в котором огромную роль играет проблематика искусства, а именно – вопрос о соотношении между искусством и жизнью. И при всей своей подчеркнутой символичности, «драматический эпилог» Ибсена недвусмысленно осуждает всякое искусство, противопоставляющее себя жизни, холодно отворачивающееся от нее. не случайно эту проблематику жизни и искусства, и притом под таким же углом зрения, развивают в XX веке лучшие представители гуманистической литературы на Западе, в первую очередь Томас Манн, характеризовавший замысел «драматического эпилога» Ибсена «как позднее объяснение в любви жизни».
А.А. Аствацатуров Оскар Уайльд: искусство как гедонистический жест (На материале ранних произведений)
Теория
Уайльд всегда принадлежал к числу наиболее почитаемых в России английских писателей, даже тогда, когда им демонстративно пренебрегала его родина. Переводы его текстов постоянно переиздаются, его пьесы идут с неизменным успехом в российских театрах, о его творчестве спорят отечественные ученые-гуманитарии. И все же ранние тексты Уайльда, кроме, разумеется, «Кентервильского привидения», вызывают у читательской публики и у исследователей значительно меньше энтузиазма, чем, к примеру, роман «Портрет Дориана Грея» или знаменитые сказки. И это отчасти справедливо, если историю литературы понимать как раз и навсегда установленный канон. но если в нейвидеть динамичный и увлекательный процесс, где творческий импульс еще только ищет пути возможного осуществления, то первые прозаические опыты Уайльда окажутся ничуть не менее интересными, чем те шедевры, которые принесли ему мировую славу. В данной статье на материале именно ранних уайльдовских текстов мы попытаемся показать, как формировалось чувство жизни писателя и основные стратегии его письма. Анализ так называемой «малой прозы» Уайльда, вошедшей в сборник «Преступление лорда Артура Сэвила и другие рассказы» (1891), будет недостаточным и приведет к непониманию замысла писателя, если не принимать во внимание его эстетические представления. Как известно, они нашли свое непосредственное выражение в его знаменитых трактатах-диалогах, написанных приблизительно в то же самое время, когда он работал над своими первыми прозаическими опытами.
Уайльд вошел в английскую литературу в ту пору, когда в культуре получили распространение идеи эстетизма. Художники, поэты и теоретики искусства, которых традиционно причисляют к этому движению, стремились найти противоядие духу рассудочности и прагматизма, захватившему Европу[89]. Они выступали против викторианской идеологии с ее этическими и эстетическими стереотипами, противопоставляя им эллинский гедонистический идеал. Мишенью эстетской критики стала позитивистская картина мира и ее преломление в литературе реализма и натурализма[90]. Эстеты обвиняли писателей этих направлений в абсолютизации животной природы человека и сведению его к существу биологически и социально детерминированному, т.е., по сути, лишенному индивидуальности. Кроме того, очевидное в реалистической прозе второй половины XIX века описание обыденного и тривиального теоретики и практики эстетизма расценивали как вторжение в мир искусства чистой, неструктурированной реальности, разрушающей его форму, его целостность и единичность.
Выход они видели в утверждении приоритета эстетических ценностей над всеми иными. Высшим типом познания теоретик эстетизма считал познание художественное, которое противопоставлялось научному, лишенному целостности. Соответственно высшим и подлинным типом индивидуальности эстеты называли индивидуальность творческую. В условиях кризиса христианских ценностей искусство становилось для них формой религии и, таким образом, наделялось новыми и несвойственными ему функциями[91]. Оно объявлялось более значимым и существенным, чем сама реальность. Реальность рассматривалась как нечто вторичное по отношению к искусству. Именно этот комплекс идей очевиден в теоретических работах Уайльда.
Исследователи творчества Уайльда единодушно признают, что автор «Дориана Грея» не был оригинальным мыслителем. Его представления о мире, о человеке и об искусстве не носили систематического характера. Уайльд талантливо развивал и преподносил в остроумной форме идеи, уже высказанные его предшественниками: Дж. Китсом, Т. Готье, прерафаэлитами, У. Пейтером, Дж. Уистлером. Впрочем, некоторые аспекты уже вошедших в обиход эстетических концепций трактовались им весьма неожиданно и получали вполне оригинальное звучание.
Среди текстов Уайльда, посвященных теоретическим проблемам, особое место занимают эссе, вошедшие впоследствии в его сборник «Замыслы» (1891): «Упадок лжи» (1889), «Перо, полотно и отрава» (1889), «Критик как художник» (1890), «Истина масок» (1895). Все они создавались в конце 1880-х – начале 1890-х, когда Уайльд уже состоялся как писатель. Его представления об искусстве не были абстрактными построениями: они вырастали из литературной практики. Рассуждая о каком-либо писателе или о каком-нибудь произведении, Уайльд неизменно говорил о самом себе и своем литературном творчестве.
Два центральных трактата Уайльда, где его мысли об искусстве представлены с наибольшей полнотой и систематичностью, – «Упадок лжи» и «Критик как художник» – написаны в форме диалогов. Подчеркивая преимущества диалога и называя его формой выражения, «особенно привлекательной для мыслителя», Уайльд отмечает в первую очередь диалектические возможности, заложенные в этом жанре: «Диалог позволяет рассмотреть предмет со всех точек зрения, так что он предстает во всей своей целостности, подобно тому как показывает нам то или иное явление скульптор, добиваясь полноты и живой верности впечатления за счет того, что главная мысль в своем развитии выявляет и множество побочных ответвлений, которые, в свою очередь, помогают глубже раскрыть эту основную идею…»[92] Диалог, подобно художественному произведению, сохраняет многовекторность, многосмысленность обсуждаемой идеи. Он способен примирить, связать в единое целое разнонаправленные линии и возможности, заложенные в ней, не сводя ее к однозначной схеме[93]. Идея (объект) постулируется не как заранее заданное и необсуждаемое правило, а как комплекс проблем и начало долгого поиска. Она предстает перед нами в виде процесса, пути, нового и неожиданного письма, рождающегося у нас на глазах.
В использовании диалога Уайльд опирается на платоновскую (сократовскую) традицию, в которой устойчивое знание противопоставляется динамическому мышлению. Ведущие персонажи уайльдовских диалогов (Вивиэн в «Упадке лжи», Джилберт в трактате «Критик как художник»), чья позиция близка взглядам писателя, разговаривают подобно участникам диалогов Платона с простодушными собеседниками (соответственно Сайрил и Эрнест[94]), изрекающими вполне банальные суждения. Существенно, что первые не сообщают вторым неких истин или неоспоримых фактов. Вивиэн и Джилберт заставляют Сайрила и Эрнеста думать, прибегать к творческому воображению. Они готовы отказаться или иронически дистанцироваться от только что сформулированной ими же самими концепции ради того, чтобы убедить своих собеседников в том, что всякое подлинное знание достигается только индивидуальными усилиями.
Уайльдовские трактаты-диалоги намеренно напоминают салонную болтовню («table-talk»), в которой искусство может быть одной из возможных тем обсуждения наряду с мебелью, качеством сигарет, вина или какого-нибудь гастрономического изыска.
Джилберт: Однако же пора ужинать. Потолкуем теперь о достоинствах пулярки и шамбертена, а уж затем вернемся к вопросу о критике как интерпретаторе произведений.
Эрнест: Так вы все-таки допускаете, что хоть изредка критик может воспринимать свой предмет таким, каков он в действительности.
Джилберт: Не сказал бы. Впрочем, может быть, допущу, когда мы поужинаем. Ужин обладает способностью менять мнения.
«Критик как художник»[95]
Диалоги ведутся не в высоком философском собрании. Они возникают спонтанно, в случайных местах, в «частном особняке на Пикадилли с видом на Грин-парк» («Критик как художник»), или в «библиотеке в сельском доме в Ноттингемшире» («Упадок лжи»). Разговоры происходят за бокалом вина, за сигаретой. Персонажи могут заниматься каким-то делом и случайно отвлечься от него, ради разговора:
Джилберт (за фортепьяно): Мой дорогой Эрнест, что вас насмешило?
Эрнест (отрываясь от чтения): Вступительная глава этого тома мемуаров, который я нашел у вас на столе[96].
«Критик как художник»
Эти явно ироничные вводные реплики и ремарки ставятся Уайльдом с целью снизить серьезность начинающегося диалога об искусстве, вызвать у читателя ощущение, что трактат не претендует на открытие непререкаемой истины. С участников диалога снимаются все обязательства, в том числе и необходимость последовательно и серьезно отстаивать свою точку зрения. В их суждениях ценится не логика, а спонтанность, непредсказуемость, единичность. Беседа ведется не ради того, чтобы достичь истины, а ради самой беседы. «Участники диалога, – пишет биограф Уайльда Ричард Эллманн, – стараются и убедить, и развлечь друг друга; автор держится в стороне от обоих, даже от того из них, чьи идеи он явно разделяет. Наслаждение самой беседой сильней, чем желание утвердить свою правоту»[97]. Принуждение, связанное с жесткой логикой рассудка, уступает в трактатах Уайльда удовольствию, получаемому от свободы выражения и возможности мыслить произвольно, в игровом ключе. Этот гедонистический жест выдает в нем неоязычника, способного наслаждаться каждым мгновением своего существования. Здесь мы видим реализацию нового представления об индивидуальности, которому будет суждено в полной мере воплотиться в искусстве ХХ века. В новой, нарождающейся культуре, мысль, как показывает Уайльд, осуществляет себя не в логических операциях, а в движениях страсти, рождаемых телом. Индивидуальность открывает себя скорее среди противоречий, чем в последовательном развертывании идеи[98].
Читая уайльдовские трактаты-диалоги, нетрудно заметить, что их автор разделяет позицию в одном случае Вивиэна («Упадок лжи»), в другом – Джилберта («Критик как художник»).
Каждый из этих персонажей является в какой-то мере alter ego автора. Однако полностью отождествлять их с Уайльдом нельзя, как справедливо подсказывает нам в своей книге Ричард Эллман, ибо в противном случае позиция Джилберта и Вивиэна выглядела бы окончательной, претендующей на знание истины, не подлежащей обсуждению. Однако этого не происходит. Уайльд заставляет персонажей радикализировать концепцию, обострять ее, доводить до того логического предела, где она перестает работать. Зачастую Вивиэн и Джилберт произносят сентенции, нарочито оценочные, предельно упрощенные (словно адаптированные для массового читателя) и носящие откровенно провокационный характер, и при этом совершенно не утруждают себя аргументацией[99]. Таким образом, Уайльд дистанцируется от участников своих диалогов и стремится обнажить сами принципы их мышления. Вивиэн и Джилберт – это маски Уайльда, позволяющие ему переступать границы собственной личности, неизбежно замкнутой в жесткой системе интеллектуальных координат.
Истина принципиальна для человека, живущего в пространстве практической жизни. А под маской человек легко может поступиться правдой, справедливостью суждения ради последовательного развертывания своей позиции – пусть даже оно приведет к полному абсурду. Истина маски есть верность стилю, характеру изложения. Неудивительно, что свое эссе «Истина о масках» Уайльд завершает фразой, которая, казалось бы, перечеркивает все его наблюдения и выводы: «Я согласен отнюдь не со всем, что я изложил в данном эссе. Со многим я решительно не согласен. Эссе просто развивает определенную художественную точку зрения, а в художественной критике позиция – все»[100]. Уайльд, таким образом, проводит границу между человеком деятельным, вовлеченным в пространство других и потому придерживающимся истин, и маской, пишущим персонажем, на котором лежит ответственность за все изложенное. Маска, как это ни парадоксально, возвращает человека к его собственному «я», дарит ему свободу, в отличие от обыденной личности, которая его сдерживает. Любопытно, что использование маски становится в уайльдовских трактатах не только приемом, но и содержанием. Сами персонажи (Вивиэн и Джилберт) нисколько не скрывают, что их точка зрения – всего лишь поза, маска. Они открыто признают, что едва ли разделяют все сказанное ими и предпочитают дистанцироваться от самих себя, рассуждающих об искусстве.
Трактаты-диалоги Уайльда задумывались и создавались не столько как эссе, выражающие определенные эстетические представления, сколько как тексты, в которых осуществлялось жонглирование, игра с этими представлениями. Отсюда проистекают важнейшие особенности их структуры. Если традиционные философские тексты непременно строятся в соответствии с логикой идей, то трактаты Уайльда зачастую нарушают эту логику, и их части организуются в соответствии с движением воображения автора, что характерно для художественных текстов. Идеи, как правило, воссоздаются Уайльдом в образах, которые взаимодействуют друг с другом в соответствии с художественным решением: «Льется в песчаную форму расплавленная медь, и красная река металла, остыв, облекает благородные очертания божественного тела. невидящие его глаза обретают зрение, когда на статуе появляется финифть или граненые бриллианты. Локоны, похожие на гроздья гиацинта, приобретают упругость под ножом резчика»[101](«Критик как художник»). В результате высказанная персонажем Уайльда идея обретает плоть: абстрактное соединяется с конкретным, вечное – с преходящим, всеобщее – с индивидуальным. Чувственные устремления сливаются в единый вектор с духовными. Мысль оказывается неотторжима от той формы, которую она обретает, и несводима к сухой философской сентенции. Избегая определенности и тяготея к многовекторности эстетического суждения, Уайльд использует парадоксы, высказывания, заключающие в себе внутреннее противоречие.
Будучи верным последователем Шопенгауэра и учеником Пейтера, Уайльд, несомненно, исходит из идеи непознаваемости мира, внеположного человеку. По ту сторону своего «я» личность заглянуть не может. Природа, чистая жизнь, жизнь как таковая покрыта мраком неизвестности, и человек никогда не поймет принцип действия тех сил, той воли, которая приводит вселенную в движение. В трактате «Упадок лжи» Вивиэн, почти открыто отсылая читателя к идеям Артура Шопенгауэра, говорит о безразличии, бесчувственности природы по отношению к человеку: « <… > к тому же природа так безразлична, так бесчувственна. Стоит мне пройтись по здешнему парку, и я сразу ощущаю, что для природы я ничуть не лучше коров, пасущихся на склоне, или лопухов, разросшихся по канавам. Природе более всего ненавистна мысль, это, я думаю, очевидно всякому»[102]. Схемы, интеллектуальные построения, концепции характеризуют скорее их создателя, т.е. человека, а вовсе не мир. С точки зрения Уайльда, люди не видят природу как таковую. Они различают в окружающей реальности лишь знание о ней. «Если же в Природе, – размышляет Вивиэн, – видеть совокупность явлений, выступающих внешними по отношению к человеку, в ней человек может найти лишь то, что сам внес». Персонажи трактатов Уайльда, говоря о «Природе» или о «жизни», имеют в виду отнюдь не «чистую» реальность[103], не освоенную сознанием человека, ибо такого рода реальность есть фикция, то, о чем невозможно помыслить и о чем нельзя говорить. Следовательно, эти понятия имеют другой смысл: они подразумевают обыденное человеческое существование, автоматическое и бессознательное, которое является неотъемлемой частью культурного пространства. Это существование выстраивается в русле плоских, заимствованных схем и представлений, отражающих принцип здравого смысла, соответствия очевидному. Таким образом, жизнь (природа) в понимании уайльдовских персонажей есть компромиссное пространство, основанное на прагматизме, где человек по рукам и ногам связан общественно-полезной деятельностью. Деятельная жизнь требует обуздания индивидуальных инстинктов. Именно поэтому Уайльд отвергает ее и противопоставляет ей жизнь созерцательную. Бессознательное подчинение чужим (общепринятым) интеллектуальным схемам означает для человека разрыв его духовных и телесных устремлений, долга и желания. Направленность жизни имеет принудительный характер, считают уайльдовские персонажи, ибо в ней отсутствует возможность реализации импульсов воображения, внутренних влечений и фантазий.
Принудительные схемы практического существования, полагают герои диалогов Уайльда, заимствованы не из духа жизни, как это может показаться на первый взгляд. Они родились из подражания образцам великого искусства, как воспроизведение в доступной сознанию форме того, что некогда было создано воображением.
Многосмысленное искусство адаптируется, теряет свои возможности и сводится к одному (практическому) смыслу. Эти рассуждения Вивиэна («Искусство лжи») позволяют перевернуть традиционное понимание взаимоотношения искусства и действительности. Вивиэн приходит к неожиданному, но логически вытекающему из всех его предыдущих размышлений парадоксу: «Жизнь подражает Искусству куда более, нежели Искусство следует за жизнью». Пессимизм изобрел Гамлет, нигилистов придумали Тургенев и Достоевский, робьеспьеров – Руссо. Жизнь, эпоха подражает художественному вымыслу. Так, XIX век, убеждает нас Вивиэн, был изобретен Бальзаком. Рассуждая подобным образом, Вивиэн, как справедливо замечает Эллман[104], иронически переворачивает с ног на голову популярную в те годы (да, впрочем, широко распространенную и сейчас) позитивистскую концепцию французского филолога и теоретика искусства Ипполита Тэна, согласно которой эпоха определяет и формирует художника и его искусство. У Вивиэна все наоборот: художник (в данном случае Бальзак) задает эпохе определенную направленность.
Соответственно кризис современного искусства Вивиэн видит в излишнем подражании жизни и природе. Произведения копируют вторичные по отношению к искусству схемы обыденной жизни, привязывая художника к прагматичному пространству и препятствуя свободному фантазированию. Именно по этой причине Уайльд отвергает «экспериментальный роман» Эмиля Золя, так же как и весь пафос «правды жизни», очевидный в творчестве реалистов и натуралистов.
Подобно большинству эстетов Уайльд фактически отождествлял искусство с религией и наделял его познавательной функцией. Художник, по его мнению, уклоняясь от общепринятых схем восприятия, открывает невыразимую духовную сущность мира, Красоту, и воплощает ее в материи своих произведений. Тем самым он создает целостную завершенную реальность, составляющие которой проникнуты единой духовной субстанцией. Копируя впоследствии эту реальность, облачая ее в материю, практическая жизнь становится лишь далеким отсветом Красоты, ее неполным воплощением, в отличие от искусства. Художник, создающий произведение, таким образом, приравнивается Уайльдом к Богу, сотворившему Вселенную: Творец сознательно созидает, в то время как человек неосознанно имитирует. Уайльдовский персонаж Джилберт фактически повторяет романтическое определение П.Б. Шелли, назвавшего поэтов «непризнанными законодателями общества». «Мир, – заявляет Джилберт («Критик как художник»), – создают певцы…»[105] Творческая индивидуальность прокладывает новые пути, открывает жизни возможности, альтернативные по отношению к общепринятым. И движущей силой здесь становится воображение, уводящее от привычных (бессознательно принимаемых) схем, разделяемых теми, кто вовлечен в общественную жизнь. Именно поэтому в своем трактате «Критик как художник» Уайльд вслед за великими отцами церкви ставит созерцательную жизнь выше жизни деятельной[106]. Любая деятельность предполагает соотнесенность с другими людьми, встроенность в общественное пространство и как следствие всего этого – утрату индивидуальности. Созерцание, в свою очередь, дает человеку возможность отрешиться от обыденного, уклониться от здравого смысла и обрести свое подлинное «я».
Власть реального, принуждение уступает место свободе самоосуществления, приносящей удовольствие, гедонистический восторг. Таким образом, в силовом поле воображения телесные импульсы (наслаждение) соединяются с духовными (поиск всеобщего духовного начала – Красоты).
И все же Уайльд, как справедливо замечает Эллман, избегает использовать понятие «воображение», заменяя его словом «ложь»: «Слово «ложь» подходило ему куда лучше, потому что ложь – это не стихийное самоизлияние, а сознательное введение в заблуждение. В этом слове есть нечто грешное и своевольное»[107]. Здесь, на наш взгляд, существенна именно осознанность творческого импульса, противостоящая бессознательности и автоматизму повседневной жизни. В трактате «Критик как художник» Джилберт рассуждает о критической, т.е. аналитической энергии, как о важнейшей составляющей художественного процесса. Критическое, рассудочное начало во многом направляет художника, позволяя ему осознанно отсекать все лишнее (обыденные эмоции, чувства или идеологические стереотипы) и сохранять верность синтезирующему воображению. Итак, «ложь» в контексте мировоззрения Уайльда можно определить как «осознанное воображение» или «незаинтересованное знание»[108]. В реальной жизни оно кажется особенно ценным, ибо представляет собой уклонение от общепринятых норм, обыденных стереотипов. Именно поэтому Уайльда так привлекала фигура английского критика и художника Томаса Уэйнрайта, которому он посвящает эссе «Перо, полотно и отрава». Уэйнрайт, каким его представляет Уайльд, оригинален не только в искусстве, но главным образом в жизни, ибо здесь он не следует традиционным добродетелям. Совершая подлоги, убийства, Уэйнрайт демонстрирует изрядное творческое воображение. Он уклоняется от всеобщих схем морали и часто совершает то, что называют «грехом». Отсюда Уайльд делает вывод, что грех – феномен индивидуального и элемент прогресса («Критик как художник»).
Если в художнике или в творце жизни (Уэйнрайт) Уайльд хотел видеть также и критика, то в критике он неизменно искал художника. Концепция назначения критики, которую Джилберт подробнейшим образом излагает в трактате «Критик как художник», вырастает из уайльдовского понимания Красоты и задач искусства. Для Уайльда, как мы помним, красота есть сущность мира, неразложимое духовное начало. В искусстве она предстает почти в своем первозданном виде, сохраняя неназываемость, нерасторжимость и несводимость к какому-то смыслу. Современные Уайльду литературные критики позитивистского толка (например, уже упомянутый выше Тэн) стремились к научному, рациональному постижению искусства. В значительной степени рассуждения уайльдовских персонажей в трактате «Критик как художник» носят явно антипозитивистскую направленность. Проблему постижения критики искусства Уайльд решает в духе Уолтера Пейтера. Он говорит о невозможности и недопустимости рассудочного познания искусства, разрушения единства красоты и сведения ее к формуле. Критик, по мысли Уайльда, призван постичь Красоту рассматриваемого им произведения и придать ей новую форму. Тем самым он создает на основе одного произведения другое и сохраняет многосмысленность великой Красоты.
Практика
В текстах, вошедших в сборник «Преступление лорда Артура Сэвила и другие рассказы» («Кентервильское привидение», «Преступление лорда Артура Сэвила», «Сфинкс без загадки», «Натурщик-миллионер»), Уайльд как раз и предпринимает попытку разрушить модели мировосприятия, навязывающие духу фиксированную форму и представляющие его в виде статичной структуры. Он работает с распространенными в культурном пространстве XIX в. стереотипами, традиционно реализующимися в литературе в определенных жанрах, сюжетах, принципах построения художественного целого. Исходным элементом его текстов является заимствованный стилистический образец, «чужое слово». Здесь используются готовые жанры и сюжеты, от которых Уайльд иронически дистанцируется[109]. Предметом его художественной рефлексии оказывается структура готической повести[110] («Кентервильское привидение»), детектива («Преступление лорда Артура Сэвила»), фельетона[111] («Сфинкс без загадки») и анекдота («Натурщик-миллионер»). Он препарирует их схемы, вскрывая их внутренние механизмы и тем самым обнаруживая их условность, неспособность полностью освоить непредсказуемую реальность. Художественная форма разрушается вместе с иллюзией стабильности мира, ибо Красота сопротивляется любому проекту.
Рассказ «Кентервильское привидение» (1887) стал одним из программных произведений Уайльда. Здесь используется распространенный сюжет о спасении души грешника, не находящей успокоения. Совершив преступление, лорд Кентервиль поддается злу и становится узником собственного эгоизма, своего обыденного практического «я». Зло приобретает в «Кентервиль-ском привидении» форму вечной жизни и рассудочного знания всех тайн потустороннего мира, которое становится доступно призраку. Непостижимая Красота (высшее благо) открывается ему как бытовое пространство практической жизни, начисто лишенное каких бы то ни было загадок.
Уайльд заставляет читателя пережить этот кошмар механического расчленения Красоты и встать на позицию своего персонажа. Именно поэтому автор «Кентервильского привидения» обнажает, препарирует стиль и сюжетные ходы, характерные для готической литературы[112]. Уже подзаголовок рассказа («Материально-идеалистическая история») глубоко ироничен: мистической истории о Кентервильском привидении дается вполне научное, «материалистическое» истолкование. Оно полностью разрушает характерную для романтического (или готического) повествования интригующую таинственность. Здесь объясняется то, что никогда логически не может быть объяснено. Повествователь подробно, с научной деловитостью, которая в подобных произведениях отсутствует, рассказывает о повседневной жизни, быте и привычках привидения. Читателю раскрывается психологическая мотивировка поступков привидения, которая оказывается весьма банальной. Сверхъестественная сила, проявляющаяся в неожиданных формах в посюстороннем мире, сводится в «Кентервильском привидении» к образу ворчливого старика, готового пугать людей только ради развлечения. Мы видим, как привидение тщательно продумывает план мести, перебирая в уме наиболее эффектные позы и роли. В диалоге с Вирджинией его попытки оправдать свое желание нарушить покой Отисов звучат крайне неубедительно. Сам диалог выглядит комичным, потому что Кентервильское привидение – таинственная сила – поставлена перед необходимостью оправдываться. Создается впечатление, что он остается в своей роли злого духа из упрямства – и юная героиня отчитывает его:
«– Мне очень жаль вас, – сказала она, – но завтра мои братья возвращаются в Итон, и тогда, если будете вести себя как следует, вас никто не станет беспокоить.
– Смешно требовать, чтобы я вел себя как следует, – ответил призрак, с удивлением глядя на хорошенькую девочку, осмелившуюся обратиться к нему. – Просто смешно. Если вы имеете ввиду громыхание цепями, стоны в замочные скважины и ночные прогулки, так ведь это входит в мои обязанности. В этом единственный смысл моего существования.
– Никакого смысла в этом нет. Вы прекрасно знаете, что были очень дурным человеком. Миссис Амни рассказывала нам, когда мы сюда приехали, что вы убили свою жену.
– Ну что ж, я этого и не отрицаю, – сварливо возразил призрак. – но это дело чисто семейное и никого не касается.
– Все равно, убивать людей очень нехорошо, – заявила Вирджиния, на которую временами находила милая пуританская суровость, унаследованная от какого-то предка из новой Англии»[113].
Весь мир романтического текста обнаруживает свою условность, когда в его реальности возникают не соответствующие ему элементы, например рекламные слоганы. Сюжетные линии рассказа с традиционным мотивом проклятия и искупления, заимствованные из готической литературы, выглядят предельно надуманными. Их искусственность, сделанность подчеркивается введением непредсказуемых ситуаций. Привидение должно вызывать у героев ужас, но прагматичные и рациональные американцы нисколько не боятся его и, более того, издеваются над ним и даже пугают. Отисы парадоксальным образом становятся кошмаром приведения, его Адом, в котором царствует здравый смысл. Первая попытка привидения вселить страх в душу мистера Отиса заканчивается неудачей. Описание призрака выполнено Уайльдом в соответствии с романтическими традициями. Однако автор обманывает читателя, который ожидает ужасной и трагической развязки. Отис строго выговаривает привидению, и романтический стиль уступает стилю современной рекламы:
«Прямо перед ним в призрачном свете луны стоял старик ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли, длинные седые волосы патлами ниспадали на плечи, грязное платье старинного покроя было все в лохмотьях, с рук его и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые ржавые цепи.
– Уважаемый сэр, – обратился к нему мистер Отис, – извините меня, но я вынужден просить вас смазать ваши цепи. Вот вам для этой цели флакон смазочного масла «Восходящее солнце Тамани». Говорят, его действие сказывается после первого же употребления»[114].
Существенно, что Уайльд не создает готическую или романтическую прозу, не стилизует ее, а играет в приемы, характерные для такого рода литературы. В результате они выглядят условными, и произведение уже не вызывает у читателя страха, связанного с ощущением прикосновения к таинственному и возвышенному.
И все-таки Уайльд вырывает привидение из мира зла, из его рационалистического кошмара. Спасение герою дарует любовь, чистота, понятая как восхождение к Красоте, духовной сущности, целостному видению мира. Любовь и чистоту персонифицирует Вирджиния. Лорд Кентервиль примиряется с людьми и с Богом, а Красота восстанавливается в своих правах: она возвращается в мир неназываемая, окутанная тайной. «Кентервильское привидение» завершает очень важный для понимания уайльдовского текста диалог между Вирджинией и ее супругом:
«– Вирджиния, у жены не должно быть секретов от мужа.
– Милый Сесил, я ничего от тебя не скрываю!
– Нет, скрываешь, – улыбаясь, ответил он. – Ты так и не рассказала мне, что произошло, когда ты пошла за призраком.
– Я никому не говорила об этом, Сесил, – серьезно возразила Вирджиния.
– Знаю, но мне-то ты могла бы сказать.
– Пожалуйста, не проси меня, Сесил, я не могу. Бедный сэр Саймон. Я многим ему обязана. Да, да, не смейся, Сесил, я говорю правду. Он открыл мне, что такое жизнь, что означает Смерть, и почему любовь сильнее их обеих. <...>
– А нашим детям ты когда-нибудь расскажешь? Вирджиния покраснела»[115].
Рассказ «Преступление лорда Артура Сэвила» (1887) представляет собой своего рода аллегорию, описывающую восхождение человека через любовь к сущности мира – Красоте. Этот путь должен пройти лорд Артур Сэвил, олицетворяющий романтическую невинность[116], дабы соединиться брачными узами с Сибил Мертон, воплощающей дух высшей любви. Достичь идеала Красоты и всеобщего добра, всепорождающей абсолютной формы он сможет лишь в том случае, если выдержит испытание. Искусительницей лорда Артура, вводящей его в мир зла, выступает в «Преступлении… » леди Уиндермир, которая соединяет в себе святость и греховность: «<...> в золотом обрамлении ее лицо светилось как лик святого, но и не без магической прелести греха»[117]. Именно она знакомит его с хиромантом Поджерсом. Если Сибил Мертон персонифицирует высшую добродетель Артура, его стремление к Красоте, то Поджерс являет собой «злое» начало в Артуре[118]. Напомним, что зло Уайльд понимает не как нарушение общепринятых этических или моральных принципов. Зло таится как раз в обратном – в следовании заранее заданным схемам и стереотипам, в вовлеченности в обыденную практическую жизнь. Поджерс опасен тем, что он – орудие здравого смысла, хиромант, пытающийся при помощи схем рассудка открыть тайну мира, свести непостижимую духовную сущность к абстрактной идее. Появление Поджерса в жизни Артура выдает уязвимость последнего для зла и здравого смысла. Неслучайно Артур проявляет непростительный обыденный интерес к тайне жизни и требует от хироманта ее вербализовать, перевести на язык разума. Выяснив предначертание судьбы (ему суждено стать убийцей), Артур пытается его осуществить. Он вступает в пространство, где отсутствует воображение, свобода, и господствует принцип власти. В отличие от самого Уайльда, по-эстетски стремившегося «быть», а не «делать что-либо», Артур предпочитает жизнь деятельную жизни созерцательной. Но он не знает главного: его жертвой должен стать сам Поджерс.
Понимание тайны не может быть окончательным. Тайна, сущность жизни не укладывается в схемы рассудка. Поэтому герой оказывается бессильным. Артуром движет высокий идеал самопожертвования (преодоление границ обыденного «я») во имя любви[119]. Однако избранное средство достижения идеала противоречит его сущности. Герой опирается на здравый смысл: «Сердце подсказало ему, что это будет не грех, а жертва; разум напомнил, что другого пути нет»[120].
Далее читатель узнает, что лорд Артур оказался заложником рассудка, практической, деятельной жизни: «…лорд Артур был человеком практичным. Для него жить – значило действовать, скорее, чем размышлять. Он был наделен редчайшим из качеств – здравым смыслом». Герой чувствует бремя долга, обязательства власти, стоящей над ним. Попытки убийства, которые он совершает, представляют собой вульгарные жизненные копии литературных сюжетов. Лорд Артур имитирует стереотипы поведения романтических злодеев, когда пытается отравить Клементину, и нигилистов из русских романов – когда посылает декану Чичестера часы, начиненные взрывчаткой. Но целей своих он не добивается. Искусственно и рассудочно выстроенная повседневность не соответствует тайне мира. Познать ее, обуздать ее, ориентируясь на здравый смысл, невозможно. Гедонистический пафос уайльдовского текста взламывает устойчивые стереотипы, выработанные культурой-властью. Удовольствие ставится выше долга. Убийство Поджерса оказывается убийством единственного зла, которое присутствует в этом мире, – здравого смысла. Совершив преступление, Артур может жениться на Сибил и символически приобщиться к высшему идеалу – Красоте.
В тексте «Сфинкс без загадки» повествователь случайно встречает в парижском кафе лорда Мэрчисона, который рассказывает ему историю своей неудачной любви к загадочной леди Элрой. Первое, что мы узнаем о лорде, это то, что он почти совершенен, за исключением одного недостатка – «скверной привычки всегда и всюду говорить правду»[121]. Иными словами, лорд наделен банальнейшим здравомыслием, навязывающим миру определенность, однозначность, единственный стереотипный (разделяемый всеми) смысл. Читатель тотчас же узнает, что Мэрчисон – ярый приверженец разного рода схем и концепций, причем таких, которые представляют мир в виде структуры, управляемой внешней, вынесенной в трансцендентную область властью: «Мэрчисон, убежденный консерватор, истово верил в Пятикнижие, и его вера в Библию была столь же незыблема, как вера в добропорядочность Палаты лордов нашего парламента»[122]. Правда или истина (для нас – власть), в наличии которой убеждает себя лорд и которую он стремится постичь, должна лежать вне пределов посюстороннего осязаемого мира. Сущность может быть только скрытой, невидимой, непостижимой, удаленной в трансцендентную область. Отсюда – представление о том, что внешний мир, будучи проекцией мира потустороннего, полон загадок и тайн. Здесь Уайльд обыгрывает романтическую картину мира, уже изжившую себя к концу XIX в. и превратившуюся в расхожий стереотип. Этот стереотип легко передается в виде незамысловатой истины (схемы): в мире есть нечто, что не поддается объяснению. Именно бесконечность, необъяснимость влечет лорда Мэрчисона – точнее, не сама необъяснимость, а представление о ней. Мы уже отмечали, что герой любит правду, т.е. то, что для Уайльда тождественно стереотипам.
Этот принцип определяет его чувство к леди Элрой: он видит в ней не живого человека, а эстетический феномен, форму, иллюстрирующую идею таинственности.
Уайльд демонстрирует читателю условность романтической (или псевдоромантической) схемы, ее искусственность, отторгаемость от мира. Реальность обманывает ожидание героя (и читателя), настроенного на принятую в романтической традиции развязку. Тайна не разгадывается, она объявляется фикцией, разыгранным спектаклем, с чем главный герой, лорд Мэрчисон, впрочем, не вполне согласен. Мир уклоняется от всякой попытки концептуализации: он неизмеримо богаче любой, даже самой изобретательной концепции. Едва наши ощущения оформляются в умозаключения, идея отделяется от материи, становясь ее тюрьмой.
Жизнь исчезает, оставляя место абстракции. Парадокс уайльдовского «Сфинкса без загадки» заключается в том, что концепция неопределенности мира как раз определяет мир, противореча самой себе, и отрицание ее как абстрактной схемы позволяет увидеть неопределенность жизни. Гедонистический жест сбрасывает узы формы, открывая читателю живое тело мира. Этот жест отвергает власть трансцендентных схем. На смену пониманию мира, конструированию представлений о нем приходит чувственное ощущение силы, исходящее от его поверхности.
Нетрудно заметить, что уайльдовский мир предельно упрощен, лишен глубины и трансцендентного измерения. «Сфинкс без загадки» ограничен действием, которое разворачивается на плоскости, не переходя пределов видимого, осязаемого пространства. При этом мир, представленный нам, нарочито схематичен. Фон действия предельно минимизирован и почти лишен деталей и описаний. Наше внимание полностью концентрируется на сюжетной линии, которая приводит нас к парадоксальному видению мира, заставляя почувствовать размытость и неясность форм, прежде казавшихся столь определенными. Текст «Сфинкс без загадки» имеет подзаголовок «офорт». Именно так Уайльд определил его жанр, попытавшись перенести приемы мастеров офорта в сферу литературы. «Сфинкс», как того требует характер офорта, представляет нам мир черно-белым. Он ориентирован в большей степени на тон, нежели на четкие линии.
Рассказ «Натурщик-миллионер» на первый взгляд напоминает расхожий светский анекдот. Молодой человек дает милостыню нищему, проникшись к нему состраданием. Нищим оказывается переодетый миллионер, который впоследствии вознаграждает молодого человека за его щедрость. Этот весьма незатейливый сюжет обретает благодаря Уайльду новое, неожиданное звучание. Хьюи Эрскин, главный персонаж рассказа, демонстрирует полную неспособность к практической, деятельной жизни. Виной тому, как читатель вскоре выяснит, оказывается естественное сострадание к окружающему миру, способность к отречению от своего обыденного эгоизма. Эта способность – форма воображения, действующего вне мира практики и рассудка, неосознанное стремление к Красоте и высшему благу. Увидев жалкого бедняка, Хьюи готов пойти на жертву (какой бы комичной она ни казалась): ««Бедный старикашка, – подумал он про себя, – он нуждается в этом золотом больше, чем я, но мне придется две недели обходиться без извозчиков»»[123]. Однако выясняется, что старикашка в лохмотьях вовсе не беден. Это миллионер, перевоплотившийся в нищего настолько талантливо, что подмена оказалась убедительней реальности. Хьюи попадает в пространство, где царит дух игры, подмены, свободного воображения, где ложь – единственная истина. И в этом пространстве ему удается состояться, обрести индивидуальность. Его отрекающийся жест был принят, а затем и вознагражден. Акт самоотречения, полагает Уайльд, отказ от обыденного «я», исполненного примитивного эгоизма, дарует человеку подлинную индивидуальность и постижение Красоты.
Эта идея, равно как и способ ее художественного воплощения, получили дальнейшую разработку в двух сборниках сказок («Счастливый принц и другие сказки», 1888; «Гранатовый домик», 1891), а затем в романе «Портрет Дориана Грея». В этих текстах произойдет окончательное соединение гедонистического жеста, вскрывающего стереотипы практической жизни, бытового сознания, и стремления к форме, понимаемой не как набор правил, а как воплощение Красоты.
А.М. Зверев Последняя повесть Марка Твена
Марк Твен завершает творческий путь произведением необычным, во многом загадочным и, несомненно, оправдавшим свое заглавие – «Таинственный незнакомец». История написания и публикации этой повести сама по себе составила литературоведческую проблему, решенную лишь через много лет после смерти писателя. Вкратце эта история такова.
В 1916 г. бывший секретарь и будущий биограф Твена А.Б. Пейн вместе с редактором издательства «Харпер энд бразерс» Э. Дьюнекой выпустил небольшую книжку, представленную в качестве того самого романа, о котором есть глухие упоминания в нескольких твеновских интервью по возвращении в США из Европы (октябрь 1900). Предварительно этот текст появился в журнале «Харперс мэгэзин», и он же стал основой для последующих перепечаток и переводов на иностранные языки. Семь лет спустя Пейн его переиздал, добавив заключительную, в идейном отношении очень важную главу, которую, по его уверениям, он обнаружил среди твеновских бумаг, когда собирал материалы для своей биографической книги о Твене, к тому времени уже законченной и увидевшей свет в 1924 г. Доступ к рукописям и архивам Твена в ту пору был закрыт для всех, кроме Пейна, и утверждения публикатора оставалось молча принять на веру.
Они, однако, вызвали сомнения, тем более что уже было известно о существовании других вариантов «Таинственного незнакомца», самим Пейном рассматриваемых как черновые или подготовительные. Поводом для этих сомнений послужили некоторые композиционные неувязки в предложенном Пейном варианте, а также неубедительность его датировки – начало 1898 г. Выходило, что совершенно законченное произведение Твен почему-то – вернее всего, опасаясь скандала – не отдавал в печать, хотя им были опубликованы публицистические статьи и памфлеты, вызвавшие крайне раздраженную реакцию буржуазной публики. Многочисленные умолчания в заключительном томе пейновской биографии, где речь идет о последнем периоде творчества Твена, а также свойственная этой работе тенденция к сглаживанию острых углов (она не укрылась и от первых читателей, очень многого еще не знавших) вполне естественно ослабляли доверие к текстологической достоверности публикации 1916 да и 1923 г.
Издание 1923 г. Пейн назвал каноническим, однако это была не более чем мистификация. Видный исследователь и публикатор твеновского наследия Б. Де Вото, ознакомившийся с рукописями «Таинственного незнакомца» в конце 30-х годов, без труда обнаружил редакторские правки Пейна и установил, что известный читателям текст до известной степени сконтаминирован из произведений, связанных общностью замысла, но обладающих бесспорной самостоятельностью. Де Вото прочел три более или менее законченные повести, представляющие собой вариации одного и того же художественного мотива, но сильно разнящиеся по характеру его воплощения. Текст Пейна был основан на одном из трех этих произведений, исправления вносились путем заимствований из другого варианта, а последняя глава могла быть отнесена к ним обоим. Вариант, на который опирался Пейн, у Твена носил заглавие «Хроника молодого Сатаны», вариант, из которого делались заимствования, был озаглавлен «№ 44. Таинственный незнакомец». И существовал еще один вариант той же истории, названный «Школьная горка». Правда, этот вариант был оставлен Твеном рано и в художественном отношении уступает двум другим.
Помимо трех этих вариантов, Де Вото обнаружил обширные подготовительные материалы к «Таинственному незнакомцу», свидетельствовавшие, что Твен придавал своему произведению исключительную важность. Заготовки и заметки к будущей повести представляли в ряде случаев настолько самостоятельный интерес, что зародилось мнение об еще одном варианте «Таинственного незнакомца», быть может уничтоженном Твеном; впрочем, это гипотеза[124]. Де Вото ее в конечном счете не принял и, более того, попытался обосновать правомерность редактуры Пейна. Он считал, что взятый Пейном за основу вариант действительно самый поздний и наиболее завершенный, датировал этот вариант приблизительно 1905 г. и не возразил против добавления заключительной главы, хотя ее принадлежность именно этому варианту осталась проблематичной[125].
Все встало на свои места только в конце 50-х годов, когда архивы Твена открылись для специалистов. Один из них, Дж. Таки, проделал тщательную сопоставительную работу над материалами, относящимися к «Таинственному незнакомцу», и его выводы в монографии, целиком посвященной этому вопросу, ныне можно считать окончательно доказанными. В небольшой книге этого литературоведа, вышедшей в 1963 г.[126], была обоснована и последовательность всех вариантов повести, и их датировка. При этом Таки опирался не только на анализ сугубо текстологического характера (сопоставление почерка с привлечением рукописей Твена, имеющих точные даты, сравнение чернил, особенностей пунктуации, менявшихся у писателя с ходом лет, и т. п.), но и на другие данные, аргументированно показав, что аллегорическая твеновская повесть содержит в себе прозрачно, а порой и тщательно зашифрованные отзвуки ряда важных событий политической жизни на рубеже XIX—XX вв. Подобный подход позволил не просто решить проблему текста, но и по-новому оценить смысл и пафос последнего крупного художественного произведения Твена.
Дж. Таки установил, что тот вариант, который ранее считался последним и был выбран для «дефинитивного» издания (с которого, кстати, сделан и русский перевод в твеновском двенадцатитомнике 1961 г.), на самом деле предшествует двум другим; «Школьная горка» была вторым вариантом, а «№ 44. Таинственный незнакомец» – третьим и последним, хотя заметки и материалы, связанные с той же работой, вполне вероятно, могли бы послужить основой еще одной повести, Твеном, однако, не написанной. Первый вариант («Хроника молодого Сатаны», или «Эзельдорф» – по названию деревни в Австрии, где происходят описываемые события) был, согласно Таки, создан Твеном в промежутке между ноябрем 1897 и сентябрем 1900 г. и оставлен еще до возвращения писателя в США. Запись сюжета второго варианта, «Школьной горки», содержится в рабочей тетради Твена за ноябрь 1898 г., тогда же была начата работа над этим произведением, продолжавшаяся не более двух месяцев и прерванная другими творческими замыслами. Работа над «№ 44» (этот вариант иногда называют «Типография», поскольку действие происходит в печатне, а героями являются ее работники) началась в конце 1902 г. и с перерывами продолжалась до июля 1905 г. «№ 44» полнее всего отражает авторскую волю Твена, и, если в данном случае можно говорить о каком-то каноническом издании, основой его должен стать именно этот текст.
Заключительная глава, механически присоединенная Пейном к «Эзельдорфу», в действительности написана не ранее 1908 г. и, скорее всего, мыслилась Твеном как финал «Типографии». Состояние рукописи, однако, таково, что единственным аутентичным методом ее издания является публикация всех трех вариантов «Таинственного незнакомца» под одним переплетом. <...>
Все три версии «Таинственного незнакомца» построены на одной и той же исходной ситуации: загадочный пришелец, явившийся неведомо откуда, вносит беспокойство и смятение в размеренно текущую жизнь, наполняя ее непостижимыми и пугающими коллизиями, пока обыватели не убеждаются, что к ним пожаловал сам Князь тьмы. В «Хронике молодого Сатаны» местом действия выбрана австрийская деревушка, а события начинаются в мае 1702 г. Повествование ведется от лица Теодора Фишера, подростка из Эзельдорфа (т.е. Ослиной деревни), который знакомится и сводит дружбу с неким Филипом Траумом, вскоре открывающим новому своему приятелю, что он племянник Сатаны и настоящее его имя тоже Сатана. Теодор и его сверстники Сеппи и Николаус становятся свидетелями удивительных происшествий, к которым всякий раз оказывается непосредственно причастен мистический гость их деревни. Центральный фабульный эпизод в этом варианте повести – подстроенная Траумом тяжба между двумя деревенскими пасторами, один из которых обвиняет другого в краже крупной суммы денег; обвинение в итоге оказывается ложным, но, пока дело разбирается, стараниями Сатаны обвиненный впадает в состояние «счастливого безумия», которое, конечно, предпочтительнее того жалкого прозябания, какое оставалось уделом всех эзельдорфцев до появления Искусителя.
В «Школьной горке» та же коллизия развертывается на более привычном читателям Твена жизненном фоне. Время действия – середина XIX в., место действия – Санкт-Петербург, тот самый городок на Миссисипи, который описан в «Томе Сойере» и «Геке Финне». Оба прославленных твеновских персонажа появляются в этом варианте «Таинственного незнакомца», хотя его несомненно черновой характер сказался как раз в очень слабой, почти пунктирной обрисовке двух бессмертных подростков, остающихся здесь скорее статистами, чем сколько-нибудь активными художественными характерами. Повествование на сей раз ведет сам автор.
Было написано шесть глав, и Твен оставил этот свой замысел. О том, как он мог бы быть реализован, можно судить по записи в рабочей тетради (ноябрь 1898): «История молодого Сатаны, появляющегося в Петербурге (Ганнибале), где он учится в школе, завоевывает популярность и пользуется особой симпатией Гека и Тома, которые знают его тайну. Другие завидуют его славе, а девочкам он не нравится, потому что от него пахнет жженым кирпичом… Он симпатичный маленький дьяволенок, но он сквернословит и неподобающим образом ведет себя в День отдохновения. Постепенно его приучают к порядку, он становится добрым методистом и больше не творит чудес… А раз он не творит чудес, прежние приятели делаются к нему равнодушны и больше в него не верят. И когда положение его совсем плачевно, во всем блеске своей адовой славы является в сопровождении целой свиты ярких, как изображалось встарь, красавцев-дьяволов его папаша, и вот уже все простираются у ног этого мальчишки и стараются ему угодить изо всех сил».
Фабула, намеченная в «Школьной горке», несложна. Какой-то странный мальчик, утверждающий, что его имя Quarante-quatro (Сорок четвертый), однажды появляется на уроке в той школе, где учится Том Сойер, и потрясает всех, не исключая учителя, своей способностью в мгновенье ока овладевать незнакомыми ему языками и запоминать от доски до доски содержание пухлых томов. В семействе, которое его приютило, он производит переполох, без труда укротив кошку, прославившуюся своим неуживчивым нравом, и беседуя с нею так, словно она разумное существо. Все заинтригованы, особенно после того, как в разгулявшуюся метель Сорок четвертый спасает от неминуемой гибели своих школьных товарищей, поначалу встретивших его недружелюбно и пытавшихся затеять драку, от которой он уклонился. На этом эпизоде рукопись обрывается.
Из подготовительных материалов Твена видно, как намеревался он продолжить этот рассказ. Сорок четвертый, согласно авторскому замыслу, влюбляется в дочь Хочкиссов, предоставивших ему кров, и постигает, что земная любовь – чувство несравненно более притягательное, чем та интеллектуальная надмирность и бестревожность, в какой он пребывал, пока не покинул Ада. И кроме того, Сорок четвертому предстояло основать новую воскресную школу, в которой обучали не христианским добродетелям, а «антиморали». Последний момент очень важен, поскольку он вводил бы в «Школьную горку» одну из основных идей, развиваемых Твеном на страницах «Таинственного незнакомца», – идею несостоятельности общепринятых в окружающем мире моральных норм перед лицом истинной человеческой природы, как ее себе представлял писатель в последние годы творчества.
О причинах, заставивших Твена прервать работу над «Школьной горкой» и не возвращаться к рукописи, разумеется, можно судить лишь предположительно. Дж. Таки, У. Гибсон и некоторые другие критики считают, что писатель столкнулся с непреодолимыми для него творческими трудностями, когда нужно было разрабатывать любовный сюжет. Отбрасывать такое объяснение нельзя: мотив, который Твен намеревался воплотить в любовном эпизоде, для него действительно неограничен. Однако вряд ли лишь в этом было все дело.
Известно, что Твен много раз пытался вернуться к Тому и Геку, уже завершив посвященную им дилогию. Все попытки оказывались неудачными. «Том Сойер за границей» и «Том Сойер-сыщик» остаются поверхностными приключенческими историями, не выдерживающими никакого сравнения с повестью, где этот персонаж был представлен читателю. Задуманный и наполовину написанный рассказ о Томе, Геке и Джиме, очутившихся на «индейской территории», не удовлетворил Твена настолько, что он не включал опубликованные в журнале главы произведения ни в одну свою книгу.
В записной книжке 1909 г. содержится краткий план еще одного замысла, связанного с Томом и Геком: они, много постранствовав по свету, возвращаются пожилыми людьми в родные места, жизнь их не удалась, оба бедствуют, сходят с ума и умирают, не ощутив просветления даже перед смертью. Не получивший творческого осуществления, этот замысел Твена тем не менее очень значителен как свидетельство, красноречиво говорящее о крахе идеалов, которым он оставался верен долгие годы.
Очевидно, «Школьная горка» была последним твеновским произведением, в котором Том и Гек могли бы предстать перед читателем уже не теми героями, какими они запомнились по прежним книгам, им посвященным. Твен, конечно, сознавал, что художественный персонаж, если он становится «сквозным» для писателя, переходя из книги в книгу, должен жить во времени и изменяться как характер. С двумя подростками из Санкт-Петербурга для Твена было связано не только главное его творческое свершение, но и весь центральный в его книгах комплекс идей просветительского происхождения, мысль о духовной и нравственной норме, мечта о «залитой солнцем зеленой долине», чей идиллический покой не могут до конца разрушить даже самые отталкивающие проявления жестокости и бесчеловечности социальных установлений.
Подобные представления с неизбежностью трансформировались у Твена под давлением тех фактов доподлинной американской повседневности, которые все непосредственнее отражались в его творчестве по мере становления и углубления твеновского реализма. О том, как менялся образ провинции и сопряженный с ее изображением мотив «естественной жизни», можно судить, сопоставив «Тома Сойера» даже с «Геком Финном», а еще увереннее – с «Простофилей Вильсоном». Обращаясь в «Школьной горке» к своим воспоминаниям, Твен не мог избежать реминисценций с дилогией и даже вернул в повествование ее главных героев. И тогда произошло столкновение слишком разнородных изобразительных принципов, возник конфликт слишком несхожих эмоциональных тональностей.
Ведь «Таинственный незнакомец», к какому бы варианту ни обратиться, мыслился как произведение нескрываемо аллегорическое, и доминирующим художественным началом здесь была иносказательность, чужеродная дилогии. Воплотившийся в повести глубоко скептический взгляд Твена на окружающую жизнь вообще характерен для его позднего творчества, а этого нельзя утверждать даже в связи с «Приключениями Гекльберри Финна», не говоря уже о «Томе Сойере». Чтобы завершить «Школьную горку», Твену, вероятно, пришлось бы коренным образом пересмотреть сам замысел последней повести, и поэтому он отложил начатую рукопись, принявшись писать «Таинственного незнакомца» заново.
Третий, самый пространный вариант повести опять возвращает читателя в Австрию, где Твен жил в 1898—1899 гг., как журналист активно откликаясь на события австрийской внутренней политики. Время действия теперь 1490 год, самое начало книгопечатания, основное развитие фабулы тесно связано с типографией, расположенной в замке Розенфельд, а рассказ густо уснащен специфической терминологией наборщиков, прекрасно известной Твену еще с юности, когда он сам был типографским служащим у ганнибальского газетчика и издателя Эмента. Повествователем избран один из рабочих типографии – Август Фельднер, симпатизирующий своему новому товарищу по ремеслу – называющему себя № 44 таинственному незнакомцу, который, однако, не вызывает особенно дружеских чувств у других рабочих и, более того, своим вызывающим поведением провоцирует распри, а затем и стачку, ставящую под угрозу своевременное выполнение выгодного заказа на большой тираж библий. Желая прийти на выручку хозяину типографии, Сорок четвертый создает двойников бастующих рабочих, и печатание не останавливается, хотя, как обычно у Твена в тех многочисленных случаях, когда он использовал прием двойника, возникает множество запутанных, интригующих и комедийных ситуаций.
Видимо, почувствовав, что рассказ приобрел чрезмерно юмористический характер, Твен прервал работу над ним, когда уже была сформулирована теория Сорок четвертого, согласно которой у каждого есть два «я» – Будничное и Грезящееся, но этот важный в философском отношении тезис еще не получил всестороннего осмысления, как в последующих главах.
Эти главы писались в 1905 г., после предварительной редактуры и значительного сокращения уже готового текста. Переработка носила четко обозначенный характер: Твен усиливал элемент фантастики и притчи, убирая бытовые подробности и углубляя философскую идею, вложенную в уста Сорок четвертого. Помимо Будничного и Грезящегося, было введено еще одно «я» – Бессмертное, а с ним появился и мотив освобождения человека от «одиозной плоти». Фабула строилась на бесчисленных перевоплощениях Сорок четвертого, выступающего то магом, то своего рода комедийным актером, то неким злым гением, смущающим покой обитателей замка, а другая сюжетная линия была определена постепенным превращением повествователя Фельднера в придуманного ему Сорок четвертым двойника – Эмиля Шварца, с которым Август под конец полностью себя отождествляет.
Финальные эпизоды как бы совершенно отменяют хронологический порядок повествования, поскольку Сорок четвертый переносит Августа (точнее, уже Эмиля Шварца) в едва начавшееся XX столетие, попутно раскрывая ему смысл истории, свершившейся за те четыре века, что пронеслись с момента начала рассказа. Здесь вполне естественными выглядят и походя упомянутая имперская политика царской России, и беспощадное высмеивание основоположницы «Христианской науки» Мэри Беккер Эдди, над которой Твен нередко издевался в своих фельетонах, и целый ряд других деталей и штрихов, указывающих не на время действия, а на время написания повести. Перед нами гротескная панорама современной Твену эпохи, непосредственно перекликающаяся с его памфлетами на злобу дня.
Написанная в 1908 г. последняя глава, неорганичная для «Эзельдорфа», хотя Пейн и ввел ее в свое издание, была вполне логичной как завершение «Типографии», и, вероятно, требовалась только сравнительно небольшая редакторская работа, чтобы повесть приобрела вид оконченного произведения. Но силы Твена были на исходе, и перечитать рукопись с пером в руках он уже не успел. Она осталась лежать в ящике его письменного стола, а затем начались все те злоключения, из-за которых читатели смогли познакомиться с последней твеновской книгой лишь через шестьдесят лет после того, как ее автор завершил свой путь.
Этот факт небезразличен для восприятия «Таинственного незнакомца», обнаружившего – причем именно в третьем, самом позднем своем варианте – созвучие некоторым устойчивым мотивам американской прозы 60—70-х годов, хотя незачем разъяснять, что тут не может быть и речи о прямом влиянии. Словно судьба особо позаботилась о проверке «Таинственного незнакомца» временем, сделав несостоятельными любые разговоры об устарелости твеновской сатиры, ставшей фактом литературной жизни США конца 60-х годов и воспринятой как явление актуальное и злободневное – без всяких натяжек.
<...> «Таинственный незнакомец» продолжает и увенчивает собой ту притчевую, аллегорическую линию, которая восходит в твеновской прозе к «Янки при дворе короля Артура», прослеживается в поздней новеллистике писателя («Пять даров жизни») и становится доминирующей в произведениях последних лет творчества, сообщая, в частности, особое художественное качество знаменитым памфлетам антиимпериалистического содержания. Исследователями Твена, как правило, не придавалось должного значения этому усиливающемуся с годами тяготению художника к поэтике притчевого обобщения, однако «Таинственный незнакомец» убеждает, что эволюция твеновского повествования шла именно в этом направлении. И конечно, она отвечала менявшемуся с годами представлению Твена о действительности, которая его окружала, и о сущности человека, его соотечественника и современника.
Хорошо известно, как нарастал в творчестве Твена обличительный пафос и углублялось разочарование писателя в фундаментальных основаниях американской жизни. Кульминацией этого процесса неизменно признается публицистика 900-х годов, а также повесть «Человек, который совратил Гедлиберг», писавшаяся одновременно с первым вариантом «Таинственного незнакомца». Это справедливо, коль скоро исходить из таких критериев, как все последовательнее осознаваемый Твеном крах так называемой ганнибальской идиллии, т.е. всего просветительского по духу мироощущения, памятником которого остается в его творчестве «Том Сойер», а также из бесспорного усиления социальной критики во всем его позднем творчестве. Эзельдорф в этом случае уместно рассматривать как еще один Гедлиберг, а «Таинственного незнакомца» – как беллетризи-рованный памфлет, принципиально не отличающийся от памфлетов последнего периода творчества. Такой подход не только широко распространен, но до самого последнего времени был общепринятым, в том числе и у советских литературоведов, обращавшихся к Твену[127].
Изучение повести во всей совокупности материалов, к ней относящихся, требует, однако, внести известные уточнения в такую ее интерпретацию. Сатана держит в своих руках все нити событий и в повести о Гедлиберге, павшем жертвой коварной мистификации, которая обнаружила истинную натуру его внешне безупречных обитателей, однако непосредственно на сцене Искуситель не появляется, и это даже давало повод полагать, будто сатирический шедевр Твена не связан с «дьяволиадой», нашедшей в его творчестве столь многочисленные отзвуки. В «Таинственном незнакомце» Сатана с очевидностью становится рупором авторских идей. Это отвечает характеру замысла Твена, заключавшегося в том, чтобы, не ограничиваясь, как в «Гедлиберге» и «Банковом билете в 1 000 000 фунтов стерлингов», изображением поистине беспредельной коррупции, отличающей социальные отношения в буржуазном обществе, высказать всю нелестную правду о человеческой природе. А тем самым нельзя было не коснуться проблематики доподлинно философской, сопряженной с критериями этической истины и сущностных ценностей бытия.
Никогда прежде эта проблематика не возникала у Твена в столь недвусмысленном выражении, и «Таинственный незнакомец», где она стала действительно центральной, явился философской притчей, какой без серьезных оговорок нельзя признать даже наиболее близкие к последней повести твеновские произведения: ни «Принца и нищего», ни «Простофилю Вильсона», ни «Человека, который совратил Гедлиберг». В определенной мере подготовленный каждой из этих аллегорий, «Таинственный незнакомец» все же заметно от них отличается по характеру основного идейного конфликта, определяющего и характер художественной организации повествования.
Суть этих отличий состоит в том, что резко возрастает элемент художественной условности и столь же ощутимо слабеет роль фабульной интриги, прежде неизменно отмеченной у Твена изобретательностью и остротой. Обычные твеновские приемы создания фабулы, связанные с мотивами переодевания, двойничества, «миражной» коллизии, в которую вовлечены действующие лица, лишь под конец рассказа убеждающиеся, что вольно или невольно они подпали под власть заблуждения, – все это можно обнаружить в различных вариантах последней повести. Однако они уже не порождают того внешнего напряжения и той событийной насыщенности, какими обладали прежние произведения писателя, включая и аллегорические. Меняется задача. Теперь иначе воспринимается Твеном давно интересовавшая его раздвоенность человека, как бы отрицающего собственную гуманную сущность, когда он вовлечен в заведомо ложные, «вывихнутые» общественные отношения, но способного вернуться к заложенному в нем природой доброму и разумному началу, едва лишь ему удается освободиться от давления принятых в обществе норм. Раздвоенность интересует писателя уже не только как факт социального поведения личности, но и как некая объективная конфликтность извечных, природных свойств человеческого естества. Одна из самых устойчивых и неотступных тем твеновского творчества в «Таинственном незнакомце» приобретает совершенно новый ракурс, а оттого и отточенный повествовательный инструментарий прозаика становится недостаточен для ее воплощения.
В любом варианте повести можно обнаружить следы усилий Твена каким-то образом согласовать традиционную для него модель повествования и новую проблематику, вносящую в эту модель серьезные коррективы. «Эзельдорф» был начат как рассказ о трех подростках, для которых родной их городок «был сущим раем… школа нам не докучала… в церкви говорили, что простому народу незачем много знать, а то он еще возропщет против ниспосланной ему Богом судьбы». Появление молодого Сатаны в обществе Теодора Фишера и его приятелей поначалу ничего не меняет в их обычном распорядке; стихия игры, атмосфера упоенности приключением, жадный интерес к окружающему – знакомые мотивы других книг Твена, посвященных подросткам, – сохранены и в этом варианте «Таинственного незнакомца», но лишь до того момента, когда открывается истинное лицо загадочного гостя Ослиной деревни. И тут подростки, как было замечено еще Ван Виком Бруксом[128], не просто отходят на второй план рассказа, но в значительной степени утрачивают черты, традиционно отличавшие героев такого типа у Твена.
Антитеза открытого миру, всегда бескорыстного сердца подростка и порабощенного противоестественными условностями сознания взрослых – важнейшая антитеза, прослеживающаяся у Твена от «Гека Финна» до жизнеописания Жанны д'Арк, – в «Таинственном незнакомце» утрачивает свое значение. Показательно, что построение рассказа, в котором подростку отведена важнейшая роль, оказывается в данном случае непригодным, хотя Твеном были опробованы самые разные формы такого повествования: авторская в «Томе Сойере», исповедальная в «Геке Финне», сказочная в «Принце и нищем», стилизованно мемуарная в «Жанне д'Арк». Для «Эзельдорфа» потребовалась форма монолога совершенно условного центрального героя – Сатаны, а внешняя фабульная канва и все другие характеры приобрели подчиненное положение.
В «Школьной горке» перед Твеном, казалось бы, не могло возникнуть особых сложностей, поскольку он возвращался к всесторонне им освоенному материалу. Однако и здесь выработанные принципы изображения пришли в конфликт с задачей, требовавшей для себя иной поэтики. Ключевым эпизодом рассказа оказались не сценки школьной жизни, сравнительно бледные, хотя в них и фигурируют и Том Сойер и Гек Финн, а рассказ Сорок четвертого о том, как его отец (т.е. Падший ангел) соперничал с Всевышним за душу Адама: предполагалось, что «запретный плод даст людям познать добро и зло, только и всего, но Сатане эти материи были известны и без плода… Он знал, что плод вызовет у людей неутолимую и сожигающую страсть творить зло, ибо она, эта страсть, для них естественна: так искры летят всегда вверх, а вода всегда стремится вниз… вот и человек принадлежит всецело злу, безраздельно злу, непоколебимо злу, а делать добро для него было бы столь же странно, как воде потечь вверх по холму». На шокирующих откровениях такого рода завершается рукопись «Школьной горки», и можно понять, почему Твен отказался от продолжения: не говоря уже о бесцветности фигур Тома и Гека, весь художественный мир, ассоциируемый с присутствием этих героев, оказывался дисгармоничен подобной философско-аллегорической установке, которая доминирует в «Таинственном незнакомце».
Последний вариант в этом отношении наиболее показателен. Сделав рассказчиком шестнадцатилетнего Августа Фельднера и густо оснастив его речь профессиональным жаргоном наборщиков, Твен как бы указывал на «Гека Финна» как на ближайший в своем творчестве прототип повествования, предложенного в «Типографии». В начальных главах этого варианта стилистическая ориентация на «Гека Финна» вполне наглядна. Твен попытался сохранить ее и дальше, выделив в качестве одного из «сквозных» мотивов действия несовпадение игры и реальности, столь важное для всего его искусства, а в особенности – для книг о подростках из Санкт-Петербурга. Однако «игра», затеянная Сорок четвертым в типографии, на поверку оказывается испытанием фундаментальных понятий о человеке и с неизбежностью перерастает в философский диспут, для которого любые мистификации и перевоплощения персонажей только служат аргументами, не имея иной ценности – ни для фабулы, ни для психологической характеристики героев. В итоге не столь уж существенно, что повествование ведет Август, а не сам автор. Это признает и рассказчик, отождествляющийся с собственным искусственно созданным двойником и испытывающий «такое чувство, точно у меня головокружение… Никогда еще со мной не бывало так, как сейчас, – ничего не могу понять, просто катастрофа. И страшно, и необычно все это, да и как же это – я, значит, и человек, и по природе уже вроде совсем не человек. Так кто тогда ты?»
Август обращается к Сорок четвертому, и его вопрос наивен, так как читателю прекрасно известно, кто этот персонаж. Твена он занимал с юности, даже с детства: в одном из поздних своих эссе он пишет, что семи лет от роду задумал сочинить биографию Сатаны, потому что в воскресной школе не слышал о нем ни единого доброго слова[129]. Есть и более достоверное свидетельство этого рано пробудившегося интереса – письмо брату Ориону, относящееся к 1858 г., когда Твен был лоцманом на Миссисипи. Он читал в ту пору Мильтона, и вот что его больше всего поразило: «Самое замечательное в «Потерянном рае» – это неукротимая энергия врага рода человеческого»[130].
Мировая литературная «дьяволиада» необозрима, важно выделить в ней то, что по документально подтверждаемым данным имело отношение к твеновскому «Таинственному незнакомцу». Мильтон, несомненно, послужил одним из основных источников замысла этой повести. Другим источником была раннехристианская литература: с нею Твен познакомился еще в 1865 г., изучив апокрифические евангелия в нью-йоркской библиотеке перед своей поездкой по святым местам, результатом которой была его первая книга – «Простаки за границей». Следы этого чтения обнаруживаются и в очерках плавания на пароходе «Квакер-Сити», особенно в газетных их публикациях, значительно переработанных для отдельного издания «Простаков за границей», и в «Письмах Сатане», над которыми Твен работал летом 1897 г. (опубликованы в его посмертном сборнике «Европа и другие края», 1923), и в «Письмах с Земли», а также других антирелигиозных твеновских сочинениях.
Учитывая неизменно стойкий, хотя, как правило и полемически окрашенный интерес Твена к романтикам, можно предположить неслучайность сходства Сатаны, каким он изображен на страницах «Таинственного незнакомца», с мифологическими образами тираноборцев, созданными Байроном и Шелли (напомним, что у Твена есть памфлет «В защиту миссис Шелли», содержащий крайне одностороннюю и резко негативную характеристику личности великого английского поэта). Еще одним из первых комментаторов «Таинственного незнакомца» – Ф. Каупером были указаны типологические параллели между повестью Твена и «Задигом» Вольтера, в особенности главой «Отшельник», где седобородый мудрец, встреченный героем по пути в Вавилон, развивает мысли, почти текстуально совпадающие с суждениями молодого Сатаны: человек «не может сам себе давать ни ощущений, ни идей», несчастья благотворны и необходимы, «нет такого зла, которое не порождало бы добро», и т. п.[131] Такие параллели едва ли могли быть случайными, учитывая, как много значили для Твена просветительские представления и концепции. напрашивается и еще одно сопоставление – с гетевским «Фаустом», разумеется, хорошо известным Твену, на протяжении многих лет тесно связанному с немецкой культурой. Тот же Ф. Каупер полагал, что «Задигом» была навеяна общая идея повести, тогда как из «Фауста» позаимствованы некоторые фабульные подробности «Эзельдорфа», на основании которого строил свои выводы критик[132].
Такие предположения не лишены своих аргументов, но все же отметим, что замысел повести вызревал в творческом сознании Твена на протяжении всего последнего периода его литературной деятельности и, наследуя определенную традицию «дьяволиады», вместе с тем явился произведением глубоко самобытным, не сводимым ни к одному из предшествовавших образцов. Развернутая в нем философская аллегория при всей своей обобщенности, предопределенной характером основных коллизий, обладала и содержанием, знаменательным именно для того времени, когда создавалась повесть Твена. Сколько бы ни обнаруживалось перекличек – осознанных или объективных – с другими художниками, использовавшими тот же самый мотив появления Дьявола среди обыденности будней, «Таинственный незнакомец» остается произведением, не отделимым ни от эпохи, когда оно было создано, ни от художественной индивидуальности его автора.
Значение центрального образа «Таинственного незнакомца» было для Твена разным, причем и в те годы, когда замысел повести, очевидно, уже сложился и началась работа над ее первым вариантом. Первоначально Сатана представлял собой чисто условный персонаж, своего рода «маску», часто используемую Твеном в памфлетах, публицистике и сатирических обозрениях понятий и нравов своего времени. В «Письмах Сатане» Твен приглашает своего адресата «предпринять развлекательную поездку вокруг света», спеша заверить, что «друзей у Вас обнаружится куда больше, чем можно было бы предположить», и среди родственных душ первым называя Сесиля Родса – британского колониалиста, ставшего в ту пору одной из главных мишеней твеновской сатиры. Весь цикл очерков, начатый в 1897 г., мыслился как язвительная панорама современной политической жизни, а Дьяволу предназначалось, оставаясь за сценой, убеждаться в справедливости своих самых мизантропических суждений о природе и деяниях человечества. Сходным образом используется тот же персонаж в «Человеке, который совратил Гедлиберг» и «Банковом билете в 1 000 000 фунтов стерлингов», существенно не изменяется его функция и в начальных главах «Эзельдорфа».
Первый вариант «Таинственного незнакомца» изображает едва ли не идиллическую гармонию патриархального жизненного уклада, которая на поверку оказалась лишь мнимостью, прикрывающей своекорыстие и безмозглый конформизм эзельдорфских обывателей. В этом смысле повесть имеет прямые точки соприкосновения с «Гедлибергом». И в том и в другом случае Сатана выполняет одинаковую роль, провоцируя трагикомический конфликт, в ходе которого проясняется истинная суть человеческих отношений и принципов, положенных в основание рисуемой Твеном жизни, – их буржуазная суть.
Сама по себе фигура Сатаны не обладала художественной объемностью ни в «Гедлиберге», где Искуситель вообще остается «за кадром», ни в первых эпизодах «Эзельдорфа». Здесь Твену важно было внушить читателю, что загадочный пришелец наделен способностью наперед видеть все последствия любого человеческого поступка и отличается вызывающим цинизмом, какой-то неуемной жаждой глумиться над понятиями, которые почитаются священными. Иными словами, Твен ограничивался наиболее устойчивыми и традиционными характеристиками, встречающимися почти обязательно, когда на сцену выводится Падший ангел. Речь шла скорее о довольно распространенном сатирическом приеме, чем о попытке создать сложный и по-своему завершенный художественный образ, органично входящий в поэтику условного повествования, каким остается любая философская аллегория.
Однако такое художественное решение не удовлетворило Твена, и уже в «Эзельдорфе» традиционная «маска» начинает постепенно усложняться, приобретая особые оттенки. Как и все передовые люди его времени, Твен с резким осуждением отозвался о процессе Дрейфуса, о «густой пелене лжи», окутавшей сознание французских квазипатриотов. В 1899 г. под впечатлением репортажей с этого процесса он пишет статью «О евреях», где прямо сказано, что все его симпатии на стороне обвиненного, а не обвинителей, и в ней как бы мимоходом замечает: расовые, религиозные, кастовые предрассудки всегда отвратительны, «даже предрассудок против Сатаны, ведь к нему никто не был по-настоящему справедлив». К этому времени, по данным Дж. Таки, в столе Твена лежала рукопись «Школьной горки», где мысль об отверженности Сорок четвертого и всеобщей предвзятости по отношению к нему получила свое творческое воплощение, заметно изменив тот образ, какой очерчен на страницах «Эзельдорфа». И уже в «Школьной горке» Твен пунктиром намечал апологию Сатаны, которая была им обещана читателям очерка о деле Дрейфуса: «Тот, кто бесчисленные столетия удерживал за собой позицию духовного лидера четырех пятых населения земли и политического лидера всего человечества, не мог не обладать практическими дарованиями самого высшего порядка»[133].
Эта апология развернута во многих главах «Типографии», внося еще один – и самый важный – дополнительный штрих в твеновский портрет Сатаны: перед нами уже не «маска», не жертва предрассудков, а скорее тот романтический бунтарь, которого не могут остановить никакие соображения блага, гуманности, смирения и всех прочих добродетелей, как понимают их обычные люди, поскольку им бросается вызов самому порядку вещей, установленному на земле с незапамятных времен, и самой идее конформизма. В «Эзельдорфе» подобная интерпретация центрального образа еще не вполне последовательна, в «Типографии» она выдержана от начала и до конца, и, если согласиться с датировкой вариантов повести, предложенной Дж. Таки, это вряд ли должно удивлять. Радикализм Твена стремительно нарастал все последние годы его жизни, писатель становился все более резким в своих оценках буржуазной цивилизации, все более пессимистичным – в суждениях о ее близком будущем. Твеновские памфлеты, трактат «Что такое человек?», записные книжки, письма, «Автобиография» говорят об этом с непреложной убедительностью. Закономерно, что и рукописи «Таинственного незнакомца» отразили тот же духовный процесс.
Его можно проследить, восстанавливая – от одного варианта к другому – движение основной коллизии, связанной с критикой «нравственной нормы» (Moral Sense)[134], которая вложена в уста молодого Сатаны и Сорок четвертого, но исходит, как показывают записные книжки и многочисленные высказывания писателя, сохраненные мемуаристами, от самого Твена. Сатана как ниспровергатель общепринятой морали – вполне привычный мотив в литературной «дьяволиаде», однако у Твена он приобретает новое и своеобразное звучание. Подобные ниспровержения прежде, да, как правило, и впоследствии уравновешивались в идейной структуре произведения достаточно обозначенным позитивным нравственным началом, воплощаемым либо в антагонистах Дьявола, либо в непосредственно авторском комментарии, либо, наконец, в той подчеркнуто сатирической ориентации повествования, которая давала ясно ощутить, какого рода мораль подвергнута сомнению и уничижению на его страницах. Ничего этого нельзя сказать о «Таинственном незнакомце».
Противники молодого Сатаны и Сорок четвертого слишком очевидно беспомощны перед их неопровержимой логикой. Авторский комментарий целиком отсутствует, а сопоставление повести с твеновскими суждениями, не предназначавшимися для публикации, не оставляет сомнений в том, что между главным персонажем и его создателем крайне затруднительно провести рубеж идейного размежевания: герой в ряде случаев просто повторяет записи писателя в его черновых тетрадях или мысли, зафиксированные Пейном, когда он был секретарем и постоянным собеседником Твена. Наконец, хотя «Таинственный незнакомец» – повесть бесспорно сатирическая, это сатира особого рода, философская сатира, чей объект – не те или иные пороки окружающей действительности, а коренные принципы, на которых строится человеческое бытие, и прежде всего принципы этики. Вот отчего «Таинственный незнакомец» послужил – наряду с трактатом «Что такое человек?» – основным источником очень распространенного предположения о «тотальной» мизантропии позднего Твена, о его отречении от гуманистических ценностей.
Разумеется, подобные толкования позиции Твена в последние годы его жизни сильно упрощают проблему. Однако признать их вовсе беспочвенными невозможно. Глубоко пессимистический взгляд на состояние мира и человека отличает почти все, что было в эти годы создано художником, и едва ли верно видеть тут лишь временные слабости и растерянность Твена перед лицом торжествующего зла, как воспринимал он утвердившиеся в США порядки и происходивший повсюду на планете колониальный разбой. Вот запись, внесенная в рабочую тетрадь 6 ноября 1895 г., когда Твен находился в Новой Зеландии, публичными выступлениями отрабатывая долги, появившиеся после краха затеи с наборной машиной: «Самое удивительное, что полки библиотек не завалены книгами, которые осмеивали бы этот жалкий мир, эту бессмысленную вселенную, это кровожадное и презренное человечество – осмеивали бы и изничтожали всю эту омерзительную систему. Ведь что ни год миллионы людей покидают наш мир вот именно с таким чувством в душе. Отчего же не написал что-нибудь в подобном роде я сам? Оттого, что я связан семьей. А другие – они этого не сделали по той же причине?»[135]
«Таинственный незнакомец» все-таки был написан и представлял собой ту книгу, о которой идет речь в приведенной выше широко известной записи. Причем от варианта к варианту герой повести все более непримирим в своих отзывах обо «всей этой омерзительной системе».
В «Эзельдорфе» он довольствуется, по большей части, тем, что жестоко высмеивает и природную ограниченность смертных («скопище отвратительных болезней, приют гнусности»), и их неспособность видеть дальше пресловутой «нравственной нормы», как она ни немощна перед реальными фактами жизни. Отец Петер, воплощающий эту «нравственную норму», дает ей наиболее четкое определение, утверждая, что она «представляет собой способность различать добро и зло… возвышая человека над прочими тварями и наделяя его бессмертием». Молодой Сатана, как в дальнейшем Сорок четвертый, подвергнет сокрушительной критике и подобное представление о морали, и теологические принципы, на которых оно основывается. Последний момент надо отметить особо: хотя Сатана нападает на саму человеческую природу, по сути, его инвективы раз за разом оказываются направленными в адрес христианской догматики, являющейся одним из главных объектов твеновского радикального обличения уже задолго до «Таинственного незнакомца» (достаточно упомянуть о сценах суда над Орлеанской девой в «Жизни Жанны д'Арк»). Мизантропическое философствование на поверку предстает сатирой, имеющей точный социальный прицел.
Это становится очевидно по мере развертывания фабулы, где отцу Петеру принадлежит центральная роль. Рассказчик и его товарищи не могут примириться с тем, что кознями нового приятеля добродетельный пастор оказался грубо скомпрометированным и претерпел жестокие несчастья, однако для Сатаны все это лишь мелкая и недостаточная плата за то зло, которое причинило господство церкви на протяжении столетий: «Убивать – вот что всегда было для человечества главным побуждением, но потребовалась христианская цивилизация, чтобы достичь на этом поприще настоящего триумфа. Погодите, пройдет еще один-два века, и каждый убедится, что все прославленные убийцы были христианами, а язычникам предстоит пойти к христианам на выучку – и учиться они будут не вере, а умению обращаться с оружием. Турки, китайцы – все они бросятся покупать ружья, чтобы приканчивать миссионеров и новообращенных».
Любой читатель Твена тут сразу же вспомнит памфлет «Человеку, ходящему во тьме», негодующую реакцию задетых им церковников и ответ писателя своим критикам-миссионерам. Памфлет был напечатан в 1901 г., когда эзельдорфский вариант повести Твен уже оставил. Связь двух этих произведений очевидна и служит дополнительным свидетельством того, что «Таинственный незнакомец» органично продолжает основные тенденции поздней твеновской сатиры[136]. Однако выделять фрагменты, имеющие четко обозначенную сатирическую установку, из художественного целого, каким является последняя повесть Твена, рискованно. «Таинственный незнакомец» содержит в себе определенного рода философию человека и истории, которая должна быть объяснена не в частностях, а в принципиальных своих положениях.
Сатана глумится над понятиями о прогрессе, представляющем, на его взгляд, лишь бесконечный грабеж, насилие над слабыми и наглое выворачивание наизнанку любых представлений о справедливости и праве. Он издевается над иллюзиями относительно демократии, которая на деле предстает всего лишь господством олигархов, глубоко презирающих доверчивых простаков, не распрощавшихся с иллюзиями относительно истинного порядка социальной жизни. Он славословит то, что почитают злом, – болезни, даже раннюю смерть, – поскольку альтернативой является бесконечное страдание и унижение, бесправие и жалкое прозябание. В памфлетах Твена и в его «Автобиографии» читатель встретит аналогичные мысли, хотя и выраженные, особенно в публицистике, с той точностью обличения реальных общественных и политических пороков, какой «Таинственный незнакомец» лишен по самой своей притчевой художественной природе.
То, что у публициста Твена складывалось в картину насилия над демократией и колониалистского гнета, на страницах «Таинственного незнакомца» претворено в безотрадную панораму истории, ознаменованной торжеством антигуманных начал бытия. И памфлеты и повесть написаны одним и тем же пером «разъяренного радикала», как назвал позднего Твена Хоуэллс, однако здесь разные творческие задачи и разные художественные результаты. Памфлеты принадлежат социальной сатире, повесть – явление философской прозы. От варианта к варианту в ней усиливается элемент обобщенности коллизий, охватывающих уже не те или иные частные проблемы, но самое существо человека и действительности.
В «Эзельдорфе» главный герой обрушивается на «нравственную норму», противопоставляя ей идеал честности, требующей признать, что не существует никаких действительно строгих норм и что само понятие морали служит только демагогическим прикрытием присущих людям своекорыстных побуждений, инстинктов насилия и самообольщения: «У людей со мною нет ничего общего… они во власти глупых и ничтожных устремлений, они под пятой своего мелочного тщеславия… вся их глупая и недостойная жизнь достойна одного только осмеяния». В «Школьной горке» Твен уже не касается «нравственной нормы», теперь Сорок четвертый толкует о свойственном человеческой расе «очевидном предрасположении творить зло».
И наконец, в «Типографии» развертывается целая философская система, посредством которой Сорок четвертый, последовательно отвергнув и развенчав моральные принципы и верования своих приятелей-наборщиков, доказывает им, что весь мир не более как иллюзия, и жизнь – лишь абсурдная выдумка, и не существует ничего, кроме пустоты, в которой затерян человек, сам, впрочем, «возникший из мысли… той мысли, какая дарована только богам и ангелам». Повторенные в заключительной главе рукописи «Таинственного незнакомца», эти тезисы приобретают решающее значение: они помогают судить о сущности взглядов, выраженных Твеном в последней повести.
Несложно заметить, что в ходе работы над ней Твен расширял рамки идейного содержания, вместе с тем усиливая обличения «человеческой расы» и укрупняя масштаб обобщений, распространенных им на весь доступный людям опыт. В публицистике последнего десятилетия творчества писателя происходил сходный процесс нарастания радикализма, однако лишь «Таинственный незнакомец» позволяет ощутить характер взглядов Твена на окружающую жизнь и особенности его миросозерцания в конце творческого и жизненного пути.
При всей самобытности духовной биографии Твена это достаточно типичные особенности мышления людей его эпохи, воспринимавших свое время как мучительный переход от одной фазы цивилизации к другой, еще сколько-нибудь определенно не обозначившейся в доминирующих чертах, а оттого внушающей скорее предчувствие катастрофы, чем чувство окрыляющих надежд. И по хронологии и по воспитанию Твен, конечно, принадлежал XIX столетию, ему оставались решительно чужды любые декадентские веяния, и мыслил он понятиями, свойственными американцам, ставшим после Гражданской войны свидетелями стремительного материального прогресса и расцвета всевозможных оптимистических верований относительно будущего, которое ожидает человечество. Как и большинство его современников, Твен долгие годы разделял идущие от просветителей концепции социальной жизни, уживавшиеся у него с верой в естественную доброту и неиспорченность человеческого сердца, восходящей к доктринам Руссо, и с представлениями о поступательном ходе истории, ведущей к торжеству разума и гуманности.
На страницах «Таинственного незнакомца» нетрудно обнаружить отголоски этих чрезвычайно прочно державшихся у Твена – да и не у него одного – идей относительно предопределенности общественного развития и предначертанности человеческого бытия, всегда подчиненного тем или иным главенствующим чертам, заложенным в личности самой природой. Однако повесть создавалась уже в пору глубокого кризиса тех высоких иллюзий, которые вели свое происхождение от «века разума». «Таинственный незнакомец» запечатлел трудный перелом, происходивший в сознании Твена, которому приходилось отказываться от своих самых дорогих убеждений, шла ли речь о «ганнибальской идиллии», об особой исторической миссии Америки или о человеке как существе от природы неизменно добром и лишь силою дисгармоничных общественных отношений подчас вынуждаемом далеко отступать от собственного гуманного естества. Однако в какой-то мере повесть запечатлела и перелом всего общественного сознания на рубеже веков. Она сказала о травме, которую реальная история того времени нанесла не лишенному прекраснодушия и наивности идеалу жизненной гармонии, исповедуемому столькими поколениями, воспитанными на идеологии просветительства, а теперь сменявшемуся крайним пессимизмом, предчувствиями социальной катастрофы и еще чаще – недоверчивым, крайне критическим отношением к слишком простым и однозначным толкованиям сущности человека.
В этом смысле «Таинственный незнакомец» рожден той же духовной атмосферой, которая вызвала к жизни столь разные и вместе с тем схожие в своих идейных истоках явления тогдашней художественной жизни, как поздняя проза Толстого, последние драмы Ибсена, философские притчи Франса. Присущее всем им, хотя и в разной степени выраженное тяготение к аллегории не было случайным совпадением: шел пересмотр коренных представлений о человеке и его жизненной ориентации, и писатели, наиболее тесно связанные с просветительской идейной традицией, не могли не касаться тех наиболее существенных проблем бытия, для которых именно аллегорическое построение рассказа создает оптимальные творческие возможности. Представления о социальной жизни и о человеке углублялись, и, хотя это был болезненный, часто драматический процесс, итогом его становилось более выверенное и справедливое отношение к доподлинной сложности человеческой природы, без которого вряд ли было бы возможным последующее художественное развитие.
Для американской литературы «Таинственный незнакомец» имел значение, быть может, самого важного из тех произведений, в которых происходил переход от классических форм реализма к реализму XX в. Именно поэтому повесть, когда она, наконец, была полностью опубликована, не воспринималась как факт истории литературы. Дело не в том лишь, что принципы художественной организации, отличающей и «Эзельдорф», и в особенности «Типографию», где художественное время полностью условно, а действие свободно перемещается из средневековой Австрии в Америку на пороге XX в., успели со времен «Таинственного незнакомца» укорениться в американском романе, дело даже не в том, что усилиями таких современных писателей, как Дж. Хеллер или К. Воннегут, иносказательные формы приобрели особую важность для новейшей прозы. Резонанс «Таинственного незнакомца» в 60—70-е годы определялся прежде всего намеченной в нем концепцией человека.
Она, как и в других произведениях Твена, носит детерминистский характер. «Зачем ты коришь себя? – скажет Сорок четвертый Августу. – Ведь не сам же ты себя создал, а значит, и не виноват ни в чем». Однако это как бы детерминизм наизнанку: сколь ни резки суждения Сатаны о «нравственной норме», он сознает всеобщую зависимость от омертвелого догматизма, воплощенного в общепринятой морали, и свою неспособность – при всем кажущемся всемогуществе – радикальным образом изменить человеческое естество, предрасположенное к такого рода оскопляющей этике. У Твена вплоть до «Янки при дворе короля Артура» человек оставался естественно и всесторонне зависимым от социальной среды. У Твена как автора «Таинственного незнакомца» он зависим от глубоко укоренившихся, ставших едва ли не инстинктом фетишей собственного сознания. Звено, которое связывает мир этических представлений с реальным историческим бытием личности и общества, не исчезает из поля зрения Твена и в его последней повести, и многочисленные отголоски событий, которые вызывали негодующий твеновский отклик в публицистике последнего периода, на страницах «Таинственного незнакомца» органичны, причем важны они не только сами по себе, но и для философского содержания этого произведения. И все-таки существеннее самый сдвиг, который «Таинственный незнакомец» знаменует собой в твеновском понимании детерминизма.
Объявив весь мир призрачным, а человека – лишь продуктом «мысли», исходящей от Всевышнего, который подавил в зародыше всякую волю людей к независимому духовному развитию, герой повести, собственно, лишь в заостренной форме передает ощущение тупика, сделавшегося в глазах Твена неизбежным итогом столетий, прошедших под знаком господства ложного миропонимания и ложной этической доктрины. Для писателя подобная ирреальность моральных установлений, остающихся, однако, совершенно реальным и подавляющим фактором существования, на самом деле была в последние годы знамением болезненности всего окружающего мира, и эта болезненность тревожила его так глубоко, что на ее фоне малозначимыми, как бы и вовсе не обладающими действительным содержанием оказывались любые проявления материального мира. Мотив, возникший в «Таинственном незнакомце», откликнется (хотя, как правило, вне непосредственных перекличек) во многих произведениях, созданных после Твена и выразивших ту же идею порабощения сознания людей буржуазного общества стереотипами этического мышления, уже и опосредованно не отражающими реальную действительность, ставшими мертвым грузом и превращающими жизнь в какое-то призрачное царство, где человек не находит никаких надежных ориентиров, бездумно отдаваясь механическому бытию. Достаточно назвать в этой связи хотя бы «Шутовской хоровод» О. Хаксли.
Это открытие новой социальной проблематики, сделанное Твеном в «Таинственном незнакомце» и потребовавшее новаторской художественной организации, конечно, невозможно
объяснить, как предлагает, например, один из наиболее своеобразных толкователей повести – К. Парсонс, влияниями Шопенгауэра, а тем более Кальдерона, в разных аспектах осмысливших ту же метафору жизни как сна[137]. Не говоря уже о том, что нет никаких свидетельств интереса Твена к немецкому мыслителю и испанскому драматургу или хотя бы его знакомства с их произведениями, сам важнейший повествовательный узел «Таинственного незнакомца» слишком очевидно выдает присутствие в этом произведении атмосферы исторического порубежья, наполнившей совершенно новым содержанием даже давние и устойчивые образы мировой литературы. Твен воссоздал эту атмосферу различными художественными способами, и тот, который предложен в последней его повести, был, наверное, наиболее эффективным, что подтверждается всей нелегкой и все же счастливой судьбой, уготованной «Таинственному незнакомцу» в последующей литературной истории.
Примечания
1
Под парадоксом (от др. – греч. paradoxos – неожиданный, странный, противоречащий обычному мнению) понимается рассуждение или сообщение, которое в границах логических понятий не может быть признано ни абсолютно истинным, ни абсолютно ложным. (Пример парадоксального изречения: Кто всегда выходит сухим из воды, тот никогда не бывает чистым. В первичном восприятии это утверждение кажется неверным (т.е. ложным), но после расшифровки языковой игры оно воспринимается как истинное.) Под парадоксальностью понимается двойственность, множественность, неоднозначность свойств того или иного объекта или явления.
(обратно)2
Другой вариант этого термина: нем. Jahrhundertwende (поворот столетий).
(обратно)3
Зарубежная литература ХХ века / под ред. И.В. Кабановой. М., 2007. С. 24.
(обратно)4
Философская концепция Ф. Ницше достаточно сложна и неоднозначна. Получив широкую популярность, в начале ХХ века она подверглась прямолинейному толкованию и вульгаризации. Учение философа стало трактоваться исключительно как отрицание основных нравственных законов человечества, культ сильной личности, свободной от каких-либо моральных принципов, оправдание жестокости по отношению к страдающим и слабым и т.д. Вырванные из контекста отдельные высказывания Ф. Ницше впоследствии были использованы в качестве идеологической опоры немецкого фашизма.
Между тем философ неоднократно критиковал теорию исключительности и превосходства немецкой нации: «Немцы – их называли некогда народом мыслителей: мыслят ли они вообще?»; «Этот народ самовольно одурял себя почти в течение тысячи лет»; «Происхождение немецкого духа – из расстроенного кишечника». Ф. Ницше писал о необходимости «ликвидации Вильгельма, Бисмарка и антисемитов», т.е. идеологов пангерманизма и будущей Первой мировой войны.
(обратно)5
См., например, статью Т. Манна «Философия Ницше в свете нашего опыта».
(обратно)6
Дело Дрейфуса (1894—1906) – громкий судебный процесс, сыгравший важную роль в общественно-политической истории Франции и Европы конца XIX – начала ХХ века. В 1894 г. капитан французского Генерального штаба Альфред Дрейфус (1859—1935) был арестован и осужден на пожизненную каторгу по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Доказательства его вины были сфальсифицированы, целью судебного процесса было отвлечь общество Франции от социальных проблем. В 1896 г. был обнаружен настоящий преступник – офицер Генерального штаба граф Эстергази. Однако суд оправдывает шпиона, что приводит к разгулу шовинизма (поскольку А. Дрейфус был евреем). В 1899 г. Дрейфус был помилован, а в 1906 г. после пересмотра дела был объявлен невиновным.
Дело Дрейфуса раскололо европейское общество на дрейфусаров и антидрейфусаров. Для одних он был шпионом, изменником, клеветником, врагом Франции. Такую точку зрения отстаивало все военное сословие Франции (в том числе военные министры и весь генеральный штаб), клерикалы и националисты. Для других Дрейфус был жертвой политиков и антисемитов. На стороне защитников невинно осужденного человека выступали социалисты, радикальные политики, а также крупнейшие писатели рубежа веков: Э. Золя, А. Франс, М. Твен, А.П. Чехов, М. Горький.
(обратно)7
При этом на рубеже веков наряду с тяготением к субъективности сохраняется характерное для реалистической литературы XIX века стремление к изображению действительности во всей ее объективности и реальности, свободной от субъективного восприятия. Эта черта определяет творчество писателей-натуралистов (Э. и Ж. де Гонкур, Э. Золя и др.).
(обратно)8
Важно различать декаданс и декадентство. Декаданс – общее наименование кризисных, пессимистических, упадочных настроений и деструктивных тенденций, декадентство – это образ жизни, стиль поведения, отмеченный чертами декаданса.
(обратно)9
Необходимо уточнить, что важные отличия натурализма от родственного ему реализма заключаются в стремлении натуралистов к предельной безличности художественного текста, требовании строгой документальности, фактографичности и использовании для характеристики персонажей главным образом категории биологического детерминизма (наследственности), в меньшей степени – социального и исторического.
(обратно)10
Другие варианты расшифровки этого стихотворения см. в статье Т.В. Соколовой «Еще один опыт интерпретации сонета Артюра Рембо «Гласные» в настоящем издании.
(обратно)11
Ипполит Тэн (1828—1893) – философ, искусствовед, писатель, историк литературы. В первом значительном труде «Французские философы XIX века» он объявил величайшими философами позитивистов О. Конта, Д. Милля и Г. Спенсера. В его очерке «Бальзак» (1858) закладываются основы натуралистической эстетики. Для ее формирования важнейшим событием было появление труда И. Тэна «История английской литературы» (1863—1865). Во введении к этому изданию И. Тэн изложил теорию «расы, среды и момента», ставшую краеугольным камнем натурализма.
(обратно)12
Клавдий Клавдиан (ок. 360 – после 404) – римский поэт.
(обратно)13
Гвидо Рени (1575—1642) – итальянский художник-академист.
(обратно)14
Клод Бернар (1813—1878) – французский физиолог. Э. Золя в своей статье излагает концепцию книги К. Бернара «Введение к изучению экспериментальной медицины», приспосабливая его экспериментальный метод к задачам литературы.
(обратно)15
Перечислены произведения аббата Прево, Б. де Сен-Пьера, М. де Сервантеса, Ш. де Лакло, И.В. Гете, С. Ричардсона, Вольтера, А. де Виньи, Ф. Шатобриана, А. Дюма-отца, Ж. Санд, О. де Бальзака, П. Мериме, Ф. Стендаля, Т. Готье, В. Гюго, Г. Флобера, Б. Констана, О. Фейе, Э. Золя, А. Доде.
(обратно)16
Наперед, независимо от опыта (лат.).
(обратно)17
Строка из трактата Н. Буало «Поэтическое искусство» (1674).
(обратно)18
Имеется в виду статья «Густав Флобер», написанная в 1884 г.
(обратно)19
Строка из трактата Ы. Буало «Поэтическое искусство» (1674).
(обратно)20
Данное письмо к молодому поэту Полю Демени, часто называемое «письмо Ясновидящего», – наиболее значительный эстетический документ в эпистолярном наследии А. Рембо. После поражения Парижской Коммуны А. Рембо продолжал стремиться к преобразованию общества, но связывал теперь такое преобразование с подвижнической миссией поэта-ясновидца. В середине 1871 г. А. Рембо разрабатывает «теорию ясновидения». Основной ее смысл состоит в магическом проникновении в суть жизни, в приобщении к тайне вселенной. Цель ее – способствовать преодолению разобщенности людей, создать новый способ общения между людьми – высшее взаимопонимание; этим ясновидение должно способствовать усовершенствованию человеческого общества. Осуществить такую программу, стать ясновидцем, способен только поэт. Для осуществления этой миссии он должен познать прежде всего самого себя, только тогда можно познать других людей, воздействовать на них, установить подлинное общение. Поэт исследует свой внутренний мир, испытывает на себе «все яды»: все формы любви, страдания и безумия. Овладев этим знанием, он должен расширить его пределы, сделать себя ясновидящим.
(обратно)21
Компрачикосы (от исп. comprachicos, букв. – «скупщики детей») – особое сообщество бродяг в Испании, Англии, Германии, Франции XIII– XVIII вв. Они похищали или покупали детей, а затем уродовали их для продажи в качестве шутов, акробатов и пр. Слово «компрачикос» получило широкое распространение благодаря роману В. Гюго «Человек, который смеется».
(обратно)22
Уолтер Пейтер (1839—1894) – английский писатель, эстетик, основоположник эстетизма. Эстетическая теория У. Пейтера, основанная на субъективизме оценок и противопоставлении этики и эстетики, была изложена в «Очерках по истории Ренессанса» (1873), его главном труде. У. Пейтер придерживался субъективистского варианта концепции «искусства для искусства». Для него искусство не должно учить добру, оно безразлично к морали. У. Пейтер не признавал ограничений в области художественного творчества и призывал к воображению без всяких ограничений.
(обратно)23
Имеется в виду размышление Гамлета о Гекубе (У. Шекспир, «Гамлет», II, 2).
(обратно)24
«Хорошо сделанная пьеса» (well made play) – термин, введенный французским драматургом Эженом Скрибом (1791—1861). Этот тип пьесы, основанной на разработке интриги, с точным расчетом сценических эффектов, с ориентацией на вкусы среднего зрителя, был особо популярен в XIX в. «Хорошо сделанная пьеса» стала главным объектом критики со стороны представителей «новой драмы», основоположником которой был Г. Ибсен.
(обратно)25
Статья Б. Шоу «Проблемная пьеса-симпозиум» была опубликована в журнале «Гуманитарий» (№ 6, май 1895 г.). В подзаголовке статьи обозначен ее основной вопрос: «Должны ли драматурги заниматься социальными проблемами?» Жанр проблемной пьесы Б. Шоу связывает с задачей раскрытия социальных конфликтов («Ведь где нет противоречия, там нет и проблемы»). нами приводится окончание статьи, в которой Б. Шоу в виде тезисов излагает ее основные положения.
(обратно)26
Mes haines (1866), стр. 304, 282. Здесь и в дальнейшем теоретические труды Золя цитируем по наиболее распространенному изданию Шарпантье.
(обратно)27
Там же. С. 299.
(обратно)28
См. рецензию на предисловие Тэна к новому изданию его «Исторических и критических опытов» (цит. у Боисет,. Ь^Шетддие de Zola, 1923, стр. 137 и «Roman ехрейтеПтаЬ», стр. 222).
(обратно)29
Le Roman experimental. 1880. С. 14.
(обратно)30
Le Roman experimental. С. 16—17.
(обратно)31
Le Roman experimental. С. 19—20.
(обратно)32
Le Roman experimental. С. 19—20.
(обратно)33
Claude Bernard. Introduction a letude de la medecine experimentale, 1865. С. 128, 129.
(обратно)34
Le Roman experimental. С. 228.
(обратно)35
Там же. С. 381.
(обратно)36
Une Campagne (1880—1881). С. 146.
(обратно)37
Там же. С. 231.
(обратно)38
Le Roman experimental. С. 28.
(обратно)39
Ch. Letourneau. Physiologie des passions, 1868. С. 228—229.
(обратно)40
Le Roman experimental. С. 23—24.
(обратно)41
Le Roman experimental. С. 4.
(обратно)42
Там же. С. 95.
(обратно)43
Там же. С. 376.
(обратно)44
Там же. С. 386, 397 и др.
(обратно)45
Une Campagne. С. 232.
(обратно)46
Physiologie des passions, 1868. С. 5—6.
(обратно)47
Клод Бернар определяет понятия «наблюдение», «исследование», «опыт», «эксперимент» в первой главе своей книги, и хотя он противопоставляет обозначаемые одним словом понятия «опыт» (накопленный наукой) и «эксперимент» (поставленный в лаборатории), все же в его словах Золя мог найти некоторые основания для того, чтобы понять «эксперимент» как «опыт».
(обратно)48
Le Roman experimental. С. 17.
(обратно)49
Une Campagne, стр. 385; Le Roman experimental. С. 124, 205.
(обратно)50
Le Roman experimental. С. 49.
(обратно)51
Documents litteraires. С. 264, ср. С. 57.
(обратно)52
Le Roman experimental. С. 271; Les Romanciers naturalistes. С. 376 и др.
(обратно)53
Le Roman experimental. С. 8—12; Documents litteraires. С. 225, 228.
(обратно)54
Там же. С. 46, 91, 152.
(обратно)55
Там же. С. 124.
(обратно)56
Documents litteraires. С. 225, 228.
(обратно)57
Le Roman experimental. С. 241, 253, 254.
(обратно)58
Une Campagne. С. 260.
(обратно)59
Documents litteraires. С. 198, 220.
(обратно)60
Le Roman experimental. С. 253.
(обратно)61
Documents litteraires. С. 222.
(обратно)62
Paul Alexis. Emile Zola. Notes d'un ami., 1882. С. 27.
(обратно)63
Le Roman experimental. С. 46.
(обратно)64
Les Romanciers naturalistes. С. 376.
(обратно)65
Le Roman experimental. С. 262, 264, 267.
(обратно)66
Le Roman experimental. С. 127, 154.
(обратно)67
Nouveaux contes a Ninon. С. 11.
(обратно)68
Nouvelle Campagne. С. 197.
(обратно)69
Степанов Ю.С. Семантика «цветного сонета» Артюра Рембо // Изв. Ан СССР. Серия лит. и языка. 1984. Т. 44. № 4.
(обратно)70
Gaubert Е. Une explication nouvelle du «Sonnet des Voyelles» d'Arthure Rimbaud // Mercure de France. Novembre 1904. P. 551—553.
(обратно)71
Ghil R. En mеthode е l'oeuvre. Paris, 1904.
(обратно)72
Starkie E. Arthure Rimbaud. Londres. 1938.
(обратно)73
Etiemble. Le mythe de Rimbaud. Genése du mythe (1869—1949). Paris, 1954. Р. 382.
(обратно)74
Gengoux J. La pensеe poеtique de Rimbaud. Paris, 1950.
(обратно)75
Nadal O. Compte-rendu // Revue d’histoire littéraire, 1951, avril-juin, P. 224—226; Etiemble. Le sonnet des Voyelles. De l’audition colorée é la vision érotique. Paris, 1968.
(обратно)76
Балашов Н.И. Рембо // История французской литературы. Т. 3. М., 1959.
(обратно)77
Балашов Н.И. Рембо и связь двух веков поэзии // Рембо А. Стихи. Последние стихотворения. Озарения. Одно лето в аду. М., 1982.
(обратно)78
Андреев Л.Г. Феномен Рембо // Рембо А. Произведения. На франц. яз. с параллельным рус. текстом. М, 1988. С. 27—29.
(обратно)79
Великовский С.И. Верлен. «Проклятые поэты». Рембо. Малларме и символизм // История всемирной литературы. Т. 7. М., 1991. С. 319.
(обратно)80
Rimbaud A. Oeuvres. Sommaire biographique, introduction, notices, геlévе de variantes et notes par Suzanne Bernard. Paris, 1960. Р. 405.
(обратно)81
Там же. C. 407.
(обратно)82
Там же. C. 550.
(обратно)83
Фулканелли. Тайны готических соборов. М., 1996. С. 81—86; Юнг К.Г. Психология и алхимия. М., 1997. С. 248—252.
(обратно)84
Rimbaud A. Oeuvres. Sommaire biographique, introduction, notices, геlevé de variantes et notes par Suzanne Bernard. Paris, 1960. Р. 346.
(обратно)85
Viliers de L'Isle-Adam. L'Eve future. Paris, 1914. Р. 259.
(обратно)86
Там же. С. 184; Блок А. О современном состоянии русского символизма // Александр Блок о литературе. М., 1989. С. 248.
(обратно)87
Rimbaud A. Oeuvres. Presences et annotеes par A. Adam. Paris, 1979. Р. 902.
(обратно)88
Rimbaud A. Oeuvres. Sommaire biographique, introduction, notices, геlevé de variantes et notes par Suzanne Bernard. Paris, 1960. Р. 347.
(обратно)89
См.: Федоров А.А. Эстетизм и художественные поиски в английской прозе последней трети XIX в. Уфа, 1993. С. 11—12.
(обратно)90
См. об этом: Gaunt W. The Aesthetic Adventure. London, 1957; Johnson R.V. Aesthehicism. London, 1957; Ojala A. Aestheticism and Oscar Wilde. Helsinki, 1954. Здесь важно отметить, что антипрагматические жесты эстетов были, как правило, вполне ходовым товаром, ориентированным на привлечение внимания и публичный успех. Подробнее см.: Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2005. С. 460; Moers E. The Dandy. New York, 1960. P. 202.
(обратно)91
Подробнее см.: Eliot T.S. Arnold and Pater // Eliot T.S. Selected Essays. London, 1963. P. 433.
(обратно)92
Уайльд О. Преступление лорда Артура Сэвила. Повести. Рассказы. Эссе. СПб., 2005. С. 250.
(обратно)93
San Juan E. The Art of Oscar Wilde. Princeton, 1967. P. 67.
(обратно)94
Простодушие Эрнеста, разумеется, мнимое. Его позиция в целом близка эстетическим представлениям Дж. Уистлера. См.: Ojala A. Op. cit. P. 113—115.
(обратно)95
Уайльд О. Преступление лорда Артура Сэвила. Повести. Рассказы. Эссе. СПб., 2005. С. 225.
(обратно)96
Там же. С. 186.
(обратно)97
Эллман Р. Оскар Уайльд. М., 2000. С. 346—347.
(обратно)98
Подробнее см.: San Juan E. Op. cit. P. 75.
(обратно)99
Ольга Вайнштейн, анализируя данную стратегию Уайльда, связывает ее с понятием «кэмп», введенным Сьюзан Зонтаг: Вайнштейн О. Указ. соч. С. 471; см. также: Sontag S. Notes on Camp // Sontag S. Against Interpretation and other Essays. New York, 1966. P. 275—293.
(обратно)100
Уайльд О. Указ. соч. С. 304.
(обратно)101
Уайльд О. Указ. соч. С. 193.
(обратно)102
Уайльд О. Указ. соч. С. 118.
(обратно)103
См. об этом: Ojala A. Op. cit. P. 111—113.
(обратно)104
См.: Эллман Р. Указ. соч. С. 346.
(обратно)105
Уайльд О. Указ. соч. С. 213.
(обратно)106
Впрочем, здесь сказывается и влияние У. Пейтера. Подробнее см.: Ojala A. Op. cit. P. 117—119.
(обратно)107
Эллман Р. Указ. соч. С. 345.
(обратно)108
San Juan E. Op. cit. P. 7.
(обратно)109
А.А. Федоров совершенно справедливо, на наш взгляд, возводит игровую стратегию Уайльда к шлегелевской концепции романтической иронии. Подробнее см.: Федоров А.А. Указ. соч. С. 99—101.
(обратно)110
Этот жанр точнее определяется как «история с призраками» (ghost story). Подробнее см.: Чамеев А.А. «Британской музы небылицы…» // Лицом к лицу с призраками: Таинственные истории. СПб., 2005. С. 5—18.
(обратно)111
См.: Ojala A. Op. cit. P. 201.
(обратно)112
Этой проблеме, в частности, была посвящена кандидатская диссертация Т.А. Порфирьевой. См. также: Порфирьева Т.А. Особенности поэтики Уайльда (Новеллы, роман, сказки): автореф. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. М., 1983. С. 12—13.
(обратно)113
Гризайль О. Указ. соч. С. 50.
(обратно)114
Уайльд О. Указ. соч. С. 35.
(обратно)115
Там же. С. 63.
(обратно)116
Nasaar Chr. S. Into the Demon Universe. A Literary Exploration of Oscar Wilde. Yale, 1974.
(обратно)117
Уайльд О. Указ. соч. С. 65.
(обратно)118
Nasaar Chr. S. Op. cit. P. 4.
(обратно)119
О дальнейшей эволюции этого идеала подробнее см.: Willoughby G. Art and Christhood. Tha Aesthetic of O.Wilde. Rutherford; London, 1993.
(обратно)120
Уайльд О. Указ. соч. С. 80.
(обратно)121
Уайльд О. Указ. соч. С. 101.
(обратно)122
Там же.
(обратно)123
Уайльд О. Указ. соч. С. 111.
(обратно)124
Ее, в частности, высказывает У. Гибсон, подготовивший полное издание рукописей, связанных с «Таинственным незнакомцем». См.: Mark Twain. The Mysterious Stranger / Ed, with an Introd. by W. M. Gibson. Univ. Gal. press, Berkeley; Los Angeles: 1970. P. 2.
(обратно)125
De Voto B. Mark Twain at Work. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1942. P. 105—115.
(обратно)126
Tuckey J. S. Mark Twain and The Little Satan. The Writing of «The Mysterious Stranger». West Lafayette: Purdue Univ. press, 1963.
(обратно)127
Старцев А.И. Марк Твен и Америка. С. 274—283; Ромм А.С. Марк Твен. М., 1977. С. 183 и след.
(обратно)128
Brooks V. W. The Ordeal of Mark Twain. N. Y., 1920. P. 192.
(обратно)129
Mark Twain. What is Man? and Other Essays. N. Y., 1917. P. 308.
(обратно)130
A Casebook on Mark Twain's Wound/Ed. L. Leary. N. Y., 1962. P. 194.
(обратно)131
Вольтер. Философские повести. М., 1985. С. 78—80.
(обратно)132
Цит. по: Mark Twain. The Mysterious Stranger/Ed. with an Introd. by W.M. Gibson. Univ. Cal. press, Berkeley; Los Angeles; 1970. P. 2, примеч. 4.
(обратно)133
Mark Twain. Complete Essays / еd. Charles Neider. N. Y., 1963. P. 178.
(обратно)134
Вопреки сложившейся традиции перевода этого понятия как «нравственное чувство», мы в данном случае прибегаем к понятию «норма», поскольку, как нам представляется, оно наиболее полно и адекватно отражает тот смысл, который Твен в него вкладывает, подразумевая социально обусловленную разграниченность добра и зла.
(обратно)135
Цит. по: Paine A. B. Mark Twain's Notebooks. N. Y., 1935. P. 256.
(обратно)136
Это подробно показано в единственной советской работе, основывающейся на анализе всех вариантов повести. См.: Мендельсон М. Странная судьба «Таинственного незнакомца» // Вопр. лит. 1970. № 9.
(обратно)137
Parsons С. О. The Devil and Samuel Clemens // A Casebook on Mark Twain's Wound. P. 202.
(обратно)
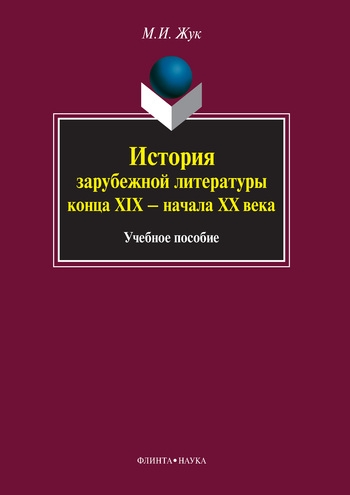

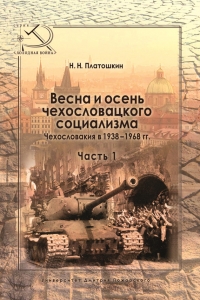

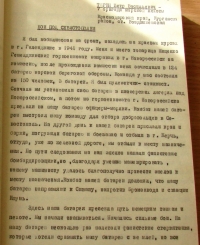

Комментарии к книге «История зарубежной литературы конца XIX – начала XX века», Максим Иванович Жук
Всего 0 комментариев