Стивен Гринблатт Ренессанс. У истоков современности
Посвящается Абигейл и Алексе
Предисловие
В школе у меня была привычка в конце учебного года непременно пойти в книжную лавку и купить что-нибудь на лето. Карманных денег всегда не хватало, но магазин обычно распродавал залежавшиеся книги по необычайно низким ценам. Книги складывались кипами, и я рылся в них наобум в надежде найти что-то интересное. В один из таких набегов мне попалась на глаза старая мягкая обложка с репродукцией картины сюрреалиста Макса Эрнста. Под полумесяцем высоко в небо взметнулись две пары ног – тел не было видно – в очевидном акте заоблачного соития. На книге – прозаический перевод поэмы Лукреция «О природе вещей» ( «De rerum natura» ), написанной две тысячи лет назад – стояла цена десять центов, и я купил ее тогда, мне думается, больше из-за картинки, а не из-за классического содержания.
Античная физика – не самая увлекательная тема для чтения в летние каникулы, но я все же как-то взял книгу в руки и сразу понял, почему на обложке изображен откровенно эротический сюжет. Лукреций начинал поэму страстным гимном Венере, богине любви, чье появление знаменует зарождение весны, озаряет светом небо и наполняет весь мир сексуальным вожделением:
Первыми весть о тебе и твоем появлении, богиня1,
Птицы небес подают, пронзенные в сердце тобою.
Следом и скот, одичав, по пастбищам носится тучным
И через реки плывет, обаяньем твоим упоенный,
Страстно стремясь за тобой, куда ты его увлекаешь,
И, наконец, по морям, по горам и по бурным потокам,
По густолиственным птиц обиталищам, долам зеленым,
Всюду внедряя любовь упоительно-сладкую в сердце,
Ты возбуждаешь у всех к продолжению рода желанье [1] .
Пораженный таким сладострастным началом, я продолжил чтение поэмы, миновал Марса, «сраженного вечной раной любви» и «склоняющегося на ее лоно», мольбы о мире и покое, восхваление мудрости философа Эпикура и осуждение суеверных страхов. Когда я подошел к пространному обсуждению основных философских принципов, мне казалось, что у меня должен был пропасть интерес: никто меня не обязывал читать эту книгу, я хотел получить удовольствие и в этом смысле свои десять центов окупил с лихвой. Но, к своему удивлению, мне хотелось читать поэму дальше.
Нет, меня привлекал не изысканный литературный стиль Лукреция. Позднее я прочел поэму в ее латинских гекзаметрах и понял все богатство и языка, и ритмики, и поэтических образов. Но первый раз мне пришлось постигать ее в прозе, в переводе Мартина Фергюсона Смита, профессиональном, ясном и непритязательном. Однако в убористом тексте объемом более двухсот страниц было нечто завораживающее и трогающее до глубины души. В силу своей профессии я привык, и этого требую от студентов, проникать в суть того, что лежит под внешней оболочкой словесных выражений. Удовольствие от чтения поэзии во многом зависит от умения чувствовать внутреннюю жизнь фраз. Это, конечно, не исключает возможность понимать литературное произведение в переводе, тем более талантливом. Именно таким образом большинство образованных людей познакомились и с Книгой Бытия, и с «Илиадой», и с «Гамлетом». Безусловно, предпочтительнее читать книги иностранных авторов на их языке, но это вовсе не значит, что надо пренебрегать переводами.
В любом случае я должен признать, что поэма «О природе вещей» произвела на меня впечатление и в прозе. Возможно, в какой-то мере сказались личные обстоятельства: любое произведение искусства всегда затрагивает какие-то особые струны в психике каждого человека. Лейтмотивом, пожалуй, всей поэмы Лукреция является отрицание страха смерти, а этим тревожным чувством было окрашено все мое детство. Сам я не думал о смерти, мне было свойственно типичное детское предвосхищение бессмертия. Меня постоянно угнетала абсолютная уверенность матери в ее скорой кончине.
Моя мать не боялась загробной жизни. Как и большинство евреев, она имела очень смутное представление о том, что ждет человека, попавшего в могилу, и она старалась не думать об этом. Ее страшили само умирание, безвозвратность ухода из жизни. Я до сих пор не могу забыть, с какой одержимостью она говорила о неизбежности конца, особенно в моменты расставаний. Все мое существование было наполнено экзальтированными и драматическими сценами прощаний. И когда они с отцом уезжали из Бостона в Нью-Йорк на уик-энд, и когда мать провожала меня в летний лагерь, и даже когда я уходил в школу, она прижималась ко мне и со слезами говорила о том, как она ослабла, предупреждая, что мы можем больше не увидеться. Если мы шли вместе куда-нибудь, она вдруг останавливалась, словно теряя сознание. Иногда она показывала мне вену на шее, брала меня за руку и просила пощупать пульс, чтобы удостовериться в том, как неровно бьется ее сердце.
Матери, наверное, не было еще и сорока лет, когда я начал замечать ее страхи смерти, а они появились у нее, видимо, гораздо раньше. Я думаю, они зародились лет за десять до моего появления на свет, когда умерла от болезни горла ее младшая, шестнадцатилетняя сестра. Такие утраты не были редкостью до открытия пенициллина, но мать очень тяжело переживала смерть сестры, она постоянно напоминала мне об этом, заставляла читать и перечитывать печальные послания, которые писала девочка-подросток во время болезни.
Я старался понять, что скрывается за бесконечными жалобами матери на «сердцебиение», нервировавшие не только меня, но и всех окружающих. Мне казалось, что это ее своего рода жизненная уловка. Она как бы имитировала страдания, пережитые сестрой. Мать будто бы одновременно выражала и укор – «видите, до чего вы меня довели», – и любовь – «но я все еще о вас забочусь, хотя мое сердце вот-вот остановится». Это была и репетиция кончины, которой она боялась. Но в основном она таким образом привлекала к себе внимание и требовала любви. Естественно, подобные психологические нагрузки отражались на моих детских годах. Я любил мать и действительно боялся потерять ее. Однако у меня не было реальных возможностей повлиять на ее психологическое состояние и избавить от опасных симптомов. (Думается, что она тоже не знала, как это сделать.) Я не мог осознать, насколько жуткой может быть эта непреходящая боязнь умереть, как можно бояться прощаний. Только теперь, когда у меня появилась собственная семья, я стал понимать, каким же гнетущим был страх смерти, преследовавший ее, если любящая мать – а она была по-настоящему любящей матерью – не остерегалась мучить своими эмоциональными тревогами детей. Каждый день приносил ей новое, еще более мрачное предчувствие близкой смерти.
Как оказалось, моя мать не дожила один месяц до своего девяностолетия. Ей было чуть больше пятидесяти лет, когда я впервые прочитал поэму «О природе вещей». К тому времени моя боязнь ее смерти по интенсивности сравнялась с ее страхами. Поэтому слова Лукреция «нам смерть – ничто» меня озадачили. Нелепо жить в напряженном ожидании смерти. Это значит обречь себя на скорбное и безрадостное существование. Лукреций открыл мне глаза на очевидные вещи, о которых я сам даже не задумывался. Мучить себя мыслями о смерти бессмысленно, причинять боль семье своими переживаниями – жестоко.
Но Лукреций заинтересовал меня не только целительными рассуждениями о ничтожности страха смерти. Мне было крайне любопытно читать и его описания природы и устройства всего, что существует в мире. Я без труда мог заметить, что многие детали его миропонимания сегодня выглядят абсурдными. Иначе и быть не могло. Насколько достоверными будут наши представления о Вселенной через следующие две тысячи лет? Лукреций полагал, что Солнце вращается вокруг Земли и что это светило по яркости и размерам не больше того диска, который мы видим с планеты. Поэт-философ был уверен, что черви порождаются намокшей почвой, молнии возникают, когда тучи, сталкиваясь, выбивают семена огня, а землю сравнивал с бесплодной матерью, утомившейся после многих родов и кормлений. Но сердцевину его поэмы составляют принципы, на которых строится современное миропонимание.
Согласно Лукрецию, вещество Вселенной состоит из бесчисленного множества атомов: они мечутся произвольно в пространстве подобно пылинкам в лучах солнца, сталкиваются, сцепляются друг с другом, образуют разнообразные структуры, снова разъединяются – в беспрерывном процессе созидания и разрушения. Этот процесс нескончаем. Когда мы смотрим на ночное небо и с замиранием сердца вглядываемся в мерцающие далекие звезды, то нашему взору предстает не творение богов или какая-то потусторонняя сфера, обособленная от нашей земной жизни. Мы видим тот же материальный мир, частью которого являемся. Не существовало и не существует никакого первоначального замысла, никакого проекта, никакого архитектора. Все в мире, включая и живые существа, то есть и нас тоже, эволюционирует совершенно произвольно, правда, среди живых организмов действует принцип естественного отбора. Те из них, которые более приспособлены к выживанию и воспроизводству, сохраняются, по крайней мере какое-то время, остальные – вымирают. Но ничто – ни мы, ни наша планета, на которой мы живем, ни Солнце, которое нам светит, не может существовать вечно. Бессмертны только атомы.
При таком устройстве мира надо отказываться от привычных представлений и верований. Нельзя считать Землю и ее обитателей центром мироздания и отделять людей от всех других животных. Не следует надеяться на то, что можно подкупить или задобрить богов. Теряют смысл религиозный фанатизм, аскетические самоограничения, упования на обретение власти и полной безопасности, расчеты на достижение могущества завоеваниями и покорение природы. Ничто не может остановить процесс рождения, перерождения, вырождения и возрождения форм материи. Лукреций предлагает не тратить усилия на бесплодные попытки обрести ложное ощущение личной безопасности и не пугать себя неизбежностью смерти. Дабы побороть страхи и обрести действительную свободу, человеку надо всего лишь осознать простой и очевидный факт: и он сам, и все, что его окружает, существует временно, и ему надо воспользоваться отпущенным временем не для самоистязания тревогами, а для получения удовольствий от жизни.
Читая поэму, я не переставал изумляться тому, что все эти идеи были изложены более двух тысяч лет назад. Конечно, образ мышления Лукреция очень далек от менталитета современного человека. За минувшие века произошло немало изменений в мироощущении людей. Но этот древнеримский поэт, чье сочинение способно взволновать нас и сегодня, стал мне духовно близок.
Не вызывает удивления то, что философская традиция, отраженная в поэме и несовместимая с культом богов и государства, могла казаться крамольной даже его современникам, жившим в условиях определенной идеологической терпимости, свойственной античному Средиземноморью. Приверженцев этой философии считали людьми нечестивыми, полоумными или просто безмозглыми. С пришествием христианства их тексты осуждались, высмеивались, сжигались или, что было не менее пагубным, игнорировались и забывались. Удивительно другое – то, что уцелело, пережив века, сочинение, в котором выражена квинтэссенция всей философской системы. В поэме, если не считать некоторых несуразных замечаний, ярко представлено основное содержание философской традиции. Случайный пожар, акт вандализма, вспышка гнева читателя, возмущенного ересью, – и история развития нашей цивилизации могла быть иной.
Из всех древних шедевров именно этой поэме суждено было пропасть навсегда вместе с произведениями, ее вдохновившими. То, что этого не случилось и поэма, пережив столетия, вновь начала распространять крамольные идеи, можно считать настоящим чудом. Автор, конечно, не верил в чудеса. Он был убежден в нерушимости законов природы. По его теории, все возникает в результате «отклонения» – Лукреций употребляет латинское слово clinamen – случайного и непредсказуемого изменения в движении материи. И выживание поэмы можно считать «отклонением» – непредвиденной и вызванной случайными обстоятельствами переменой в судьбе, уготованной и сочинению Лукреция, и его философии.
Когда поэма вновь стала доступна читателям – спустя целое тысячелетие, – идеи о формировании Вселенной из атомов, сталкивающихся, соединяющихся и разъединяющихся в беспредельной пустоте, казались совершенно абсурдными. Однако те же самые нечестивые или неразумные идеи легли впоследствии в основу современного миропонимания. Никто не может отрицать, что наша современность многое заимствовала из наследия античности. Об этом следует напоминать хотя бы по той причине, что в учебном процессе в основном игнорируются древнегреческие и древнеримские классики. Не менее важно помнить и о том, что все повествование Лукреция пронизано чувством познавательного удивления. Это чувство не вселяется в нас богами и демонами. Его рождает стремление познать природу вещей, то, что мы являемся частью той же материи, из которой созданы и звезды, и океаны, и все существующее в мире.
На мой взгляд, культура, возникшая на этике античности и Лукреция, приучающей любить красоту и удовольствия, даруемые жизнью, наиболее полно проявилась в эпоху Возрождения. И это нашло отражение не только в искусстве. Философия наслаждения жизнью оказала влияние на стиль одеяний, придворный этикет, оформление и украшение повседневного быта, даже на литургии. Ее можно обнаружить в научных и технических изысканиях Леонардо да Винчи, в диалогах Галилея об астрономии, в исследованиях Фрэнсиса Бэкона и в теологии Ричарда Хукера. Она вошла в рефлекторную привычку, и ее проявления можно встретить в сферах, далеких от эстетики. И рассуждения Макиавелли о политической стратегии, и повествования о Гвиане Уолтера Рэли, и описания Робертом Бёртоном психических заболеваний изложены так, чтобы доставить читателю удовольствие. Но конечно, стремление человека к красоте ярче всего представлено в искусстве Ренессанса – в живописи, скульптуре, музыке, архитектуре и литературе.
Я всегда любил и продолжаю любить Шекспира. Однако и в моем понимании он лишь один из представителей целой плеяды выдающихся мастеров новой культуры – Альберти, Микеланджело, Рафаэля, Ариосто, Монтеня, Сервантеса. В этой культуре соединились и тесно переплелись многообразные и нередко противоречивые мотивы, но всем им свойственна одна общая черта – жизнеутверждающая направленность. Эта направленность присуща даже тем произведениям, в которых, казалось бы, побеждает смерть. Таким образом, например, в заключительной сцене трагедии «Ромео и Джульетта» склеп символизирует не столько уход из жизни влюбленных, сколько утверждение их в будущем человечества как олицетворения истинной любви. Аудитория уже более четырехсот лет затаив дыхание слушает, как Джульетта просит ночь:
Ночь темноокая, дай мне Ромео.
Когда же он умрет, возьми его
И раздроби на маленькие звезды:
Тогда он лик небес так озарит,
Что мир влюбиться должен будет в ночь
И перестанет поклоняться солнцу [2] .
(III. ii. 22–24)
Тандем ощущений красоты и удовольствия иногда распространяется не только на жизнь, но и на смерть, не только на цветение, но и на увядание. Он присущ и раздумьям Монтеня о движении материи, и описаниям Сервантесом приключений безумного рыцаря, и изображению Микеланджело содранной кожи святого Варфоломея, и рисункам вихрей и волн Леонардо да Винчи, и любованию живописцем Караваджо грязными подошвами Иисуса Христа.
Эпоху Возрождения можно охарактеризовать интеллектуальным «отклонением» от магистрального идеологического направления, переворотом, направленным против ограничений, которыми веками сковывались желания, любознательность, индивидуальность человека, стремления к познанию мира и удовлетворению вожделений тела. Культурный сдвиг всегда трудно обозначить и по времени, и по содержанию перемен. Интуитивно его можно почувствовать, глядя в Сиене на полотно Дуччо «Маэста» или «Мадонна во славе», алтарный образ Девы Марии, а во Флоренции – на картину Боттичелли «Весна», по общему мнению, навеянной поэмой Лукреция «О природе вещей». На главной панели алтарного образа Дуччо (ок. 1310) изображены ангелы, святые, апостолы и мученики и сама Богоматерь с младенцем, сидящая в задумчивости на троне. На полотне Боттичелли (ок. 1482) боги и богини собрались в сочной зелени сада Венеры. Их грациозные, пластичные фигуры создают хореографическую композицию, воспевающую пришествие весны, дарующей плодородие, и словно иллюстрируют сцену из поэмы Лукреция: «Вот и Весна, и Венера идет, и Венеры крылатый вестник грядет впереди, и, Зефиру вослед, перед ними шествует Флора-мать и, цветы на пути рассыпая, красками пышными все наполняет и запахом сладким»2. Перемены в культуре выражались не только в возрождении интереса к языческим божествам и их символике. Изменилось восприятие мира, он виделся не статичным и бесцветным, а ярким, динамичным, скоротечным, переполненным эротической энергией и жаждущим изменений.
Хотя смена ориентиров в восприятии окружающего мира и самой жизни особенно наглядно проявлялась в эстетике, она неизбежно затрагивала и другие сферы жизнедеятельности человека. Фундаментальные перемены произошли в научном мышлении. Самым дерзновенным образом они выразились в трудах Коперника, Везалия, Джордано Бруно, Уильяма Гарвея, Гоббса, Спинозы. Трансформация не была внезапной и окончательной. Прошло не одно столетие, прежде чем стало возможным переключить внимание с ангелов, демонов и других бестелесных существ на реальную действительность, осознать, что человек создан из одной и той же материи, из которой состоит вся природа, и является лишь частью извечного естественного мирового порядка. Теперь можно было заниматься экспериментами, не опасаясь Божьего гнева. Позволительно стало подвергать сомнению правомочность любой власти и оспаривать ее доктрины, утверждать, что существуют и другие миры, помимо нашего, а Солнце – лишь одна из звезд, разбросанных в беспредельном пространстве Вселенной. Человек мог позволить себе без стеснения предаваться удовольствиям и избегать ненужной боли, жить, не думая о загробных воздаяниях и наказаниях для бессмертной души. Иными словами, появилась возможность, как писал поэт Оден, «быть довольным миром бренным».
Трудно найти одно и всеобъемлющее объяснение возникновению этого феномена в развитии цивилизации, выпустившего на волю силы, сформировавшие современный мир, и получившего название Возрождение. В этой книге я излагаю одну из малоизвестных, но показательных историй из хроники Ренессанса – историю возвращения из небытия гуманистом Поджо Браччолини утерянной поэмы Лукреция «О природе вещей». Эта история, на мой взгляд, иллюстрирует один из истоков происхождения современного образа жизни и мышления – наследие античности. Конечно, не только поэма Лукреция, тем более что о ней в течение многих веков нельзя было даже упоминать вслух, участвовала в трансформации всех интеллектуальных, нравственных и социальных ориентиров. Но именно это сочинение античного автора, внезапно высвободившееся из монастырского заточения, сыграло решающую роль.
Таким образом, настоящая книга – это повествование о том, как изменилось наше миропонимание. Перемены произошли не в результате революции, они не были привнесены армиями или открытиями неизвестных цивилизаций. Для такого рода событий историки и писатели создали запоминающиеся художественные образы падения Бастилии, разорения Рима и покорения Нового Света испанскими каравеллами. Эти образы могут быть обманчивыми. В Бастилии практически не было узников; армия Алариха очень быстро ушла из имперской столицы; в Америке самым примечательным действием было не водружение флага, а чих заболевшего испанского моряка, своим кашлем перепугавшего изумленных аборигенов. Эпохальные перемены, о которых идет речь в этой книге, не столь визуальны и драматичны, хотя и затронули все стороны нашей жизни.
Наше эпохальное событие, имевшее место почти шестьсот лет назад, было обыденное и заурядное и происходило в глухомани, за высокими монастырскими стенами. Не было ни героических актов, ни наблюдателей, которые бы фиксировали детали для потомков, ни знамений, которые бы указывали на то, что предстоят какие-либо кардинальные изменения. Низенький, добродушный, обаятельный, но настороженный человек, чей возраст приближался к сорока годам, протянул руку и взял с полки монастырской библиотеки очень старый манускрипт, удивился тому, что предстало его глазам, и попросил сделать копию.
Этот человек, естественно, не осознавал в полной мере возможные последствия своей находки, которые проявились лишь в последующие столетия. Если бы он понял, какого джина выпускает из бутылки, то, возможно, оставил бы книгу там же, где и нашел. Сочинение многократно переписывалось, но, скорее всего, даже не читалось теми, кто его старательно копировал. В продолжение многих столетий о нем вообще никто не вспоминал. Между IV и IX веками произведение цитировалось в перечнях грамматических и лексикографических примеров – в качестве образцов правильной латинской письменности. В VII веке Исидор Севильский, составляя обширную энциклопедию, сослался на манускрипт как на важный источник информации по метеорологии. Какое-то время им занимались люди Карла Великого, при котором возродился интерес к античной классике, и ирландский ученый-монах Дунгал даже аккуратно поправил копию рукописи. Однако манускрипт не обсуждался и не распространялся и после каждого появления на свет божий снова исчезал. И только через тысячу лет он вернулся к читателям навсегда.
Человек, нашедший его, Поджо Браччолини, вел обширную переписку3. Он сообщил о своем открытии другу в Италии, но это послание не сохранилось. Однако воссоздать детали поисков можно по другим письмам, и его собственным, и его окружения. Интересующий нас манускрипт, похоже, является главной его находкой, но не единственной. Поджо Браччолини был страстным собирателем книг, одержимым идеей возрождения наследия Древнего мира.
Поиск утерянных манускриптов вряд ли можно отнести к числу занимательных приключенческих историй. Но в этой эпопее множество и других сюжетов, так или иначе с ней связанных: арест и заключение папы римского, перипетии службы при папском дворе, зловещая деятельность инквизиции, сожжение еретиков и, наконец, повальное увлечение языческой древностью. После находки поэмы Лукреция прекратились поисковые экспедиции этого охотника за манускриптами. Но эта поэма сделала его одним из творцов современности.
Глава 1 Охотник за манускриптами
Зимой 1417 года Поджо Браччолини отправился по лесистым склонам и долинам Южной Германии в отдаленный монастырь, где, по слухам, находился тайник с древними манускриптами. Для местных жителей, поглядывавших на него из дверей своих хижин, он казался чужаком. Всадник был хрупкого телосложения1, гладко выбрит и одет в простую, но ладно сшитую тунику и плащ. Вид у него был явно не деревенский, но он не походил и на горожан, и на обитателей дворцов, которые иногда встречались аборигенам. На нем не имелось ни оружия, ни доспехов, и его никак нельзя было принять за тевтонского рыцаря. Он свалился бы от одного крепкого удара дубинкой любого жилистого деревенского парня. Всадник не выглядел бедняком, но и не выделялся какими-либо привычными для глаза признаками богатства и статуса. Он не был ни придворным с присущими для этой категории людей пышными одеяниями и надушенными длинными локонами, ни дворянином, выехавшим на охоту. Судя по облачению и прическе, он не был и священником или монахом.
Южная Германия в те годы процветала. Трагической Тридцатилетней войне, разрушившей деревни и города, и бедствиям нашего времени, погубившим все, что сохранилось от той поры, еще предстояло произойти. По дорогам, изрезанным колеями, проезжали рыцари, экипажи с вельможами, дворянами и другими знатными особами. Равенсбург, располагавшийся рядом с Констанцем, торговал тканями и начал производить бумагу. Динамично развивались мануфактуры и коммерция в Ульме на левом берегу Дуная, в Хайденхайме, Алене, прекрасном Ротенбург-об-дер-Таубере и еще более прекрасном Вюрцбурге. Здесь можно было увидеть людей самых разных занятий: маклеров и торговцев шерстью, кожами и одеждой, виноделов и пивоваров, ремесленников с подмастерьями, банкиров, мытарей и даже дипломатов. Но Поджо не был ни тем, ни другим, ни третьим.
На дорогах попадались и менее состоятельные представители рода человеческого – обыкновенные путники, лудильщики, точильщики ножей, которых заставляла передвигаться нужда, пилигримы, желавшие помолиться у святых мощей или капли крови, фокусники, гадальщики, прорицатели, коробейники, акробаты и мимы, беженцы, бродяги и мелкие воришки. Там были и евреи в конических шляпах и с желтыми отличительными знаками, указывавшими на то, что их следует ненавидеть и презирать. Поджо не принадлежал и к этой категории людей.
Для всех, кто встречал его на своем пути, он, безусловно, казался загадочной личностью. В те времена о социальном положении человека свидетельствовали многие признаки, в том числе и такие, как несмываемые пятна на руках красильщика. Распознать Поджо было невозможно. Отдельный индивид, без семьи и конкретной профессии, был безликим. Его идентификация определялась принадлежностью к какому-то роду занятий или, лучшего всего, к какому-то хозяину. Двустишие, написанное Александром Поупом в XVIII веке для одного из королевских мопсов, характеризует и человеческие отношения, в которых жил Поджо:
I am his Highness’ dog at Kew;
Pray tell me, sir, whose dog are you?
(В Кью я пес его высочества.
Скажите, сэр, а чей пес вы?) [3]
Семейный очаг, родственные связи, гильдия, корпорация – эти факторы создавали ту или иную персональную идентичность человека. Независимость, самостоятельность не играли никакой роли. Их было трудно и осознать и проявить. Самоидентификация рождалась только точным и ясным пониманием своего места в иерархии отношений господства и послушания.
Любые попытки вырваться из цепей этой иерархии были бы расценены как признаки безумия. Любой дерзкий поступок – отказ поклониться или преклониться или обнажить голову перед соответствующим господином – мог обернуться разбитым в кровь носом или свернутой шеей. И вообще, какой в этом был бы смысл? В любом случае у человека не имелось никаких разумных альтернатив, по крайней мере тех, которые были бы обозначены церковью, двором или городскими владыками. Оставался единственно возможный вариант поведения – смиренно согласиться с идентификацией, предопределенной судьбой: пахарь должен пахать, ткач – ткать, монах – молиться. Естественно, в каждом из занятий можно было проявить больше или меньше усердия, и в обществе, в котором довелось жить Поджо, хорошее знание своего дела не только приветствовалось, но и поощрялось. Однако немыслимо было бы ждать похвалы за индивидуальность, разносторонность умений или любознательность. Более того, последнее качество церковь осуждала как моральное согрешение2. За это человеку полагалось вечно мучиться в аду.
Но кто же все-таки был Поджо? Почему он никак не обозначил свою идентификацию? На нем не было никаких знаков отличия, и он не вез тюки с товарами. В нем чувствовалась уверенность в себе, присущая лицам, привыкшим вращаться в высшем обществе, но значительной персоной он не выглядел. Здесь все знали, как должна смотреться важная птица, ибо это было общество вассалов, ливрейных слуг и вооруженных охранников. Пришелец, одетый скромно и просто, явился не один, а со спутником. Когда они располагались переночевать на постоялых дворах, все распоряжения отдавал компаньон, который был, видимо, помощником или слугой, а когда раздавался голос его хозяина, то становилось ясно, что тот почти совсем не знает немецкого языка и предпочитает изъясняться по-итальянски.
Если бы он попытался объяснить причины своего приезда, то это еще больше озадачило бы человека, пожелавшего определить род его занятий. В обществе с минимальным уровнем грамотности интерес к книгам показался бы по меньшей мере странным. А как бы Поджо объяснил особый характер своего библиофильства? Он же интересовался не повседневным чтивом и не служебниками и сборниками гимнов, которые своими изысканными иллюстрациями и великолепными переплетами могли понравиться даже безграмотному человеку. Такие книги, украшенные иногда драгоценностями и позолотой, обычно запирались в специальные ящики или цепями крепились к аналоям, чтобы их не умыкнули вороватые читатели. Однако не эти издания искал Поджо. Ему не нужны были богословские, медицинские и юридические фолианты, особенно ценные для профессиональной элиты. Такие книги обладают значительной притягательной силой даже для тех, кто не умеет читать. Они действуют на человека магически, поскольку имеют дело в основном с малоприятными событиями: судебными тяжбами, болями в животе, обвинениями в колдовстве или ереси. Самый обыкновенный человек согласится с незаурядной ценностью этих книг и поймет интерес к ним. Для Поджо они ценности не представляли.
Чужак ехал в монастырь, но он не был ни священником, ни богословом, ни инквизитором, и ему не нужны были молитвенники. Он искал старые манускрипты, заплесневелые, изъеденные червями и не поддающиеся прочтению даже самым искушенным специалистам. Если листы пергамента еще целы, то они могли иметь определенную ценность, так как их можно было аккуратно почистить ножом, отшлифовать тальком и снова пустить в дело. Однако Поджо не занимался скупкой пергамента, в действительности он ненавидел тех, кто соскабливал древние письмена. Он хотел знать, что написано на листах, даже если почерк неразборчив. Его интересовали главным образом манускрипты, изготовленные четыреста или пятьсот лет назад, в Х веке или даже ранее.
Практически все в Германии, исключая горстку энтузиастов, усмотрели бы в этих настойчивых исканиях нечто сверхъестественное. Еще больше недоумения вызвало бы то, что Поджо почти не проявлял интереса к тому, что было написано авторами четыреста – пятьсот лет назад. Он считал эту эпоху временем суеверия и невежества. Он надеялся найти слова, не имевшие ничего общего с эпохой, в которую они были скопированы. Ему нужны были слова, не зараженные менталитетом смиренного писца, копировавшего их. Поджо надеялся, что добросовестный писец аккуратно копировал более древний текст, ранее переписанный другим писцом, покорная жизнь которого также не оказала негативного влияния на содержание с соответствующими негативными последствиями для собирателя манускриптов. Если повезет, то он получит в руки древнюю копию еще более древней копии оригинальной античной рукописи. При одной мысли об этом сердце искателя манускриптов начинало колотиться от волнения. Он хотел напасть на след, ведущий его в Рим, не в современный мир с коррумпированным папой, интригами, политической нестабильностью и периодическими вспышками бубонной чумы, а в Рим с Форумом, сенатом и кристально чистым латинским языком, обещавшим ему встречи с утерянным прошлым.
Но какое значение все это имело для людей, живших в 1417 году? Суеверный человек, слушавший объяснения Поджо, мог заподозрить проявление особого типа ворожбы, библиомантии (гадании по Библии); более просвещенный индивид диагностировал бы психологическую одержимость книгами – библиоманию; священнослужитель задумался бы над тем, как можно в здравом уме интересоваться тем, что было до пришествия Спасителя, пообещавшего искупление всем язычникам. И возникал еще один закономерный вопрос: кому же служил этот безумец?
Поджо тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос. До того как отправиться в дорогу, он служил папе, а прежде и другим понтификам. Он был scriptor , писец, то есть опытный составитель официальных документов в папской администрации – курии, и благодаря своим исключительным способностям и проворству получил желанный пост апостолического секретаря. Поджо всегда был у папы под рукой, фиксировал его слова и высочайшие решения, на утонченном латинском языке вел его обширную международную переписку. При дворе физическая приближенность к абсолютному правителю всегда имела и имеет первостепенное значение, и Поджо стал очень важной персоной. Он внимательно выслушивал то, что шептал ему на ухо папа, и также шепотом отвечал ему. Он прекрасно понимал символику улыбок и гримас понтифика и как «секретарь» имел доступ ко всем его секретам. А у того папы секретов было предостаточно.
Однако в то время, когда Поджо уезжал на поиски древних рукописей, он уже не был апостолическим секретарем. Он ничем не досадил папе, его хозяин был цел и невредим. Но ситуация в корне переменилась. Папа, которому служил Поджо и перед которым трепетали и верующие и неверующие, зимой 1417 года сидел в имперской тюрьме в Гейдельберге. Лишенный титула, звания и власти, папа был публично обесчещен и осужден своими же князьями церкви. «Святой и непогрешимый» Вселенский собор в Констанце провозгласил, что своим «омерзительным и непристойным образом жизни» он опозорил церковь и христианство и потому недостоин оставаться наместником Петра3. Соответственно, собор освободил всех верующих от обязательств верности и послушания этому папе, запрещалось называть его папой и повиноваться ему. В долгой истории церкви, богатой скандалами, редко случалось нечто подобное прежде и никогда не повторялось впоследствии.
Низложенного папы там уже не было, но Поджо в роли апостолического секретаря мог присутствовать при том, как архиепископ Рижский вручал папскую печать ювелиру, который торжественно разрубил ее на куски вместе с другими папскими регалиями. Все служащие бывшего папы подлежали увольнению, а его переписку, которую вел Поджо, официально запретили. Папы, называвшегося Иоанном XXIII, больше не существовало. Человек, носивший это имя, снова стал тем, кем был до восхождения на престол, – Бальдассаре Коссой [4] . А Поджо остался без господина.
Для большинства людей, живших в начале XV века, не иметь господина означало оказаться в очень неприятном и даже опасном положении. В деревнях и городах к странникам относились настороженно и подозрительно, бродяг пороли кнутами и клеймили. На пустынных дорогах и тропах они могли подвергнуться любому насилию. Конечно, Поджо вряд ли можно было назвать бродягой. Человек образованный и способный, он давно занял достойное место в высших кругах общества. Гвардейцы и в Ватикане, и в замке Сант-Анджело пропускали его в ворота, не задавая лишних вопросов. Важные просители, приходившие в папскую резиденцию, заискивали перед ним. Он пользовался правом прямого доступа к абсолютному владыке, богатому и хитрому владельцу огромных территорий, считавшему себя духовным вождем всего западного христианства. Апостолический секретарь Поджо стал своим человеком и в личных покоях папских дворцов, и в папской резиденции, обменивался шутками с сиятельными кардиналами, беседовал с послами, пил изысканные вина из хрустальных и золотых кубков. Во Флоренции он сблизился с самыми влиятельными особами в синьории, городском правительстве, и вообще оброс полезными высокопоставленными друзьями.
Но теперь Поджо был далеко и от Флоренции, и от Рима. Он находился в Германии, а папа, которого секретарь сопровождал в Констанц, пребывал в тюрьме. Враги Иоанна XXIII одержали верх и заправляли всеми делами. Двери, когда-то открытые для Поджо, наглухо захлопнулись. Просители, домогавшиеся благосклонности – особой милости, желаемого судебного решения или доходного места для себя или своих родственников – и неплохо платившие за услуги, нашли себе других покровителей. Прибытки у Поджо резко сократились.
А доходы у него были немалые. Писцы не получали фиксированное жалованье, но им было разрешено взимать гонорары за исполнение документов и добывание так называемых «милостивых дозволений», легальных поблажек, предоставляемых папой в устной или письменной форме. Разумеется, имелись и другие, менее официальные способы мздоимства, которыми мог воспользоваться человек, приближенный к папе. В середине XV века ежегодный доход секретаря составлял от 250 до 300 флоринов, но предприимчивый индивид мог заработать и больше. К концу двенадцатилетней службы Георгий Трапезундский, коллега Поджо, скопил на счетах в банках Рима 4000 флоринов и сделал приличные вложения в недвижимость4.
В письмах друзьям Поджо утверждал, что никогда не отличался ни тщеславием, ни алчностью. В превосходном эссе он осуждал жадность как один из самых презренных человеческих пороков, уличал в скаредности лицемерных монахов, нечистоплотных князей и прижимистых купцов. Трудно поверить в абсолютную безгрешность людей таких профессий, какая имелась у Поджо. К концу карьеры он смог вернуться ко двору папы и использовал свое служебное положение для быстрого обогащения. В пятидесятых годах5 Поджо, помимо семейного palazzo и поместья, приобрел несколько ферм, девятнадцать отдельных участков земли и два дома во Флоренции. У него также появились солидные накопления в банковских и деловых конторах.
Однако от настоящего богатства его пока еще отделяли десятилетия. Согласно официальной имущественной описи ( catasto ), проведенной в 1427 году налоговыми чиновниками, Поджо располагал очень скромными материальными средствами. Десятью годами ранее, во время низложения папы Иоанна XXIII, их у него было еще меньше. Возможно, последующая страсть к обогащению была реакцией на долгие годы предыдущего безденежья, проведенные в чужой стране. Когда зимой 1417 года Поджо ехал по холмам и долинам Южной Германии, у него не было ни малейшего представления о том, где доставать флорины.
Тем более удивительно, что Поджо в это трудное время6 не попытался подыскать себе новую должность или вернуться обратно в Италию, а продолжил путь к монастырю и поиски манускриптов.
Глава 2 Желанная находка
В XV веке итальянцев обуяла страсть к поиску манускриптов после того, как поэт и эрудит Петрарка в 1330 году прославил себя тем1, что собрал воедино монументальную «Историю Рима» Тита Ливия и отыскал забытые шедевры Цицерона, Проперция и других выдающихся талантов древности. Достижения Петрарки вдохновили энтузиастов на поиски утерянных трудов античных авторов, таящихся где-то веками непрочитанными и не тронутыми руками человека. Обнаруженные тексты переписывались, редактировались, комментировались, распространялись, принося известность тем, кто нашел их, и формируя новую науку, получившую название « studia humanitati » – изучение всего, что составляет целостность человеческого духа.
«Гуманисты», как нарекли исследователей античности, поняли по текстам, сохранившимся со времен классического Рима, что у них огромное поле деятельности: все еще не найдены многие знаменитые книги или их фрагменты. Иногда Поджо и его коллеги, прочитывая древние манускрипты, наталкивались на цитаты, заимствованные из утерянных книг, сопровождавшиеся либо хвалебными, либо ругательными комментариями, или на упоминания забытых авторов. К примеру, римский ритор Квинтилиан, обсуждая поэзию Вергилия и Овидия, отмечал: «Безусловно, стоило бы почитать Мацера и Лукреция»2. А затем он приводил целый список имен, его восхитивших: Варрон из Атакса, Корнелий Север, Салей Басс, Гай Рабирий, Альбинован Педо, Марк Фурий Бибакул, Луций Акций, Марк Пакувий. Гуманисты допускали, что некоторые из пропавших манускриптов скорее всего утеряны навсегда – и действительно, за исключением Лукреция, труды всех упомянутых выше древних авторов так и не были обнаружены, – но они надеялись на то, что немало книг и, возможно, даже очень много все еще спрятаны где-нибудь в Италии или за Альпами. Ведь Петрарка нашел речь Цицерона Pro Archia («В защиту Архия») в бельгийском Льеже, а книгу Проперция – в Париже.
Главными объектами для поиска утерянных манускриптов были библиотеки древних монастырей. И это не случайно. Столетиями лишь монастыри интересовались книгами. Даже в эпоху стабильной и процветающей Римской империи грамотность населения, по нашим меркам, была невысокой3. С крахом империи, сопровождавшимся деградацией городов и торговых связей, когда население больше всего тревожило появление на горизонте армий варваров, распалась и отлаженная система начального и высшего образования. Закрылись школы, библиотеки и академии, остались не у дел грамматисты и учителя риторики. Человека беспокоили иные проблемы, ему было не до книг.
...
Монахам же вменялось в обязанность умение читать. В мире, в котором господствовали неграмотные военные вожди, этот принцип, сформулированный еще на заре монашества, имел немаловажное значение. Для иллюстрации можно привести выдержу из устава монастырей, учрежденных в Египте и по всему Ближнему Востоку коптским святым Пахомием к концу IV столетия. Когда кандидат в монахи представлял себя старцам, ему «надлежало дать двадцать псалмов или два апостольских послания или любую другую часть Священного Писания. Если он неграмотен, то должен в первый, третий и шестой часы пойти к тому, кто научит его читать и специально для этого назначен. Он должен стоять перед ним и учиться со всем прилежанием и благодарностью. Для него надлежит написать слоги, глаголы и имена существительные, и даже если он не захочет, то его надо заставить читать (Правило 139)»4.
«Его надо заставить читать». Именно принуждение помогло сохранить достижения античных мыслителей в многовековом хаосе.
Хотя святой Бенедикт и не акцентировал внимание на необходимости грамотности в самых основополагающих монастырских правилах, изложенных в VI веке, он выдвинул требование ежедневного чтения – «молитвенного чтения» – и «физического труда». «Безделье – враг души», – писал святой. И он следил за тем, чтобы монахи были предельно загружены. Им разрешалось читать и в неурочное время, но добровольное чтение должно было происходить только при полном молчании. (В эпоху Бенедикта, как и в античность, было принято читать вслух.) Во время принудительного чтения никакие вольности не допускались.
...
Монахи обязывались читать, нравилось им это или нет. В правилах предусматривался строгий надзор за этим процессом: «Сверх того, надлежит назначать одного или двух старцев, которые должны в обязательном порядке обходить монастырь и проверять, как читают братья. Они обязаны следить за тем, чтобы никто из братьев не был столь acediosus , не тратил попусту время и не вступал в праздные разговоры в ущерб чтению, не отвлекался сам и не отвлекал других (49:17–18)»5.
Acediosus переводится обычно в значении «апатичный». Этим определением характеризовалось болезненное состояние души, свойственное обитателям монастырей и описанное в конце IV века отшельником Иоанном Кассианом. Монаху, испытывающему acedia , трудно или даже невозможно сосредоточиться на чтении. Он смотрит мимо книги, предрасположен к тому, чтобы отвлечься на сплетни, но чаще всего ему свойственно в такие моменты с презрением воспринимать и окружающую среду, и своих товарищей. Он думает о том, что где-то лучше, чем здесь, что зря живет, что все вокруг противно и бессмысленно, и ему душно от таких мыслей:
...
«Он тревожно поглядит то в одну, то в другую сторону, вздохнет, подумав о том, что никто из братьев не приходит повидать его, войдет и снова выйдет из своей кельи, часто бросает взор на солнце, досадуя на то, что оно слишком медленно опускается за горизонт. И такое смутное состояние сознания овладевает им как некая темная сила»6.
Можно сказать, такой монах, а их, очевидно, было немало, страдал тем, что мы называем клинической депрессией.
Кассиан назвал это заболевание «полуденным демонизмом», и бенедиктинский устав наставлял тщательно отслеживать, особенно во время чтений, братьев с подобными симптомами: «Если обнаружится такой монах – помилуй Бог, – то ему следует сделать порицание один раз и второй раз. Если он не исправится, то его надо подвергнуть наказанию в назидание другим»7.
...
Отказ от чтения в положенное время – вследствие рассеянности, тоски или депрессии – сначала будет отмечен публичным порицанием, а если монах будет упорствовать, то его накажут ударами плетью. Симптомы психической боли будут удалены испытанием физической боли. Излеченный таким образом от депрессии монах, по крайней мере теоретически, должен быть снова готов к «молитвенному чтению».
Устав Бенедикта также предполагал ежедневное чтение вслух за приемом пищи одним из братьев, назначавшимся на всю неделю. Бенедикт, конечно, ожидал, что некоторые монахи могут возгордиться назначением чтецами. Поэтому он включил в свод и такое правило: «Каждый следующий чтец должен просить всех помолиться, чтобы Господь уберег его от эйфории»8. Святой предусмотрел возможность возникновения ситуации, когда слушатели могут посмеиваться или болтать, указав: «Надо соблюдать полнейшую тишину. Ни шепота, ни разговоров – должен быть слышен только голос чтеца»9. Но Бенедикту прежде всего было важно исключить возникновение каких-либо дискуссий и дебатов во время чтений: «Никто не должен задавать вопросы относительно ни чтения, ни чего-либо иного, чтобы не давать поводов»10.
«Чтобы не давать поводов» – формулировка весьма расплывчатая. Поводов – кому и для чего? Некоторые комментаторы иногда добавляют: «Дьяволу». Но зачем князю тьмы вопросы монахов, касающиеся зачитываемых текстов? Объяснение может быть только одно: каким бы безобидным ни был вопрос, он вызовет дискуссию, а это означает, что религиозные доктрины открыты для обсуждения и споров.
Бенедикт не запрещал комментирование священных текстов, зачитываемых вслух монахами. Ему надо было лишь ограничить круг комментаторов: «Настоятель может пожелать высказать несколько поучительных слов»11. Его слова, естественно, не должны были оспариваться или сопровождаться возражениями, любая конфронтация принципиально исключалась. Перечень наказаний, приведенный в уставе ирландского монаха Колумбана (родился в год смерти Бенедикта), совершенно ясно свидетельствует: запрещались любые дебаты в монашеской аудитории, и интеллектуальные, и какие-либо иные. На монаха, осмелившегося возразить другому брату и сказать: «Это не так, как ты говоришь», – накладывалось суровое наказание – «обет молчания или пятьдесят ударов плетью». Высокие стены отчуждения, изолировавшие духовную жизнь монахов, обеты молчания, табу на вопросы и полемику, наказания за нарушение запретов рукоприкладством или плетьми – все это гарантировало то, что благочестивые сообщества противопоставляли себя философским академиям Греции и Рима, где культивировались свобода диспутов, инакомыслие и безудержная любознательность.
Как бы то ни было, монастырская традиция чтения имела свои долговременные последствия. Чтение не было всего лишь желательным, оно не просто предлагалось или рекомендовалось, а вменялось в обязанность. Но для чтения требовались книги. Манускрипты от длительного использования приходили в негодность, как бы аккуратно с ними ни обращались. Соответственно, монастырские правила принуждали монахов к тому, чтобы они покупали или находили книги. Византийско-готские войны середины VI века загубили и книжное производство, и книжный рынок. Братьям пришлось заняться копированием, то есть переписыванием имеющихся в наличии манускриптов. Но торговый обмен с египетскими изготовителями папируса давно зачах, как и выделка кож для книг. Монахи теперь должны были взять на себя и изготовление пергамента, и сохранение оставшихся запасов. Монашество вовсе не стремилось к тому, чтобы подражать языческой элите в распространении письменности и литературы. Оно не понимало важности риторики и грамматики, образования и интеллектуальных диспутов. Тем не менее монахи, сами того не подозревая, стали главными хранителями литературы, читателями, библиотекарями и издателями.
Безусловно, все это было известно Поджо и другим гуманистам, разыскивавшим утерянные античные произведения. Осмотрев многие монастырские библиотеки в Италии и изучив опыт Петрарки, они уже знали, что огромный потенциал для поисков представляют территории Швейцарии и Германии. Однако монастыри там труднодоступны: основатели намеренно строили их в отдаленных местах, подальше от соблазнов и опасностей. Если все-таки настырный охотник за книгами, преодолев неудобства и тяготы путешествия, доберется до места, он непременно натолкнется на новые трудности. Людей, хорошо знавших, что именно надо искать, и достаточно компетентных для того, чтобы разобраться в находке и прочесть древний текст, в действительности было крайне мало. Кроме того, придется решать проблему допуска. Самому изощренному ученому будет нелегко уговорить аббата открыть двери и убедить скептика-библиотекаря в том, что у него законные основания интересоваться древними книгами. Обыкновенный смертный в монастырские библиотеки не допускался. Петрарка был клириком: он по крайней мере мог призвать на помощь церковные власти. Искатели манускриптов были простые миряне и могли вызвать естественные подозрения.
Но этим проблемы не исчерпывались. Если даже охотнику за книгами удастся проникнуть в монастырь, в библиотеку и найти интересный экземпляр, он должен суметь заполучить манускрипт.
Книги были большой редкостью и ценились очень высоко. Они поднимали престиж монастыря, и монахи расставались с ними неохотно, особенно те из них, которые успели натерпеться от нечистых на руку итальянских книголюбов. Иногда монастыри прибегали к мистическим уловкам, чтобы обезопасить свои особенно ценные издания, сопровождая их угрожающими проклятиями:...
«Пусть же у того, кто украдет, возьмет и не вернет эту книгу владельцу, она превратится в его руках в змия, который разорвет его. Пусть же его разобьет паралич, и все его члены отсохнут. Пусть же он корчится от боли и молит о пощаде, и пусть же не будет конца его агонии, пока он не испустит дух. Пусть же черви изъедят его внутренности, и когда наступит Судный день, пусть же он сгорит в геенне огненной»12.
Даже самый отъявленный циник, жаждущий унести то, что попало в его руки, побоится спрятать такую книгу под свой плащ.
Если монах беден или корыстолюбив, то логично было бы предложить деньги, но сам факт вашей заинтересованности означал бы, что он запросит непомерную цену. Можно, конечно, попросить аббата одолжить книгу с твердым обещанием в скором времени ее вернуть. Доверчивые или наивные аббаты действительно иногда встречались, но очень редко. Полностью исключался вариант принуждения к согласию: в случае категорического отказа о сделке следовало уже забыть. В конце концов, можно было бы игнорировать проклятия и умыкнуть манускрипт. Однако монастыри накопили богатый опыт слежки. За визитерами наблюдали особенно внимательно, ворота и двери на ночь закрывались на замок, некоторые братья отличались грубостью и не преминули бы избить вора до полусмерти.
Надо сказать, Поджо обладал необходимыми качествами для преодоления всех этих трудностей. Он всесторонне подготовился к тому, чтобы прочитывать древние рукописные тексты. Он был превосходным латинистом, свободно ориентировался в художественных стилях, риторических фигурах и грамматических конструкциях классической латыни. Поджо хорошо знал античную литературу, и в его памяти хранилось множество исторических деталей, которые могли навести его на след забытого автора или утерянного произведения. Он не был священником или монахом, но длительная служба в курии и при папском дворе позволила ему досконально узнать церковную иерархию и познакомиться со многими влиятельными клириками, включая пап.
Если же и этих обстоятельств оказалось бы недостаточно для того, чтобы перед ним открылись двери монастырских библиотек, то Поджо помогло бы еще одно немаловажное качество – его обаяние. Он был интересным собеседником, рассказчиком и ехидных сплетен, и смачных анекдотов. Конечно, он не мог разговаривать с немецкими монахами на их родном языке. Хотя Поджо и жил более трех лет в германском городе, по его собственному свидетельству, он так и не выучил этот язык. Поджо был блистательным лингвистом, и незнание немецкого языка может показаться на первый взгляд странным. В действительности это нежелание было намеренным: в его представлении на немецком языке говорили варвары. В Констанце Поджо, скорее всего, приходилось общаться с людьми, изъяснявшимися на латыни или по-итальянски.
Незнание немецкого языка могло помешать Поджо в дороге, на постоялых дворах или в трактирах, но это не создало бы для него никаких проблем по прибытии к месту назначения. И аббат, и библиотекарь, и многие другие члены монашеского братства, безусловно, знали латынь. Они вряд ли владели изысканной, классической латынью, которую в совершенстве освоил Поджо, но, судя по литературным описаниям того времени, свободно говорили по крайней мере на бытовом наречии, с легкостью перемешивая академические изыски с непристойностями. Если Поджо чувствовал, что ему следует продемонстрировать высокую нравственность, то он мог повести беседу о невзгодах человеческого существования. Если надо было рассмешить собеседников, то он мог рассказать одну из своих многочисленных забавных историй об угодливых домохозяйках и похотливых священниках.
Поджо отличался еще одним качеством, выделявшим его в среде охотников за манускриптами. Он был великолепным писцом, обладавшим искусной каллиграфией, концентрацией внимания и аккуратностью. Для нас теперь трудно по достоинству оценить такие способности. Доступные нам технологии транскрибирования, факсимиле и копирования предали забвению то, что прежде считалось величайшим личным достижением. Это незаурядное мастерство начало терять свою значимость еще при жизни Поджо: в тридцатые годы XV века предприниматель Иоганн Гутенберг уже экспериментировал с новым изобретением – шрифтовым набором, революционизировавшим репродукцию и печатание текстов. К концу столетия книгоиздатели, в ряду которых первое место занимал великий типограф Мануций Альд из Венеции, отпечатали многие латинские тексты с гарнитур, по красоте и филигранности остающиеся непревзойденными и через пять веков. Эта гарнитура была создана на основе изумительной каллиграфии Поджо и его друзей-гуманистов13. Если Поджо от руки мог написать одну страницу, то теперь их механически печатали сотнями.
Подвижные литеры изменили весь процесс книгоиздания. Но печатники, набиравшие книги, используя гарнитуры шрифтов, по-прежнему полагались на четкие, читаемые рукописные тексты копиистов, которым зачастую приходилось расшифровывать манускрипты, доступные для понимания лишь немногим специалистам. Современники поражались сверхъестественным способностям Поджо и понимать древние тексты, и быстро их переписывать. А это означало, что ему было легче и проще не только отыскать в монастыре нужный манускрипт, но и одолжить его, переписать и отправить копии гуманистам в Италию. Если одолжить манускрипт по каким-то причинам не удастся – библиотекарь не позволит вынести из монастыря особенно ценный и уникальный экземпляр, – то он всегда сможет переписать его на месте или поручить сделать это другому копиисту, подготовленному им же до минимального уровня компетентности.
В 1417 году Поджо, охотник за манускриптами, имел в достатке и времени, и профессиональных навыков, и желания. Ему не хватало лишь одного – наличных денег. Путешествие, даже самое неприхотливое, обходилось дорого. Наем лошадей, переправы, проезд по платным дорогам, воздаяния таможенным чиновникам, агентам местных баронов, проводникам, еда и ночлеги на постоялых дворах – за все это надо было платить звонкой монетой. Нужны были деньги и для вознаграждения писца-помощника, и для подкупа непокладистых аббатов.
Если даже Поджо и скопил какой-то капитал за годы служения в папской курии, то все равно он вряд ли смог бы самостоятельно оплатить все расходы. В подобных обстоятельствах увлеченному человеку ничего не остается, кроме как искать средства на стороне. Вероятно, он обратился к богатым друзьям, разделявшим его страсть к древней истории, и объяснил им, что у него неожиданно появилась возможность осуществить их чаяния. Поджо, в полном здравии, не обремененный семьей и служебным долгом, никому и ничем не обязанный, вольный ехать куда угодно и когда угодно, изъявил готовность отправиться на поиски утерянных сокровищ Древнего мира.
Только благодаря такой помощи, предоставленной одним состоятельным патроном или группой коллег-гуманистов, Поджо смог в январе 1417 года отправиться в экспедицию и совершить свое открытие. Очевидно, она была значительной, поскольку позволила предпринять в ту зиму и другие поиски – наведаться в обитель Святого Галла [5] , располагавшуюся не очень далеко от Констанца. В сущности, это был повторный визит. В прошлом году Поджо с двумя итальянскими друзьями уже нашел здесь немало интересного. Полагая, что там еще не все изведано, Поджо решил вернуться в монастырь с одним из друзей.
У Поджо и его компаньона Бартоломео ди Арагацци было много общего. Оба происходили из Тосканы, Поджо родился в небольшом городке Террануова возле Ареццо, Бартоломео – в Монтепульчано. И тот и другой в свое время оказались в Риме, устроившись писцами в папскую курию. Оба служили апостолическими секретарями в Констанце14 при несчастном понтифике Иоанне XXIII и, соответственно, остались не у дел после низложения папы. И оба были страстными гуманистами, горевшими желанием найти утраченные античные тексты.
Друзья, вместе трудившиеся, путешествовавшие и разделявшие одни и те же интересы, были в то же время и соперниками, не желавшими делиться славой первооткрывателей. «Мне противны похвальба, лесть и гиперболизации, – писал Бартоломео патрону в Италии. – Да не посетят меня даже в помыслах гордыня, самолюбование и тщеславие»15. Письмо датировано 19 января 1417 года и отправлено из монастыря Святого Галла. В послании, составленном, как отметил его автор, в «узилище», куда, очевидно, поместили визитеров монахи, упоминается несколько важных находок. Бартоломео сообщает, что при всем желании он не в состоянии описать найденные тома, ибо «и целого дня не хватит для того, чтобы перечислить их все». Примечательно, что он даже не упоминает имени своего компаньона Поджо Браччолини.
Проблема заключалась в том, что находки Бартоломео не были уж столь выдающимися. Он обнаружил копию трактата Флавия Вегеция Рената о древнеримской армии, который, как самоуверенно написал Бартоломео, «пригодится нам, если мы используем его в лагерях или с еще большей славой в крестовом походе», и небольшой словарь, или перечень слов, составленный Помпеем Фестом. И сами книги не представляли особого интереса, и, кроме того, они уже имелись в Италии, о чем должен был знать и сам Бартоломео. То есть фактически он не сделал никакого открытия.
К концу января, не обнаружив ничего экстраординарного и, возможно, устав друг от друга, друзья решили продолжить дальнейшие поиски раздельно. Поджо направился на север. Его, видимо, сопровождал писец-немец, им подготовленный. Бартоломео остался один. «Я намерен двинуться в одну из обителей отшельников в глубине Альп»16, – написал он итальянскому энтузиасту. Бартоломео наметил очень дальний маршрут. Места, куда он хотел попасть, в зимнее время практически недоступны. «Дорога туда тяжела и опасна, добраться можно только по кручам, рекам и лесам Альп, – писал Бартоломео и добавлял: – Но путь к добродетели всегда неудобен и тернист». По слухам, в библиотеках тех монастырей хранились истинные сокровища. «Я подвергну это слабое тело любым испытаниям, но найду их, пренебрегая трудностями, лишениями и холодами, которыми меня встретят Альпы».
Сетования Бартоломео на трудности могут вызвать ироническую улыбку. Искушенный юрист, он, безусловно, переборщил с красивой риторикой. Однако вскоре после пребывания в монастыре Святого Галла он заболел, и ему пришлось вернуться в Констанц и несколько месяцев восстанавливать здоровье. Поджо, двигавшийся на север, конечно, ничего не знал о том, что Бартоломео выбыл из строя и теперь ему одному надо заниматься поисками книг.Поджо не любил монахов. Он лично знал несколько черноризцев, высоконравственных и образованных. Но в целом он считал их людьми суеверными, невежественными и необратимо ленивыми. По его мнению, монастыри служили притоном для тех, кто обреченно не приспособлен для жизни в нормальном мире. Дворяне отсылали туда сыновей, слабых здоровьем, неудачников и вообще ни на что не пригодных, купцы спроваживали детей-паралитиков и слабоумных, крестьяне избавлялись от лишних ртов. Наиболее крепкие из иноков могли по крайней мере работать в монастырских садах, на огородах и в прилегающих полях, как это было принято в прежние суровые времена. В основном же монахи в представлении Поджо являли собой стадо бездельников. За толстыми стенами обителей эти паразиты лишь только молились и проедали доходы, заработанные теми, кто неустанно трудился в обширных монастырских земельных владениях. Церковь была крупнейшим землевладельцем, богаче любого помещика, и обладала властью для того, чтобы определять и ренты, и другие права и привилегии. Когда новый епископ Хильдесхайма после избрания попросил показать ему библиотеку епархии, его провели в оружейный зал и продемонстрировали копья, пики и боевые топоры, висевшие на стенах17. Епископу сказали: этими «книгами» завоеваны права епископства, и они же защитят его, если надо. Нечасто обитателей монастырей призывали к оружию. Но они, сидя в своих кельях и подсчитывая доходы, знали, как это знали и арендаторы, что в случае необходимости всегда можно пустить в ход грубую силу.
С друзьями в курии Поджо любил делиться шутками по поводу корыстолюбия, глупости и сексуальной озабоченности монахов. Он не верил в их благочестие. «В своем существовании они уподобляются кузнечикам, стрекочущим в траве, – писал Поджо. – И я не могу не думать о том, что им слишком много платят за стрекотание»18. Даже жесткая монастырская духовная дисциплина казалась ему ничтожным бременем в сравнении с действительно тяжелой работой в поле: «Они превозносят свои труды чуть ли не как подвиги Геракла, потому что поднимаются ночами, чтобы прочесть молитвы во славу Господа. Безусловно, всяческого уважения заслуживают их упражнения в пении псалмов. Но что бы они сказали, если бы их заставляли рано подниматься и пахать, подобно крестьянину, в дождь и ветер, босоногими, едва прикрытыми лохмотьями?» Вся идея монашества представлялась ему от начала до конца ханжеской.
Однако все эти чувства Поджо, естественно, таил в глубине души. Он презирал монашество, но прекрасно понимал его. Он знал, куда именно должен пойти в монастыре и какие слова произнести, чтобы перед ним открылись двери и ему дали в руки то, что нужно. Более того, Поджо отлично знал, как должны выглядеть и как были сделаны предметы, которые он искал. Хотя Поджо и считал монашество проявлением лености, он понимал и то, что желанные ценности сохранились только благодаря кропотливым, самоотверженным и многовековым усилиям этой уникальной организации человеческого общежития.
Бенедиктинский устав поощрял и физический труд, а не только молитвы и чтение. К физическому труду он относил и письмоводительство. Ранние основатели монашеских орденов не считали возвышенным занятием переписывание манускриптов; копировали тексты в Древнем мире преимущественно грамотные рабы. Труд, и утомительный и унизительный, создавал необходимые условия для аскетического воспитания духа. Поджо не был приверженцем духовной дисциплины. Предприимчивый и амбициозный, он хотел блистать, а не томиться в неизвестности. Переписывание манускриптов, что он делал с непревзойденным мастерством, было для него скорее эстетическим, а не аскетическим занятием. Оно позволяло завоевывать репутацию и престиж. Поджо мог с первого взгляда оценить, с восхищением либо с презрением, сколько труда и таланта было вложено в манускрипт, лежащий перед его глазами.
Не всякий монах мог со знанием дела копировать тексты, точно так же, как и не каждый инок мог адекватно работать в поле, чтобы обеспечивать выживание всей общины. Уже в самых ранних монастырских правилах предусматривалось разделение труда. В правилах святого Ферреоля (530–581), французского бенедиктинца, говорилось: «Тому, кто не переворачивает землю плугом, надлежит писать пальцами на пергаменте». (В равной мере было справедливо и обратное обязательство: тому, кто не пишет на пергаменте, надлежит встать за плуг.) Писец, отличавшийся необычайно красивым, ясным и четким почерком, понятным для любого монаха, и особенно аккуратно копировавший текст, ценился очень высоко. К примеру, в германских землях и в Ирландии действовали уложения «вергильд», предусматривавшие наказания вирами, пени за совершение убийств: 200 шиллингов – за убийство простолюдина, 300 – за убийство духовного лица низшего ранга, 400 – за нападение на духовное лицо во время проповеди и так далее. Убийство писца приравнивалось к насилию над епископом или аббатом.
Относительно более суровое наказание за убийство писца во времена, когда жизнь человека вообще почти ничего не стоила, свидетельствует об одном: как важно и трудно было монастырям добывать книги, необходимые для принуждения братьев к чтению. Даже самые известные библиотеки Средневековья были крайне бедны в сравнении с книжными хранилищами античного периода, Багдада или Каира. Для того чтобы обзавестись самым скромным собранием книг в эпоху, когда еще не существовало печатных станков, надо было иметь собственный скрипторий, мастерскую, в которой монахи должны были долгими часами переписывать манускрипты. Вначале писцы, очевидно, размещались в крытых галереях, и, хотя у них от холода иногда коченели пальцы, по крайней мере для работы было достаточно света. Позднее для копиистов отводились или строились специальные помещения. Большие монастыри, особенно заинтересованные в престижных книжных собраниях, располагали просторными залами со стеклянными окнами, где монахи, иногда до тридцати человек, сидели за столами, иногда поставленными на расстоянии друг от друга.
Заведовали скрипториями монастырские библиотекари, которых и предстояло обольщать Поджо и другим охотникам за манускриптами. Это были очень важные персоны, привыкшие к особому вниманию. Они обеспечивали писцов всеми необходимыми материалами и принадлежностями: чернилами, перьями и перочинными ножами, достоинства или дефекты которых копиист быстро прочувствует на себе после нескольких часов труда. Библиотекарь мог по своему желанию превратить жизнь переписчика в сплошной ад или, напротив, облегчить ее, предоставив ему добротные инструменты. В число письменных принадлежностей входили также линейки, шила (прокалывать крошечные дырки для разметки ровных строк), заостренные металлические ручки для прочерчивания линий, рамки, державшие книги, гири, фиксировавшие страницы. Для работы с манускриптами, требовавшими иллюстрирования, полагались и другие специальные инструменты и материалы.
Большинство книг в Древнем мире имели форму свитков, наподобие свитков Торы, которыми евреи пользуются на службах и сегодня. В IV веке христиане почти полностью перешли на другой формат – кодекс, породивший и знакомый нам внешний вид современных изданий. Кодекс обладал несомненным преимуществом: читателю стало намного легче в нем ориентироваться, текст можно было делить на страницы, индексировать, а страницы – пронумеровать, перелистывать и быстро находить нужное место. До появления компьютера с его молниеносными поисковыми способностями у кодекса не было конкурента по простоте и гибкости чтения. Но сейчас мы опять начали «скроллировать» тексты (прокручивать в окне компьютера).
Поскольку папируса в наличии уже не имелось, а бумага появилась только в XIV веке, то в продолжение тысячи лет главным писчим материалом служили шкуры животных – коров, овец, коз и иногда оленей. Поверхности кож нужно было обрабатывать, и, соответственно, монастырским библиотекарям потребовался еще один материал – пемза: для очистки кож от остатков волос и шерсти, ликвидации неровностей и дефектов. Писец, которому доставался пергамент плохого качества, оказывался в трудном положении. На полях сохранившихся монастырских манускриптов иногда можно обнаружить письменные свидетельства горести переписчика: «Пергамент щетинистый…»19. «Чернила жидкие, пергамент плохой, текст тяжелый…». «Слава Богу, скоро стемнеет». «Да позволено будет копиисту завершить свой труд», – утомившийся монах написал под начертаниями своего имени, даты и места нахождения. «Наконец-то я все написал, – пометил другой труженик пера. – Ради Бога, дайте мне попить»20.
Наилучший пергамент, о котором мечтал каждый писец, делался из телячьей кожи и назывался веллум или велень. А самым лучшим считался утробный велень, выработанный из кожи новорожденного или недоношенного теленка. Эта ослепительно белая, гладкая и долговечная кожа всегда резервировалась для изготовления наиболее ценных книг, украшенных изумительными, тончайшей работы миниатюрами и инкрустированных драгоценными камнями. В библиотеках мира все еще хранится некоторое количество этих шедевров, созданных писцами, жившими семьсот или восемьсот лет назад и потратившими несчетные часы на их сотворение.
Хорошие писцы освобождались в определенные промежутки времени от коллективной молитвы для того, чтобы максимально использовать дневной свет в скриптории. Им нельзя было работать по ночам – из-за вполне оправданных опасений пожара: пользоваться свечами категорически запрещалось. Но в отведенное время – около шести часов в день – они должны были сидеть за столами и прилежно писать. Возможно, по крайней мере в некоторых обителях, монахи понимали то, что копировали. В посвящении одной из таких мастерских говорилось: «Снизойди, о Господи, и поспособствуй Твоим слугам в этой комнате, чтобы то, что они пишут здесь, было доступно их разумению и могло быть осуществлено в их трудах»21. Тем не менее проявление реального интереса к содержанию книги (позитивного либо негативного) исключалось. Поскольку копирование манускрипта было одним из методов принудительного или добровольного смирения, то писцы чаще всего испытывали чувство отвращения или апатии, но никак не вдохновение. Ни о какой любознательности не могло быть и речи.
Самолюбивому и жаждущему знаний Поджо было чуждо книжное рабство писцов, лишавших себя эмоций и интеллектуальных интересов ради подавления духа. Но он понимал: от их послушания во многом зависел и успех его миссии – найдет ли он относительно достоверные свидетельства далекого прошлого. Поджо знал и то, что заинтересованному читателю свойственно вносить смысловые исправления, дабы улучшить текст. Однако такие поправки за столетия могли привести к серьезным искажениям. Для него, конечно, было предпочтительнее, чтобы монастырские писцы копировали тексты в точности такими, какими они их видели, даже если им встречались и бессмыслицы.
При копировании страница манускрипта закрывалась листом с вырезом для того, чтобы монах мог видеть одну строку. Монахам строго-настрого запрещалось вносить какие-либо изменения, даже если они находили явные ошибки. Они могли исправлять лишь собственные оплошности, тщательно выскребая лезвием чернила и заполняя нанесенную рану смесью молока, сыра и извести, напоминавшей современную «замазку», которой пользуются сегодня редакторы и корректоры. Нельзя было, как это мы делаем сейчас, сминать и выбрасывать испорченную страницу. Хотя овечьих и козлиных кож имелось предостаточно, процесс выработки пергамента был трудоемкий и дорогостоящий. Пергамент хорошего качества ценился высоко, и никто не осмелился бы выкинуть его на помойку. Отчасти и по этой причине в монастырях сохранялись древние манускрипты.
Конечно же, аббаты и монастырские библиотекари все-таки интересовались языческими текстами, нанесенными на листы. Они надеялись почерпнуть в классической литературе что-то полезное, не опасаясь заразиться чуждыми идеями, подобно тому, как древние иудеи с позволения Господа переняли наследие египтян. Но со временем – когда возобладала христианская литература – делать это стало затруднительно. Все меньше и меньше монахов могли позволить себе оглядываться на прошлое. В период между VI веком и серединой VIII столетия греческая и латинская классика вообще не копировалась. Критика языческих идей уступила место их полному забвению. Об античных поэмах, философских трактатах и политических речах, когда-то казавшихся и опасными и соблазнительными, не только не говорили, но и не вспоминали. Надолго оборвалась связующая нить познания между настоящим и прошлым.
Только необычайная долговечность пергамента помогла выжить идеям древности, хотя гуманисты отлично знали, что и самый прочный материал не гарантировал их полную сохранность. Монахи, используя ножи, щетки, песчаник, зачастую тщательно вымарывали древние сочинения22 – Вергилия, Овидия, Цицерона, Сенеки, Лукреция – и вписывали вместо них тексты, копировать которые приказывали патроны. Занятие утомительное, а для писца, знавшего произведение, которое уничтожалось, и мучительное.
Если чернила оригинала оказывались достаточно стойкими, то под новыми текстами можно было различить то, что было написано прежде. Таким образом уникальная копия трактата Цицерона «О государстве», выполненная в IV веке, была обнаружена под копией размышлений святого Августина о псалмах, датированной VII веком. Единственная уцелевшая копия произведения Сенеки о дружбе была расшифрована под текстом Ветхого Завета, вписанного в конце VI столетия. Благодаря этим слоеным манускриптам, получившим название «палимпсестов» – от греческого понятия «соскабливать», до нас дошли несколько величайших произведений древности, которые иначе были бы утрачены навсегда. Естественно, средневековому монаху не позволялось читать между строк.
Монастырская братия жила по строгим правилам. Но в скрипториях действовали и свои правила. В них допускались только лишь писцы. Соблюдалась абсолютная тишина. Писцам не разрешалось копировать книги по своему выбору. Им запрещалось и нарушать тишину вопросами к библиотекарю или к соседу. Для этих целей был разработан язык жестов. Если писцу требовался Псалтырь, то он подавал знак, изображающий книгу – протягивал руки, словно перелистывая страницы, и прикладывал их затем к голове, воспроизводя очертания короны, символизировавшей псалмы царя Давида. Если ему была нужна языческая книга, то он, изобразив общий книжный знак, начинал чесаться за ухом, подобно собаке, которую замучили блохи. Если он хотел получить для консультации языческую книгу, считавшуюся церковью особенно тлетворной и опасной, то засовывал в рот два пальца, словно собираясь блевать.Поджо был мирянин, принадлежал к совершенно другому типу людей. В точности неизвестно, куда именно он направился в 1417 году, отделившись от Бартоломео. Возможно, он, уподобляясь золотоискателю, намеренно скрывал конечную цель путешествия и не указывал своего имени в письмах. Его могли привлекать десятки монастырей, где он мог найти ценные манускрипты, но многие ученые уже давно пришли к единому мнению, что Поджо с самого начала нацелился на бенедиктинское аббатство Фульда23. Это аббатство, находившееся в стратегическом регионе центральной Германии между Роной и горами Фогельсберг, обладало всеми атрибутами, соблазнительными для охотника за стариной. Оно было очень древнее, когда-то очень богатое и славившееся традициями научного познания, а теперь переживавшее упадок.
Если Поджо действительно нацелился на Фульду, то он не мог позволить себе излишнее самомнение. Аббатство, основанное в VIII веке учеником апостола Германии святого Бонифация, всегда пользовалось исключительной независимостью. Его аббат был князем Священной Римской империи: в процессиях закованный в латы рыцарь традиционно нес перед ним имперское знамя. На торжественных церемониях он сидел слева от императора. Многие монахи были германскими дворянами, людьми, привыкшими к тому, чтобы к ним относились с почтением. Если монастырь и лишился определенной доли престижности и в недавнем прошлом потерял часть своих обширных земель, то это вовсе не означало, что он утратил свою значимость и силу. Поджо, бывший апостолический секретарь обесчещенного и низложенного папы, имел не так уж много козырных карт.
Репетируя в уме вступительную речь, Поджо спешился бы и прошел по обрамленной деревьями аллее к единственным и тяжелым воротам аббатства. Внешне Фульда напоминала крепость. В предыдущем столетии во время конфликта с бюргерами соседнего города она подверглась жестокому нападению. Но, как и большинство монастырей, аббатство существовало на полном самообслуживании. К январю огороды, цветники и ботанические сады впадали в зимнюю спячку, однако монахи уже запаслись на долгие зимние месяцы продовольствием, собрав урожай и позаботившись о лечебных травах для лазаретов и купален. Амбары в это время года полны зерна, достаточно соломы и овса для лошадей и ослов в стойлах. Поджо миновал бы курятники, крытый двор для овец, коровник, пахнущий навозом и молоком, и громадные свинарники. На него могли нахлынуть сладкие воспоминания об оливах и винах Тосканы, но было ясно, что здесь ему голодать не придется. Поджо провели бы мимо мельниц, маслобойни, базилики с прилегающей к ней крытой аркадой, домов для послушников, дортуара, обиталищ прислужников, приюта для пилигримов, где поселят и его с помощником, и потом впустили бы в хоромы аббата для встречи с повелителем этого маленького королевства.
Если в 1417 году Поджо действительно направлялся в Фульду, то тогда настоятелем был Иоганн фон Мерлау. Смиренно поприветствовав аббата, назвав себя и представив рекомендательное письмо от уважаемого кардинала, Поджо наверняка сначала выразил бы пожелание взглянуть на драгоценные мощи святого Бонифация и помолиться подле них. Собственно, всю свою жизнь он старался соблюдать церковные обычаи. Бюрократы в папской курии молитвами начинали и заканчивали каждый новый день. Если в письмах Поджо трудно обнаружить какие-либо признаки того, что он питал особый интерес к святым мощам, к самим святым или к ритуалам, предназначенным для облегчения страданий души в чистилище, то наш гуманист по крайней мере был прекрасно осведомлен об истинных богатствах Фульды.
Гостя непременно привели бы в базилику. Поджо, войдя в трансепт и спустившись по ступеням в темноту сводчатой крипты, понял бы, что пилигримский храм Фульды ему очень знаком: он был построен по подобию римской базилики Святого Петра IV века. (Грандиозный собор Святого Петра, возвышающийся сегодня в Риме, был воздвигнут уже после смерти Поджо.) В сумраке, создаваемом свечами, обрамленными золотом, хрусталем и самоцветами, перед глазами Поджо предстали бы кости святого Бонифация, убитого в 754 году фризами, когда он пытался обратить их в свою веру.
Возвратившись к солнечному свету и почувствовав, что наступил подходящий момент, Поджо перевел бы беседу в нужное русло. Он завел бы разговор о самом знаменитом деятеле Фульды, Рабане Мавре, служившем аббатом два десятилетия – с 822 до 842 года. Рабан Мавр был чрезвычайно плодовитым автором библейских комментариев, догматических трактатов, наставлений, научных сборников и изумительных поэм. Большинство его произведений Поджо мог бы увидеть в библиотеке Ватикана, в том числе и грандиозный труд, принесший Мавру известность: отупляющую своей эрудированностью и занудством энциклопедию человеческого знания в двадцати двух книгах. Она называлась «De rerum naturis» – «О природе вещей». Современники, пораженные масштабами исследования, дали ему другое название – «О Вселенной» (« On the Universe »).
Труды монаха, жившего в IX веке, отличались тяжелым и невыразительным стилем, скучным для Поджо и его коллег-гуманистов. Но Поджо не мог не признать величайшую образованность Рабана Мавра, великолепно знавшего и языческую и христианскую литературу и превратившего Фульду в ведущий монастырский академический центр Германии. Как и всякому учреждению, интересующемуся науками, аббатству Рабана Мавра были нужны книги, и ему удалось фантастически обогатить монастырскую библиотеку. Рабан в юности был учеником Алкуина, известного эрудита и поэта эпохи Карла Великого, и знал, где можно найти нужные манускрипты24. Он свозил книги в Фульду, где подготовил когорту писцов, которые их переписывали. И в итоге Рабан собрал уникальную коллекцию манускриптов.
Те времена, за шестьсот лет до рождения Поджо, были очень благоприятные для охотника за книгами. Уже относительно забылись годы, когда было небезопасно заглядывать в еще более далекое прошлое. Постепенное снижение интеллектуальной дисциплины в монастырях сопровождалось повышением любознательности. Что там веками хранится на пыльных полках? В далекой Фульде могли оказаться и потрепанные манускрипты, пережившие хаос и разрушения, сопутствовавшие падению Римской империи. Монахи Рабана, возможно, и почесывали за ухом, и вставляли пальцы в рот, копируя языческие книги, но эти копии могли сохраниться и только ждали появления Поджо.
На это и надеялся охотник за книгами, и, добравшись до Фульды или другого монастыря, он, наверное, испытывал необычайное волнение, когда главный библиотекарь привел его в большую сводчатую комнату и показал толстый фолиант, прикрепленный цепью к письменному столу. Это был каталог, и Поджо, перелистывая страницы, молча – следуя монастырскому правилу соблюдать тишину – указывал книги, которые хотел бы посмотреть.
Благоразумный Поджо должен был вначале попросить дать ему неизвестные произведения одного из великих Отцов Церкви – Тертуллиана. Затем, когда манускрипты стали один за другим появляться на столе, он с нарастающим возбуждением начал обнаруживать имена древних римских авторов, чьи книги не были известны ни ему, ни другим гуманистам. Хотя Поджо так и не раскрыл нам, куда именно прибыл, он громогласно объявил о своих находках. Так поступают все охотники, и не только за манускриптами.
Он раскрыл страницы эпической поэмы о войнах между Римом и Карфагеном – 14 тысяч строк. Поджо скорее всего знал имя автора – Силия Италика, хотя до этого момента никто еще не видел его произведений. Хитрый политик и коварный, бесцеремонный оратор в судах, Силий сумел пережить кровавые режимы Калигулы, Нерона и Домициана. Плиний Младший написал о нем с учтивой иронией: в старости он, «похвально используя досуг, смыл пятно, заслуженное напряженными усилиями, приложенными в прежние дни»25. Теперь Поджо и его друзьям предстояло насладиться одним из плодов досуга Италика.
Затем Поджо взял в руки другую пространную поэму – Манилия. Это имя охотнику за книгами не было известно, оно не упоминалось ни одним из знакомых ему древних авторов. Поджо сразу же увидел: перед ним ученый труд об астрономии. По стилю и различным авторским ремаркам он понял, что Манилий написал его в самом начале существования Римской империи – во время правления Августа и Тиберия.
Призраки из прошлого Древнего Рима чередой начали являться перед Поджо. Литературный критик, при Нероне писавший комментарии и глоссарии об античных авторах; еще один критик, обильно цитирующий утерянные эпические произведения, написанные в подражание Гомеру; грамматист, написавший трактат о произношении и орфографии – Поджо знал, что его друзья-латинисты во Флоренции будут в восторге от этой находки. Другой манускрипт непременно должен был привести Поджо в уныние: большой фрагмент до сего времени неизвестного исторического описания Римской империи, изложенного высокопоставленным офицером императорской армии Аммианом Марцеллином. Отсутствовали первые тринадцать из тридцати одной книги в манускрипте, который скопировал Поджо, и эти книги так никогда и не были найдены. Для Поджо это было особенно досадно, поскольку автор написал свой труд накануне краха империи. Вдумчивый, умный и беспристрастный историк предчувствовал неминуемый конец Рима. Описанные им налоговые поборы, обнищание значительной части населения, угрожающее падение морали в армии – все это создавало условия для катастрофы, которая и произошла спустя двадцать лет после его смерти, когда готы разграбили Рим.Любые книжные находки имели тогда историческое значение – после стольких лет забвения. Но, безусловно, одни из них затмевали другие, оказывавшиеся еще более древними. Таким был и манускрипт, написанный около 50 года до н. э. поэтом и философом Титом Лукрецием Каром. Название текста «De rerum natura» удивительно похоже на заглавие славной энциклопедии Рабана Мавра «De rerum naturis» : в переводе и то и другое означает «О природе вещей». Однако если труд монаха скучен и традиционен, то произведение Лукреция написано живо и провокационно.
Поджо наверняка знал имя Лукреция по произведениям Овидия, Цицерона и других античных авторов, которых он дотошно изучил вместе с друзьями-гуманистами. Но и ему, и другим исследователям попадались в лучшем случае отрывки из подлинного текста, который, как все считали, утрачен навсегда26.
Поджо в сгущающейся темноте библиотеки и под неусыпным надзором аббата или библиотекаря, возможно, успел прочесть лишь первые строки. Однако, как человек искушенный, он мог сразу же уловить необыкновенную прелесть латинской поэзии Лукреция. Поручив своему писцу скопировать текст, он задумался над тем, как вызволить его из монастыря. Трудно сказать, понимал ли он тогда, что эта книга произведет переворот в мире.
Глава 3 Папирусы Геркуланума
Поэма Лукреция читалась его современниками за тысячу четыреста пятьдесят лет до отъезда Поджо в экспедицию. Она была доступна читателям еще несколько столетий после публикации1. Поэма не исчезла бесследно. Итальянские гуманисты, искавшие утерянные древние манускрипты, обнаруживали для этого полезные свидетельства в трудах других авторов, чьи произведения сохранились. Поэма «О природе вещей» большое впечатление произвела на Цицерона, любимейшего латинского писателя Поджо. «Поэзия Лукреция, – отвечал великий оратор брату Квинту 11 февраля 54 года до н. э., – как и ты заметил, блистательно гениальная, а еще и высокохудожественная»2. Построение фразы и это несколько странное выражение «а еще» говорят о подлинном удивлении Цицерона. В поэме его поразило сочетание «блистательной гениальности» в философии и поэтического таланта. Эта комбинация была так же редка в те времена, как и сегодня.
Но не только Цицерон и его брат по достоинству оценили уникальную особенность творчества Лукреция – почти совершенную интеграцию интеллектуальной мысли и художественного мастерства. Величайшему римскому поэту Вергилию было пятнадцать лет, когда умер Лукреций. И он тоже увековечил в истории свое восторженное мнение о поэме. «Счастлив тот, кто сумел познать основы сущего, – писал Вергилий в «Георгиках», – поверг к ногам все страхи, неумолимый рок судьбы и алчный рокот Ахерона»3. Подразумевая автора поэмы «О природе вещей», поэт младшего поколения создает образ героя, побеждающего, несмотря на угрожающий рев подземного мира, суеверные страхи, лишающие человека силы духа. Вергилий не называет имени своего героя4, и Поджо, хотя, безусловно, и читал «Георгики», вряд ли уловил намек до того, как сам смог прочесть поэму. Еще менее вероятно то, что Поджо понял желание Вергилия создать альтернативу поэме «О природе вещей» своим собственным произведением «Энеида», противопоставляя благочестие скепсису Лукреция, воинствующий патриотизм – пацифизму, самоотречение – блаженству.
Скорее всего Поджо и другие итальянские гуманисты должны были обратить внимание на слова Овидия, которые непременно заставили бы любого охотника за манускриптами штудировать каталоги монастырских библиотек. А Овидий написал с энтузиазмом: «Стихам царственного Лукреция назначено умереть только тогда, когда суждено в один день погибнуть миру»5.
Тем более поразительно, что стихи Лукреция чуть ли не пропали навсегда – его поэма едва выжила – и практически ничего достоверного не известно о его личности. Многие великие поэты и философы Древнего Рима были знаменитостями своего времени, о них писали, говорили и распространяли слухи, и эти материалы впоследствии предоставляли широкое поле деятельности для охотников за манускриптами. Но Лукреций не оставил о себе почти никаких биографических следов. Поэт, видимо, вел очень замкнутый образ жизни и, похоже, кроме одной грандиозной поэмы, больше ничего не написал. Это произведение, сложное и трудное для восприятия, не входило в разряд популярных книг, распространявшихся многочисленными экземплярами, даже отдельные фрагменты которых гарантировали их выживание в Средневековье. Современные ученые, имея теперь на руках бесценный шедевр Лукреция, смогли определить средневековые свидетельства существования текста – цитаты, ссылки, упоминания в каталогах, – однако эта информация в основном была невидима для охотников за манускриптами начала XV столетия. Они блуждали в потемках, обнаруживали иногда какую-нибудь примету, но не могли найти ее источник. И через почти шесть веков кропотливого труда филологов, историков и археологов нам известно об авторе поэмы немногим более того, что знали о нем гуманисты.
Лукреции были древним и знатным римским родом, но, поскольку рабы, отпускавшиеся на волю, зачастую брали себе имя бывшего владельца, то вовсе не обязательно, что автор поэмы «О природе вещей» был аристократом. Тем не менее нельзя исключать и его аристократического происхождения по той простой причине, что он адресует поэму, в довольно фамильярной манере, аристократу Гаю Меммию. Это имя, возможно, встречалось Поджо при прочтении древних изданий, поскольку Меммий был довольно успешным политическим деятелем6, патроном известных литераторов, в том числе поэта Катулла, сочинителя любовной лирики, и сам считался в некотором роде поэтом (автором непристойных стихов, согласно Овидию). К тому же он был еще и оратором, как завистливо отмечал Цицерон, «утонченным и искусным». А что же все-таки могли знать о Лукреции Поджо и его сподвижники?
Ответ на этот вопрос, скорее всего, следует искать в кратком биографическом скетче, добавленном великим Отцом Церкви блаженным Иеронимом (ок. 340–430) в ранние хроники. Иероним писал: «В 94 году до н. э. родился Тит Лукреций, поэт. Выпив приворотное зелье, он сошел с ума, в промежутках между приступами безумия сочинил несколько книг, поправленных Цицероном, и наложил на себя руки в возрасте сорока четырех лет». Эта жуткая история формировала все последующие историко-литературные образы Лукреция, включая и поэтический портрет безумного философа, обуреваемого мыслями о самоубийстве и эротическими фантазиями, изображенного в викторианской поэме Теннисона7.
Современная историография предлагает скептически относиться к сведениям Иеронима. Они были зафиксированы – или вымышлены – через несколько столетий после смерти Лукреция христианским полемистом, противником языческих философов. Однако ни один благоверный христианин XV века не мог усомниться в подлинности утверждений святого, и Поджо, очевидно, считал, что найденная им поэма несет на себе отпечаток безумия и суицидальных наклонностей автора. Это нисколько не умаляло ее значимости для гуманиста, страстно увлеченного поиском утерянных древних текстов, написанных в том числе и теми, чья жизнь была воплощением нравственной смуты и смертных грехов. Тот факт, что поэму переработал сам Цицерон, снимал все его сомнения.
За минувшие после хроники Иеронима шестнадцать веков не появилось никаких новых биографических деталей, которые бы подтверждали или опровергали его историю об отравлении любовным зельем, сумасшествии и самоубийстве. О личности Лукреция нам известно немногим более того, что знал о нем Поджо, когда нашел поэму в 1417 году8. Ввиду необычайно высокой оценки Овидия – «поэзия царственного Лукреция» – и других свидетельств влияния, оказанного поэмой на человечество, остается лишь недоумевать по поводу того, что так мало было сказано о нем и его непосредственными, и относительно близкими современниками. Археологические находки помогут нам по крайней мере составить представление о том мире, в котором читалась его поэма «О природе вещей».
Интересующие нас открытия имеют прямое отношение к грандиозной катастрофе, потрясшей древних римлян. 24 августа 79 года взорвался вулкан Везувий, разрушивший не только Помпеи, но и небольшой приморский курорт Геркуланум у Неаполитанского залива. Это поселение с роскошными виллами, в которых отдыхали богатые римляне, заваленное двадцатиметровым слоем вулканических извержений, затвердевших до состояния бетона, пролежало в забвении до начала XVIII века, когда землекопы, рывшие колодец, неожиданно для себя наткнулись на мраморные статуи. Австрийский офицер – Неаполь тогда принадлежал Австрии – приказал пробивать штольни.
Раскопки продолжались и когда Неаполь перешел к Бурбонам. Их вели грубо, варварски, и они напоминали больше разбой, а не археологические исследования. Возглавлял их более десяти лет испанский армейский инженер Роке Хоакин де Алькубьерре, относившийся к месту гибели поселения как к ископаемой свалке, в которой захоронены несусветные богатства для поживы. («Этот человек9, – говорил его современник, возмущенный произволом, наносившим ущерб историческим ценностям, – знает об античности столько же, сколько раки о луне».) Землекопы искали в основном статуи, мрамор, самоцветы и другие знакомые им сокровища и беспорядочными грудами отправляли их своим хозяевам.
С 1750 года исследователи под руководством нового директора стали вести раскопки с большей рачительностью и осторожностью. Спустя три года, пробивая туннель через одну из вилл, они обнаружили нечто совершенно неожиданное: руины комнаты с мозаичным полом, наполненной многочисленными предметами, по описанию очевидца, «размером в пол-ладони, круглыми, похожими на корни дерева, почерневшими и почти одинаковыми»10. Вначале археологи решили, что нашли склад брикетов древесного угля, наподобие того, который они уже жгли в холодные утренние часы, чтобы согреться. Высказывалось и другое предположение: почерневшими фрагментами были сгоревшие рулоны одежды или рыболовецких сетей. Один из загадочных предметов упал на мозаичный пол и раскрылся. Внутри того, что исследователи сначала приняли за обуглившийся корень дерева, они увидели буквы, и им стало ясно: в этой комнате хранилась чья-то личная библиотека.
Книги древних римлян были меньше современных изданий. Их писали в основном на свитках папируса11 – высокого тростника, в изобилии росшего в болотистой дельте Нила в Нижнем Египте и давшего название более позднему писчему материалу – бумаге (paper). (Английское слово «volume» произошло от латинского понятия volumen , означавшего нечто свертываемое или закручиваемое.) Тростник собирали, стебли раскрывались, и из них нарезали тонкие полоски. Эти полоски затем раскладывались рядами с небольшим наложением одной на другую, поверх укладывался еще один слой под прямым углом к нижнему ряду, и полученный таким образом лист выравнивался деревянной колотушкой. Сок, выступавший из волокон, склеивал их, и отдельные листы уже соединялись в свиток. (Первый лист, на котором излагалось содержание свитка, назывался на греческом языке protokollon , «склеенный первым»: от него произошло современное понятие «протокол».) К одному или к обоим концам свитка прикреплялись деревянные палочки, слегка отступавшие от краев и позволявшие раскручивать текст при чтении. Читать книгу в древнем мире означало ее «раскручивать». Римляне называли такую палочку umbilicus (скалка), и прочитать книгу от корки до корки означало «раскрутить текст до скалки», то есть прочитать его до конца.
Поначалу белый и гибкий, папирус со временем обесцвечивался и становился ломким – ничто не вечно, – но он был очень удобен благодаря легкости и относительной дешевизне. Мелкие землевладельцы Египта давно поняли, что налоговые квитанции, написанные на клочках папируса, могут сохраняться годами и даже десятилетиями. Священники могли пользоваться этим материалом для запоминания слов, посредством которых обращаться с молитвами к Господу, поэты – претендовать на символическое бессмертие, а философы – на то, чтобы передавать свои идеи еще не родившимся ученикам. Римляне, а еще раньше греки, убедившись в необычайной пригодности папируса для письма, завозили его огромными партиями из Египта для удовлетворения растущих потребностей в составлении официальных документов, исторических хроник, личных посланий и в издании книг. К тому же папирус оказался долговечным: свиток мог сохраняться триста лет.
Отрытая в Геркулануме комната когда-то была обрамлена книжными полками, а в центре еще виднелись следы от большого прямоугольного книжного шкафа12. Повсюду чернели малопонятные обуглившиеся фрагменты, разваливавшиеся при малейшем прикосновении – это были стираемые вощеные таблички, на которых античные читатели делали свои заметки (наподобие популярных у современных детей магических планшетов). Полки были доверху наполнены папирусными свитками. Некоторые свитки, очевидно, самые ценные, были обернуты древесной корой и с каждого конца закрыты деревянными пластинами. В другой части виллы археологи нашли целый ворох свитков, спекшихся в один ком вулканического пепла, словно кто-то второпях упаковал их в деревянный ящик в тот страшный августовский день, пытаясь сохранить особенно ценные издания. Несмотря на то что многие рукописи люди превратили в прах, пока не поняли назначение своих находок, удалось спасти около 1100 книг.
Вулканические извержения уничтожили немало манускриптов, содержавшихся в особняке, получившем теперь название Виллы папирусов. Однако лава, пепел и газ, обуглившие и спекшие книги, уберегли их от дальнейшего разложения. Веками они фактически пребывали в саркофаге, лишенном воздуха. (Даже сегодня лишь небольшой участок виллы открыт для обозрения; остальная часть погребенного особняка все еще находится под землей.) Исследователи тем не менее были разочарованы: прочесть тексты обугленных свитков оказалось затруднительно. Когда их пытались развернуть, они распадались на куски.
Десятки, а может быть, и сотни рукописей погибли при попытках раскрыть обуглившиеся свитки. Когда все-таки удалось распечатать несколько свитков, обнаружилось, что ближе к середине спекшихся листов текст вполне различим для чтения. После двух лет бесплодных усилий проникнуть в тайны античных книг исследователи обратились за помощью к неаполитанскому священнику и эрудиту, служителю Ватиканской библиотеки Антонио Пьяджо. Святой отец начал с того, что аккуратно соскребал обуглившиеся слои до тех пор, пока не будут различимы буквы, и изобрел оригинальное устройство – машину, которая осторожно и медленно разворачивала обугленный папирусный свиток, открывая для исследователей гораздо больше читаемого текста, чем они ожидали когда-либо увидеть.
Дешифровщики, читавшие восстановленные листы, тщательно разглаженные и проклеенные, обнаружили, что библиотека виллы или по крайней мере та ее часть, которую отрыли, была очень специфичной: многие свитки содержали трактаты греческого философа Филодема. Исследователей это несколько разочаровало: они надеялись найти утерянные труды вроде произведений Софокла и Вергилия. Однако то, что они извлекли из забвения, помогло по-новому оценить открытие, сделанное ранее Поджо. Филодем, наставлявший своих учеников в Риме в 75–40 годах до н. э., был современником Лукреция и последователем той философской школы, которая представлена в поэме «О природе вещей».
Почему же труды малозначительного греческого философа хранились в библиотеке роскошной приморской виллы? И зачем вообще на курорте была нужна обширная библиотека? Конечно, Филодем, живший на доход от уроков и лекций, не был владельцем этой Виллы папирусов. Однако присутствие значительного количества его произведений указывает на определенное направление интересов хозяина виллы и истоки поэмы Лукреция. А эти истоки лежат в длительном процессе слияния греческой и римской культур.
Эти две культуры не всегда уживались и дружили. Долгое время римляне для греков были людьми жесткими, заорганизованными, одержимыми самосохранением и завоеваниями. К тому же они считали их варварами – «утонченными варварами», с точки зрения александрийского ученого Эратосфена, «грубыми и опасными», по мнению гораздо более многочисленных недоброжелателей. Когда независимые города-государства процветали, интеллектуалы-греки отыскивали в них сокрытые зерна знаний, как и у карфагенян и индусов, но ничего достойного внимания не находили в римской культуре.
Римляне ранней республики могли бы и согласиться с таким мнением. Рим традиционно настороженно относился к поэтам и философам. В древнем городе ценились добродетель и деловитость, а не цветастые слова, интеллектуальные дискуссии и книги13. Но когда римские легионы овладели Грецией, греческая культура, со своей стороны, начала овладевать умами завоевателей. Римляне, по-прежнему скептически относившиеся к изнеженным интеллектуалам и гордившиеся прагматизмом своего мышления, тем не менее с возрастающим интересом воспринимали достижения греческих философов, ученых, писателей и художников. Они высмеивали поведение греков, болтливость, склонность к философствованию и фатовство. Но честолюбивые римские семьи посылали сыновей на учебу в греческие философские школы, среди которых самой популярной была академия в Афинах, а греческие интеллектуалы, как Филодем, завозились в Рим, где им платили приличное жалованье за преподавание.
Уважающий себя римский аристократ никогда не признался бы в любви к эллинизму. Римлянин не стал бы хвастаться знанием греческого языка и греческого искусства. Тем не менее римские храмы, дворцы и общественные залы декорировались великолепными статуями, украденными в завоеванных городах материковой Греции и Пелопоннеса, а доблестные римские полководцы не стеснялись украшать свои виллы греческими вазами и скульптурами.
Камень и керамика могут засвидетельствовать, какое множество предметов искусства завезли римляне из Греции, но, конечно, главное влияние на их культуру оказывали книги. В полном соответствии с воинственным духом города первые большие собрания рукописей были трофейные. В 167 году до н. э. римский полководец Эмилий Павел разгромил царя Персея Македонского, положив конец династии, происходившей от Александра Великого и его отца Филиппа. Персея и его трех сыновей провели по улицам Рима прикованных цепями к триумфальной колеснице. Следуя традициям клептократии, Эмилий Павел привез в Рим бездну награбленного добра, выставив его в казначействе. Для себя и своих детей завоеватель приберег лишь один трофей – библиотеку побежденного монарха14. Жест символический. В нем проявились не только личные предпочтения состоятельного аристократа-полководца, но и заинтересованное отношение к греческим книгам и культуре.
Примеру Эмилия Павла последовали другие знатные римляне. В среде римской знати стало модным собирать большие библиотеки в городских домах и загородных виллах. (В ранние годы Древнего Рима не существовало книжных магазинов, книги добывались во время военных походов или приобретались у торговцев в Южной Италии и Сицилии, где греки уже основали такие города, как Неаполь, Таранто и Сиракузы.) У грамматиста Тиранниона имелась библиотека, в которой насчитывалось 30 тысяч томов; Серен Саммоник, врач и специалист по изгнанию болезней магической формулой «абракадабра», владел собранием из 60 тысяч книг. В Риме, можно сказать, началось повальное увлечение греческими книгами.
Лукреций уже жил в обществе, зараженном страстью к чтению и стремившемся расширить круг читающей публики. В 40 году до н. э., через пятнадцать лет после смерти Лукреция, в Риме появилась первая публичная библиотека, основанная Асинием Поллио, другом поэта Вергилия15. Идея, очевидно, принадлежит Юлию Цезарю, восхищавшемуся публичными библиотеками, которые он видел в Греции, Малой Азии и Египте, и решившему учредить нечто подобное и для римлян. Но Цезаря убили, прежде чем он смог осуществить свой замысел. Сделал это за него Поллио, воевавший с Цезарем против Помпея, а потом с Марком Антонием против Брута. Искусный полководец, хитроумный (или удачливый) в выборе союзников, Поллио был еще и разносторонним литератором. Все его произведения, кроме нескольких фрагментов речей, утеряны. Но известно, что он писал трагедии – не хуже Софокла, согласно Вергилию, – хроники, критические литературные эссе и был одним из первых римских авторов, читавшим свои опусы аудитории, состоявшей в основном из друзей.
Библиотека, основанная Поллио16, была построена на Авентинском холме и содержалась, как это было принято у римлян, на средства, приобретенные завоеваниями, в данном случае полученные от населения Адриатического побережья, оплошавшего, поддержав Брута против Антония. Вскоре император Август учредил еще две публичные библиотеки, делали это и последующие монархи. (К IV столетию в Риме действовало двадцать восемь публичных библиотек.) Планировка всех сооружений (ни одно из них не сохранилось) была одинаковой и такой же, какую мы видим в современных зданиях этого назначения. К большому читальному залу примыкали комнаты меньшего размера, в которых хранились собрания книг, уложенные в пронумерованные книжные шкафы. Читальный зал, прямоугольный или полукруглый, иногда с круглым открытым окном на крыше, украшался бюстами или статуями известных писателей – Гомера, Платона, Аристотеля, Эпикура – и других почитаемых исторических личностей. Изваяния служили, как и сегодня, напоминанием о плеяде великих людей, которых должен знать любой цивилизованный человек. Однако в Риме тех времен они имели и другое дополнительное важное предназначение, аналогичное маскам предков, которые римляне традиционно хранили дома и надевали в дни памяти. Иными словами, они воплощали души умерших гениев, с которыми можно было общаться, читая их книги.
Постепенно и другие города античности17 обретали свои публичные собрания книг, содержавшиеся налоговыми поступлениями или пожертвованиями меценатов. Греческие библиотеки не отличались благоустроенностью, римляне же повсеместно оборудовали свои читальни удобными стульями и столами18, за которыми сидели книголюбы, степенно развертывали свитки папируса, левой рукой скручивая прочитанные столбцы. По рекомендации талантливого архитектора Витрувия, одного из тех античных авторов, чьи произведения вызволил из забвения Поджо, библиотеки строились окнами на восток, чтобы в полной мере использовать утренние лучи солнца и уменьшить влажность воздуха, вредную для книг. Во время раскопок в Помпеях и других местах были найдены дощечки с именами меценатов, письменные принадлежности, столы, полки для папирусных свитков, пронумерованные шкафы, в которых хранились пергаментные рукописи, а затем кодексы, заменившие свитки, и даже граффити, намалеванные на стенах. Сходство античных библиотек с теми, которыми мы пользуемся сегодня, не случайно. Наше представление о библиотеке как общественном достоянии и ее общий дизайн проистекают из модели, созданной римлянами тысячи лет назад.
По всей огромной Римской империи – и на берегах Роны в Галлии, и возле рощи и храма Дафны в провинции Сирия, и на острове Кос у Родоса, и в Диррахии, нынешней Албании – цивилизованный человек в своем доме непременно должен был иметь комнату для чтения19. Свитки папирусов тщательно индексировались, маркировались (к ним прикреплялись бирки, называвшиеся по-гречески sillybos ) и хранились на полках или в кожаных корзинах. Читальни с бюстами греческих и латинских авторов устраивались даже в излюбленных римлянами банях – термах, чтобы они могли услаждать не только свое тело, но и душу. К I веку н. э. появились все признаки зарождения литературно-духовной культуры. Однажды на играх в Колизее20 историк Тацит в разговоре с человеком, ему абсолютно незнакомом, обнаружил, к своему удивлению, что собеседник читал его произведения. Литературная образованность уже не замыкалась узким кругом друзей и единомышленников. Тацит обрел свою «публику»: одним из ее представителей и был тот незнакомец, либо купивший его книгу на прилавке в Колизее, либо прочитавший ее в библиотеке. Массовое увлечение римской элиты книгами, передававшееся из поколения в поколение, и объясняет, почему на курортной вилле оказалась богатейшая библиотека.
В восьмидесятые годы ХХ столетия археологи в очередной раз возобновили раскопки погребенной виллы в надежде найти свидетельства, проливающие свет на жизненный уклад, отображенный в ее декоративно-художественном облике, воссозданном музеем Гетти на вилле Малибу в Калифорнии, где представлены многие статуи и другие предметы искусства из Геркуланума. Основная часть мраморных и бронзовых шедевров – изваяния богов и богинь, портретные бюсты философов, ораторов, поэтов и драматургов, фигуры грациозного юного атлета, кабана, хмельного сатира, спящего сатира, Пана и козы in flagrante delicto [6] – находится в национальном музее Неаполя.
Вначале археологи столкнулись с непредвиденными осложнениями: на удобренных вулканом почвах местные жители выращивали гвоздики, и собственники не желали, чтобы пострадал их бизнес. После длительных переговоров исследователям все-таки позволили спуститься в штольни и добраться до виллы по тоннелям, пробитым через подземные развалины. Им удалось составить самый точный за все время раскопок план виллы, измерить атриум, квадратный и прямоугольный перистили, другие сооружения, определить местонахождение мозаичного пола и необычной двойной колонны. По следам, оставшимся от виноградных лоз, они установили местоположение сада, в котором две тысячи лет назад хозяин виллы принимал своих просвещенных гостей.
Нам было бы трудно даже предположить, о чем могли говорить друзья долгими послеобеденными часами в саду с колоннами, если бы не уникальное открытие, сделанное тоже в восьмидесятых годах. Ученые вновь взяли в руки почерневшие папирусы, найденные в XVIII веке искателями сокровищ. Эти свитки, превратившиеся в затвердевшие комья, оказались самыми неподатливыми и пролежали в Национальной библиотеке Неаполя более двухсот лет. В 1987 году Томмазо Стараче, применив новую технику, раскрыл два папируса. Он наложил относительно разборчивые фрагменты из этих манускриптов, не читавшихся со времен извержения вулкана, на японскую бумагу, сделал микроснимки и попытался расшифровать текст. Не прошло и двух лет, как Кнут Клеве, норвежский папиролог (так стали называть специалистов по расшифровке папирусов), провозгласил: «В Геркулануме обнаружена поэма «De rerum natura» – через 235 лет после находки папируса»21.
В мире науки эта новость ажиотажа не вызвала, ее, можно сказать, проигнорировали. Даже ученые, интересующиеся античной культурой, практически не обратили никакого внимания на информацию, затерявшуюся в выпуске № 19 объемистого итальянского альманаха «Хроники Геркуланума». Клеве и его коллеги расшифровали всего лишь шестнадцать крохотных фрагментов – слов или их обрывков, – но их анализ показал, что они принадлежали книгам 1, 3, 4 и 5 большой латинской поэмы из шести книг. Отдельные кусочки огромного пазла фактически были бесполезны. Однако они ясно указывали на то, что в библиотеке Виллы папирусов имелась вся поэма «De rerum natura» , и этот факт не мог не будоражить воображение исследователя.
Находки в Геркулануме позволяют нам умозрительно представить образ жизни общества, в котором читалась поэма, найденная Поджо в средневековом монастыре. В монастырской библиотеке среди служебников, церковных наставлений и богословских трактатов произведение Лукреция было чуждым предметом, случайным реликтом. В Геркулануме оно было естественной принадлежностью. Содержание уцелевших свитков свидетельствует: обитателей виллы и их гостей интересовала именно та философская школа, которая отражена в поэме «De rerum natura».
В точности неизвестно, кто владел виллой во времена Лукреция. Наиболее вероятным ее хозяином считается Луций Кальпурий Пизон. Могущественный политик, служивший одно время правителем Македонии, тесть Юлия Цезаря, он был и знатоком греческой философии. Цицерон, его злейший политический противник, изображает Пизона распевающим скабрезные песенки и сидящим в ленивой позе и нагом виде «среди своих пьяных и вонючих греков»22. Если же судить по библиотеке, то хозяин виллы и его гости предавались куда более изысканным занятиям.
Известно, что Пизон водил дружбу с Филодемом. В эпиграмме, содержащейся в одной из его книг, обнаруженных в обуглившейся библиотеке, философ приглашает Пизона в свое скромное жилище отпраздновать «двадцатый день» – на ежемесячное торжество в честь Эпикура, родившегося в двадцатый день греческого месяца гамелиона:Завтра, друг Пизон23, твой товарищ по музам завлекает
тебя
В свою простецкую берлогу
В три часа пополудни,
Чтобы попотчевать тебя по случаю твоего ежегодного
визита на двадцатый день [7] .
Ты не увидишь сосков и бромийского [8] вина mis en
bouteilles в Хиосе,
Но встретишь верных друзей да еще послушаешь
Речи, более сладкие, чем на земле феаков.
Если ты обратишь свой взор на нас, Пизон, то
Скромное празднество на двадцатый день
Затмится еще более роскошным пиршеством.
В последних строках, похоже, содержится намек на получение денег или приглашения к философской беседе и застолью с дорогими винами на богатой вилле Пизона. У знатных мужчин и женщин (дамы вполне могли участвовать в разговорах), гостей Пизона, полулежавших на кушетках под шпалерами, увитыми виноградными лозами, или под шелковыми балдахинами, не было недостатка в темах для задушевных бесед. Рим уже много лет потрясали политические и социальные неурядицы, выливавшиеся в кровавые гражданские войны, и, хотя острота конфликтов поубавилась, угроза миру и стабильности сохранялась. Тщеславные полководцы мечтали о наградах, войска роптали, требуя вознаграждений деньгами и землями, в провинциях было неспокойно, из-за слухов о волнениях в Египте резко подскочили цены на зерно. Изнеженные и избалованные рабами, хозяин и его гости, наслаждаясь уютом и покоем в роскошной вилле, были относительно удалены от внешних угроз, по крайней мере достаточно далеки от них для того, чтобы позволить себе вести долгие интеллектуальные беседы. Поглядывая беззаботно на дым24, вырывавшийся из жерла находившегося по соседству Везувия, они, наверное, могли иногда задуматься над нависшей над ними опасностью. Но эти люди принадлежали к элите, они жили в самом центре величайшей державы мира, считали своей главной привилегией способность к размышлению и культивировали мыслительную деятельность.
Римляне поздней республики в особенности уверовали в свое умственное преимущество и полагались на него даже в обстоятельствах, при которых другой человек пугается и ищет спасения. Сам факт существования убеждал их в том, что в мире ничего не изменилось и они в полной безопасности, по крайней мере в глубинах своего сознания. Подобно человеку, услышавшему сирену тревоги на улице и садящемуся за «Бехштейн», чтобы сыграть сонату Бетховена, эти люди в саду Пизона обеспечивали себе ощущение безопасности, предаваясь теоретическим дискуссиям.
Однако философские беседы не были единственным средством ухода от стрессовой социальной действительности в годы, предшествовавшие убийству Юлия Цезаря. Религиозные культы, возникавшие в таких далеких местах, как Персия, Сирия и Палестина, проникали и в Рим, пробуждая у кого-то страхи, а у кого-то и новые надежды, особенно в среде плебеев. Лишь горстка элиты – в силу неустроенности или из простого любопытства – могла выслушивать пророчества, поступавшие с востока, – о Спасителе, появившемся на свет от малопонятных родителей, которому предстоят неимоверные страдания и непременный триумф. Большинство просвещенных людей посчитало бы такие россказни небылицами, распространяемыми сектой настырных евреев.
Человек, склонный к религиозности, скорее всего пошел бы в храмы или часовни, воздвигнутые богам и усеявшие благодатный для этого ландшафт. Как-никак это был мир, который, казалось, сама природа пропитала божествами – рассредоточив их на вершинах гор, в родниках, термальных источниках, извергавших пар из таинственных недр земли, в загадочных рощах, где паломники развешивали на ветках деревьев разноцветные лоскутки. Однако, хотя вилла в Геркулануме и находилась вблизи от этих мест, где бурлила религиозная жизнь, маловероятно, чтобы утонченные интеллектуалы были истыми богомольцами. Судя по содержанию обугленных папирусных свитков, обитатели виллы предпочитали богоугодным ритуалам беседы о смысле жизни.
Древние греки и римляне в отличие от нас не идеализировали гениев, трудящихся в одиночку и размышляющих над разрешением замысловатых проблем. Такие сюжеты – Декарт в уединении подвергает все сомнению, отлученный от церкви Спиноза рассуждает сам с собой и шлифует линзы – станут у нас господствующими символами умственной жизни. Но это представление о подлинном интеллектуальном занятии проистекает из фундаментальной смены жизненных ориентиров, начало которой положили ранние христианские отшельники, намеренно отказавшиеся от всего, что ценилось язычниками: святой Антоний (250–356), уединившийся в пустыне, и святой Симеон Стилит (390–459), угнездившийся на собственном каменном столбе. Эти энтузиасты, как доказали современные исследователи, имели последователей, и, ведя отшельнический образ жизни, они оказывали влияние на значительные сообщества людей. Как бы то ни было, вокруг них сформировался превалирующий культурный стереотип радикальной отрешенности и изолированности от мира.
У древних греков и римлян ничего этого не было. Конечно, мыслительный процесс требует тишины и сосредоточенности, и поэты и философы периодически удалялись от мирской суеты, но они всегда оставались людьми социальными. Поэты видели себя пастырями, философы предавались долгим беседам, продолжавшимся иногда несколько дней. Уход от повседневности не был затворничеством, а использовался для обмена мнениями с друзьями в саду.
Человек, писал Аристотель, общественное животное, значит, проявить свою человеческую сущность он может только в социальном действии. Таким действием для просвещенных римлян была дискуссия. Нередко они затрагивали животрепещущие религиозные проблемы, и мнения полемистов, как правило, не совпадали. Цицерон писал:
...
«Я часто наблюдал подобное25, и в особенности однажды, когда у друга моего Гая Котты состоялось очень обстоятельное и серьезное обсуждение этого вопроса – о бессмертных богах. Это было во время Латинских праздников. Я пришел к нему по его просьбе и приглашению и застал его сидящим в гостиной (exedra) и беседующим с сенатором Гаем Веллеем, которого в то время эпикурейцы ставили на первое место (среди своих). Там был также Квинт Луцилий Бальб, сделавший такие успехи в стоической философии, что его сравнивали с самыми знаменитыми греческими стоиками» [9] .
Цицерон не выражает свою точку зрения, в разговоре он вообще никак не выделяет себя и предоставляет собеседникам равные возможности для философской дуэли, в которой не должно быть победителя. Диалог, на изложение которого потребовалось бы несколько папирусных свитков, завершается характерной недомолвкой: «После сказанного мы разошлись26 с тем, что Веллею показалось бы более правильным суждение Котты, а мне – более похожим на истину мнение Бальба». Неопределенность заключения – не результат скромности Цицерона, он этим не отличался, а тактический прием, имевший целью показать свободу и открытость дискуссий. Важна непринужденность интеллектуального общения, а не завершенность выводов. Значим сам процесс беседы, дающий возможность порассуждать, проявить остроумие и эрудицию, осведомленность не в слухах и наветах, а во всех областях человеческого знания, и всегда оставляющий место для выражения альтернативных точек зрения. Цицерон учил: «Пусть наша беседа27… будет спокойна и полна уступчивости; пусть в ней будет приятность. И из нее, правда, нельзя исключать других людей, словно мы вступили во владение; нет, как и в других случаях, так и во всеобщей беседе надо находить вполне справедливым, чтобы каждый говорил в свою очередь» [10] .
В диалогах Цицерона и других античных авторов не воспроизводились подлинные беседы, хотя персонажи были реальные. Они создавали идеализированные версии дискуссий, которые, безусловно, велись в таких располагающих к разговору местах, как вилла в Геркулануме. Судя по обугленным остаткам манускриптов, найденным в погребенной вулканом библиотеке, древние интеллектуалы говорили о музыке, живописи, поэзии, ораторском искусстве и на другие извечные темы межчеловеческого речевого общения. Можно предположить, что они затрагивали и острые научные, этические и философские проблемы. Что вызывает гром, землетрясения и затмения Солнца? Происходят ли они по велению богов, как утверждают некоторые мудрецы, или причины их возникновения заключаются в самой природе? Как появился мир, в котором мы живем? К чему мы должны стремиться? Имеет ли смысл посвящать всю свою жизнь борьбе за власть? Что надо считать добром и злом? Что происходит с нами после смерти?
Желание знатного владельца виллы и его гостей обсуждать и пытаться найти ответы на умозрительные проблемы и уделять философским дискуссиям значительную часть времени дает нам представление о жизненном кредо просвещенных людей такого социального положения и статуса. Это обстоятельство в определенной мере характеризует и интеллектуальный или духовный уровень развития общества, в котором они жили, свойственный той эпохе, о которой французский романист Густав Флобер написал: «После того как исчезли боги, а Христос еще не явился, в истории образовался уникальный период – между Цицероном и Марком Аврелием, – когда человек остался наедине с собой». Конечно, к этому утверждению можно отнестись и скептически. Для многих римлян боги вовсе не исчезли – даже эпикурейцы, которых иногда зачисляли в разряд атеистов, считали, что боги существуют, хотя и удалились от проблем смертных. И «уникальный период», по хронологии Флобера, между Цицероном (106–43 до н. э.) и Марком Аврелием (121–180 н. э.) в действительности мог быть и длиннее и короче. Восприятие мира того времени красноречиво отражено в диалогах Цицерона и других произведениях, найденных в библиотеке Геркуланума. У многих читателей этих трудов отсутствовал фиксированный репертуар верований и обрядов, внушаемых тем, что называлось божественной волей. Эти мужчины и женщины не ощущали на себе диктата богов (или их священников). Предоставленные, по Флоберу, самим себе, они оказались в том положении, когда надо выбирать и между несходными взглядами на мироздание, и между разноречивыми стратегиями жизни.
Обугленные фрагменты манускриптов помогают нам понять, как обитатели виллы делали этот выбор, каких авторов они предпочитали читать, что обсуждать и кого приглашать на беседы. В данном случае особенно полезно открытие, сделанное норвежским папирологом. Лукреций был современником и Филодема, и его патрона, который, пригласив друзей на виллу у вулкана, мог зачитывать им отрывки из поэмы «О природе вещей». Богатый патрон, интересующийся философией, мог пожелать и лично встретиться с автором. Для него не составило бы никакого труда послать за Лукрецием рабов с носилками, которые бы доставили его в Геркуланум для участия в беседе. Не исключено, что тогда сам Лукреций читал бы гостям свою поэму, фрагменты которой обнаружены в отрытой археологами библиотеке.
Если Лукреций участвовал в беседах на вилле, то легко представить, о чем он мог говорить. Его суждения вполне явственны и не подвержены сомнениям, в отличие от скептической манеры Цицерона. Ответы на все вопросы, сказал бы он, можно найти в трудах человека, чей бюст и чьи произведения находятся в библиотеке – философа Эпикура.
Только Эпикур, писал Лукреций, способен исцелить от смятений человека, который, умирая от скуки дома, неистово ищет прибежище в загородном доме, где его душу тоже терзает тоска. Для Лукреция Эпикур, живший более чем за двести лет до него, был не кем иным, как спасителем. Когда «человеческая жизнь постыдно и униженно валялась в пыли, задавленная гнетом суеверий»28, писал Лукреций, поднялся великий и отважный человек и «первым осмелился бесстрашно восстать против них» (1.62ff) [11] .
Этим героем, совершенно не вписывавшимся в древнеримскую культуру, ценившую жесткость, прагматизм и воинскую доблесть, был грек, добившейся всего не силой оружия, а силой интеллекта.
Поэму «О природе вещей» написал ученик, аккумулировавший идеи, сформировавшиеся столетиями раньше. Эпикур, философский мессия Лукреция29, родился на исходе 342 года до н. э. на эгейском острове Самос, куда его отец, бедный школьный учитель, перебрался из Афин. Многие греческие философы, в том числе Платон и Аристотель, происходили из знатных семей и гордились своими славными корнями. Эпикур не мог сравниться с ними в этом отношении. Философские противники, кичась социальным превосходством, глумились над его заурядным происхождением. Он помогал отцу в школе за ничтожное вознаграждение, злословили недоброжелатели, ходил с матерью по домам и читал заклинания. Его брат-де был сводником и жил с гетерой. Для любого уважающего себя человека зазорно иметь дело с таким философом.
Лукреций и другие единомышленники охотно ассоциировали себя с Эпикуром. Более того, они чествовали его как бога, почитали его мудрость и интеллектуальное мужество. И это обожествление основывалось не на социальных критериях, а на целительной силе его учения. Краеугольным камнем этого учения была давняя и дерзкая идея: все, что существует и будет существовать потом, состоит из неразрушимых созидающих элементов, несократимо малых по размеру и непостижимо бесчисленных. Греки придумали название этим невидимым созидающим и неделимым элементам – атомы.
Понятие атомов, введенное в науку в V веке до н. э. Левкиппом из Абдеры и его даровитым учеником Демокритом, было всего лишь гипотетическим предположением: на эмпирическое доказательство их существования потребовалось более двух тысяч лет. Другие философы выдвигали свои теории: Вселенную формируют огонь, или вода, или воздух, или земля, или комбинация всех этих стихий. Некоторые предлагали: если можно помыслить о мельчайшей частице человека, то можно вообразить и крохотного человека бесконечно малой величины, а также и лошадь, и каплю воды, и лист травы. Еще одна теория утверждала: сложный порядок Вселенной – результат работы разума или духа, устроившего мир по определенному плану. Демокрит концепцией бесчисленного множества атомов, не имеющих иных свойств, кроме размера, очертаний и веса, и формирующих неистощимое разнообразие форм жизни и природы, предложил вариант решения проблемы, озадачивший лучшие умы своей эпохи.
Не одно поколение теоретиков пыталось осмыслить реальное значение такого подхода к организации мироздания. (Этот процесс еще далек от завершения.) Эпикур заинтересовался проблемой мироустройства в возрасте двенадцати лет, когда учителя не смогли объяснить ему, что такое хаос. Атомистическая доктрина Демокрита показалась ему многообещающей, и он увлекся ею, не задумываясь над тем, куда она его приведет. К тридцати двум годам он уже был готов к тому, чтобы основать свою школу. В афинском саду Эпикур и выстроил свою систему мироздания и сформулировал философию смысла жизни человека.
По теории Эпикура, атомы, находясь в непрестанном движении, сталкиваются друг с другом, образуя при определенных обстоятельствах тела все большего и большего размера. Самые крупные объекты, которые мы можем наблюдать, Солнце и Луна сотворены из атомов, как и человеческие существа, кувшинки в реке или песчинки. Не существует ни высших категорий материи, ни иерархии элементов. Небесные тела не наделены божественными свойствами, не оказывают на нашу судьбу никакого влияния, ни плохого, ни хорошего. И движутся они в пустоте не по команде богов, поскольку являются обыкновенными компонентами естественного мирового устройства, огромными скоплениями атомов, подчиняющимися тем же законам созидания и разрушения, которые управляют всем, что существует в природе. Естественный миропорядок непостижимо велик и многосложен, но вполне реально понять его базовые конструктивные элементы и универсальные законы. Их постижение и является одним из самых величайших наслаждений в жизни человека.
Концепция именно такого удовольствия и дает ключ к пониманию притягательной силы философии Эпикура30: он открыл для своих последователей неиссякаемый источник услады, сокрытый в атомах Демокрита. Нам теперь трудно оценить истинную значимость такого рода удовольствия. Оно имеет слишком интеллектуальный характер и доступно узкому кругу энтузиастов. Для нас сегодня атомы ассоциируются в большей мере с угрозами для жизни. Тем не менее, хотя античная философия не имела массового читателя, Эпикур дал человечеству нечто большее, чем термин для физиков-ядерщиков. Эпикур чурался келейного, особого языка адептов, предпочитая пользоваться простыми выражениями и обращаться к широкой аудитории, чтобы привлечь к себе и рядовых приверженцев. Учеба, которую он предлагал, не требовала специальных научных знаний. Не надо было разбираться в физических законах Вселенной. Достаточно было простого понимания того факта, что существуют объяснения всему, что тревожит и смущает человека. Эти объяснения таятся в атомах. Если повторять себе неустанно: атомы и пустота, и ничего больше, атомы и пустота, и ничего больше, атомы и пустота, и ничего больше, – то вся жизнь переменится. Не придется больше бояться гнева Юпитера, когда загрохочет гром, или подозревать, что кто-то обидел Аполлона и поэтому разразилась вспышка эпидемии гриппа. И вас не будет больше посещать наводящая ужас печаль, как говорил Гамлет, тот «страх чего-то после смерти», тот «безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам» [12] .
Перспектива наказания в загробном мире больше не пугает большинство современных мужчин и женщин, но она страшила афинян Эпикура и римлян Лукреция, как и христиан Поджо. Безусловно, Поджо видел назидательные изображения таких ужасов на тимпанах над дверями церквей или на внутренних стенах. Эти картины загробной жизни были плодом воображения язычников. Конечно, не все верили в эти страшилки и в языческую, и в христианскую эру. «Разве тебя не ужасает преисподняя с трехголовым Цербером, черной рекой и ужасными мучениями?» – спрашивал собеседника один из персонажей диалогов Цицерона. «Не думаешь ли ты, что я настолько выжил из ума, чтобы верить в эти басни?»31 – отвечал компаньон. Страшиться смерти – это не то же самое, что бояться участи Сизифа и Тантала. «Найдется ли хоть одна безумная старуха», которая пугалась бы таких жутких историй? [13] Человека ужасают страдания, умирание, и мне трудно понять32, писал Цицерон, почему эпикурейцы думали, будто предложили ему спасительное средство. Сказать о том, что ты умрешь весь и навсегда, и телом и душой, слабое утешение.
Последователи Эпикура ответили напоминанием о последних днях своего учителя, умиравшего от мучительной болезни – закупорки мочевого пузыря – и сохранявшего душевный покой и ясность ума воспоминаниями о пережитых удовольствиях. Эта модель предсмертного поведения вряд ли доступна любому и каждому. «Разве, думая о льдах Кавказа, ты можешь руку положить в огонь? – вопрошал один из персонажей Шекспира. – И разве утолишь ты жгучий голод, воображая пиршественный стол?» [14] Но вряд ли в те времена, когда не было ни демерола, ни морфина, имелись и какие-либо иные эффективные методы, облегчающие агонию. Средство, предложенное греческим философом, оказывало помощь не в умирании, а в жизни. По Эпикуру, суеверия мешали человеку предаваться удовольствиям. Освободившись от суеверий, он мог наслаждаться жизнью.
Недоброжелатели, утрируя восхваление Эпикуром удовольствий, распространяли всякого рода злостные истории о беспутстве философа. Этому способствовало то, что среди его последователей были не только мужчины, но и женщины. «От переедания его рвет два раза в день33, – утверждалось в одной из таких историй, – и он потратил состояние на пиршества». В действительности философ, очевидно, вел простой и скромный образ жизни. «Пришли мне горшок сыра, – писал он другу, – чтобы я мог, когда захочется, побаловать себя». Не похоже, чтобы его стол ломился от яств. К умеренности он призывал и своих учеников. Над воротами его школы в саду Афин была начертана надпись: «Гость, тебе будет здесь хорошо, здесь удовольствие – высшее благо». Однако, по свидетельству Сенеки, процитировавшего эти слова, гостя потчевали бы жидкой овсяной кашицей с хлебом34. Эпикур писал: «Когда мы говорим, что наслаждение есть конечная цель, то мы разумеем отнюдь не наслаждения мотовства или чувственности…»35.
По Эпикуру, «не бесконечные попойки и праздники, не наслаждения мальчиками и женщинами или рыбным столом и прочими радостями роскошного пира» дают покой душе, в чем и заключается главный смысл удовольствия, а «только трезвое рассуждение, исследующее причины всякого нашего предпочтения и избегания и изгоняющее мнения, поселяющие» в нас великую тревогу [15] .
«Человек наносит себе самый большой вред ради самых чуждых ему желаний», – писал эпикуреец Филодем в одной из книг, найденных в библиотеке Геркуланума36. – Он пренебрегает самыми необходимыми ему желаниями, словно они чужды его природе». Какие же эти надобные человеку желания, приносящие удовольствие? Невозможно получать удовольствие от жизни, считал Филодем, не живя «разумно, благородно и праведно, без друзей, не проявляя мужества, воздержанности, великодушия и благотворительности».
Эти слова, обнаруженные уже в нашу эпоху на обугленном папирусе, принадлежат подлинному последователю Эпикура. Они явно расходятся с общепринятым мнением о том, что получило название «эпикуреизма». Бен Джонсон, современник Шекспира, в сатирической комедии дал типичный образ эпикурейца, не менявшийся столетиями:Я воздухом велю надуть перины —
Пух слишком тверд37.
Еду себе велю я подавать
В индийских раковинах и на блюдах
Агатовых в оправе золотой,
С узором из сапфиров, изумрудов,
Рубинов…
Питанье грума моего составят
Лосось, фазан, миноги, куропатки,
Мне ж станут подавать взамен салатов
Бородки усача; грибочки в масле
Иль срезанные только что сосцы
Заплывшей жиром супоросой свинки
С изысканною острою приправой.
Я повару скажу: «Вот деньги! Трать
И получай сан рыцаря» [16] .
Со значением Джонсон назвал и своего героя – сэр Эпикур Маммон, дворянин.
Философское утверждение, будто смысл жизни человека заключается в получении удовольствий, даже с проявлением умеренности и ответственности, звучал скандально и для язычников, и для их антагонистов, иудеев, а позднее христиан. Удовольствие – высшее благо? А как же быть с почитанием богов и предков? Со служением семье, городу, государству? Соблюдением законов и Божьих заповедей? Кто должен печься о добродетели и Божьем промысле? Все это должно уступить место удовольствиям как высшему благу. И через две тысячи лет стереотип одиозности философской этики Эпикура был настолько живуч, что побудил английского драматурга спародировать его в комедии.
В карикатурном представлении учения Эпикура отражались опасения, что идеализация удовольствия в качестве обезболивающего средства может породить притягательные рациональные ориентиры и принципы в жизни человека. Если это случится, то может рухнуть весь освященный веками кодекс норм человеческого поведения – готовность к самопожертвованию, стремление к успеху, уважение социального статуса, дисциплина, благочестие, а вместе с ними потерпят фиаско и институты, чьим интересам служат эти правила. Гротескное изображение эпикурейской жажды удовольствий – в пристрастии к деньгам, власти, сексуальным утехам или, как у Бена Джонсона, к экзотической и дорогой снеди, и должно было отвратить угрозу смены поведенческих установок.
Реальный Эпикур, довольствуясь сыром и хлебом, вел тихий и неприхотливый образ жизни. Его даже винили в излишней неприметности и успокоенности. Эпикур наставлял своих учеников не позволять себе чересчур вовлекаться в государственные дела. «Некоторые хотят стать знаменитыми и быть на виду38, – писал он, – надеясь этим приобрести безопасность от людей» [17] . Если слава и известность действительно обеспечили им безопасность, то они достигли «естественного блага». Если же слава лишь усилила их небезопасность, как это чаще всего и случается, то такое достижение ничего не стоит. С подобной позиции, указывали критики Эпикура, для большинства людей теряет смысл любая деятельность, ведущая к обретению известности.
Критика эпикурейской неприхотливости и неприметности наверняка звучала в саду Геркуланума: среди гостей Виллы папирусов могли быть и люди, стремившиеся приобрести славу и известность в величайшем городе западного мира. Возможно, тестя Юлия Цезаря – если вилла действительно принадлежала Пизону – и его друзей и притягивала философская школа Эпикура, поскольку отвлекала от нудной рутины государственных забот. Римские легионы успешно громили своих врагов, но и без особых провидческих способностей можно было заметить зловещие признаки краха республики. Кроме того, никто, даже самые устроенные и благополучные люди не могли отвернуться от одного очевидного обстоятельства, отмеченного Эпикуром: «От многого можно уберечься. Когда дело доходит до смерти, то все мы живем в городе без предохраняющих стен»39. Главное в таком случае, как написал верный последователь Эпикура Лукреций, не терять время на тщетные попытки воздвигать все более высокие стены, а предаваться удовольствиям.Глава 4 «Зубы времени»
Помимо обугленных папирусных комьев, извлеченных в Геркулануме, и отдельных фрагментов, найденных в холмах древнеегипетского города Оксиринх, не сохранилось манускриптов времен античной Греции и Рима. И все, что до нас дошло, является копиями, далеко не всегда соответствующими эпохе, месту и историко-культурным особенностям, отраженным в подлинниках. К тому же эти копии представляют лишь мизерную часть произведений, созданных античными авторами. Из восьмидесяти или девяноста пьес Эсхила и около ста двадцати работ Софокла сохранилось лишь по семь произведений каждого автора. Несколько лучше выглядит статистика у Еврипида и Аристофана. До нас дошли восемнадцать из девяноста двух пьес Еврипида и одиннадцать из сорока трех – Аристофана.
Приведенные данные – рекордные. Практически все произведения других авторов, славившиеся в античное время, исчезли бесследно. Древние ученые, историки, математики, философы, государственные деятели оставили нам немало полезных идей – тригонометрию, например, расчет координат по долготе и широте, рациональный анализ политической власти, – но их книги пропали навсегда. Неутомимого труженика науки Дидима Александрийского прозвали «бронзовой задницей» (или «бронзовой кишкой») за то, что он написал более 3500 книг, не считая отдельных фрагментов1. Все его труды не сохранились. В конце V столетия нашей эры амбициозный литератор Стобей составил антологию прозы и поэзии самых известных авторов античного мира: в ней содержалось 1430 выдержек, 1115 взяты из произведений, которые теперь считаются утраченными2.
История не сберегла для нас произведения основоположников атомизма Левкиппа и Демокрита и большинство творений их интеллектуального наследника Эпикура, а он был необычайно плодовит. По некоторым данным, Эпикур и его философский оппонент-стоик и соперник Хрисипп написали более тысячи книг. Итог интеллектуального труда античного автора грандиозен, даже если в него включены работы, которые мы считаем эссе и максимами. Вся эта огромная масса свитков пропала. До нас дошли только три послания, изложенные древним историком философии Диогеном Лаэртским, и перечень сорока максим. Уже в наше время, начиная с XIX столетия, ученым удалось дополнить наследие Эпикура некоторыми новыми фрагментами, обнаруженными на обугленных папирусных свитках в Геркулануме и в развалинах древней стены города Эноанды в горах юго-западной Турции. На этой стене приверженец эпикурейской философии в начале II столетия3 высек в камне «гимн радостям жизни» [18] . А куда подевались книги?
Манускрипты погубило в основном время, которому помогали перепады температур и насекомые-паразиты. Хотя и папирус и пергамент были относительно долговечным материалом (они сохранялись гораздо дольше, чем современная дешевая бумага или электронные базы данных), книги рано или поздно приходили в негодность, если даже они избежали пожаров и наводнений. Чернила делались из смеси сажи (от сгоревших фитилей), воды и древесной смолы: средство недорогое, доступное, но и нестойкое. (Писец, допустивший ошибку, мог легко стереть ее губкой, смоченной в воде.) Всегда можно было испортить текст, пролив на него вино или оставив книгу под дождем. Манускрипты постепенно разрушались при скатывании и раскатывании свитков, перелистывании кодексов, от воздействия рук, неосторожного обращения, чихания, пламени свечей – то есть в самом процессе их прочитывания.
Вряд ли могли уберечь книги от порчи и запреты на пользование ими. Тогда они становились объектами далеко не интеллектуального интереса. Еще Аристотель обратил внимание на крошечных живых существ, которые заводятся в одежде, шерстяных одеялах и даже в сливочном сыре. «Их можно обнаружить также в книгах, – писал он. – Некоторые похожи на тех, что гнездятся в одежде, другие – как бесхвостые скорпионы, но очень и очень маленькие»4. Почти через две тысячи лет естествоиспытатель Роберт Гук в «Микрографии» (1655) с восторгом описывал этих существ, увиденных крупным планом в изобретенный им же микроскоп:
...
«Крохотный серебристо-белый червячок или моль, встречающиеся обыкновенно в книгах и бумагах и проедающие дыры в листах и обложках. Голова большая и тупорылая, тельце сужается к хвосту, становясь все меньше и меньше, наподобие морковки… Спереди у него два длинных рожка, прямых и сужающихся кверху и покрытых странными кольцами или буграми… Задняя часть заканчивается тремя хвостиками, похожими на два длинных рожка на голове. Ножки чешуйчатые и покрыты волосками. Это животное, похоже, кормится бумагой и обложками книг, проедая в них маленькие круглые отверстия»5.
Книжные черви – эти «зубы времени», как назвал их Гук, известны современному человеку больше в качестве иронического прозвища библиофила, ученого, «умника». Античному читателю они были знакомы в натуральном виде. Римский поэт Овидий, находясь в изгнании, сравнивал «непрестанные терзания» в душе6 с тем, как «грызет отложенную книгу червь» [19] . Его соотечественник Гораций грустно предрекал, что его книга неизбежно станет «кормом7 для лютой моли» [20] . А для греческого поэта Эвена книжный червь был символом злотворного врага культуры: «Пожиратель книг, заклятый недруг муз, убивец скрытый, кормящийся плодами знаний, зачем ты, черный червь, залег средь слов заветных? Иль позавидовал?»8 Принимались различные предохранительные меры, например, страницы опрыскивались кедровым маслом. Но самым эффективным оставался один и тот же способ защиты книг от вредителей: их регулярное чтение. А когда они становились непригодными, создавались копии.
Хотя торговля книгами в античное время сводилась в основном к их копированию, очень мало сведений сохранилось о характере этого бизнеса. Писцы трудились и в Афинах, и в других городах Греции и эллинстического мира, но практически ничего не известно о том, получали ли они подготовку в специальных школах, обучались ли у мастеров или осваивали профессию самостоятельно. Ясно, что щедро оплачивалась восхитительная каллиграфия. Размер оплаты определялся количеством переписанных строк (в конце некоторых уцелевших манускриптов обнаружены пометки с указанием объема выполненной работы). В любом случае деньги вряд ли поступали к непосредственному исполнителю. Многие, а возможно, и большинство греческих копиистов были рабами9, переписывавшими книги для издателя, владельца или нанимателя. (В инвентарной описи имущества богатого римского гражданина, обладавшего поместьем в Египте, в числе пятидесяти девяти рабов указаны, помимо повара и парикмахера, пять нотариусов, два личных секретаря, один писец и книжный реставратор.) Трудно сказать, как работали писцы – группами под диктовку или поодиночке, копируя собственный экземпляр. А если еще был жив автор, то мы не знаем, привлекался ли он к вычитыванию и правке текста.
Нам больше известно о книжной торговле у римлян. В Древнем Риме существовало четкое разделение между копиистами ( librari ) и писцами ( scribae ). Копиистами были рабы или нанятые книготорговцем переписчики. Книготорговцы расклеивали объявления на колоннах и продавали свой товар в лавках, размещенных в римском Форуме. Писцами были свободные граждане, служившие архивистами, чиновниками и личными секретарями. (Юлий Цезарь имел семь писцов, которые повсюду его сопровождали.) Состоятельные римляне нанимали (или использовали своих рабов) личных библиотекарей и клерков, копировавших книги, заимствованные в библиотеках или у друзей. «Я получил книгу, – сообщал Цицерон другу Аттику, пославшему ему копию географического труда, составленного в стихах Александром Эфесским. – Как поэт он совершенно бездарен и ничего не знает; но какая-то польза от него будет. Я сделаю копию и книгу верну»10.
Авторы ничего не получали от продажи своих книг; их доход зависел от щедрот богатых патронов, кому посвящались произведения. (Эта традиция – откровенно льстивых посвящений – кажется нам очень странной и неприятной, но она отличалась необычайной живучестью, сохранившись вплоть до изобретения авторского права в XVIII столетии.) Издателям приходилось мириться с практикой копирования книг среди друзей11; тем не менее, похоже, книжный бизнес был прибыльный. Книжные лавки имелись не только в Риме, но и в Бриндизи, Карфагене, Лионе, Реймсе и во многих других городах империи.
Огромная армия мужчин и женщин – есть свидетельства, что и женщины были копиистами – всю свою жизнь посвящали тому, чтобы корпеть над папирусами и пергаментом с линейками и тростниковыми перьями в руках12. Изобретение наборного шрифта кардинально изменило весь производственный процесс13, но и в древнем мире книга не была редкостью: многоопытная бригада писцов под диктовку многоопытного раба-чтеца могла изготовить немало копий14. За столетия были изданы десятки тысяч книг, разошедшиеся сотнями тысяч экземпляров.
Очевидно, со временем наступил период – довольно длительный – перенасыщения книгами. Возникали знакомые нам проблемы. Где их хранить? Как разместить их на переполненных полках? Как удержать в голове нахлынувшую лавину знаний?
Затем, не сразу, а по мере нарастания кумулятивной массы уничтожения, книжное производство стало замирать. Первыми заметили это писцы: они все чаще и чаще оставались не у дел. Копирование книг в основном прекратилось. Дожди, пробиваясь через дыры в обветшавших крышах, размывали тексты в книгах, избежавших огня пожаров, черви, эти «зубы времени», превращали в труху то, что еще уцелело. Но не они были самыми главными агентами великой культурной депрессии. В исчезновении книг сыграли свою роль и другие силы, уничтожавшие не только манускрипты, но и книжные полки. Удивительно, что Поджо и его коллегам удалось найти хоть какие-то крохи.
Судьбу всего книжного наследия Древнего мира наглядно иллюстрирует участь, постигшая величайшую библиотеку античных времен, располагавшуюся не в Италии, а в Александрии15, столице Египта и торговом узловом городе Восточного Средиземноморья. Здесь было много достопримечательностей, например, великолепный театр и притягательный квартал публичных домов. Но славилась Александрия прежде всего Мусейоном, святилищем науки и культуры, находившимся в самом центре города: в нем ценой огромных материальных и духовных затрат были собраны основные интеллектуальные достижения греческой, латинской, вавилонской, египетской и иудейской культур. Его основали в начале III века до н. э. первые цари Птоломеи, правившие в Александрии и заманивавшие к себе ведущих ученых, писателей и поэтов, предлагая им пожизненное трудоустройство при Мусейоне, приличное жалованье, бесплатное питание и проживание, неограниченное пользование ресурсами научного центра и библиотеки.
Действительно, ученые, приобщившие к этим благам, творили чудеса. Евклид написал «Начала» геометрии; Архимед открыл число «пи» и заложил основы счисления; Эратосфен заключил, что Земля круглая, и определил ее окружность с погрешностью в один процент; Гален революционизировал медицину [21] . Александрийские астрономы выдвинули гипотезу о гелиоцентризме Вселенной; геометры предложили считать, что год состоит из 365 с четвертью дней, и добавлять к каждому четвертому году «скачущий день» (29 февраля). Географы высказали догадку о том, что в Индию можно доплыть, отправившись из Испании на запад. Инженеры разработали гидравлику и пневматику. Анатомы впервые четко установили единство мозга и нервной системы, изучили функциональность сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, доказали важность рационального питания. Успехи были поистине феноменальные.
Александрийская библиотека не придерживалась какой-либо определенной доктрины или философской школы. Она отражала весь спектр человеческого познания, аккумулируя интеллектуальные достижения всего мира16. Здесь не просто накапливали книги, а собирали, восстанавливали и хранили наиболее авторитетные, выверенные и полные издания. Хорошо известно ревностное отношение александрийских филологов к текстологической чистоте манускриптов. Каких трудов стоило выявить и исправить искажения, допущенные во время многократного переписывания копий, чем занимались в основном рабы! Филологами библиотеки были разработаны методы критического прочтения, сравнительного анализа и литературного комментирования, имевшие целью максимально воссоздать подлинник. Познавательные интересы александрийских ученых не ограничивались пределами мира, говорившего по-гречески. По указанию александрийского правителя Птоломея Филадельфа был предпринят грандиозный и дорогостоящий проект перевода древнееврейской Библии на греческий язык, который осуществили семьдесят два книжника [22] . В результате на свет появилась Септуагинта (от латинского обозначения числа семьдесят), для ранних христиан долгое время обеспечивавшая доступ к тексту того, что они стали называть Ветхим Заветом.
В лучшие времена книжный фонд Мусейона насчитывал по меньшей мере полмиллиона папирусных свитков, классифицированных, систематизированных, маркированных и разложенных по полкам в соответствии с алфавитной системой, введенной первым директором библиотеки, гомеровским критиком Зенодотом. Библиотека имела и свой филиал, располагавшийся в Серапейоне (Серапиуме), храме, воздвигнутом божеству эллинистического Египта Серапису. Это архитектурное чудо эпохи, украшенное «будто живыми статуями» и многими другими выдающимися произведениями искусства, с лекционными залами и живописными двориками, можно было сравнить, по словам Аммиана Марцеллина, историка IV века, открытого Поджо, лишь с Капитолием в Риме17.
Силы, уничтожившие эту цитадель античного творчества, повинны и в том, что от философской школы, о которой когда-то были написаны тысячи книг, практически ничего не осталось, кроме манускрипта Лукреция, найденного в 1417 году. Первый удар был нанесен войной18. Часть библиотечных фондов – возможно, только лишь свитки, хранившиеся на складах в гавани, сгорела в 48 году до н. э., когда Юлий Цезарь сжег египетский флот, сражаясь за Александрию. Однако угрозу литературному достоянию древности несли не только военные конфликты. Она таилась и в самом храмовом комплексе, богато декорированном статуями богов и богинь, алтарями и другими атрибутами языческого идолопоклонства. Мусейон, как свидетельствует его название, посвящался музам, девяти богиням, покровительствовавшим различным человеческим творческим способностям. Серапейон, где находилось второе книжное собрание, был святилищем божества Сераписа: там стояла огромная статуя идола, выполненная из золота и слоновой кости знаменитым греческим скульптором Бриаксисом и совмещавшая культы римского Юпитера и греческих богов Осириса и Аписа.
Евреев и христиан, во множестве населявших Александрию, этот политеизм начинал все больше и больше раздражать. Они не подвергали сомнению существование других богов, но эти боги для них были все без исключения демонами, злостно сбивавшими человека с единственно верного жизненного пути. Все откровения и молитвы, содержавшиеся в нагромождениях папирусных свитков, – не что иное, как ложь. Спасение дает только Священное Писание, которое христиане предпочитали читать в новом формате – не в старомодных свитках (прежде привычных и для язычников, и для иудеев), а в более компактных и удобных кодексах.
Многовековое мирное сосуществование трех верований и религиозного плюрализма язычества заканчивалось. На заре IV столетия император Константин инициировал процесс превращения христианства в официальную религию Рима. А на исходе века его преемник Феодосий Великий приступил к изданию эдиктов, запрещавших публичное жертвоприношение и закрывавших культовые храмы19. Началась эра государственного искоренения язычества.
Духовный вождь христиан в Александрии патриарх Феофил исполнял императорский указ с особым ожесточением, мстя идолопоклонникам. Улицы города заполнили подговоренные им толпы фанатичных христиан, оскорблявших и глумившихся над язычниками. Между двумя общинами разгорался конфликт. Для большого пожара не хватало только воспламеняющей искры, которая вскоре и вспыхнула. Рабочие, обновлявшие христианскую базилику, обнаружили подземное святилище, в котором все еще хранились языческие культовые ценности (такое святилище, культовое сооружение для поклонения Митре – митреум или митрейон, – можно увидеть и сегодня под церковью Святого Климента в Риме). Патриарх Феофил приказал пронести культовые предметы идолопоклонства по улицам для осмеяния символов языческих «мистерий».
Приверженцы языческих культов возмутились, как отметил их христианский современник, «будто напившись дьявольского зелья»20. Язычники напали на христиан, а потом заперлись в Серапейоне. Не менее разъяренные христиане, вооружившись топорами и молотами, ворвались в храм и расколошматили знаменитую статую Сераписа, сделанную из ценнейшего мрамора, слоновой кости и золота. Отдельные ее фрагменты были унесены в разные районы города для уничтожения, а обезглавленное и обезноженное туловище христиане приволокли в театр для публичного сожжения. Феофил приказал поселиться в храме монахам, а его сооружения превратить в церкви. Там, где стояла статуя Сераписа, христиане-триумфаторы соорудят впоследствии святилища с драгоценными останками пророка Илии и Иоанна Крестителя.
После разгрома Серапейона языческий поэт Паллад написал с горечью:Не правда ли, что мы мертвы
И только кажется, что живы
Эллины, павшие от бед,
А наша жизнь всего лишь сон,
Она закончилась, ее уж нет [23] .21
Для поэта Паллада разрушение храма означало больше, чем утрату культового символа. Неизвестно, коснулся ли погром библиотеки. Но мы знаем, что и библиотеки, и музеи, и школы всегда меньше всего защищены от насилия. В любом случае языческая жизнь действительно заканчивалась.
Спустя несколько лет Кирилл, преемник Феофила на посту патриарха христиан и его племянник, расширил масштабы репрессий, направив свой праведный гнев и против иудеев. Свирепые стычки завязывались в театре, на улицах, у храмов и синагог. Иудеи бросали камни в христиан, а те нападали и грабили еврейские лавки и дома. Приободренный прибытием из пустыни пятисот монахов, присоединившихся к уже внушительным толпам христиан, Кирилл потребовал изгнать евреев из города. Правитель Александрии Орест, умеренный поборник христианства, отказался это сделать, и его поддержала языческая интеллектуальная элита города, среди которой особым авторитетом пользовалась женщина-ученый Гипатия [24] .
Она была дочерью математика, одного из выдающихся мыслителей Александрийской школы при Мусейоне. Необыкновенно красивая молодая женщина приобрела известность своими познаниями в астрономии, математике, философии и музыке. Студенты из самых дальних мест приезжали изучать под ее руководством труды Платона и Аристотеля. Она была настолько авторитетной в мире науки, что к ней за советом обращались другие ученые. «Если вы решите, что мне следует опубликовать свой труд, – писал ей один философ, – то я посвящу его всем ораторам и философам. Если же вы сочтете его непригодным, то его поглотит кромешная тьма, и человечество не услышит о нем больше ни единого слова»22.
Гипатия в традиционной философской мантии разъезжала по городу в колеснице и была самой приметной личностью в Александрии. Женщины в античные времена обыкновенно вели замкнутый образ жизни, но глава школы платонизма явно не относилась к числу затворниц. «Таковы были ее чувство собственного достоинства и простота манер, – писал современник, – что она нередко появлялась на публике в присутствии магистратов»23. Приближенность к правящей элите вовсе не означала, что Гипатия активно занималась политикой. Когда кампания насилия над культовыми символами только начиналась, она, очевидно, предпочитала занимать стороннюю позицию, полагая, возможно, что разрушение неодушевленных предметов еще не угрожает человеку. Но когда разгорелась кампания ненависти по отношению к иудеям, стало ясно, что фанатизм может зайти очень далеко.
Возможно, ее солидарность с Орестом в отказе изгонять евреев из Александрии и вызвала те трагические события, которые произошли вскоре в городе. Кто-то начал распространять слухи о предосудительности для женщины занятий астрономией, математикой и философией: она, скорее всего, ведьма и практикует черную магию24. В марте 415 года один из ставленников Кирилла науськал толпу, и, когда Гипатия возвращалась домой, ее вытащили из колесницы и приволокли в церковь, которая была прежде храмом императора. (Место казни избрано не случайно: оно символизировало трансформацию язычества в истинную веру.) Здесь женщину раздели и ободрали кожу керамическими черепками. Затем обезумевшая толпа вынесла труп за городские стены и сожгла. А главный герой Кирилл стал впоследствии канонизированным святым.
Убийство Гипатии означало не только утрату замечательного человека. Собственно, после расправы над ней и начался упадок интеллектуальной жизни в Александрии и всей интеллектуальной традиции, составившей основу латинского текста, обнаруженного Поджо много веков спустя25. Мусейон, где предполагалось собрать все достижения человеческой мысли, тексты, школы и идеи, перестал быть центром притяжения знаний. В последующие годы Александрийская библиотека уже практически не упоминалась, словно ее величайшая коллекция, эта сокровищница классической культуры, исчезла бесследно. Конечно, она исчезла не сразу – такой акт единовременного уничтожения библиотеки был бы так или иначе зафиксирован в истории. Но если задаться вопросом, куда же все-таки подевались книги, то ответ на него надо искать не только в варварстве солдатни или зловредности книжных паразитов, но и в трагической судьбе таких высокообразованных людей, как Гипатия.
Не уцелели и многие другие книжные собрания древности. В статистическом обследовании Рима, проведенном в первой половине IV века, перечислены двадцать восемь публичных библиотек (помимо множества частных собраний в аристократических семьях). На исходе столетия историк Аммиан Марцеллин уже сетовал на то, что римляне почти ничего не читают. Аммиан не обвинял в этом ни варварские репрессии, ни христианский фанатизм, которые, безусловно, были причастны к тому явлению, которое он с грустью отметил. Историк просто констатировал происходивший во время неуклонного развала империи процесс утраты культурных ценностей и торжества воинствующей посредственности. «Надобен теперь не философ, а песенник, – писал Аммиан, – не оратор, а учитель сцены; библиотеки закрылись на века, как гробницы, и вместо книг изготавливаются гидравлосы и лиры размером с экипаж»26. Мало того, отмечал с горечью историк, люди получают особое удовольствие оттого, что носятся в колесницах с бешеной скоростью по улицам, заполненным народом.
Германские племена, захватывавшие одну провинцию за другой после коллапса Римской империи на западе – последний император Ромул Августул отказался от престола в 476 году, – не владели грамотностью. Варвары, врывавшиеся в общественные здания и на частные виллы, возможно, и не были настроены враждебно по отношению к знаниям, но их, конечно же, меньше всего интересовала сохранность материальных носителей культуры. Бывшие владельцы вилл, которых увозили в рабство, предпочитали брать с собой более ценные вещи, чем книги. Завоеватели были в основном христиане, и те из них, кто мог читать и писать, не проявляли никакого интереса к изучению трудов языческих мыслителей. В сравнении с губительными последствиями войн и религиозной вражды Везувий нанес гораздо меньше вреда наследию античности.Однако культурную традицию, сформировавшую внутренний мир человека, не так-то легко искоренить даже в тех, кто хотел бы ее похоронить. В 384 году святой и ученый Иероним, в одном из писем отобразил внутреннюю борьбу, которую ему довелось пережить самому. Десятью годами раньше, вспоминал Отец Церкви, он уезжал из Рима в Иерусалим для того, чтобы удалиться от мирской жизни, но взял с собой библиотеку классической литературы. Он собирался подвергнуть остракизму свое тело и думать только о спасении души, но не мог отказать себе в интеллектуальных удовольствиях: «Я постился и читал Цицерона. Я ночи проводил в молитвах и чистосердечно проливал слезы, вспоминая о своих прошлых грехах, а потом брал в руки Плавта»27. Для христианина Иеронима Цицерон был язычником, подвергавшим сомнению все догмы, включая религию. Однако его проза была необычайно притягательна. С Плавтом мириться было еще труднее: его комедии кишели сводницами, гетерами и всякого рода прихлебателями. Но его дурашливое остроумие было упоительно. Оно восхищало и в то же время отравляло. Когда Иероним, получив дозу литературного наслаждения, обращался к священным писаниям, библейский текст казался ему грубым и безыскусным. Иероним настолько любил красоту и изящество латыни, что, когда решил изучать древнееврейский язык, поначалу чувствовал к нему почти физическое отвращение. «После рассудительных наставлений Квинтилиана, легкого и грациозного красноречия Цицерона, более степенного стиля Фронто и мягкой плавности Плиния, – писал Иероним в 411 году, – мне пришлось заняться этим шипящим и вызывающим одышку языком»28.
Спасло его кошмарное сновидение. Он тяжело заболел, и в бреду ему привиделось, будто его привели на суд к Богу. На вопрос: «Кто ты есть?» – Иероним ответил: «Христианин». Судия сказал строго: «Ты лжешь. Ты цицеронец, а не христианин» ( Ciceronianus es, non Christianus )29. Эти страшные слова означали, что ему уготованы вечные муки. Однако Господь, смилостивившись, приказал всего лишь высечь его. Грешника простили при условии, что «высшей каре меня подвергнут, если когда-либо еще буду читать труды языческих авторов». Проснувшись, Иероним увидел, что его плечи посинели.
Иероним обосновался в Вифлееме, где возвел два монастыря – один для себя и своих единоверцев, а другой – для благочестивых женщин, которые его сопровождали. Там он прожил тридцать шесть лет, проводя время в научных изысканиях, жарких теологических дискуссиях и переводах – перевел на латынь, в частности, древнееврейские священные писания и отредактировал латинский перевод Нового Завета. Самый главный его труд, латинский текст Библии, известный под названием Вульгата, в XVI веке был объявлен католической церковью «более достоверным», чем оригинал.
Как подсказывает сновидение, в набожности Иеронима имелся существенный деструктивный элемент. Или, скорее, страстное увлечение языческой литературой вредило его благочестию. Он не просто стал больше времени уделять христианским текстам, а вообще отказался от чтения трудов язычников. Иероним торжественно поклялся: «О Господи, если я снова когда-нибудь возьму в руки мирскую книгу и прочту ее, то этим предам Тебя»30. Конечно, отказ от чтения любимых авторов – личное дело каждого человека. В конце концов, Иерониму надо было избавиться от пристрастия к опасным книгам ради спасения души. Но в этом пристрастии и сознании необходимости отказаться от него он был не одинок31. Привязанность к античным авторам испытывали и многие другие просвещенные христиане. Поэтому Иероним счел необходимым призывать к самопожертвованию и своих единоверцев. «Какое отношение Гораций имеет к Псалтырю32, – писал он своей последовательнице, – Вергилий – к евангелиям, а Цицерон – к Павлу?»
Многие поколения образованных христиан, как и Иероним, были в плену культурной традиции, сформированной языческими классиками. Платонизм дал христианству модель души, аристотелизм – образ «первого двигателя», то есть Творца, стоицизм – идею Провидения. Таким христианам были нужны поучительные истории об отречении. Они мысленно повторяли эти истории и проигрывали, как во сне, отречение от богатейшего культурного наследия, воспитывавшего их родителей и прародителей, пока реально не отвергли его сами.
Рыцарями отречения почти всегда были известные личности, отказывавшиеся от главного атрибута своего статуса – элитного образования ради полюбившейся им религии. Отречение происходило и после ревностного изучения грамматики, риторики, литературных шедевров и мифов. Но лишь в VI веке христиане стали прославлять как героев тех, кто во имя Господа отказывался от образования. Вот что, например, Григорий Великий писал о святом Бенедикте:...
«Ему дали жизнь в Нурсии замечательные родители, пославшие его в Рим получать либеральное образование. Но увидев, как соученики безудержно вовлеклись в пороки, он сошел обратно с порога жизни, в которую только что вступил. Ибо он убоялся, что, познав ее уроки, тоже и телом и душой падет в эту ужасную пропасть. Желая служить только Господу, он не стал продолжать учебу, отказался от дома и наследства, решив посвятить себя религии. Он пошел на этот шаг, осознавая свое невежество, мудрый, хотя и не образованный»33.
В отречении от образования, помимо невежества, была еще одна опасность – подвергнуться осмеянию. Угрозы преследования уже не существовало – к тому времени христианство стало официальной религией империи, и никого на съедение львам не бросали. Но зубоскальство в древности действовало не менее эффективно, чем сейчас. Что же нелепого с точки зрения просвещенного язычника было в христианстве? Не только стилистическая вульгарность греческого языка евангелий, основанного на чуждых древнееврейском и арамейском языках, но и возвышение самоуничижения и страданий в сочетании с проповедью невежественного превосходства.
Когда христианство прочно укоренилось, оно в основном покончило со зловредными насмешками. Отдельные их отзвуки сохранились в писаниях апологетов христианства. Нетрудно перечислить наиболее типичные подковырки его оппонентов: Иисус родился в прелюбодеянии; его отец был никем; претензии на божественность опровергаются его бедностью и позорным финалом. Особенно злостные комментарии поступали от эпикурейцев, когда они столкнулись с мессианской религией, пришедшей из Палестины. Угроза, которую они представляли для раннего христианства, и привела впоследствии к полному исчезновению этой философской школы. Победившее христианство еще могло мириться с Платоном и Аристотелем, язычниками, признававшими бессмертие души, эпикуреизм для него был совершенно неприемлем34.
Эпикур не отрицал существования богов. Он полагал лишь, что, если в концепции божественности вообще есть хоть какой-то смысл, то богов не может волновать ничто, кроме собственного блаженства. И создателям Вселенной, и ее разрушителям нет никакого дела до наших молитв и обрядов. Особенно абсурдной эпикурейцы считали идею вочеловечения Христа. С какой стати люди возомнили, что превосходят все другие живые существа – пчел, слонов, насекомых и так далее? Почему Бог должен иметь человеческий облик, а не какой-нибудь другой? И почему, наконец, Он среди всех людей избрал для себя облик еврея? Почему мы должны верить в Провидение, эту детскую фантазию, противоречащую здравому смыслу, самой реальности и практическому опыту человека? Христиане уподобляются лягушкам, сидящим в пруду и орущим: «Мир создан для нас».
Христиане, конечно, могли применить против своих врагов то же оружие. Если идеи вочеловечения Бога и воскрешения – «плоды больного воображения», как выразился один язычник35, и «досужие выдумки поэтов», то чем же являются легенды, в которые верят идолопоклонники? Апологет христианства иронизировал по поводу языческих идолов:
...
«Вулкан – бог хромой и немощный; Аполлон столько веков безбородый; Эскулап с огромной бородой, несмотря на то что сын юного Аполлона; Нептун с глазами светло-зелеными, Минерва с голубыми, Юнона с бычачьими глазами; Меркурий с крылатыми ногами, Пан с копытами, Сатурн с кандалами на ногах; Янус с двумя лицами, как бы для того, чтобы ходить задом; Диана высокоподпоясанная охотница, Диана Эфесская имеет огромные груди, а Диана Тривия три головы и много рук» [25] .
Конечно, тактика «ты сам дурак» несовершенна, поскольку обвинение в нелепости одних верований нисколько не повышает достоверность и правоту других убеждений.
Христиане, безусловно, знали, что многие язычники сами не верили в свои мифы, а некоторые из них – эпикурейцы прежде всего – подвергали сомнению все религиозные системы и их обещания. Противникам христианской веры особенно смехотворными казались утверждения о воскресении плоти, поскольку они противоречили и научной атомистической теории, и практике: гниющие трупы с тошнотворной наглядностью доказывали разложение плоти.
Один из первых Отцов Церкви Тертуллиан был убежден в том, что в загробной жизни человек воскрешается до самых мельчайших деталей смертного тела. Он знал также и ответ оппонентов. Язычники спросят:
...
«Зачем, например, руки и ноги36, да и все подвижные суставы, когда прекратится забота о питании? Для чего почки… и прочие детородные части обоего пола и хранилище зародышей, груди с их источниками, когда прекратятся соитие, порождение и вскармливание? Наконец, зачем вообще все тело, если оно ничем не будет занято?» [26]
«Толпа насмехается, мня, что ничего не остается после смерти», – писал Тертуллиан. Но истина на его стороне: «А я буду осмеивать толпу, когда она без всякой жалости сжигает умерших». В день суда Божьего каждый человек предстанет перед небесным трибуналом, и не его тень, не символическое подобие, не отдельные части, а весь человек, целиком, в том виде, в каком он жил на земле. А это значит, что он должен быть и с зубами, и с кишечником, и с детородными органами, вне зависимости оттого, перестали они функционировать или нет. «Да! – обращается Тертуллиан к язычникам. – В наше время мы тоже смеялись над этим. Между собой. Христианами становятся, а не рождаются»37.
Некоторые критики язвительно указывали на то, что многие детали христианской веры заимствованы из более древних языческих легенд: судилище над душами, использование огня для кары в подземном узилище, райская жизнь для праведных душ. Христиане отвечали: все эти древние верования были искаженными толкованиями истинных христианских мистерий. О триумфе такой аргументации свидетельствует ярлык, которым мы наградили приверженцев политеизма. Те, кто верил в существование Юпитера, Минервы или Марса, вовсе не считали себя язычниками (pagans): это понятие появилось в конце IV века. Его этимология связана со словом «peasants» – крестьяне, деревенщина. То есть в это понятие вкладывался вполне определенный оскорбительно-ехидный смысл: подчеркивалась невежественность, неотесанность язычников, в чем прежде обвинялись ранние христиане.
Защищаться от попреков в плагиате христианам было легче, чем от обвинений в абсурде. Пифагорейцы верили в воскресение плоти, и их в целом правильный подход к этой проблеме нуждался лишь в корректировке. Труднее было справиться с эпикурейцами, доказывавшими, что идея воскресения мертвых противоречит всему, что мы знаем о физическом строении Вселенной. С первыми еще можно было поспорить, других – целесообразнее всего было игнорировать или замолчать.
Хотя для ранних христиан, в том числе и для Тертуллиана, некоторые положения эпикуреизма казались вполне здравыми38 – прославление дружбы, милосердия, прощения и неприятие мирского тщеславия, – в первой половине IV века стало ясно: атомистическое учение должно исчезнуть. Последователи Эпикура к тому времени нажили врагов и за пределами христианского сообщества. Когда император Юлиан Отступник (ок. 331–363), решивший возродить язычество в противовес наступавшему христианству, составил перечень трудов, которые необходимо читать священникам, то специально указал: «Нам не следует обращаться к трактатам эпикурейцев»39. Евреи называли всех, кто отходил от раввинской традиции, apikoros – эпикурейцами40.
Для христианства же эпикуреизм представлял самую серьезную угрозу. Если дать волю идее Эпикура о смертности души, писал Тертуллиан, то обнажится и рухнет основа христианской морали41. По Эпикуру, «если страдание незначительно, говорил он, то им можно пренебречь, если оно тяжелое, то продлится недолго». Для христианина важно верить в то, что страдание и боль могут быть вечными. «Эпикур губит религию», – писал другой Отец Церкви. Уберите идею Провидения, и «в жизни воцарятся смятение и хаос»42.
Апологеты христианства должны были изыскать способы борьбы против эпикуреизма. Осмеивать пантеон языческих богов не имело смысла, поскольку эпикуреизм сам развенчал святость божеств и религиозную мифологию. Оставалось только представить основателя Эпикура в другом свете – в образе не апостола умеренных развлечений и наслаждений, а Фальстафа невоздержания. Эпикур – болван, свинья и психопат. В таком же виде надо изображать и его главного последователя Лукреция.
Однако опошления репутации Эпикура и Лукреция было недостаточно. Навязчивые истории о глупости, свинском потакании своим желаниям, безумии, а потом и склонности к суициду вряд ли могли отвлечь образованного человека от чтения талантливых книг и их копирования. Помимо новаторской теории о том, что мир состоит из атомов и пустоты, еще более притягательными были этические ориентиры – стремиться к удовольствиям и избегать боли. Непросто представить обыкновенные и естественные желания вредящими истинной вере.
Столетия ушли на то, чтобы реализовать этот грандиозный проект, так до конца и не осуществленный. Основные тезисы сформировались в конце III – начале IV века в сочинениях ритора из Северной Африки, перешедшего из язычества в христианство, Лактанция. Наставник сына императора Константина, навязавшего христианство всей империи, написал серию памфлетов против эпикуреизма. Главный довод – эта философия обрела множество последователей не потому, что в ней заключается какая-то новая правда, а в силу заманчивости призыва к удовольствию43.
Лактанций наставлял: важно убеждать верующих не только в порочности сластолюбия, но и в несостоятельности утверждений эпикурейцев о том, что Бог будто бы поглощен собственными интересами и равнодушен к судьбам людей. Напротив, писал Лактанций в 313 году в одном из своих самых известных сочинений, Бог заботится о человеке, как отец о заблудшем сыне. Лучшее доказательство этой заботы – Божий гнев. Господь гневается на человека, значит, его любит. Поэтому он и подвергает его суровым наказаниям.
Отвержение удовольствий и видение Божьего отеческого гнева сыграли главную роль в ниспровержении эпикуреизма, занесенного верующими в разряд человеческих «безумий». Лукреций рекомендовал человеку, испытывающему сексуальное вожделение, непременно удовлетворить его: «Даже легкое ощущение удовольствия утоляет боль» (4.177). Христианство, как свидетельствует история, изложенная Григорием, указывало ему другой путь. Благочестивому Бенедикту привиделась женщина, которую он однажды встретил, и у него вдруг поднялось его естество:
...
«Он осмотрелся и увидел рядом кусты крапивы и шиповника. Сбросив с себя одеяния, он кинулся в колючие и обжигающие заросли. Он крутился и метался в них, превозмогая боль, до тех пор, пока все его тело не покрылось кровью. Он подавил в себе желание удовольствия, и его ободранная и окровавленная кожа выпустила из тела яд соблазна. Боль погасила дьявольский огонь, разгоревшийся в сердце. Поменяв одно пламя на другое, он победил грех»44.
Метод, примененный святым Бенедиктом, взяли на вооружение многие христиане. Среди разного рода культурных трансформаций, происходивших на Западе, особое место занимает триумф концепции боли над концепцией удовольствия.
Причинение боли себе или другому человеку не было в диковинку для людей, живших во времена Лукреция45. Большими специалистами в этом деле были римляне, предназначавшие огромные суммы денег и арены для зрелищ насилия. Но не только в Колизее можно было насытиться сценами, в которых наносятся увечья, проливается кровь и совершаются убийства. Кровожадность присутствовала в пьесах и поэмах, создававшихся на основе древних мифов, в живописных полотнах и скульптурах. Насилие было неотъемлемой частью повседневной жизни46. Школьным учителям и рабовладельцам полагалось сечь своих жертв, и бичевание обычно предваряло казни в Риме. Поэтому, согласно библейскому сюжету, и Иисус перед распятием был исполосован плетьми.
В отличие от благочестивых христиан, для которых страдание служило средством достижения главной цели – спасения, язычники не видели в боли никакого позитива. Напротив, она считалась злом, уготованным для нарушителей закона, преступников, пленников и других бедолаг, и воспринималась как достойная неизбежность лишь в ратоборстве. Римляне высоко ценили добровольную готовность воина стойко переносить боль, но эта готовность не имела ничего общего с самоистязанием, которому исступленно подвергали себя монахи и отшельники. Герои римлян сознательно шли на то, чего в иных условиях предпочли бы избежать, демонстрируя свое бесстрашие и мужество врагу. С этой воинской традицией могла сравниться лишь философская дисциплина, учившая относиться к любой неизбежной боли – вызываемой камнями в почках, например – стоически. Всем же – от самого утонченного философа до простого ремесленника – было присуще общее стремление к удовольствиям.
Наиболее изощренное и экзотическое удовольствие римляне получали, наблюдая за тем, как причиняется и стойко переносится боль во время гладиаторских боев. Если Лукреций поставил во главу угла своей этической системы римскую концепцию удовольствия, то христианство переняло римскую концепцию отношения к боли. Для ранних христиан, потрясенных страданиями Спасителя, грешностью человечества и праведным гневом Отца Небесного, особенно абсурдными и зловредными казались призывы к тому, чтобы посвящать жизнь удовольствиям. Самым безобидным могло быть обвинение в искушении дьяволом, что изображалось в средневековом искусстве в образе соблазнительных женщин, под одеянием которых проглядывались когти рептилий. Достойной подражания считалась только лишь жизнь Иисуса Христа, наполненная печалью и болью, но не удовольствиями. Все ранние изображения Иисуса насыщены меланхолией и скорбью. В Евангелии от Луки Иисус только плачет, нет ни одного стиха, в котором Он бы смеялся или улыбался, не говоря уже об изъявлении радости или удовольствия.
У христиан V и VI веков было немало причин для пролития слез. Города рушились, поля пропитались кровью умирающих солдат, грабежи и изнасилования приобрели масштабы эпидемии. Надо было как-то объяснить отвратительное поведение человека, который словно намеренно не желал учиться на уроках своего прошлого. Теология предложила объяснение этому неприятному феномену, более глубокое и фундаментальное, чем могли дать ему самые умудренные теоретики или научные школы: человек порочен от природы. Наследники греха Адама и Евы испытывают беды заслуженно; их надо наказывать; они должны подвергаться нескончаемым страданиям. Только через боль горстка везунчиков сможет добиться привилегии спасения.
Хотя пройти через страдания назначено всему человечеству, лишь самые рьяные приверженцы доктрины спасительной боли, воспламененные взрывоопасной смесью страха, надежды и энтузиазма, избрали этот путь. Они были уверены в том, что должны ублажить Божий гнев своими страданиями, которых Он от них требует по справедливости. В их решимости было что-то похожее на римскую традиционную воинскую стойкость, но, за небольшим исключением, они не ставили перед собой цель добиться стоического безразличия к боли47. Напротив, успех всего проекта зависел от сохранения чувствительности к голоду, жажде, одиночеству и боли. И истязая себя розгами или зазубренными камнями, они не пытались подавить естественные в таком случае крики и стоны. Эти вопли были частью платы и искупления, которое, если повезет, позволит им обрести в загробной жизни то счастье, которого лишились Адам и Ева.
К 600 году в Италии и Галлии действовало более трехсот монастырей48. В большинстве это были небольшие заведения, напоминавшие виллы с крепостными стенами и подсобными постройками. Но в них преобладало духовное и корпоративное единство, позволявшее сохранять безмятежность и стабильность в неспокойном и нестабильном мире. В обители уходили люди, чувствовавшие необходимость изменить образ жизни, искупить собственные грехи и прегрешения своих близких, помышляя о том, что они удостоятся вечного блаженства, если отвернуться от мирских наслаждений. Со временем к ним присоединились менее пламенные личности, которых отдавали церкви родители или опекуны.
В монастырях, где никто не сомневался в том, что искупление невозможно без унижения, вполне естественными были телесные наказания нарушителей правил: virgarum verbera – порка розгами, corporale supplicium – причинение физической боли, ictus – удары, vapulatio – избиение дубинкой, disciplina – охаживание плетью, flagellatio – бичевание. Дисциплинарное физическое воздействие, которое в языческом обществе рассматривалось бы как бесчестье, применимое только к социально неполноценным индивидам, назначалось с неким демократичным равнозначным отношением к рангам и титулам. Жертва обыкновенно должна была сама нести розги, которыми ее будут пороть, а затем, сидя на земле, непрестанно повторять «Mea culpa» («я виновен») и беспрекословно переносить удары до тех пор, пока аббат или аббатиса, удовлетворившись, не остановят экзекуцию.
Обязательность добровольной готовности жертвы к наказанию49 – доказываемая целованием прутьев – наглядное свидетельство желания христианской церкви растоптать эпикурейский принцип получать от жизни усладу и избегать боли. Кроме того, испытание болью было не только наказанием, оно еще служило средством выражения своего благочестия, стремления следовать примеру Спасителя. Христианские отшельники, помня о Страстях Господних, намеренно истязали свою плоть, дабы испытать те же мучения, которым подвергся Иисус Христос. Хотя практика самоистязания известна со времен поздней античности – она была достаточно необычной для того, чтобы получить широкое распространение, – лишь в XI веке реформатор монашеских традиций итальянский бенедиктинец Петр Дамиан ввел добровольное самобичевание в качестве основного аскетического средства, признаваемого церковью.
Целое тысячелетие потребовалось для того, чтобы утвердилась и восторжествовала традиция добровольного страдания во имя спасения. «Разве наш Искупитель не подвергался бичеванию?» – спрашивал Дамиан своих оппонентов, сомневавшихся в необходимости телесных наказаний. Разве апостолов, святых и мучеников не стегали? Разве можно найти более верный способ следования и их примеру, и примеру Иисуса, чем испытать те же муки, которым подверглись они? Конечно, Дамиан понимал, что, когда секли этих великих предшественников, кто-то другой держал бич в руках. Но в мире победившего христианства мы должны сами сечь себя. Иначе идея подражания Христу потеряет смысл. «Тело надо обрабатывать, как кусок дерева, – разъяснялось в одном из текстов, развивавших теорию Дамиана. – Надо его бить и стегать прутьями и бичами, мучить и морить голодом, чтобы оно повиновалось душе и приняло совершенную форму»50. В этих духовных упражнениях не должны приниматься во внимание никакие сдерживающие мотивы, условности и воспрещения. Не надо стыдиться ни наготы перед посторонними людьми, ни собственных корчей, стонов и воплей.
Показателен в этом отношении эпизод из жизни доминиканских монахинь Кольмара, описанный в начале XIV века Катериной фон Геберсвейлер, жившей в этой обители с детства:
...
«Со дня Пришествия и в продолжение всего Великого поста сестры после заутрени шли в главную залу или другое место, отведенное для этих целей. Здесь они истязали себя самым жестоким образом, применяя самые разные средства для порки, пока их тела не покрывались обильной кровью, а звуки ударов бичей разносились по всей обители, услаждая Господа лучше всякой мелодии»51.
И такие почти театральные сцены не были спорадическими проявлениями мазохизма. Существуют многочисленные документальные свидетельства, подтверждающие, что практика преднамеренного причинения боли, это наследие спонтанного кувыркания в крапиве святого Бенедикта, имела широкое распространение в позднем Средневековье. Демонстрации самоистязания превозносились как примеры исключительного благочестия. Святая Тереза, «хотя и таяла на глазах, секла себя хлыстами, причинявшими самую острую боль, часто обтиралась пучками свежей и особенно жгучей крапивы и даже, обнажившись, неистово перекатывалась с боку на бок в колючках». Святая Клара Ассизская «терзала свое алебастровое тело хлыстами сорок два года, и от ее ран исходил зловонный запах, наполнявший всю церковь». Святой Доминик каждую ночь полосовал свою плоть кнутом с тремя железными цепями. Святой Игнатий Лойола рекомендовал использовать плети с относительно тонкими ремнями, чтобы «боль пронизывала ткани, а не кости». Генрих Сузо, вырезавший имя Иисуса на груди, носил на спине железный крест с гвоздями и сек себя, пока не начинала течь кровь. Современница Сузо, монахиня из Цюриха Элсбет фон Ойе, хлестала себя столь неистово, что ее кровь летела на стоявших рядом людей.
Бесхитростная психика простого человека не могла не поддаться магии страстной убежденности и авторитетности духовных вождей. Верования и образ жизни узкого круга религиозных энтузиастов, мужчин и женщин, устранившихся от императивов пошлой повседневности, стали достоянием масс, побуждая к созданию обществ флагеллантов и вызывая периодические вспышки массовой истерии. То, что поначалу казалось духовным радикализмом, с поразительным успехом могло уже претендовать на ведущую роль в системе ценностей верующих христиан.
Конечно, человек продолжал жаждать удовольствий – традицию ветхого Адама искоренить было непросто. И в хижинах крестьян, и в роскошных палатах аристократии, и во дворцах прелатов, и за высокими стенами монастырей люди по-прежнему предавались возлияниям, чревоугодию, веселью, танцам и сексу. Однако никто из тех, кто обладал моральным авторитетом или общественным влиянием, не осмелился бы выступить с публичным оправданием всех этих занятий. И не из-за робости или страха. Концепция удовольствия лишилась философского прикрытия. Эпикур давно умер, и почти все его труды были уничтожены. А после того как святой Иероним в IV веке объявил о том, что Лукреций совершил самоубийство, прекратились нападки и на римского последователя Эпикура. О нем просто-напросто забыли.
Поэма Лукреция уцелела по счастливой случайности. Совершенно случайно она оказалась в библиотеке монастыря, который, собственно, и предназначался для того, чтобы похоронить эпикурейские идеи сладкой жизни. По воле случая некий монах, трудясь в скриптории где-то в IX веке, скопировал поэму, не дав ей пропасть на века. Случайно эту копию не затронули пожары и наводнения и не превратили в труху «зубы времени» за пять столетий, сохранив ее до того дня, когда она наконец в 1417 году оказалась в руках гуманиста, гордо называвшего себя Poggius Florentinus – Поджо Флорентийским.
Глава 5 У истоков Возрождения
Во Флоренции начала XV века было не так много архитектурных шедевров, которыми город славится сегодня и которые напоминали бы о художественных вкусах античности. Изумительный купол Брунеллески над собором Санта-Мария дель Фьоре, первая грандиозная сводчатая конструкция такого рода, возведенная со времен Древнего Рима, еще не украшал силуэт города. Не существовало и великолепной арочной галереи воспитательного дома Оспедале дельи Инноченти и других замечательных сооружений зодчего, созданных на принципах античности. У баптистерия собора не было знаменитых дверей с бронзовым рельефом, выполненным скульптором Гиберти, а церковь Санта-Мария Новелла не имела гармонично симметричного фасада Леона Баттисты Альберти. Архитектор Микелоццо еще не спроектировал чудесные здания монастыря Сан-Марко. Богатейшие семьи города Медичи, Питти и Ручелли еще не построили свои сказочные дворцы с классическими колоннами, арками и капителями.
Это был типичный средневековый город, каменный и мрачный. Густо населенный центр был битком набит высокими башнями, монолитными каменными зданиями, а извилистые узкие улицы и закоулки казались еще темнее из-за выступающих верхних этажей и крытых балконов. Даже старый мост Понте-Веккьо, перекинутый через Арно, был вплотную уставлен магазинчиками и лавками, закрывавшими вид на реку. С высоты птичьего полета могло показаться, что в городе много открытых пространств. Но эти просветы создавались внутренними дворами монастырей, построенных религиозными орденами-соперниками: доминиканцами – Санта-Мария Новелла, францисканцами – Санта-Кроче, августинцами – Санто-Спирито, кармелитами – Санта-Мария дель Кармине. Открытые территории, доступные для всех мирян, попадались редко.
В этот угрюмый, темный и тесный город, который периодически посещала бубонная чума, и приехал в конце девяностых годов XIV века молодой человек по имени Поджо Браччолини. Он родился в 1380 году в Террануове, захолустном городишке, располагавшемся на землях, принадлежавших Флоренции1. Многие годы спустя Томазо Моррони, один из его оппонентов, напишет, что Поджо – внебрачный сын крестьян, еле сводивших концы с концами. Это свидетельство сомнительно: подобными наветами гуманисты Ренессанса, включая и Поджо, регулярно обменивались, как боксеры ударами перчаткой. В то же время известно, что Поджо был знаком труд тосканского крестьянина, даже если ему самому и не приходилось обрабатывать землю. Известно и то, что, утвердившись в мире, он приобрел поддельный родовой герб, якобы насчитывающий 350 лет.
Более правдоподобна, и Поджо сам ее подтверждал, версия о том, что его отец Гуччо был нотариусом, хотя в податных ведомостях того периода он числится spetiale – аптекарем. Возможно, он был и тем и другим. Профессия нотариуса не считалась престижной, но в эпоху мелких сделок и сутяжничества их был легион. По описанию нотариуса Лапо Маццеи, в ратуше сновали от шестисот до семисот его коллег, державших под мышками папки с документами, каждая из которых была «толщиной в пол-Библии»2. Досконально зная законы, они готовили местные постановления, устраивали выборы, составляли иски. Городские чиновники, вершившие правосудие, зачастую не знали, как себя повести, и нотариусы нашептывали на ухо, что надо говорить, и подсовывали нужные документы. Они были очень полезными людьми.
Несомненный факт – в роду Поджо был по крайней мере один нотариус, его дед по материнской линии Микаелле Фрутти. Правда, мы обращаем внимание на это обстоятельство совсем по другой причине: в 1343 году, задолго до рождения Поджо, синьор Микаелле поставил под нотариальным реестром необыкновенно красивую подпись. На редкость красивый почерк сыграет важнейшую роль в судьбе его внука. В цепи событий, приведших к находке поэмы Лукреция, каллиграфические успехи Поджо имели первостепенное значение.
У Гуччо Браччолини и его супруги Якобы были и другие дети: две дочери (одна из них умерла в раннем возрасте) и еще один сын, который впоследствии немало досаждал старшему брату Поджо. Судя по размеру налогов, которые платил отец, первые годы после рождения Поджо семья жила безбедно. Но когда ему исполнилось восемь лет, наступили тяжелые времена. Гуччо пришлось продать дом и все имущество, бежать от кредиторов и поселиться в соседнем Ареццо. Согласно Томазо Моррони, юного Поджо отправили в поле работать на некоего Луккара. Вскоре его уличили в том, что он обманывает Луккара, приговорили к телесному наказанию, но простили ввиду малолетства. И в данном случае вряд ли можно серьезно отнестись к свидетельству Моррони, вызванному, скорее всего, злобствованием. В Ареццо Поджо, очевидно, посещал школу, изучал латынь и шлифовал мастерство каллиграфии, а не пахал и не бегал от наказания. Но то, что ему жилось несладко, он сам подтвердил впоследствии, написав, что приехал во Флоренцию cum quinque solidis – без гроша в кармане.
Обездоленный молодой человек появился во Флоренции в один из девяностых годов XIV века, наверняка когда ему еще не было и двадцати лет. Возможно, на руках у него было рекомендательное письмо школьного учителя в Ареццо. Он мог к тому времени и получить некоторые познания права в Болонье. Во Флоренцию, вероятно, перебралась и вся семья во главе с нищим отцом. Ясно одно: когда Поджо впервые ступил на Пьяцца дель Дуомо и взглянул на колокольню Джотто рядом с собором Санта-Мария дель Фьоре, он был никем.
Во Флоренции тогда насчитывалось около 50 тысяч человек, и в ее политической, общественной и экономической жизни доминировали несколько купеческих и аристократических семейств: Альбицци, Строцци, Перуцци, Каппони, Питти, Буондельмонти. Толстосумы выделялись прежде всего своими демонстративно непомерными тратами. «Намного слаще тратить деньги, чем их зарабатывать, – писал Джованни Ручеллаи, чье семейство разбогатело на банковских сделках и красильнях шерсти. – Транжирство доставляет мне больше удовлетворения»3. Богачей обслуживала целая армия управляющих, бухгалтеров, клерков, секретарей, посыльных, домашних учителей, музыкантов, художников, челяди и рабов. «Черная смерть» унесла жизнь многих людей в 1348 году, и резко возросла потребность в рабах4, которых завозили не только из мусульманской Испании и Африки, но и с Балкан, из Константинополя, с побережья Черного моря. Торговля дозволялась, если рабы не были христианами. Поджо довелось увидеть немало невольников – африканцев, киприотов, греков, татар, русских, грузин.
Флоренция была олигархией, и власть принадлежала узкому кругу богатых и знатных семей. В основе богатства всегда были банковские операции, землевладение и суконное производство, которым особенно славился город. Сукноделие требовало космополитического взгляда на жизнь, предприимчивости, стальных нервов и необычайно внимательного отношения к мелочам. Сохранившиеся архивы купца Франческо ди Марко Датини из Прато, не самого богатого из первых капиталистов того времени, содержат 150 тысяч писем, около 500 бухгалтерских книг, 300 актов о партнерстве, 400 страховых полисов, несколько тысяч накладных, авизо, векселей и чеков. На первых страницах бухгалтерских книг Датини были начертаны слова: «Во имя Господа и профита»5.
Во Флоренции Богу было посвящено немыслимое количество церквей, стоявших почти впритык друг к другу на запруженных народом улицах. Его славили в долгих и страстных проповедях, собиравших толпы людей, в пламенных речах странствующих монахов, молитвах, обетах, пожертвованиях, выражая благоговейный страх писаниями и публичными выступлениями, а иногда и приступами массового благочестия.
Профиту поклонялись владельцы процветающей международной суконной промышленности, в которой было занято большое число рабочих6. Наиболее квалифицированные из них объединялись во влиятельные гильдии или цехи, отстаивавшие их интересы, другие же трудились за ничтожную плату. В 1378 году, за два года до рождения Поджо, самые несчастные поденщики, populo minuto [27] , подняли бунт, вылившийся в полномасштабное кровавое восстание. Артели мастеровых толпами ходили по улицам и кричали: «Да здравствует народ и ремесло!» Мятежники свергли режим правящих семейств и на какое-то время создали демократическое правительство. Однако вскоре был восстановлен старый порядок, сохранивший власть гильдий и магнатов.
После поражения Ciompi [28] , как называли революционеров рабочего класса, восторжествовавшие олигархи удерживали власть более сорока лет, определяя в какой-то мере характер познаний и образ жизни города, с которым Поджо решил связать свою судьбу. Ему надо было как-то вписаться в его консервативный и замкнутый мир. К счастью, благодаря прирожденному дарованию и трудолюбию он обладал редчайшим мастерством, которое и позволило человеку скромного материального достатка и незнатного происхождения занять достойное социальное положение. Ключом к успеху стало то, что в наше время практически не имеет никакого значения, – красивый почерк.
Рисунок букв, выходивших из-под пера Поджо, существенно отличался от замысловатого, переплетенного и ломано-угловатого готического письма. На необходимость более ясного и разборчивого начертания слов еще в первой половине XIV века указывал Петрарка (1304–1374). Он сетовал на то, что тексты чрезвычайно трудно расшифровывать, словно они «предназначены для каких-то иных целей, а не для чтения»7. Надо было раскрепостить буквы, увеличить пробелы и между ними, и между строками, ликвидировать аббревиатуры – подобно тому, как мы дома открываем окна для доступа свежего воздуха.
Эстетика письма, введенная Поджо и другими гуманистами, восхищает и сегодня. Они взяли за образец каролингский минускул, изобретенный в IX веке придворными писцами Карла Великого, и создали особый шрифт для копирования манускриптов и составления посланий. Он же послужил основой для очертаний курсива и всей гарнитуры, которую мы называем «романской». Поджо и его современники-гуманисты ввели в обиход самый простой, ясный и изящный способ письменного воспроизведения слов. Более или менее полное представление о сути и значимости этого новшества дают манускрипты, хранящиеся в Лаврентийской библиотеке Флоренции: веленевые, аккуратно сшитые тома, и за пятьсот лет не потерявшие кремово-белого цвета и завораживающие элегантностью, гармоничностью и четкостью рукописного шрифта. На полях можно разглядеть крошечные дырки, оставленные писцами, закреплявшими листы велени, и едва различимые пометки прямых линий, по двадцать шесть строк на страницу. Однако не только этими техническими приемами, которыми пользовались все писцы, объяснялась необычайная стройность и элегантность текста.
Изобретение нового и легко читаемого образа букв и слов, восхищавшего книголюбов более шести веков, – само по себе немалое достижение. Но дело здесь не только в необычайно искусной графике, примененной Поджо. Его новшество отражало тенденции развития культуры как во Флоренции, так и по всей Италии. Поджо, похоже, уловил, что влечение к другому курсиву являлось лишь частью более мощного культурного движения, сочетавшего стремление к новизне и возрастающий интерес к античности. Считается, что Петрарка задолго до рождения Поджо превратил интерес к возрождению культурного наследия классического Рима во всеобщую одержимость.
Современная историография по-разному оценивает истоки и масштабы этой «одержимости». Поклонники Петрарки исходят из того, что античность была напрочь забыта, пока их герой героическими усилиями не возродил к ней интерес. Однако можно доказать, что роль Петрарки не столь уж новаторская, как кажется. Помимо Ренессанса XV века, были и другие периоды повышенного интереса к античности и в средневековой Италии, и в северных королевствах, в том числе и так называемый каролингский Ренессанс IX столетия. В Средневековье можно обнаружить гораздо больше преемственности и связей с античностью, чем думалось приверженцам Петрарки. В эпоху Высокого Средневековья философы-схоласты, изучавшие Аристотеля по комментариям его арабского последователя Аверроэса, выстроили сложную и достаточно рациональную систему мироздания. И даже хваленая эстетическая верность Петрарки классическому латинизму – заявленное им намерение идти по стопам древних мыслителей – уже присутствовала в умонастроениях по крайней мере за семьдесят лет до его рождения. В претензиях Петрарки и его последователей на титул первооткрывателей античности больше похвальбы, чем истины.
Тем не менее нельзя полностью отрицать позитивную роль Петрарки и его современников только на том основании, что они оказались самыми активными пропагандистами своих деяний. Да они и сами не считали легким путь, на который ступили. Они видели себя изыскателями и в своих желаниях, и в практических действиях, преодолевая горы, исследуя монастырские библиотеки, раскапывая руины. Для них не было ничего простого и очевидного в попытках возродить или сымитировать язык, материальные предметы и культурные достижения далекого прошлого. Они посвятили себя миссии, которая совершенно не вписывалась в привычный образ жизни людей, веками пытавшихся обеспечить себе относительно удобное существование среди разваливающихся останков античности.
Эти останки напоминали о древности по всей Италии и Европе: тысячелетние мосты и дороги, изъеденные временем стены и арки, руины терм и рынков, храмовые колонны, встроенные в церкви, древние камни с письменами, использованные в новых сооружениях, разбитые статуи и вазы. Но древняя цивилизация давно исчезла. Останки напоминали о том, что все проходит и забывается, они свидетельствовали о победе христианства над язычеством, сохранившиеся стены и колонны можно было употребить в новых строительных проектах, в руинах можно было поискать драгоценные камни и металлы. Поколениями люди использовали уцелевшие фрагменты древности не только в строительстве, но и в сочинительстве. При этом их мало волновало то, что они прикасаются к реликтам языческой культуры – будь это камень или слово.
Однако вникать в истинный смысл останков античной культуры было небезопасно. Увлечение античностью вряд ли можно было оправдать простым любопытством: оно осуждалось как один из смертных грехов8. Язычество уже повсеместно воспринималось как поклонение демонам. Более того, от христиан требовалось усвоить, что культурные достижения Древней Греции или Рима, эти творения мира грешного и смертного человека, противны трансцендентному и вечному Царству Божьему.
Петрарка был правоверным христианином и строго следовал Божьим заповедям9. Тем не менее в продолжение всей жизнедеятельности, и в своих сочинениях, и в духовных исканиях, он оставался страстным поклонником языческой древности, хотя и не смог до конца познать ее. Петрарка в основном вел уединенный образ жизни, но с упорством миссионера популяризировал гуманистические идеи античности в своих произведениях, стремясь вызволить из губительного забвения шедевры классической литературы.
Сын нотариуса, оказавшийся талантливым поэтом и прозаиком, рано заинтересовался наследием античности, но поисками утерянных рукописей увлекся, когда совершил в 1332–1333 годах длительное путешествие по Франции, Фландрии и Германии. Конечно, он не был первопроходцем, но занимался разыскиванием древних манускриптов с рвением, превосходившим пыл самого страстного искателя сокровищ. Петрарка писал восхищенно:
...
«Созерцание золота, серебра, пурпурных одеяний, домов из мрамора, ухоженных поместий, божественных картин, коней в попонах и других чудес подобного рода доставляет преходящее и поверхностное удовольствие; книги же восторгают до глубины души. Они разговаривают с тобой, подсказывают что-то, создают атмосферу живого общения, сопереживания и духовной близости»10.
Петрарка проводил текстологический сравнительный анализ найденных книг, редактировал и копировал манускрипты, делясь ими со своими многочисленными корреспондентами, которым писал даже по ночам, поддавшись внезапно нахлынувшему вдохновению. Он писал и античным авторам, словно они были его близкими друзьями или членами семьи, с которыми можно поделиться своими чувствами и мыслями. Обнаружив тайник с посланиями Цицерона богатому другу Аттику, самовлюбленными, амбициозными и негодующими, Петрарка не удержался и написал великому древнему оратору, укоряя его за то, что он пренебрегает собственными принципами.
К эпохе, в которой ему пришлось жить, Петрарка испытывал безграничное отвращение11. Он сам называл свое время эпохой грубости, невежества и убогости мысли и верил, что о ней человечество постарается забыть. Однако это презрение к окружающей его среде, похоже, лишь придавало ему обаятельности и известности. Слава Петрарки росла как снежный ком, а вместе с ней возрастал и пробужденный им интерес к наследию древности. Последующие поколения трансформировали этот интерес в новое влиятельное просветительское направление – гуманизм ( studia humanitatis ) с акцентом на изучение греческого и латинского языков и литературы и особенно риторики. Однако гуманизм, который проповедовал Петрарка, пристрастив к нему близких друзей и учеников – Джованни Боккаччо (1313–1374) и Колуччо Салютати (1331–1406), – не был академической дисциплиной.
Ранние гуманисты, основоположники нового интеллектуального движения, должно быть, испытывали смешанные чувства гордости, опасений и удивления первооткрывателей. Ведь то, что казалось еще живым, на самом деле было мертво. Столетиями князья и прелаты верили в то, что продолжают традиции классической древности, переняв в той или иной форме символы и язык прошлого. Петрарка и его сподвижники считали иначе: все эти претензии ложны. Римской империи не существовало в действительности в Ахене, где короновали правителя, называвшего себя «императором Священной Римской империи». Все институты и идеи, формировавшие мир Цицерона и Вергилия, погибли; латынь, на которой писали шесть или семь веков назад философы и теологи, всего лишь уродливая и искаженная, как в кривом зеркале, версия когда-то прекрасного и изящного языка. Надо без притворства признать, что в действительности нет никакой преемственности. А есть труп, давно похороненный и разложившийся.
Осознание факта смерти – лишь первый необходимый шаг. Признав утрату и погоревав, можно приступить к осуществлению того, что должно последовать после смерти – воскрешению. Этот феномен знаком каждому правоверному христианину, а Петрарка и был самым что ни на есть христианским праведником, хотя в данном случае ему надо было думать о том, как решать проблему воскрешения в этом мире, а не в следующем. Возрождал он опочившую древнюю культуру.
Поджо появился в Риме через двадцать пять лет после кончины Петрарки, когда порожденное им интеллектуальное движение уже начало терять первоначальную пикантность. Дух творческого дерзновенного поиска постепенно уступал место заурядному антикварному интересу, стремлению систематизировать и поставить в определенные рамки все отношения с прошлым. Поджо и гуманисты его поколения больше внимания обращали на то, чтобы избегать ошибок в латинской грамматике и вылавливать промахи других филологов. Длительное общение с классической античностью отчасти и объясняет особенности его почерка. Эстетика графики Поджо не была прямым следствием письменности древних римлян: все ее следы давно исчезли, остались лишь изумительные начертания на каменных плитах, исполненные римским капитальным шрифтом, да отдельные настенные граффити. Но почерк Поджо отражал стремление найти новый стиль передачи красоты, художественной формы возрождения интеллектуальных ценностей. Образы букв основывались на рукописном каролингском стиле. Однако Поджо и его коллеги не связывали свою манеру письма с двором Карла Великого, они называли ее lettera antica – антиквой, чтя память не наставника Карла Великого Алкуина, а Цицерона и Вергилия.
Зарабатывал на жизнь юный Поджо переписыванием книг и документов, и их прошло через его руки, очевидно, немало. Необычайно изящный почерк и мастерство не только принесли ему известность, но и с самого начала обеспечивали средствами для оплаты уроков. Он довел до совершенства знание латыни, обучаясь у талантливого лингвиста из Равенны Джованни Мальпагино, в молодости служившего у Петрарки секретарем и помощником, а впоследствии выступавшего с лекциями о Цицероне и римской поэзии в Венеции, Падуе, Флоренции и других городах. Поджо смог оплатить и занятия для приобретения профессии нотариуса, правда, они были гораздо менее продолжительные и дорогостоящие, чем обучение на адвоката12.
В двадцать два года Поджо сдавал экзамены, но не в университете, а перед коллегией юристов и нотариусов. Ему удалось пережить мытарства юности, и теперь он мог рассчитывать на успешную карьеру. Первым нотариальным документом, к которому приложил руку Поджо, было рекомендательное письмо для отца, сбежавшего из Флоренции в Римини от надоедливого кредитора. Нам трудно сказать, чем руководствовался Поджо, когда составлял копию документа. Возможно, его привлекло имя человека, которому адресовалось рекомендательное письмо: Колуччо Салютати, канцлер Флорентийской республики.
Канцлер Флоренции был, по сути, государственным секретарем по иностранным делам. Флоренция тогда была независимой республикой, контролировавшей значительную часть Центральной Италии, и в силу этого она непрестанно боролась за сферы влияния с другими могущественными государствами итальянского полуострова: Венецией и Миланом на севере, Неаполем на юге и папством в Риме, ослабленном внутренними раздорами, но все еще кичащимся своим богатством, настырным и опасным. Каждый из этих соперников в случае угрозы мог обратиться за помощью, денежной или военной, к правителям континента, только и ждавшим благоприятной возможности для вмешательства. Все они были амбициозны, коварны, вероломны, беспощадны и вооружены. Дипломатическая деятельность Салютати на посту канцлера республики по выстраиванию отношений с соседями, в том числе и с Ватиканом, была исключительно важна не только для благоденствия, но и для выживания республики ввиду угроз, исходивших от Франции, Священной Римской империи и Испании.
Когда Поджо появился во Флоренции, в конце девяностых годов, Салютати, начинавший карьеру с должности заурядного провинциального нотариуса, пребывал на посту канцлера уже двадцать пять лет, занимаясь интригами, набирая и выгоняя наемников, составляя инструкции послам, разгадывая коварные замыслы противников, ведя переговоры, заключая альянсы и подписывая манифесты. Практически все – и враги республики, и ее патриотические граждане – понимали, что канцлер Флоренции обладает не только исключительными юридическими познаниями, политической и дипломатической искусностью, но и психологической проницательностью, даром общественного деятеля и вдобавок необыкновенным литературным талантом.
Подобно Петрарке, с которым канцлер переписывался, Салютати испытывал влечение к древности и занимался исследованиями наследия классической культуры. Как и Петрарка, он был правоверным христианином, но не находил ничего ценного для себя – по крайней мере в смысле художественного стиля – в том, что было написано в период между Кассиодором в VI веке и Данте – в XIII. Подобно Петрарке, Салютати стремился имитировать стиль Вергилия и Цицерона. Хотя он и писал с горечью «Ego michi non placeo» («Я себе не нравлюсь») и признавал, что ему недостает литературной гениальности Петрарки, современники восхищались его прозой.
Кроме того, Салютати разделял убеждение Петрарки в том, что возрождение наследия прошлого не должно ограничиваться лишь антикварным интересом. Читать античных авторов надо не для того, чтобы повторять их. «Для меня предпочтительнее мой собственный стиль, – писал Петрарка, – неотесанный, грубоватый, но, подобно одеянию, больше подходящий для моего умонастроения, а не для чьего-либо еще, пусть и более утонченного, амбициозного и обожаемого, но порожденного большей гениальностью и постоянно соскальзывающего с меня, не соответствуя скромным размерам моего интеллекта»13. В этих словах, без сомнения, содержится немалая доза напускной смиренности, но в них можно заметить и искреннее желание сформировать новое и оригинальное мировоззрение, не раствориться в авторитете старых мастеров, а использовать их опыт. «Древние авторы, – писал Петрарка Джованни Боккаччо, – пронизали все мое существо, они засели не только в моей памяти, но и вошли в мою плоть и кровь. Если бы даже мне и не довелось читать их еще раз, то они все равно волновали бы меня до глубины души»14. «Я всегда считал, – утверждал и Салютати, – что подражать античности нужно не для ее воспроизведения, а для создания чего-то нового»15.
И Петрарка и Салютати были убеждены16: гуманизм должен не просто создавать преходящие имитации классического стиля, а служить более высоким этическим целям. Для этого ему необходимо стать неотъемлемой частью реальной действительности. Но в практической деятельности ученик явно решил не идти по стопам своего учителя. Если Петрарка, родившийся в изгнании и за всю жизнь так и не определившийся с отечеством, постоянно переезжал с места на место, из королевского дворца ко двору папы, а оттуда в сельскую глушь, презирал какую-либо стабильную привязанность и стремился к уединению, то Салютати избрал другой путь – созидать и творить в городе-государстве, который всей душой полюбил17.
В самом центре Флоренции, загроможденном башнями-крепостями и монастырскими стенами, располагался Палаццо делла Синьория, политический бастион республики. Отсюда Салютати руководил всеми делами своего крошечного государства, и здесь, как он считал, ковалась слава республики18. Независимость республики – то, что она не была сателлитом другой державы, не подчинялась папству и управлялась не королем, тираном или прелатом, а самими гражданами, для него было ценнее всего на свете. Его послания, депеши, протоколы и манифесты, подписанные от имени приоров Флоренции, читались и копировались по всей Италии. В них легко обнаруживалось влияние античной риторики, они пробуждали политическую мысль и ностальгию. Талантливый дипломат и политик отличался необычайной широтой гуманистического мировоззрения, пытаясь примирить этические принципы древности с новыми веяниями. Некоторое представление об особенностях его умонастроения дает письмо городу Анкона от 13 февраля 1376 года. Анкона, как и Флоренция, была независимой коммуной, и Салютати призывал граждан восстать против навязанного им папского правительства: «Долго ли вы будете пребывать во мраке рабства? О, лучшие из людей, знаете ли вы, как сладостна свобода? Наши предки, вся итальянская нация, пять столетий боролись… за то, чтобы не потерять ее»19. Конечно, восстание, к которому призывал Салютати, было в стратегических интересах Флоренции. Но в его обращении меньше всего было цинизма. Он искренне верил в то, что Флоренция является наследницей республиканизма, даровавшего величие Древнему Риму. Это величие, воплощавшее свободу и достоинство человека, давно покинуло разбитые и грязные улицы Рима, превратившегося в рассадник церковных интриг, но оно сохранялось, по мнению Салютати, во Флоренции. И он был его главным проповедником и рупором.
Салютати знал, что не вечен. В семьдесят лет канцлер, встревоженный как собственными религиозными сомнениями, так и угрозами городу, привлек к себе группу одаренных молодых людей. В кружок вошел и Поджо, хотя нам неизвестно, каким образом Салютати отбирал кандидатов в надежде найти себе достойную замену. Наиболее перспективным оказался Леонардо Бруни из Ареццо. Он был на десять лет старше Поджо и также не отличался сколько-нибудь выдающимся происхождением. Бруни изучал право, но, подобно другим интеллектуально одаренным молодым людям своего поколения, увлекся античностью. Решающим фактором стало освоение древнегреческого языка, что стало возможным после того, как в 1397 году Салютати переманил во Флоренцию известного византийского ученого Мануила Хрисолора давать уроки почти совершенно забытой словесности. «С появлением у нас Хрисолора я сделал свой жизненный выбор, – вспоминал потом Бруни. – Понимая, что делаю ошибку, бросая занятия правом, я посчитал, что совершу преступление, если не воспользуюсь уникальной возможностью изучить древнегреческую литературу»20. Увлечение переросло в одержимость: «Я предавался занятиям у Хрисолора с такой страстью, что познания, полученные в часы бодрствования днем, продолжали будоражить меня и в часы сна ночью».
В группе интеллектуалов, соревновавшихся за благосклонность Салютати, с Поджо мог сравниться только основательный, целеустремленный и трудолюбивый Бруни, нищий провинциал, не имевший никакого иного подспорья в жизни, кроме выдающегося ума. Хотя Поджо и уважал Бруни, ставшего впоследствии блистательным канцлером Флоренции и написавшего несколько замечательных трудов, в том числе и историю города, дружил он с другим учеником Салютати, эмоциональным и задиристым эстетом Никколо Никколи.
Никколи был на шестнадцать лет старше и в отличие от Поджо и Бруни родился в одной из самых богатых в городе семей. Его отец сколотил состояние на производстве шерстяных тканей, ростовщичестве, зерновых фьючерсах и других коммерческих операциях. Судя по налоговым записям девяностых годов XIV века, Никколо Никколи и его пятеро братьев затмевали своим богатством всех других состоятельных граждан квартала, в том числе и такие влиятельные семьи, как Бранкаччи и Питти. (Современные туристы, посещающие Флоренцию, могут сами оценить масштабы той роскоши, взглянув на величественный дворец Питти, построенный через двадцать лет после смерти Никколи.)
К тому времени, когда Поджо подружился с ним, состоятельность Никколи и его братьев уже шла на убыль. Они все еще были людьми богатыми, но вздорили между собой, и семья, похоже, не желала или не могла заниматься политическими интригами, необходимыми для сохранения и наращивания накопленных капиталов. Лишь тем, кто имел доступ к политической власти в городе и умел блюсти свои интересы, удавалось обойти губительную и зачастую карающую систему налогообложения. По остроумному замечанию историка Гвиччардини, налоги во Флоренции заменяли кинжалы21.
Все, чем располагал Никколи, он тратил на удовлетворение своей главной страсти, отвлекавшей его от других дел, которые могли бы помочь сберечь хотя бы часть семейного состояния. Торговля шерстью и товарные спекуляции его не интересовали, как и служение в синьории, правительстве республики, или в советах Двенадцати добрых мужей и Шестнадцати знаменосцев народного ополчения. Даже в большей мере, чем ментор и друзья по кружку гуманистов, Никколи был одержим наследием античности, и у него не оставалось времени для других занятий. Он настроился, возможно, еще в раннем возрасте, на то, что не будет стремиться к карьере и занимать какие-либо государственные должности, а, скорее всего, решил, пользуясь состоянием семьи, вести красивый и полноценный образ жизни и наслаждаться призраками прошлого.
Во Флоренции времен Никколи семья была главной социально-экономической и морально-психологической ценностью, и любой человек, не связавший свою жизнь с церковью, да еще унаследовавший приличное состояние, чувствовал на себе обязанность жениться, обзавестись детьми и приумножать богатство. Женитьба доставляет бездну всякого рода наслаждений и радостей22, – писал его современник Леон Баттиста Альберти, выражая не только свое, но и широко распространенное тогда мнение:
...
«Если интимные отношения и улучшают добронравие, то не бывает более глубокой и длительной близости, чем с собственной женой. Если прочность уз и родство душ и возникают во время откровенного разговора о чувствах и желаниях, то самые лучшие возможности для этого предоставляет общение с женой, твоим постоянным спутником. И наконец, если честный альянс и способствует дружбе, то нет иных взаимоотношений, которые бы так побуждали к благоговению, как священность супружества. Добавьте к этому еще то, что каждое мгновение совместной жизни приносит новые ощущения радости и пользы, наполняющие сердце великодушием».
Те же, кого не убеждало такое радужное описание семейной жизни, должны были прислушаться к суровым предостережениям против холостяцкого одиночества. Горе человеку, у которого нет жены, – нагонял страху на бобылей популярнейший проповедник эпохи Бернардин:
...
«Если он богат и чем-то владеет, то все растащат воробьи и мыши… Знаете, как будет выглядеть его ложе? Он валяется в канаве, а когда накинет простынь на свою постель, то никогда больше ее не снимет, пока она не истлеет. А в комнате, где он трапезничает, пол всегда усеян арбузными корками, костями и остатками салата… Он только протирает доски для разделки мяса, собака облизывает их и очищает. Знаете, как он живет? Как дикий зверь»23.
Никколи не внимал ни соблазнам, ни угрозам. Он оставался закоренелым холостяком, дабы женщины не отвлекали его от познаний. Приобретение знаний – именно так можно охарактеризовать смысл и образ жизни человека сугубо научного склада, каким и был Никколо Никколи, рано избравший этот путь и не сходивший с него с поразительным упорством. Ко всем остальным атрибутам стандартного человеческого счастья он относился с полным безразличием. Правда, по свидетельству биографа Веспасиано, у него все-таки была «домработница»24.
Никколи одним из первых европейских интеллектуалов начал собирать предметы античности как произведения искусства, а не антиквариат, обставляя ими свои апартаменты во Флоренции. Коллекционирование, ставшее в наше время привычным хобби толстосумов, тогда еще не было распространено. В Средние века паломники, конечно, любили поглазеть на римский Колизей и другие диковины язычества на пути к истинным и значимым сокровищам христианства – мощам святых и мучеников. В собрании Никколи содержалась совершенно другая идея – поклонение искусству.
Прослышав, что некий чудак готов заплатить хорошие деньги за античные головы и торсы, крестьяне, прежде пережигавшие на известь мраморные фрагменты и укладывавшие камни с древними рельефами в фундамент свинарников, теперь везли их коллекционеру. В элегантных комнатах Никколи рядом с античными римскими кубками, изделиями из стекла, камеями и медалями появились скульптуры, пробуждавшие интерес к коллекционированию у гостей.
Поджо вряд ли подавали еду на древних римских блюдах, как его другу, и он едва ли мог заплатить золотыми монетами за камею, случайно увиденную на уличном бродяге25. Но он полностью разделял страстное желание Никколи, лежавшее в основе собирательства, понять и вообразить культурную среду, создавшую все эти шедевры. Друзья проводили совместные исследования, обменивались анекдотическими историями из летописи Римской республики и Римской империи, размышляли над особенностями религии и мифологии, отразившимися в статуях богов и героев, измеряли фундаменты руин, обсуждали топографию и структуру древних городов и одновременно обогащали знание латинского языка, который оба очень любили и использовали в письмах и, возможно, даже в беседах.
Письма доказывают, что Никколо Никколи питал еще больше страсти к текстам, относящимся к античности и Отцам Церкви: его коллеги-гуманисты находили их в монастырских библиотеках. Он непременно хотел обладать ими, изучать и для этого не жалел времени на переписывание манускриптов, копируя их медленно и старательно почерком даже более красивым, чем у Поджо. Возможно, их дружба и зародилась на почве любви не только к образу античной мысли, но и к образу букв и слов: Никколи, как и Поджо, принадлежит авторство изобретения гуманистического письма.
Древние манускрипты стоили недешево. Но для страстного коллекционера цена не имела никакого значения. Библиотека Никколи пользовалась заслуженной известностью среди гуманистов и в Италии, и за ее пределами. Своенравный и чудаковатый затворник все же допускал в свой дом ученых мужей, интересовавшихся собранием книг. Никколи умер в 1437 году в возрасте семидесяти трех лет, оставив потомкам восемьсот манускриптов, по тому времени самую лучшую и большую коллекцию древних рукописей во Флоренции.
Следуя принципам Салютати, Никколи заранее и досконально определил судьбу своей библиотеки. И Петрарка и Боккаччо желали, чтобы собранные ими манускрипты после смерти сохранились нетронутыми, но их бесценные коллекции были частично распроданы, частично разошлись по рукам, частично пришли в запустение. (Уникальные кодексы, собранные Петраркой и привезенные в Венецию для того, чтобы заложить основу задуманного им нового варианта Александрийской библиотеки, были сложены и позабыты в сырости дворца, где и сгнили, превратившись в пыль.) Никколи постарался, чтобы такая же участь не постигла и его собрание – дело всей жизни. Он составил завещание, запретив продажу или разбазаривание книг, предусмотрев четкие правила их выдачи и возврата, назначив попечителей и выделив средства для строительства библиотеки. Предполагалось построить здание и разместить библиотеку в монастыре. Однако Никколи вовсе не хотел, чтобы это была сугубо монастырская библиотека, доступная лишь для монахов и изолированная от остального мира. Он завещал: книги должны служить не только религии, но и приносить пользу всем просвещенным гражданам, omnes cives studiosi 26. Спустя несколько столетий после закрытия последней римской библиотеки Никколи возродил идею доступного публичного чтения книг.
В конце девяностых годов, когда Поджо познакомился с Никколи, мания коллекционирования манускриптов, очевидно, только-только зачиналась, но друзей уже объединила общая зачарованность превосходством античной культуры – исключая, естественно, сферу религии – над всем, что последовало за ней. Поразительная литературная амбициозность и творческое горение Петрарки им не были присущи, как и патриотизм и любовь к свободе, питавшие гуманизм Салютати. Эти качества подменило нечто менее духовно высокое, более тяжелое и изнурительное: культ подражания и совершенства достоверности. Возможно, молодому поколению гуманистов просто-напросто недоставало таланта предшественников, но возникает подозрение, будто одаренные ученики Салютати намеренно не желали привносить что-либо новое в свою действительность. Чураясь новизны, они грезили о прошлом, стремясь возродить к жизни старые традиции. Это стремление, казавшееся узколобым, духовно безынтересным и обреченным на неуспех, дало неожиданные результаты.
За пределами кружка молодых гуманистов нарождающееся альтернативное отношение к языку и культуре вызывало отторжение. «Дабы выглядеть начитанными перед сбродом черни, – писал их возмущенный современник, – они на всю площадь орут о том, сколько дифтонгов было у наших предков и почему у нас теперь только два»27. Даже Салютати испытывал неловкость: он привил Поджо и Никколи пристрастие к классике, но его ученики явно отклонялись от главных идей и даже в какой-то мере отвергали их.
После смерти Петрарки 19 июля 1374 года опечаленный Салютати объявил его более великим прозаиком, чем Цицерон, и более великим поэтом, чем Вергилий. Впоследствии эта оценка показалась Поджо и Никколи нелепой, и они настояли на том, чтобы Салютати отрекся от нее. За минувшие столетия еще никому не удалось превзойти великих классических писателей в совершенстве художественного стиля, доказывали они. Это просто невозможно. Со времен античности мы наблюдаем длительный и трагический процесс стилистических искажений и утрат. Равнодушные или невежественные и даже, казалось бы, образованные средневековые писатели позабыли, как правильно составлять фразы на языке мастеров классической латыни и пользоваться словами с той же изящностью, утонченностью и точностью. Мало того, сохранившиеся образцы классических текстов содержат искажения и не могут служить достоверными примерами, даже если кому-то и хочется использовать их в качестве таковых. Древние авторы, цитируемые средневековыми схоластами, доказывал Никколи, «не узнали бы выражения, приписываемые им и представленные в искаженных текстах и переводах, исполненных без адекватного смысла и вкуса»28.
Петрарка, считавший недостаточным владение классическим стилем для обретения истинного литературного и нравственного величия, в свое время стоял на ступенях Капитолия, был увенчан лаврами поэта-лауреата и мог реально ощутить в себе дух родства с древностью. Но, с точки зрения молодого поколения приверженцев классицизма – радикалов, ничего стоящего не было создано ни Данте, ни Петраркой, ни Боккаччо, не говоря уже о менее известных личностях. «До тех пор, пока литературное наследие античности пребывает в столь жалком состоянии, – сетовал один из них, – не может быть ни подлинной культуры, ни сколько-нибудь обоснованных диспутов»29.
В этих словах, безусловно, отражены взгляды Никколи, но они ему не принадлежат. Их приписал ему в диалоге Леонардо Бруни. Кроме посланий близким друзьям, Никколи практически не оставил никаких иных сочинений. И мог ли он что-либо написать при своем сверхкритическом, желчном, узком и жестком подходе к классицизму? Друзья слали ему латинские тексты для проверки и корректирования. Реакция почти всегда была суровой, беспощадной и карающей. Но ведь Никколи так же жестко и немилосердно относился и к себе.
Никколо Никколи, как выразился Салютати, был для Поджо «вторым я»30. Однако Поджо не страдал закомплексованностью, помешавшей его другу раскрыть свой творческий потенциал. За свою жизнь он написал немало книг: о лицемерии, скупости, истинной знатности, изменчивости судьбы, несчастиях человеческого существования, историю Флоренции и трактат на тему о том, надо ли жениться старику. «Он обладал даром слова, – написал о Поджо его молодой современник Веспасиано да Бистиччи. – Он был большим мастером инвективы, и все испытывали благоговейный страх перед ним»31. Поджо, мастер инвективы, не пожелал удостоить Петрарку признания на уровне античных авторов. Но он все-таки отметил, что Петрарка «своими трудами, усердием и глубокой заинтересованностью» оживил «познания того, что было почти полностью уничтожено, и открыл дорогу для тех, кто пожелает за ним последовать»32.
На этот путь, без сомнения, встал Никколи, отбросив в сторону все другие жизненные интересы. Поджо был бы рад присоединиться к нему, но ему надо было как-то зарабатывать на жизнь. Он владел фантастическими способностями писца, но их было явно недостаточно для поддержания того образа жизни, который бы его устраивал. Превосходное знание классической латыни позволило бы ему стать преподавателем, однако это занятие вряд ли обеспечило бы его необходимыми удобствами и удовольствиями. Университетам не хватало помещений, библиотек, даров и пожертвований, а гуманистам платили гораздо меньше, чем профессорам физики и медицины. Большинство преподавателей гуманитарных наук вели кочевой образ жизни, переезжая из города в город с лекциями об избранных авторах и неустанно передвигались в надежде найти новых патронов. Поджо достаточно насмотрелся на таких горемык, и ему не хотелось повторять их участь. Ему надо было найти что-нибудь более стабильное и надежное.
В то же время Поджо не отличался ни патриотизмом, ни особой любовью к городу или к республиканской независимости и свободе, вдохновлявшей Салютати и Бруни. Ему не хватало и призвания, которое могло бы привести его в религиозный орден, побудило бы стать монахом или священником. Его интересы были сугубо мирские. Тем не менее ему надо было что-то предпринимать. И осенью 1403 года, имея на руках рекомендательное письмо от канцлера Салютати, двадцатитрехлетний Поджо отправился в Рим.
Глава 6 Фабрика вранья
Для амбициозного провинциала-выскочки самым желательным было бы оказаться в пышном и спесивом окружении папы, но для него в Риме открывались и другие заманчивые перспективы. Влиятельные аристократические семьи – вроде Колонна и Орсини – всегда могли найти применение человеку, в совершенстве знавшему латынь и обладавшему исключительно изящным почерком. Кроме того, римские епископы и кардиналы имели собственные дворы, в которых ценили умение составлять толковые нотариальные документы. Поджо и нашел себе место в одном из таких дворов – у кардинала Бари. Но это было лишь кратковременное трудоустройство: его ожидал более высокий пост на папской службе. Стойкий республиканец Салютати употребил все свое влияние при дворе правящего папы Бонифация IX для того, чтобы исполнилось заветное желание его даровитого ученика – получить должность апостолического писца.
Большинство папских бюрократов были уроженцами Рима и близлежащих местностей, многие их них, как и Поджо, изучали право. Хотя писцы и обязывались посещать мессу каждый день, их деятельность была сугубо светской. Они обеспечивали административную и деловую эффективность папства, привнося в него рациональность, управленческую и юридическую искусность. Папа был (или по крайней мере так считал) абсолютным повелителем значительной части Центральной Италии, простиравшейся на север до Романьи [29] и территорий, контролировавшихся Венецианской республикой. Многие подвластные ему города проявляли строптивость, правители соседних государств были такие же агрессивные, вероломные и своекорыстные, как и он сам, иностранные державы только и ждали удобного момента для вторжения на полуостров. Для того чтобы блюсти свой интерес, папа должен был обладать соответствующими дипломатическими, финансовыми и военными средствами и квалифицированным правительственным аппаратом.
Папа, конечно, был владыкой еще более обширного духовного царства, охватывавшего, по крайней мере в теории, все человечество и определявшего его судьбу как в этой, так и в последующей жизни. Некоторые из тех, кого он считал своими подданными, удивлялись его самонадеянности – как, например, народы Нового Света, которых папа на исходе XV века сделал вассалами королей Испании и Португалии; другие, например, евреи и православные христиане на востоке, упорно противились его домогательствам. Однако значительная часть христиан Запада, даже живших в отдаленных районах, не владевших латынью, на которой пытался общаться с ними папа, или знавших о прегрешениях, запятнавших его учреждение, верила в особый статус его власти. Они уповали на доктринерские наставления папства в сфере догматической религии, объявившей их основополагающими в судьбе каждой души и насаждавшей эту веру огнем и мечом. Они ждали от папства милостей – освобождения от исполнения различных правил канонического права, касавшихся, к примеру, бракосочетания и других деликатных социальных отношений. Они жаждали назначений на лакомые должности и подтверждения вожделенных бенефиций. Они лелеяли надежды удостоиться любых благ, которыми может одарить одних и лишить других людей (соперников) необычайно богатый и могущественный законодатель, землевладелец и духовный вождь. В то время, когда Поджо устраивался в Риме, в папский двор для рассмотрения поступало до двух тысяч ходатайств в неделю.
И для всей этой бюрократической активности, по интенсивности превосходившей любую канцелярию Европы, требовался профессиональный аппарат сотрудников – богословов, адвокатов, нотариусов, секретарей и обыкновенных чиновников. Надо было надлежащим образом составлять прошения и петиции, тщательно вести протоколы заседаний, регистрировать решения. Требовалось расшифровывать и переписывать приказы. Копировались и подтверждались печатями папские буллы, указы, патенты и грамоты. Подготавливались и распространялись сокращенные варианты этих булл. Двор епископа Рима был укомплектован штатом обслуживающего персонала, приличествующим его княжескому статусу, свитой помощников, советников и клерков, обеспечивавших политические занятия и церемониальные мероприятия, и он располагал еще канцелярией и солидным религиозным бюрократическим аппаратом.
В этот смешанный церковно-политический мир и вступил Поджо, надеясь на преуспевание и благоденствие. Служба в курии могла способствовать быстрому возвышению в церковной иерархии. Однако те, кто рассчитывал на такую карьеру, становились клириками. Поджо, безусловно, понимал, что посвящение в духовный сан открывает прямой путь к богатству и власти, и у холостяка, каким он и был, не имелось особых препятствий на этом пути. (Он уже имел любовницу и внебрачных детей, но данное обстоятельство тоже не могло служить препятствием.) Тем не менее Поджо не стал церковником.
Он прекрасно осознавал, что у него нет призвания к богослужению1. Конечно, аналогичные ощущения не были помехой для многих его современников. Однако Поджо руководствовался еще одним обстоятельством. Ему не нравилось то, что он замечал в людях, избравших церковную стезю. «Я решительно настроился на то, чтобы не принимать духовный сан, – писал Поджо своему другу Никколи, – увидев, как многие из тех, кто казался мне добропорядочным и великодушным, погрязли в алчности, лености и беспутстве, став священниками»2. Поджо хотел избежать такой участи: «Опасаясь, что нечто подобное случится и со мной, я решил провести остаток своего человеческого существования обыкновенным мирянином». Он сознательно повернулся спиной к представившейся возможности вести самый обеспеченный и надежный образ жизни в нестабильном мире, но моральная цена такой обеспеченности и надежности была для него слишком высока. «Я не считаю, что на поприще священнослужителя проявляется свобода личности, – писал он Никколи. – Напротив, я вижу в нем самую гнетущую и деспотичную форму служения»3. Избранный им способ служения – мирским чиновником на побегушках у папы – может показаться нам сегодня особенно тягостным и подневольным, но отказ от духовного сана для Поджо означал сохранение своей личной свободы, сохранение внутреннего ощущения независимости.
Он остро чувствовал необходимость в этом. Римская курия имела дурную репутацию морально опасного заведения, что красноречиво выразила латинская поговорка того времени: Curialis bonus, homo sceleteratissimus («Служащий куриальный – человек аморальный»)4. Нравственная атмосфера, в которую попал Поджо, ярко отображена в необычном для его эпохи труде, написанном в тридцатые годы XV века, когда Поджо все еще занимал видное место в окружении папы. Труд под названием «О преимуществах и достоинстве Римского двора» принадлежит перу представителя более молодого поколения гуманистов флорентийцу Лапо да Кастильонкьо. Он использует форму диалога в стиле Цицерона, к которому прибегали авторы, желавшие выразить спорные и опасные взгляды не от своего имени. В начале разговора персонаж, названный Анджело, не сам Лапо – упаси Господи – обвиняет курию в моральном банкротстве, характеризуя ее как место, где «преступные деяния, поругание нравственности, жульничество и обман превращены в добродетели»5. Нелепо принимать этих отъявленных лицемеров за поборников веры. «Нет ничего более чуждого религии, чем курия»6.
Лапо, говоря уже от собственного имени, выступает в защиту папского двора. Да, это заведение привлекает толпы просителей, но мы знаем, что Господу любо, когда ему молятся миллионы. Таким образом, Он должен быть особенно доволен великолепными спектаклями, устраиваемыми в Его честь священниками в роскошных одеяниях. Для простых смертных курия является наилучшим местом, где можно обрести такую добродетель, как благоразумие, поскольку ее посещают так много людей, приезжающих со всего света. Взгляните на потрясающее многообразие их одежд, послушайте разноязыкий говор. По одним лишь бородам можно понять несходство человеческих нравов. Папский двор предоставляет наилучшие возможности и для гуманистических познаний. В конце концов, «личным секретарем папы (и, соответственно, влиятельной фигурой), – приводит Лапо еще один весомый аргумент, – служит Поджо Флорентийский, человек высокообразованный, основательный, учтивый и обладающий красноречием и острым умом»7. Верно, соглашается Лапо, в курии процветают лихоимство и коррупция, но это дело рук небольшой группы воришек и мздоимцев, из-за которых папский двор и приобрел дурную славу. Может быть, папа все-таки обратит на это внимание и прогонит нечистых на руку людей. В любом случае для нас всегда важнее главные предназначения, а не отдельные преходящие огрехи.
Анджело, явно уступая аргументам оппонента, переключается на тему ловкачества адвокатов в курии, их способности улавливать слабости и интимные тайны человека и использовать любую возможность для обогащения. Какие же у них фантастические доходы, если человеку приходится платить огромные суммы за клочок бумаги с папской печатью! Курия – это золотое дно. Нет более нужды в пропаганде бедности Иисуса Христа. Необходимость в этом была лишь вначале – чтобы избежать обвинений в заманивании верующих. Времена переменились. Обогащение, без которого немыслимо любое стоящее предпринимательство, теперь позволительно любому человеку. Священникам разрешено обогащаться сколько угодно. Они должны лишь оставаться бедными «в душе». Глупо требовать от святых отцов любого ранга стать реально бедными8.
Диалог продолжается и продолжается в том же невозмутимом и вроде бы откровенном духе. Курия предоставляет прекрасные возможности не только для занятий серьезными исследованиями, но и для развлечений: охоты, верховой езды, азартных игр. Только представьте себе званые обеды с увлекательными сплетнями, изысканными кушаньями и напитками и безусыми прелестными мальчиками, подающими блюда. Для тех, кого не интересуют удовольствия Ганимеда, в изобилии предлагаются наслаждения Венеры. Гетеры, похотливые матроны, всякого рода куртизанки занимают центральное место в жизнедеятельности курии. И в том нет ничего необычного, поскольку наслаждения, которые они предлагают, играют столь же важную роль в удовлетворении потребностей человека в ощущениях счастья. Любовные песнопения, обнаженные груди, поцелуи, ласки, лизание промежности специально натренированными для возбуждения желаний болонками – все это стоит очень недорого.
Подобное любование откровенным распутством и мздоимством ради обогащения можно было принять за ловкую сатирическую проделку. Однако диалог «О преимуществах и достоинстве Римского двора» являет собой весьма своеобразную сатиру, и не только потому, что восхваление тех поступков, которые по замыслу автора должны вызывать у читателя отвращение, приветствовалось некоторыми его соотечественниками9. Дело в том, что, когда Лапо писал свой труд, он домогался назначения в ту же самую курию. Возможно, он испытывал противоречивые чувства. Очень часто люди презирают то учреждение, в которое хотят устроиться на работу. Тем не менее похоже на то, что в инвентаризации пороков курии отражено нечто большее, чем двойственность намерений Лапо.
В его произведении есть место, где он воздает хвалу скабрезным историям, анекдотам и небылицам, которыми обменивались в разговорах апостолические писцы и секретари. Для Лапо не важно, правдивы они или ложны. Главное то, что они занимательны и потому поучительны:
...
«Никому не было пощады, ни отсутствующим, ни присутствующим, доставалось всем в равной мере под дружное гоготанье всей компании. Званые обеды, трактирные посиделки, сводничество, лихоимство, воровство, сексуальные приключения, факты прелюбодеяния и другие постыдные поступки предавались гласности, становясь предметом всеобщего осмеяния. Это доставляло не только удовольствие, но и приносило пользу, поскольку таким образом перед всеми раскрывались особенности жизни и склада характера каждого»10.
Конечно, Лапо иронизировал. Но одновременно он демонстрировал, что владеет сарказмом и способен принимать участие в циничных разговорах, которые высмеивает. Фактически он предлагал себя членам курии и прежде всего Поджо Флорентийскому.
К тому времени, когда Лапо вознамерился устроиться в курию, Поджо уже не был писцом: он занимал более высокий и хорошо оплачиваемый пост папского секретаря. Тогда при папском дворе числилось около ста писцов и всего лишь шесть апостолических секретарей. Поджо имел прямой доступ к понтифику и пользовался значительным влиянием. Толковое предложение, вовремя сказанное слово могли изменить ход рассмотрения важного дела или судьбу выгодной бенефиции.
Среди помощников особое положение занимал secretarius domesticus , или secretus , то есть личный или самый приближенный и доверенный секретарь. Этот пост был самым вожделенным, и, потратив немало лет в трудах на благо его преосвященства, Поджо, чей отец бежал от кредиторов, наконец получил его. Честолюбивый Лапо, да и любой другой претендент на должность при дворе понтифика мог без труда заметить, что «человеком папы» был в первую очередь и прежде всего Поджо.
Но почему Лапо решил, что ироническое изображение развращенного заведения, в котором ему хотелось получить место, поможет снискать расположение Поджо? Ответ простой. В тридцатые годы XV века, а может быть, и ранее, Поджо стал центральной фигурой в тусовке секретарей, которую он сам назвал Bugiale, «фабрикой вранья». Имеются в виду регулярные собрания папских секретарей, на которых они обменивались забавными историями и анекдотами. «Мы никого не щадили11, – писал потом Поджо, вторя Лапо. – Все, что нами не одобрялось, подвергалось осуждению. Зачастую сам папа становился предметом порицания» [30] . Истории, тривиальные или озорные, нередко непристойные, лживые и пасквилянтские, всеми почти сразу же забывались. Запомнились они лишь Поджо. Он додумался сесть за стол и на своем блистательном латинском языке изложил беседы на бумаге, составив сборник, известный под названием «Facetiae» – «Фацетии».
Анекдоты редко сохраняют свою актуальность и свежесть столетиями. Можно считать чудом то, что нас и сегодня заставляют улыбаться некоторые шутки Шекспира, Рабле и Сервантеса. «Фацетии» Поджо, написанные почти шестьсот лет назад, представляют интерес больше как симптомы своего времени. Эти реликты, подобно засохшим в камне древним насекомым, донесли до нас отпечатки стародавней жизни Ватикана. Некоторые шутки отражают обыденные служебные коллизии, случающиеся и сегодня в труде секретарей. Босс рутинно заявляет, что обнаружил ошибки, и требует переписать документ. После того как вы приносите ему тот же документ, притворившись, что ошибки исправлены, он берет его в руки и, бегло просмотрев, говорит: «Теперь все в порядке, можете запечатать»12.
В сборнике есть и миниатюры о природных чудесах и чудищах, напоминающие народные побасенки, а также истории, относящиеся к деятельности церкви. В одной из них он сравнивает папу, пообещавшего побороть схизму, с шарлатаном-скоморохом в Болонье, позвавшим народ смотреть, как он полетит на крыльях: «В конце дня, когда собравшаяся толпа с нетерпением ожидала его полета, он непристойно обнажился и показал всем свой зад»13.
Большинство историй так или иначе связано с сексом. Причем они насыщены непристойными подробностями, женоненавистничеством, презрением к вахлакам и отчасти к церковникам. Вот женщина14, убеждающая неискушенного в таких делах супруга в том, что у нее два влагалища ( duos cunnos ): одно из них, спереди, она предоставляет ему, а другое, сзади, супруга, благочестивая душа, жертвует церкви. Все устраивается наилучшим образом, так как приходский священник вполне доволен дарением. В одной из новелл безмозглый священник в проповеди против распутства ( luxuria ) описывает способы, которыми супруги пользуются для повышения удовлетворения от полового акта, а его прихожане записывают их, чтобы испробовать дома. В другом рассказе не менее тупой святой отец, у которого почти все женщины на исповеди говорят о верности мужьям и почти все мужчины признаются в половых связях с чужими женами, никак не может понять, с какими же женщинами согрешают мужья. В историях постоянно фигурируют сладострастные монахи и отшельники, жадные купцы, хитрые пройдохи, неверные жены и глупые мужья, сюжеты о магическом излечении женских недомоганий в постели. Скабрезна новелла о коллеге-гуманисте Франческо Филельфо: ему приснилось, что он надел на палец подаренное дьяволом кольцо, которое не должно позволить супруге изменять ему. Проснувшись, он почувствовал, что палец находится во влагалище жены. В таком же духе исполнена история о враче-шарлатане, утверждавшем, что способен делать детей разного назначения: купцов, солдат, генералов – в зависимости оттого, насколько глубоко введет свой пенис. Один простак заказал солдата и привел к нему жену. Передумав, он вышел из укрытия, пихнул проходимца в зад, чтобы его орудие вошло поглубже, и вскричал торжествующе: «Per Sancta Dei Evangelia, hic erit Papa!» [31] 15 («Теперь у нас будет папа римский!»)
«Фацетии» имели огромный успех.
Если Поджо в своем произведении – самом популярном своде анекдотов своей эпохи – и отразил в какой-то мере моральную атмосферу папского двора, то не вызывают удивления и попытки Лапо обратить на себя внимание ироническим диалогом по поводу царившей в нем безнравственности и цинизма. (Так случилось, что спустя несколько месяцев после написания диалога, восхваляющего папскую курию (« Dialogue in Praise of the Papal Court »), бедняга Лапо умер от чумы в возрасте тридцати трех лет.) К началу XVI века иерархи католической церкви, встревоженные протестантской Реформацией, попытаются искоренить в своих рядах любые проявления подстрекательского юмора. «Фацетии» Поджо вместе с книгами Боккаччо, Эразма Роттердамского и Макиавелли окажутся в списке произведений, которые церковь желала бы сжечь16. Но в мире, в котором жил Поджо, еще разрешалось и даже считалось модным разоблачать то, что в любом случае уже было известно. И Поджо мог без опаски писать о заведении, в котором провел значительную часть своей сознательной жизни, как об учреждении, где «редко ценятся талант или честность17; все добывается интригами или случайным везением, не говоря уже о деньгах, которые, похоже, вершат миром» [32] .
Амбициозные молодые интеллектуалы, живущие своим умом, папские писцы и секретари, считали себя способнее, башковитее и достойнее прелатов, которым служили. Естественно, они испытывали чувства возмущения и негодования. «Нас коробило то, что высшие посты в церкви занимают некомпетентные личности, образованные и разумные люди остаются в тени, а выдвигаются невежественные и ничтожные индивиды»18.
Вполне предсказуемо, что в кругу этих интеллектуалов процветали подсиживание и соперничество. Мы уже знаем по язвительным ремаркам о происхождении Поджо, к каким приемам прибегали коллеги-гуманисты в очернительстве друг друга. В аналогичном тоне Поджо записал и «шутку» о своем сопернике Филельфо:
...
«В папском дворце, в кружке секретарей19, где, как всегда, находились многие ученые мужи, речь зашла о распутной и грязной жизни этого негодяя Франческо Филельфо. Многие обвиняли его в целом ряде преступлений. Кто-то спросил, знатного ли он роду. Один мой земляк, милый и остроумный человек, сказал с самым серьезным видом: “Ну конечно, он блистает благородством, ибо отец его всегда носил по утрам шелковые одежды [33] ».
И затем, чтобы читатели поняли его сарказм, Поджо объясняет: земляк намекал на то, что «Филельфо – внебрачный сын священника, так как во время службы священники обычно одеты в шелка».
По прошествии столетий подобные склоки кажутся пустячными и наивными. Однако ими занимались взрослые люди, готовые пустить друг другу кровь, и уколы иногда были далеко не риторические. В 1452 году Поджо поссорился с другим папским секретарем, всегда мрачным Георгием Трапезундским, по поводу приоритетного авторства некоторых переводов древних текстов. Когда Поджо назвал его лжецом, Георгий ударил обидчика кулаком. Соперники в гневе отскочили к своим письменным столам, но драка моментально возобновилась. 72-летний Поджо одной рукой вцепился в щеку и рот 57-летнего Георгия, а другой пытался вырвать у него глаз. После стычки Георгий написал Поджо, что вел себя с образцовой сдержанностью: «Хотя я и мог откусить пальцы, которые вы запустили в мой рот, но не сделал этого. Поскольку я сидел, а вы стояли, то я мог обеими руками оторвать вам яйца и свалить с ног, но я не сделал и этого»20. Вся история похожа на фарс, напоминающий анекдотические новеллы Поджо, за исключением реальных последствий. Пользуясь своими связями и обладая более общительным характером, Поджо добился изгнания Георгия из курии. Поджо закончил свой жизненный путь, удостоенный почестями; Георгий умер в забвении, злобе и бедности.
В знаменитом труде XIX века о «возрождении познаний» Джон Аддингтон Саймондз, описывая гладиаторские стычки ученых-гуманистов, высказывает предположение, что они доказывали таким образом свое увлечение научными изысканиями21. Возможно. Какими бы дикими ни казались оскорбления, гуманисты спорили по поводу важных проблем: латинской грамматики, ошибок стиля и правильности переводов. Тем не менее гротеск и злобность инсинуаций – в споре по поводу латинской стилистики Поджо обвинял более молодого гуманиста Лоренцо Валлу в ереси, воровстве, лжи, подлоге, трусости, пьянстве, сексуальных извращениях и безумном тщеславии – вскрывает нечто низменное и отвратительное в образе жизни этих высокообразованных личностей.
Стремясь получить место в курии, Лапо, похоже, отлично понимал, насколько нездоров и пагубен моральный климат при папском дворе. Проблема была не в отдельных индивидах, а в системе. Папский двор для удовлетворения своих нужд должен был полагаться на услуги безродных и саркастических интеллектуалов. Эти интеллектуалы, в свою очередь, вынуждены были ублажать патронов, от чьей милости зависели, оставаясь в то же время циничными и мятежными. Как можно было избежать того, чтобы неуемный цинизм, алчность и лицемерие, необходимость угождать извращенным деспотам, претендующим на то, чтобы морально наставлять все человечество, бесконечная борьба за доходное место при дворе духовного монарха не вытравили из человека все то, что в нем еще оставалось порядочного и достойного? Как можно было покончить с самоуничижением и жгучим чувством негодования?
Поджо нашел способ борьбы с этим недугом, от которого он сам так до конца и не оправился, – насмешки, неудобные и скабрезные насмешки «Фацетии». Смех давал ему некоторое облегчение, но явно недостаточное. Отсюда – серия диалогов: «Об алчности», «О лицемерии», «О знатности», «Об изменчивости судьбы», «О несчастии человеческой жизни» и т. д. В них он взял на себя роль крайне серьезного моралиста. Существует прямая связь между анекдотами и моральными эссе, но жанр морализаторских очерков позволил ему развить идеи, намеченные в анекдотических историях.
В эссе о лицемерии тоже присутствуют сюжеты о клириках-развратниках, но они являются частью более глубокого анализа институциональной проблемы: почему церковники и прежде всего монахи особенно предрасположены к фарисейству? Есть ли какая-то взаимосвязь между профессией религиозного служителя и склонностью к двуличию и шарлатанству? Безусловно, здесь замешаны и сексуальные мотивы, однако не только они повинны в том, что развелось столько лицемеров в таких солидных заведениях, как курия, и среди монахов, прославившихся показной набожностью и напускной аскетической бледностью и домогающихся различных бенефиций, благ и привилегий. Невозможно лишь сексуальной озабоченностью объяснить существование еще более многочисленной когорты фарисеев вне курии: в среде обаятельных проповедников, зарабатывающих немалые деньги своими зычными голосами и угрозами осуждения на вечные муки. Есть они и среди миноритов, заявляющих о приверженности правилам ордена Святого Франциска, но исповедующих моральные принципы бандитов, и в ордене нищенствующих монахов с их котомками, длинными волосами и притворством, будто они живут в священной бедности, и в стане исповедников, выпытывающих самые сокровенные тайны и мужчин и женщин. Почему бы всем этим манифестантам экстравагантной религиозности не укрыться в кельях и не посвятить жизнь только лишь молитвам и соблюдению постов? Но нет. Демонстрация набожности, смирения и презрения к окружающему миру служит им прикрытием алчности, лености и тщеславия. Конечно, скажет кто-то, есть хорошие и добропорядочные монахи. Но их мало, очень мало, и они тоже постепенно втягиваются в пороки, поскольку неизбежность развращения является неотъемлемым свойством такой профессии.
«Поджо», в роли одного из персонажей диалога, заявляет, что фарисейство лучше, чем открытое насилие. Его друг Алиотти, аббат, с ним не согласен: оно дурнее, поскольку каждый может прочувствовать ужас, испытываемый сознавшимся насильником или убийцей; намного труднее защититься от обмана. Как же распознать лицемера? Если его притворство похоже на правду, то очень сложно отличить подлог от истины. В диалоге перечисляются характерные признаки фальши. С подозрением следует относиться к любому человеку, который демонстрирует чрезмерную непорочность в жизни22; ходит босой по улицам, с лицом грязным и в поношенном одеянии; афиширует презрение к деньгам; то и дело упоминает имя Иисуса Христа; хочет, чтобы его считали хорошим, но реально не сделал ничего хорошего; зазывает к себе женщин для удовлетворения своих желаний; снует повсюду, уходя из монастыря, в поисках славы и почестей; выказывает приверженность к постам и другим аскетическим занятиям; побуждает других людей оказывать ему услуги; не желает признавать или возвращать то, что ему дают в долг.
Практически любого священника или монаха, имеющего отношение к курии, следует считать фарисеем, писал Поджо, ибо исполнять высокие предназначения религии там невозможно. И если вам в курии встретится человек, проявляющий особое смирение, знайте: это не просто фарисей, а фарисей в высшей степени. В общем, надо остерегаться людей, которые кажутся слишком совершенными, и помнить, что в действительности очень трудно быть порядочным: «Difficile est bonum esse» .
Эссе против лицемерия написал не поборник Реформации и последователь Мартина Лютера. Произведение принадлежит перу папского бюрократа, жившего и трудившегося в самом центре иерархии Римско-католической церкви. Данное обстоятельство указывает на то, что церковь, обыкновенно не терпевшая нападок на свои доктрины и институты, снисходительно относилась к критике, рождавшейся в ее тенётах и исходившей в том числе от сугубо светских сотрудников вроде Поджо. Оно свидетельствует и о том, что Поджо и его коллеги-гуманисты выражали негодование и отвращение к церковным порядкам не только средствами их непристойного высмеивания и потасовками друг с другом.
Самый выдающийся критический труд о фальши в церковной деятельности написал Лоренцо Валла, заклятый недруг Поджо. Используя свое блестящее знание латинской филологии, он доказал подложность так называемого «Константинова дара», грамоты римского императора, даровавшей папе верховную власть над всей западной частью Римской империи. Этим детективным исследованием автор подверг себя серьезной опасности. Однако церковь стерпела и этот удар. Папа-гуманист Николай V назначил Лоренцо Валлу апостолическим секретарем, и не менее независимый и критически настроенный человек, чем Поджо, также трудился в учреждении, которое уличил в подлоге.
Все же Поджо недоставало радикализма и оригинальности своего недруга. Один из персонажей диалога «О лицемерии» высказывает аргумент, который мог увести его в опасные дебри сопоставления театрально-притворной святости в католической церкви и фальши оракулов в язычестве, используемых для внушения благоговейного страха и манипулирования невежественными людьми. Эта опасная идея, которую в следующем столетии выразил Макиавелли в шокирующем исследовании использования религий в политических целях, так и не была изложена в диалоге. Поджо ограничился фантазиями по поводу разоблачения фарисейства. Попав в загробный мир, говорит он нам, мертвые, прежде чем войти в преисподнюю, должны миновать ворота разных диаметров. Об одних, и хороших и плохих, стражу известно все, и они проходят через широкие ворота. Умершие, о чьей честности и лицемерии нет никакой ясности, пропускаются через узкие ворота. Честные души минуют их почти без единой царапинки, фарисеи выйдут с разодранной кожей.
В этом фантазировании об истязании лицемеров отражаются и агрессивность и пессимизм Поджо: фарисеи будут разоблачены и понесут неминуемое наказание, но это случится только лишь в загробной жизни. Если в его насмешливости всегда сквозит негодование, то в негодовании всегда присутствует отчаяние из-за осознания многострадальности человеческого существования, невозможности исправить злоупотребления и сохранить то, что еще представляет какую-то ценность.
Подобно многим своим коллегам, Поджо вел обширную переписку, и по письмам видно, до какой степени он стал циником, чувствуя отвращение ко всему и усталость от жизни, что, вероятно, было присуще большинству чиновников в папском окружении. Монастыри, писал он другу, «вовсе не сообщества богомольцев и не пристанища для истинной веры, а рассадники преступности», а курия – «клоака человеческих пороков»23. Повсюду в Риме люди крушат древние храмы, чтобы добыть известь из камня, и через поколение или два многие шедевры античности, гораздо более ценные, чем нынешние жалкие сооружения, исчезнут. Он ведет никчемный образ жизни и должен найти выход из этой неприятной ситуации: «Мне надо попробовать себя в разных ипостасях24, подыскать себе что-то подходящее моим склонностям, перестать быть в услужении у других людей и заняться литературой».
Он не раз предавался фантазиям по поводу того, чтобы изменить образ жизни – «уйти от этой мирской суеты, ничтожных забот и раздражений и обрести свободу, покой и душевное равновесие в бедности»25. Но Поджо понимал: такой путь для него закрыт. «Я не знаю, что буду делать вне курии26, – делился он своими переживаниями с Никколи, – кроме как учить детей или работать на какого-нибудь хозяина, а скорее всего тирана. Если бы мне пришлось посвятить себя одному из этих занятий, то оба варианта были бы для меня несчастливыми. Как вам известно, любая неволя унизительна, а услужение прихотям нечестивого человека в особенности. Что касается преподавания в школе, то избавь меня, Боже, от такой участи! Лучше иметь дело с одним человеком, а не с множеством». Все-таки для него предпочтительнее остаться в курии в надежде на то, что ему удастся скопить достаточно денег для ранней отставки: «У меня одна цель – в полную силу поработать еще несколько лет и обеспечить себя свободным временем до конца жизни»27. «Несколько лет» превратились в полвека.
Мечтания, колебания, компромиссы обычно присущи стилю жизни неудачников. Поджо вряд ли можно записать в эту категорию людей. Однако он жил в мире коррупции и алчности, в мире, который постоянно потрясали заговоры, мятежи, войны и вспышки эпидемии чумы. Он служил в римской курии, но и папский двор был не самым стабильным местом в Риме: папу вместе с придворными вынуждали время от времени бежать из города. Поджо сопротивлялся невзгодам, как и все его современники, испытывая боль, от которой не было исцеления, и преодолевая непреходящую угрозу расстаться с жизнью. Естественно, он заразился желчным, защитным цинизмом и иллюзиями ухода от реальности.
Спасли его книги.
Когда в 1406 году умер Салютати, великий мыслитель и учитель Поджо, его оплакивали все, в ком он открывал «проблески интеллекта»28 и кому помогал советами, рекомендательными письмами, деньгами и книгами. «Мы потеряли отца, – писал Поджо. – Мы лишились пристанища и спасительной гавани для всех ученых, светоча нации». Поджо утверждал, что плакал, когда писал эти слова, и у нас нет никаких оснований не верить ему. «Передайте мои соболезнования его сыновьям, – сообщал он Никколи во Флоренцию, – и скажите, что мне очень горько и тяжело». «Узнайте заодно, что будет с его книгами?» – добавлял Поджо.
«Меня до глубины души потрясла и ужаснула смерть Бартоломео де Монтепульчано»29, – писал он Никколи уже в июле 1449 года. Бартоломео был близким другом Поджо, с которым он обследовал монастырские библиотеки в Швейцарии. Одновременно он сообщал о находке в Монте-Кассино: «Я обнаружил книгу Юлия Фронтина “ De aquaeductu urbis” » [34] 30. Через неделю он вновь возвращается к теме разыскивания манускриптов. Поджо упоминает два древних манускрипта, которые только что скопировал и хотел бы переплести31:
...
«Я не смог написать вам из города вследствие и переживаний в связи со смертью моего дорогого друга, и смятения души, вызванного отчасти страхами и отчасти внезапным отъездом папы. Я должен уехать из дома, чтобы устроить все свои дела. Так много надо сделать, что не остается времени не только для писем, но и для того, чтобы перевести дыхание. К тому же это величайшее горе, которое еще больше все омрачает. Вернемся, однако, к книгам».
«Вернемся, однако, к книгам…» Это дает возможность уйти от реальности, от страхов, смятения и боли. «Страна еще не оправилась после чумы, обрушившейся на нее пять лет назад, – писал Поджо в сентябре 1430 года. – Сейчас снова, похоже, на нас надвигается такое же смертоубийство»32. И здесь же: «Вернемся, однако, к нашим делам. Понимаю, что вы имеете в виду в отношении библиотеки». Если нет чумы, то приходит война: «У каждого человека свой смертный час. Даже города обречены на гибель». Далее следует тот же мотив: «Посвятим же себя книгам. Они отвлекут нас от тревог и научат презирать то, чего вожделеют другие»33. На севере могущественный Висконти из Милана собирает армию; флорентийские наемники осадили Лукку; мутит воду в Неаполе Альфонсо; треплет нервы папе император Сигизмунд. А Поджо пишет: «Я давно решил, что буду делать, когда все пойдет так, как того опасаются многие люди, – посвящу себя греческой литературе…»34.
Поджо проявлял осторожность в отношении своих писем, справедливо полагая, что их могут прочесть и посторонние лица. Однако он не скрывал одержимости книгами, его страсть к литературе была подлинной, откровенной и искренней. Она создавала ему то редкостное ощущение, которое не полагалось испытывать папскому чиновнику: ощущение свободы. «Ваш Поджо, – писал он, – может удовлетвориться очень малым, и вы сами это скоро поймете. Я счастлив, когда освобождаюсь для чтения, освобождаюсь от других дел, которые передаю другим. Я стараюсь быть свободным столько, сколько могу»35. Свобода в данном случае не имеет ничего общего с политической свободой, правами человека или возможностью говорить все, что заблагорассудится. Скорее это ощущение внутреннего уединения, ухода от треволнений мира, в который он сам же и пробивался, – ощущение собственного, обособленного и независимого пространства. Для Поджо это ощущение означало погрузиться в чтение древнего текста: «Я счастлив, когда освобождаюсь для чтения».
Поджо больше всего ценил «свободу чтения» в те времена, когда обычные итальянские политические неурядицы становились особенно раздражительными, или когда папский двор переживал очередной кризис, или когда он сам испытывал неприятности, связанные либо с неисполнением честолюбивых замыслов, либо, напротив, с их исполнением, создававшим для него новые опасные обстоятельства. Она пригодилась ему и тогда, когда где-то после 1410 года Поджо36, способный гуманист-писец и папский придворный, занял самый престижный и в то же время самый опасный пост в своей карьере – пост апостолического секретаря злобного, жестокого и коварного Бальдассаре Коссы, избранного папой.
Глава 7 «Яма для ловли лис»
Служить апостолическим секретарем папы – предел желаний куриального чиновника. Поджо было всего лишь чуть более тридцати лет, но благодаря своим способностям он уже поднялся на вершину бюрократии церковной иерархии. А при дворе понтифика в это время кипела бурная деятельность: велись дипломатические переговоры, заключались сделки, обсуждались слухи о вторжении, выстраивались хитроумные схемы борьбы с ересью, обманных политических ходов и двуличных инициатив, ибо Бальдассаре Косса, или папа Иоанн XXIII, как он называл себя, был отменным мастером интриг. Поджо контролировал доступ к понтифику, отбирал и готовил для него ключевую информацию, записывал распоряжения, формулировал политические установки, составлял на латыни проекты посланий князьям и государям. В силу необходимости ему полагалось быть посвященным в самые сокровенные тайны, стратегии и планы хозяина в его отношениях как с двумя соперниками, претендовавшими на святой престол1, так и с императором Священной Римской империи, стремившимся прекратить церковный раскол, с еретиками в Богемии и соседними державами, нацелившимися на территории, принадлежавшие церкви. Простой перечень проблем показывает, какая нагрузка свалилась на голову Поджо.
Тем не менее и при такой нагрузке Поджо нашел время для того, чтобы скопировать своим изумительным почерком три книги Цицерона «De legibus» («О законах») и его речь в защиту Лукулла. (Манускрипт хранится в Ватиканской библиотеке – Cod. Vatican lat. 3245.) Каким-то образом ему удалось оторваться от дел ради «свободы чтения». Эта свобода – уединение в античности – обычно отчуждала его от окружающей действительности. Тем не менее из-за любви к классической латыни он не идеализировал, в отличие от некоторых своих современников, историю Древнего Рима, хотя и понимал, что город, в котором он жил, является лишь бледной тенью своего великого прошлого.
Население Рима, мизерная часть прежней численности, проживало разрозненными колониями: одна из них занимала Капитолий, где когда-то стоял внушительный храм Юпитера, другая обитала возле Латерана, императорского дворца, подаренного Константином римскому епископу, третья – вокруг разваливающейся базилики Святого Петра IV века. Между ними простирались пустыри с руинами, лачугами и полями, усыпанными валунами2. Овцы паслись на Форуме. На грязных улицах орудовали бандиты и разбойники. В городе не было никакой промышленности, торговцы бедствовали, не существовало класса ремесленников и бюргеров, обитатели не имели никакого понятия о гражданском достоинстве или гражданских свободах. Единственно серьезным предпринимательством была добыча железа и мраморной облицовки в древних сооружениях для их вторичного использования в церквях и дворцах.
Хотя большинство сочинений написаны Поджо в поздний период жизнедеятельности, видимо, он всегда испытывал душевную боль, вызываемую современной действительностью и отразившуюся в произведениях. Успехи на службе понтифику Иоанну XXIII лишь усугубляли эту боль и будоражили фантазии о бегстве из реальности. Подобно Петрарке, он чувствовал археологическую ностальгию по прошлому, о котором напоминали развалины современного Рима. Капитолийский холм, сетовал Поджо, был когда-то «величавой главой Римской империи, цитаделью всей земли, грозой царей, свидетелем стольких триумфов и властителем стольких наций». Теперь же:
...
«Как потускнела краса всего мира! Как переменилась! Как испоганилась! Тропы побед заросли лозой, а скамьи сенаторов покрылись навозом… Форум, где римляне принимали законы и избирали магистратов, используется для выращивания зелени к столу и выпаса свиней и буйволов»3.
Грустно смотреть на реликты былого величия. Поджо и его друзья-гуманисты могли лишь представить в воображении, как все было прежде: «Взгляните на Палатинский холм, и перед вами среди бесформенных фрагментов возникнут мраморный театр, обелиски, колоссы-статуи и портики Нерона»4. Но никакое самое богатое воображение не могло вырвать Поджо и его друзей из мерзостей реальной действительности.
А эта реальность в смутные годы правления папы Иоанна XXIII не только лишала Поджо мимолетной свободы, но и порождала отвращение и цинизм. Для него и других папских чиновников составляло немалую трудность сохранить хотя бы намеки на нравственность, служа этому понтифику.
Бальдассаре Косса был на десять лет старше своего апостолического секретаря. Он родился на крохотном вулканическом острове Прочида недалеко от Неаполя. Его аристократическое семейство владело всем островом, где укромные пещеры и хорошо защищенная крепость создавали прекрасную возможность для процветания бизнеса особого рода – пиратства. Это занятие было достаточно опасным: два брата Бальдассаре были схвачены и приговорены к смертной казни. Полезные связи помогли заменить умерщвление тюремным заключением. Противники утверждали, будто молодой Косса принимал участие в семейном бизнесе вследствие привычки не спать по ночам, и это увлечение в какой-то мере определило его взгляды на жизнь и окружающий мир.
Островок Прочида был слишком мал для реализации талантов Бальдассаре. Энергичный и пронырливый, он рано проявил интерес к деятельности, которую мы назвали бы высшей формой пиратства. Бальдассаре изучал юриспруденцию в университете Болоньи – в Италии, и эта наука, а не теология, подготовила его для карьеры в церковной иерархии: он стал доктором и гражданского и канонического права. Во время выпускной церемонии, торжественного и нарядного мероприятия, в ходе которого кандидата триумфально проводят по улицам города, Бальдассаре спросили: «Теперь что ты намерен делать?» Косса ответил: «Буду папой»5.
Косса начинал свою карьеру, как и Поджо, при дворе земляка, неаполитанца Бонифация IX, исполняя обязанности камерария. В этом качестве он курировал торговлю церковными должностями и доходный рынок индульгенций. Он также участвовал в организации чрезвычайно прибыльного мероприятия, называвшегося юбилеем, когда толпы паломников устремлялись в главные церкви Рима для получения юбилейной индульгенции, то есть полного отпущения грехов, избавлявшего от тяжелых испытаний чистилища в загробной жизни. Моментально заполнялись постоялые дворы, трактиры и бордели, запруживались узкие городские мосты, народ истово молился у святых мощей, зажигал свечи, тупо глазел на чудотворные образа и статуи и уезжал домой с любезными сердцу талисманами и сувенирами.
Первоначально юбилейное мероприятие предполагалось проводить раз в сто лет, но спрос на индульгенции оказался настолько велик, а доходность настолько соблазнительной, что периодичность сократили сперва до пятидесяти, затем до тридцати трех, а потом и до двадцати пяти лет. В 1400 году, незадолго до того, как в Риме появился Поджо, в город в связи с наступлением нового века съехалось столь много паломников, что папе пришлось объявить очередную индульгенцию, хотя со времени предыдущего юбилея прошло всего лишь десять лет. Церковь изобретала самые разные способы увеличения доходности, в чем особенно пригодился практический ум Коссы. К примеру, человеку, желавшему получить индульгенцию в Риме и избавить себя от тысячелетних страданий в чистилище, но пугавшемуся дальнего и тяжелого перехода через Альпы, предлагалось внести сумму, равную затратам, которые он понес бы в путешествии, и обратиться за отпущением грехов в определенный храм в Германии6.
Таланты Коссы не ограничивались сферой коммерции. В роли правителя Болоньи он проявил себя как успешный гражданский и военный руководитель и оратор. Он обладал многими качествами – острым умом, красноречием, смелостью, честолюбием, эмоциональностью и неуемной энергией, – отличавшими человека Ренессанса. Но даже и для эпохи кричащих расхождений между религиозной и практической деятельностью Косса, кардинал-диакон Болоньи, был слишком оригинален для того, чтобы носить церковные одеяния. Хотя он и был, как отмечал Бруни, друг Поджо, чрезвычайно одаренным человеком, в нем отсутствовало духовное призвание.
Это противоречие, содержавшееся в его натуре, и объясняет то, что люди относились к нему со смешанным чувством восхищения, страха и подозрительности. Когда 4 мая 1410 года папа Александр V скончался сразу же после встречи с кардиналом-диаконом за обедом в Болонье, в народе поговаривали, будто друг его отравил. Несмотря на подозрения, фракция кардиналов, тяготевшая к нему, избрала его папой взамен усопшего Александра. Возможно, они поступили так из-за боязни. Либо им показалось, что сорокалетний Косса способен покончить с постыдным церковным расколом и нанести поражение соперникам, претендовавшим на престол: настырному испанцу Педро де Луне, провозгласившему себя папой Бенедиктом XIII, и не менее настырному венецианцу Анджело Коррере, наименовавшемуся папой Григорием XII.
Если кардиналы действительно надеялись на то, что Косса прекратит схизму, то они просчитались, и это неудивительно. Раскол продолжался уже более тридцати лет, не поддаваясь попыткам его урегулировать. Каждый из заявителей отлучал от церкви последователей конкурентов, предавая их анафеме. Каждый, прибегая к тактике разбойников с большой дороги, оперировал высокими нравственными принципами. У всех были могущественные союзники, но и существенные стратегические изъяны, мешавшие добиться успеха военными средствами. Каждый из них понимал нетерпимость сложившейся ситуации. Конкурирующие фракции – испанцы, французы и итальянцы, поддерживавшие своих кандидатов, подрывали идею существования единой, универсальной католической церкви. Разыгравшаяся драма борьбы пап ставила под вопрос жизнеспособность всей системы. Создавшаяся ситуация была действительно тревожной, неприятной и опасной. Но кто мог ее разрешить?
Пятнадцать лет назад богословы Парижского университета поставили в монастыре Матюрен большой сундук, призвав всех, у кого есть идеи насчет прекращения схизмы, написать об этом и опустить свои предложения в прорезь, проделанную в крышке. Поступило более десяти тысяч предложений. Проанализировать их поручили пятидесяти пяти профессорам. Ученые мужи свели все идеи к трем основным методам. Первый из них предусматривал одновременное отречение всех «пап» и избрание одного-единственного понтифика. Другой способ был компромиссный, предполагавший арбитраж, в результате которого папой должен остаться один из претендентов. По третьему методу проблему предстояло решать епископам всего католического мира на соборе простым голосованием.
Первые два варианта казались несложными и не требовавшими больших затрат, но они страдали общим недостатком: как и военный захват власти, они были нереальны. Призывы к одновременному отречению имели вполне предсказуемый результат, попытки определить предварительные условия для арбитража привели к бесконечным пререканиям. Оставался последний вариант – соборный. Его поддержал и король Венгрии Сигизмунд, избранный императором Священной Римской империи и, хотя бы условно, склонявшийся на сторону фракции Коссы в Риме.
У коварного понтифика, засевшего в окружении кардиналов и секретарей в языческом мавзолее, перестроенном в неприступный замок Сант-Анджело, не было никакого желания созывать вселенскую ассамблею. Такое собрание только распалит давнюю враждебность к Риму и подорвет его положение. Косса тянул время, приманивая союзников, пополняя казну и строя козни против амбициозного противника на юге, неаполитанского короля Владислава. В конце концов, ему надо же было заниматься неотложными делами, рассматривать ходатайства, выпускать буллы, заботиться о защите папских владений, собирать подати, раздавать должности и индульгенции. Поджо и другие секретари, писцы, аббревиаторы и прочие чиновники двора трудились не покладая рук.
Тупиковая ситуация могла сохраняться неопределенно долго, на что и рассчитывал понтифик, если бы не случилось нечто непредвиденное. В июне 1413 года армия Владислава прорвалась в Рим, грабя дома, храмы и дворцы. Косса со своим двором бежал во Флоренцию, где за него могли заступиться: Флоренция и Неаполь враждовали. Понтифик теперь крайне нуждался в поддержке Сигизмунда, находившегося тогда в Комо, а переговоры показали, что ему помогут только в том случае, если он согласится созвать Вселенский церковный собор.
Косса, припертый к стене, предложил провести собор в Италии, где он мог опереться на союзников, но император отказался, ссылаясь на то, что путешествие через Альпы будет непосильным для престарелых епископов. Собор следует созывать в Констанце, городе, расположенном на его землях, в горах между Швейцарией и Германией на Боденском озере. Хотя идея явно не пришлась по душе понтифику, осенью 1413 года его агентов – exploratores – уже видели в Констанце: они интересовались жильем и пропитанием. А ближе к лету следующего года папа и его двор двинулись в путь, отправились в дорогу и могущественные церковники всей Европы, сопровождаемые верными слугами. У всех блистательных кортежей был один и тот же пункт назначения – маленький южно-германский городок.
Житель Констанца7, купец Ульрих Рихенталь, пораженный тем, что происходило вокруг него, составил для нас впечатляющую хронику событий. Из его летописи мы знаем, что понтифик преодолевал Альпы с огромной свитой – около шестисот человек. Из других источников8 нам известно, что в свите были такие известные гуманисты, как Поджо Браччолини, Леонардо Бруни, Пьер (Пьетро) Паоло Верджерио, Ченчо Рустичи, Бартоломео Арагацци да Монтепульчано, Дзомино (Созомено) да Пистоя (Созомен Саламанский, греческий историк), Бенедетто да Пильо, Бьяджо Гуаскони. Естественно, что папу сопровождали кардиналы Франческо Дзабарелла, Аламано Адимари, Бранда да Кастильоне, архиепископ Милана Бартоломео делла Капра и его будущий преемник Франческо Пиццольпассо. Папа был бандит, но бандит просвещенный, любивший, чтобы его окружали светлые умы, и предпочитавший, чтобы при дворе дела вершились интеллигентно, в гуманистическом стиле.
Путешествие по горам было нелегким, даже в конце лета. Один раз карета понтифика опрокинулась, и его выбросило в снег. Когда в октябре 1414 года он наконец увидел Констанц и озеро, обрамленное горами, папа посмотрел с кручи вниз и сказал свите, в которой, конечно, находился и Поджо: «Это яма, в которой они ловят лис».
Если бы папе пришлось иметь дело только с итальянской церковной фракцией, то, возможно, он мог быть уверен в том, что ему удастся избежать лисиной западни: как-никак понтифик удерживал бразды правления в Риме уже несколько лет. Однако в Констанц съехались представители всего христианства, недосягаемые и для его патронажа, и для яда: тридцать три архиепископа, около сотни аббатов, пятьдесят настоятелей соборов, триста докторов богословия, пять тысяч монахов и около восемнадцати тысяч священников. Помимо императора и его внушительной свиты, на собор прибыли по приглашению многие другие светские властители или их делегаты: курфюрсты Людвиг фон дер Пфальц и Рудольф Саксонский, герцоги Баварии, Австрии, Саксонии, Шлезвига, Мекленбурга, Лотарингии и Тека, марк-граф Бранденбурга, послы королей Франции, Англии, Шотландии, Дании, Польши, Неаполя, испанских земель и великое множество менее знатных аристократов, баронов, рыцарей, а также адвокатов, профессоров и общественных деятелей. Каждый имел свиту слуг, охранников, поваров и другой челяди. Неординарное событие привлекло орды зевак, купцов, шарлатанов, торговцев ювелирными изделиями и мехами, портных, сапожников, аптекарей, бакалейщиков, писцов, жонглеров, акробатов, уличных певцов и бездельников всех мастей. По оценке летописца Рихенталя, в городе скопилось свыше семисот шлюх, арендовавших собственные дома, не считая тех, кто «обитал в конюшнях или где-либо еще, и частных девиц, которых я не мог счесть»9.
Наплыв в маленький город от 50 тысяч до 150 тысяч человек не мог не вызвать всплеск насилия. Власти пытались бороться с преступностью привычным способом – устраивали публичные казни10. Одновременно они устанавливали определенные правила пребывания и нормы услуг для гостей. К примеру, «каждые четырнадцать дней надлежало менять скатерти, простыни и все, что нуждалось в стирке»11. Определенную проблему создавала организация пропитания для гостей и их лошадей (около 30 тысяч голов), но окружающая местность была плодородной и обеспеченной продуктами, а реки гарантировали своевременный подвоз. Повара разъезжали по улицам с мобильными печками, предлагая булки, крендели и разную выпечку, начиненную мясом. На постоялых дворах и в импровизированных ларьках и палатках можно было заказать и обычные мясные блюда, и дичь, и экзотику: дроздов, кабана, оленину, барсука, бобра, выдру, зайца. Для тех, кто предпочитал рыбу, в изобилии имелись угри, щука, осетр, сарган, лещ, белорыбица, пескарь, сом, бычок, елец, соленая треска и сельдь. «Продавались и лягушки с улитками, – добавляет Рихенталь брезгливо. – Их покупали итальянцы»12.
Бытовые условия пребывания меньше всего беспокоили Коссу. Вопреки его желанию на соборе решили организовать работу и проводить голосование «блоками» наций – итальянцев, французов, немцев, испанцев и англичан, – и это значительно ограничивало как его собственную роль, так и влияние сторонников. Видя, что теряет власть, папа сделал ставку на престижность престола. Если он не может воспользоваться моральным превосходством, то ему по крайней мере принадлежат церемониальные преимущества. Понтифик должен продемонстрировать всей ассамблее, что для них он – не лис из Неаполя, а викарий Иисуса Христа, воплощение духовной святости и мирского величия.
28 октября 1414 года Косса въехал в город на белом коне в белой мантии и белой митре. Четверо бюргеров несли над ним позолоченный балдахин. По бокам шествовали два графа, римский и германский, уцепившись за уздечку. Позади скакал всадник, на седле которого покачивалось древко с огромным зонтом – Рихенталь принял его за шляпу – из ало-золотой парчи. Широченный зонт, под которым могли уместиться три коня, был увенчан золотым набалдашником с золотым ангелом, державшим крест. Затем следовали тоже верхом на конях девять кардиналов – все в длинных красных мантиях, с красными капюшонами на плечах и в широких красных шляпах. Далее можно было заметить большую группу сотрудников курии, в которой был и Поджо, клерков и слуг. Впереди процессии гарцевала цепочка белых коней в красных попонах. На восьми из них перевозился гардероб папы – свидетельство его особой озабоченности своей церемониальной представительностью. Девятый буцефал, на голове которого позванивал колокольчик, нес на спине шкатулку из позолоченного серебра, накрытую красной тканью: к ней были прикреплены два подсвечника с горящими свечами, а внутри ларца, служившего одновременно шкатулкой и склепом, находились Святые Дары – кровь и тело Иисуса Христа.
Первейшей задачей собора было ликвидировать церковный раскол, но ему предстояло разрешить и две другие проблемы. Они касались реформирования управления духовными институтами – эта перспектива тоже не радовала Иоанна XXIII – и подавления ереси. Последняя тема могла принести некоторое удовлетворение попавшему в западню неаполитанскому лису: она предоставляла ему удобное тактическое средство. Переписка, скопированная секретарями для понтифика, свидетельствовала о попытках переместить акцент с церковного раскола и коррупции на человека, имя которого Поджо все чаще и чаще упоминал в официальных документах.
Сорокачетырехлетний Ян Гус, чешский священник и религиозный реформатор, уже давно досаждал церкви. И с кафедры, и в своих писаниях он обличал злоупотребления клириков, осуждал их за алчность, фарисейство и сексуальную развращенность. Непокорный чех клеймил торговлю индульгенциями, называя ее бесстыдной наживой на страхах верующих. Он призывал свою паству не верить ни в Деву Марию, ни в культ святых, не доверять церкви и папе, а признавать только одного Господа. Ян Гус утверждал, что надо полагаться только лишь на Священное Писание.
Мало того, диссидент нападал не только на доктрину, но и на практическую деятельность церкви в момент нараставшего национального самоуправства. Он доказывал, что государство имеет право и даже обязано надзирать за церковью. Миряне могут и должны оценивать действия своих духовных лидеров. (Лучше быть хорошим христианином, чем порочным папой или прелатом – это его слова.) Смертный папа не может претендовать на непогрешимость. Папство есть изобретение человека, слова «папа» нет в Библии. Моральная чистота – признак настоящего священника. «Если он явно прегрешает, то надо считать его по делам врагом Христа»13. И такого человека нужно лишать духовного сана.
Нетрудно понять, почему Яна Гуса отлучили от церкви в 1410 году и почему церковных сановников, собравшихся в Констанце, беспокоил его отказ повиноваться. Оберегаемый могущественными богемскими аристократами, он продолжал выражать опасные взгляды, получавшие все более широкое распространение. Можно понять и то, почему Косса, припертый к стене, решил воспользоваться моментом и переключить внимание собора на Яна Гуса. Чех, которого одновременно боялся и ненавидел церковный истеблишмент, призывал к тому, чего добивались враги Коссы в том же истеблишменте: неповиновения и даже свержения папы, обвиняемого в коррупции. Возможно, это обстоятельство в какой-то мере и объясняет странное обвинение, имевшее хождение в Констанце: Ян Гус якобы обладает экстраординарными способностями читать мысли любого человека, приблизившегося к нему на определенное расстояние14.
Гус неоднократно просил дать ему возможность объясниться перед церковным собором, и его официально пригласили изложить свои взгляды в присутствии прелатов, богословов и светских правителей в Констанце. Чешский реформатор почему-то уверовал в то, что, если ему позволят донести до всех свою правду, то она искоренит невежество и ошибочные представления.
Тем не менее, как человек, обвиненный в ереси, он проявлял осторожность. Ян Гус сам видел, как недавно обезглавили трех молодых людей, двое из которых были его учениками. Прежде чем покинуть Прагу, где он чувствовал себя в безопасности под защитой покровителей, реформатор запросил и получил свидетельство о правоверности от главного инквизитора епархии и гарантии свободного передвижения от императора Сигизмунда. Охранная грамота с большой имперской печатью гарантировала «защиту и безопасность» и требовала, чтобы Яну Гусу позволялось «свободно и безопасно» «передвигаться, пребывать, останавливаться и возвращаться». Богемские дворяне, сопровождавшие его, первыми прискакали к папе и спросили, сможет ли Гус находиться в Констанце без риска подвергнуться насилию. «Если бы он даже убил моего брата, – ответил Иоанн, – и тогда его никто бы не тронул, пока он в городе». С такими гарантиями вскоре после пышного въезда в город понтифика в нем появился и реформатор.
Иоанн XXIII мог только радоваться прибытию в Констанц еретика. Яна Гуса ненавидели и честные и бесчестные церковники. И он, и его соотечественник Иероним Пражский были последователями английского еретика Джона Уиклифа, осужденного еще в прошлом столетии за пропаганду простонародного перевода Библии, приоритетности веры, основанной на Священном Писании, и нападки на обогащение клириков и торговлю индульгенциями. Уиклиф умер в своей постели, чем крайне огорчил врагов, но теперь Вселенский собор принял решение выкопать и удалить его останки из освященной земли. Это не предвещало ничего хорошего и для Яна Гуса.
Несмотря на гарантии, данные папой, собором и императором, чеха почти сразу же подвергли унижению, отказав ему в возможности выступать публично. 28 ноября, через три недели после прибытия в город, его арестовали по приказу кардиналов и заключили в тюрьму доминиканского монастыря на берегу Рейна. Там его заперли в подземелье, куда сбрасывались все нечистоты монастыря. Когда Ян Гус тяжело заболел, он попросил предоставить ему адвоката, но ему ответили: согласно каноническому праву, никто не может выступать в защиту человека, обвиненного в ереси. Предпочел не вмешиваться и император, игнорируя протесты сторонников Гуса в Богемии, возмущенных очевидным попранием гарантий охранной грамоты. Говорили, будто императора смущало то, что он нарушил данное им слово, но английский кардинал успокоил его, сказав: «Еретики верности недостойны».
Если Косса полагал, что преследование Яна Гуса отвлечет собор от проблемы раскола или заставит замолкнуть врагов понтифика, то он ошибся в своих расчетах. Его придворных охватили мрачные предчувствия, а папа продолжал устраивать помпезные представления. Вот как описывал одно из них Рихенталь:
...
«Когда папа давал свое благословение15, на балкон сначала выходил епископ в митре и с крестом, а за ним следовали еще два епископа в белых митрах, держа в руках две длинные зажженные свечи, которые они ставили в окне. Потом появлялись четверо кардиналов, тоже в белых митрах, иногда их было шестеро, а иногда меньше. Иногда наш владыка король выходил на балкон. Кардиналы и король стояли в окнах. После них появлялся его святейшество папа римский, в самых дорогих мантиях и в белой митре на голове. Под одеяниями на нем была еще одна мантия, а на руках перчатки и массивное кольцо с редким драгоценным камнем на среднем пальце правой руки. Он занимал место в центральном окне так, чтобы все хорошо его видели. Затем выходили певцы, все с горящими свечами, занимая места позади него, и балкон начинал сиять, словно его охватил огонь. Епископ приближался к папе и снимал с него митру. Тогда папа начинал нараспев читать благословение…»
Однако то, что происходило не на глазах завороженной публики, было далеко не столь благостным. Хотя папа и продолжал председательствовать на сессиях, он потерял контроль над направленностью обсуждений, а император Сигизмунд, прибывший в Констанц 25 декабря, вовсе не проявлял желания его спасать.
У Коссы тем не менее еще оставались союзники. Когда на сессии 11 марта 1415 года завязалась дискуссия о том, как все-таки избрать единого папу для всей церкви, поднялся архиепископ Майнца и заявил, что не подчинится никому, кроме Иоанна XXIII. Однако сколько-нибудь массовой поддержки не было. Патриарх Константинополя в ответ на заявление архиепископа воскликнул: «Quis est iste ipse? Dignus est comburendus!» – «Кто этот человек? Его надо сжечь!» Архиепископ вышел из зала, и сессия сорвалась.
Лис понимал, что западня вот-вот захлопнется. Констанц для него оказался опасным. Ему становилось тревожно. Он хотел перенести сессии собора куда-нибудь в более подходящее место. Король возражал. Городской совет поспешил заверить понтифика: «Если Его Святейшество не чувствуют себя в безопасности, то она будет усилена, и бюргеры уберегут его от всего мира, если даже злосчастье заставит их съесть своих детей»16. Косса, давший не менее экстравагантные и пустые обещания Яну Гусу, не был удовлетворен. 20 марта 1415 года около 13:00 пополудни он бежал17. Закутавшись в серый плащ с капюшоном и надев серую монашескую сутану, чтобы никто его не узнал, папа ускакал через городские ворота. Его сопровождали лучник и еще два человека, также закутанные в плащи. Вечером и ночью город тайно покинули все приверженцы понтифика, включая слуг и секретарей. Скоро стало ясно: папы Иоанна XXIII больше не существует.
Недоброжелатели Коссы, выследившие, что он бежал в Шаффхаузен и укрылся в замке союзника, подготовили против него обвинительный акт. Папу и там настигли угрожающие слухи, сторонники начали его покидать, и он снова пустился в бега. С ним, очевидно, был и весь его двор, в том числе и апостолический секретарь Поджо. «Члены курии сопровождали его в унынии и полном замешательстве, – писал один из хронистов18. – Бежал папа, и с ним бежал весь его персонал, хотя никто за ними и не гнался». Наконец человек, укрывавший беглеца, под нажимом императора выдал своего неудобного гостя, и злосчастного понтифика взяли под стражу.
Ему предъявили семьдесят обвинений19. Собор, проявляя заботу о нравственности и спокойствии паствы, отвел шестнадцать самых скандальных обвинений – и они так и не были раскрыты, – инкриминировав папе только лишь симонию, педерастию, изнасилование, инцест, пытки и убийство. Его обвинили также в отравлении предшественника. Однако самым гнусным и тяжким преступлением церковники, припомнив о древней борьбе с эпикурейством, посчитали то, что папа утверждал, в том числе и в разговорах с уважаемыми людьми, будто не существует ни жизни после смерти, ни воскрешения и будто душа человека умирает вместе с телом, как у зверя.
29 мая 1415 года папу низложили. Заимствованное из перечня официальных папских имен прозвание Иоанн XXIII освободилось для нового обладателя, но лишь более чем через пять столетий очередной понтифик – Анджело Ронкалли – в 1958 году отважился принять его.
Вскоре после низложения Коссу на короткое время заключили в тюрьму замка Готтлибен-на-Рейне, где уже больше двух месяцев томился Ян Гус, закованный в цепи и умирающий от голода. Неизвестно, встречались ли в узилище папа и еретик. Что касается Поджо, то он наверняка уже расстался со своим хозяином20. Все бывшие служащие осужденного папы были уволены, а узника перевели в другое место: там его окружали немецкоязычные стражники, и он мог общаться с ними только жестами. Изолированный от мира, он сочинял стихи о суетности и бренности человеческого существования.
Люди папы неожиданно оказались не у дел. Некоторые из них успели пристроиться на службу к прелатам и князьям, находившимся в Констанце. Но Поджо оставался безработным, пассивным наблюдателем событий, к которым уже не имел никакого отношения. Он не уезжал из города, но мы не знаем, был ли он там, когда Гуса привели на собор только для того, чтобы надругаться и орать на него, как только он пытался заговорить. 6 июля 1415 года на торжественной церемонии в соборе Констанца его лишили духовного сана. На голову ему надели круглую бумажную корону высотой почти восемнадцать дюймов с изображением трех дьяволов, разрывающих человеческую душу. Затем Гуса, все еще в оковах, провели мимо костра, в котором горели его книги, и тоже сожгли. Чтобы не осталось никаких следов, палачи раздробили обугленные кости, выбросив их в Рейн.
Не имеется никаких свидетельств, по которым можно было бы судить о том, что думал сам Поджо об этих событиях, в которых он принимал определенное участие в роли папского бюрократа, вынужденного помогать функ-ционированию системы, по его же собственному мнению, насквозь извращенной и порочной. Безусловно, Поджо подверг бы себя серьезной опасности, если бы попытался высказаться по поводу казни: он все же был слугой папства, посрамленного Яном Гусом. (Через столетие Лютер, не менее страстный противник папства, отметил: «Все мы гуситы, даже не подозревая об этом».) Однако спустя несколько месяцев, когда гнев церковников обрушился на сподвижника Яна Гуса – Иеронима Пражского, также обвиненного в ереси, Поджо не смог промолчать.
Убежденный реформатор веры, имевший ученые степени Парижского, Оксфордского и Гейдельбергского университетов, Иероним был и превосходным оратором. Его речь, произнесенная в свою защиту 26 мая 1416 года, произвела огромное впечатление на Поджо. «Должен признать, – писал он другу Леонардо Бруни, – что мне еще не приходилось видеть, чтобы кто-либо еще, кроме него, в отстаивании своей правоты в судебном процессе, тем более в процессе, от исхода которого зависит твоя жизнь, был так близок к образцам античного красноречия, которыми мы восхищаемся». Поджо прекрасно понимал, что рискует, но папский чиновник был все-таки и увлекающимся гуманистом:
...
«Изумительно было следить за подбором и игрой слов, за тем, с каким бесстрастным выражением лица, хладнокровием и убедительностью он отвечал своим противникам21. Его манера выражать свои мысли была настолько захватывающей, что стоит задуматься над тем, почему такой благородный и превосходный ум впал в ересь. В отношении последней у меня не может не быть сомнений. Однако эта проблема слишком далека от меня, и я не вправе выносить решения по таким важным делам. Я уступаю ее мнению тех, кто умнее меня».
Эта благоразумная оговорка не успокоила Бруни. «Я должен предупредить вас, – ответил он Поджо, – что вам следует писать на такие темы поосторожнее».
Что же побудило Поджо, обычно избегавшего реально опасных ситуаций, написать другу в столь откровенном тоне? Отчасти, видимо, сказалась трагичность того, что он увидел: послание датировано 30 мая 1416 года, днем казни Иеронима Пражского. Поджо писал под впечатлением от жуткого зрелища сожжения человека, отображенного для истории хронистом Рихенталем. Когда тридцатисемилетнего Иеронима вели к месту, где сожгли Яна Гуса и где ему предстояло сгореть, он декламировал Символ веры и пел литанию. Никто не слышал исповеди Гуса. Когда костер вспыхнул, он вскрикнул и умер почти сразу. По свидетельству Рихенталя, смерть Иеронима была мучительнее: «Он прожил в огне дольше, чем Гус, и кричал страшно, ибо он был плотнее и крепче телом и с большой, густой, черной бородой»22. Возможно, эти страшные крики и повлияли на Поджо, побудили его взяться за перо.
Незадолго до казни еретика Поджо, страдавший от ревматических болей в руках (серьезная помеха для писца), ездил подлечиться прославленными целебными водами Бадена. Добраться туда из Констанца было нелегко: двадцать четыре мили по Рейну до Шаффхаузена, где в свое время укрывался папа, потом – из-за того что река здесь начинала устремляться вниз по скалам – десять миль пешком до замка Кайзерштуль. Отсюда Поджо мог полюбоваться каскадом водопадов и их громовым шумом, напоминавшим ему, возможно, о классических описаниях Нила.
В Бадене Поджо, наверное, впервые в жизни испытал настоящее потрясение, посетив купальни. «И старые и молодые женщины на виду у мужчин шли в воду нагими, демонстрируя свои интимные прелести и ягодицы», – писал он другу во Флоренцию23. Между мужской и женской купальнями было нечто вроде решетки, но это разделение было минимальное и условное. «Там имелось множество окошек, – сообщал Поджо приятелю. – Возле них собирались купальщики, выпивали, разговаривали, рассматривали и трогали друг друга, словно у себя дома».
Поджо не решался войти в воду, но не из-за стыдливости: «Мне казалось нелепым, чтобы итальянец, не знающий их языка, сидел в воде среди обнаженных женщин абсолютно безмолвным». Он наблюдал за ними, стоя на галерее над купальнями, испытывая такое же изумление, какое будоражит чувства араба из Саудовской Аравии на пляжах Ниццы.
На некоторых курортниках Поджо заметил нечто вроде купальных костюмов, но они почти ничего не скрывали. «На мужчинах были лишь кожаные фартуки, а на женщинах – льняные рубашки до колен, скроенные так, что оставались открытыми шея, грудь, руки и плечи». То, что в его родной Италии могло вызвать конфликт и даже спровоцировать акты насилия, в Бадене воспринималось как нечто обыденное: «Мужчины спокойно наблюдали, как их жен лапают незнакомцы; это их нисколько не смущало, и они не обращали на это никакого внимания». «Они чувствовали бы себя как дома в Платоновской республике, в которой все должно быть общее», – ехидничал Поджо.
Свободные нравы Бадена могли лишь всколыхнуть в Поджо грезы о потерянном мире Юпитера и Юноны. В некоторых бассейнах купание сопровождалось музыкой и танцами, и молодые особы, «миловидные и благородного происхождения, с манерами и формами богинь», плавали под музыку: «По воде растекалось их эфемерное одеяние, и вам казалось, что плывут крылатые Венеры». Если кто-то из мужчин осмеливался на них посмотреть, то они игриво просили у него что-нибудь. Мужчины обычно бросали в воду монеты или гирлянды цветов, а барышни ловили их, пряча под одеяние и открывая свое тело. «Я тоже часто бросал монеты и цветы», – признается Поджо.
Уверенные в себе, добродушные и ублаготворенные, эти люди «испытывают радость от жизни и приходят сюда, чтобы насладиться тем, чего им не хватает». В купальнях собирается до тысячи человек. Многие изрядно напиваются, свидетельствует Поджо, но никогда не услышишь ни ссор, ни пререканий, ни брани. В простом, радостном и не стесненном условностями поведении купальщиков в Бадене Поджо увидел те проявления удовлетворения жизнью, которые утеряло его общество:
...
«Мы страшимся будущих катастроф, пребывая в состоянии непреходящей тревоги и страдания, и из-за боязни стать несчастными никогда не освободимся от этих ощущений, постоянно стремясь к обогащению и не давая душе и телу ни минуты покоя. Те же, кто способен удовлетвориться малым, живут, воспринимая каждый день как праздник».
Поджо описал купальни Бадена столь подробно, объясняет он другу, для того, чтобы «на этих примерах ты понял, каким прекрасным воплощением эпикурейского образа жизни и мышления является это место».
Насмотревшись озабоченных, работящих и дисциплинированных итальянцев и беспечных, легкомысленных немцев, Поджо вообразил, что в Бадене обнаружил последователей эпикурейского учения об удовольствии как высшем благе. Он отлично знал, что подобные настроения противоречат христианским догмам. В Бадене он словно почувствовал себя на пороге духовного мира, в котором не действовали христианские правила.
При чтении античных текстов Поджо часто испытывал такие ощущения. И в Констанце он не прекращал поиски утерянных древних манускриптов. По свидетельству Никколи, папский секретарь тщательно обследовал библиотечные собрания – в монастыре Святого Марка ему удалось найти копию древнего комментария о Вергилии24. В начале лета 1415 года, возможно вскоре после низложения хозяина, Поджо, оставшись без работы, ездил в Клюни во Францию и нашел там кодекс, содержавший семь речей Цицерона, две из которых были неизвестны. Он послал бесценный манускрипт друзьям во Флоренцию, собственноручно сделав копию и написав на ней примечательные слова:
...
«Эти семь речей Марка Туллия были утрачены Италией. Благодаря неустанным поискам в библиотеках Франции и Германии, исключительной прилежности и старательности лишь одного Поджо Флорентийского они вызволены из мерзости забвения, в котором находились, к свету; восстановлены их изначальные достоинство и исправное состояние, и они возвращены латинским любимцам муз»25.
Поджо писал эти строки, когда мир вокруг него рушился, но он всегда умел находить надежное спасение от хаоса и страхов и прибежище для души в книгах. Он получал истинное удовлетворение, освобождая из плена варваров наследие великого прошлого и возвращая его достойным преемникам.
Через год, летом 1416 года, вскоре после казни Иеронима Пражского Поджо вновь отправился на поиски манускриптов, на этот раз в сопровождении двух итальянских друзей, в монастырь Святого Галла, располагавшийся в двадцати милях от Констанца. По слухам, в библиотеке средневековой обители хранились уникальные рукописи. Монастырь не разочаровал искателей. Спустя несколько месяцев Поджо восторженно сообщал в Италию о том, что обнаружил потрясающий тайник с античными книгами. Больше всего он ликовал, увидев среди них «Риторические наставления» [35] Квинтилиана, самое главное античное римское пособие по ораторскому искусству и риторике. Поджо и его сподвижникам были известны лишь фрагменты. Найти весь текст было необыкновенной удачей. «О дивное сокровище! Какая неожиданная радость!» – воскликнул кто-то из них. И для восторга имелись все основания: гуманисты получили в руки одно из самых важных и утраченных наследий древности – секреты мастерства публичного убеждения масс.
Это было необходимо многим и общественным и церковным деятелям. Стремление повлиять на аудиторию красноречием и убедительностью аргументов привело Гуса и Иеронима Пражского в Констанц. Если Гуса криками заставили молчать, то Иероним, приведенный из подземной темницы, в которой провел в оковах 350 дней, все-таки успел высказаться. Современному читателю может показаться странным то, что Поджо восхитили «подбор слов» и «манера выражать мысли» Иеронима, словно вся проблема заключалась в степени знания узником латинского языка. Однако именно превосходное владение узником латынью и взволновало Поджо и заставило засомневаться в справедливости обвинений в ереси. Поджо, по крайней мере в этот момент откровенности, не мог скрыть от себя внутренний конфликт между чиновником, служившим безнравственному Иоанну XXIII, и гуманистом, тосковавшим по чистому и вольному воздуху, как ему представлялось, древней Римской республики. Поджо не мог разрешить этот конфликт, находя утешение в монастырских библиотеках с забытыми сокровищами.
«Нет сомнений в том, – писал Поджо, – что выдающийся человек, утонченный, столь чистый душой, нравственный и умный, не мог более терпеть мерзость и убожество тюрьмы, дикую жестокость стражей». Эти слова не являются очередным продуктом безрассудного восхищения красноречием обреченного Иеронима, так встревожившего Леонардо Бруни. Они относятся к манускрипту Квинтилиана, найденному в монастыре Святого Галла:
...
«Он был печален и скорбен, подобно людям, обреченным умереть; его бороду и волосы на голове покрывала грязь; по его внешнему виду и выражению лица было ясно, что он понес незаслуженное наказание. Казалось, что он протягивает руки, умоляя римлян быть милостивыми и вызволить его из неправедного заточения»26.
Жуткое зрелище, увиденное в мае, похоже, все еще было живо в воображении Поджо, когда он перебирал монастырские книги. Иероним протестовал, что его содержат «в грязи и оковах, лишая элементарных удобств». Квинтилиана нашли в «плесени и пыли». Иероним, возмущался Поджо в письме Леонардо Аретино, был заключен «в темное подземелье, где он не мог читать». Квинтилиан, негодовал Поджо уже по поводу содержания манускрипта в монастырской библиотеке, пребывал «в вонючей и мрачной темнице, в какую не посадят даже преступника, приговоренного к смерти». «Человек, достойный вечного почитания!» – восторгался Поджо еретиком Иеронимом, в защиту которого не смог и пальцем пошевелить. Спустя несколько месяцев в монастыре Святого Галла он все-таки вызволил из варварского заточения другого «человека», достойного вечных почестей.
Неясно, насколько сознательно Поджо проводил параллель между заточением еретика и манускрипта. Постоянно озабоченный внутренней нравственной чистотой моралист и соглашатель на службе, Поджо относился к книгам как к живым, думающим и страдающим существам. «Ей-богу, – писал он о манускрипте Квинтилиана, – если бы мы вовремя не подоспели, то он сгинул бы на следующий день». Не желая рисковать, Поджо уселся за стол и начал переписывать весь огромный трактат своим изумительным почерком. Это заняло у него пятьдесят четыре дня. «Один-единственный труд римлянина, с которым рядом можно поставить только Цицерона, – писал он Гуарино Веронскому27, – был искромсан и раскидан. И мы не только вернули его из изгнания, но и спасли от верной гибели».
Экспедиция в монастырь была дорогостоящей, а Поджо и без того испытывал постоянную нехватку денег, таковы были последствия отказа от доходной церковной деятельности. Возвратившись в Констанц, он особенно остро ощутил, что беден, не у дел и без ясных перспектив. Низложенный хозяин Бальдассаре Косса всеми силами старался обеспечить себе спокойную старость. Проведя три года в заточении, он заплатил за свое освобождение и получил пост кардинала во Флоренции, где и умер в 1419 году. В баптистерии ему соорудили изящную гробницу по проекту Донателло. Другой папа, которому ранее тоже служил Поджо, низложенный Григорий XII, скончался примерно в это же время. Уходя на тот свет, он сказал: «Я не понял мир, а мир не понял меня».
Наступили тяжелые дни для благоразумного, толкового и уже почти сорокалетнего куриального чиновника: надо было позаботиться о своем благополучии и найти стабильные источники дохода. Однако Поджо ничего не сделал для этого. Через несколько месяцев после возвращения из монастыря Святого Галла Поджо снова уехал из Констанца, на этот раз без компаньонов. Его страсть к разыскиванию и высвобождению из плена времени пропавших манускриптов еще больше усилилась. Он не знал в точности, что надо искать. Для него представляло ценность все, что имело отношение к античности и было исполнено на изысканном классическом латинском языке. Поджо был убежден: невежественные и ленивые монахи скрывают шедевры культуры, самой великой из всех, какие когда-либо существовали за прошедшее тысячелетие.
Конечно, Поджо мог найти лишь листы пергамента, и вовсе не такие уж древние. Но для него это были не просто безмолвные манускрипты, в них ему слышались голоса людей. Из безвестности он возвращал не многократно переписанные тексты, а запечатленные в них души копиистов и даже самих авторов, скованных погребальными одеяниями и рвущихся к свету.
Мы причисляем Эскулапа к богам, потому что он вернул Ипполита из преисподней, – писал с намеком Франческо Барбаро в послании Поджо, когда узнал о его находках:
...
«Если люди, нации и провинции посвящают ему храмы, то что же мы можем сделать для вас, если эта традиция еще не забыта? Вы оживили для вечности столь много блистательных умов, благодаря мудрости и учениям которых не только мы, но и наши потомки будут жить в благоденствии и с достоинством»28.
Книги, затерявшиеся в монастырских библиотеках, Франческо трансформировал в души умерших античных мудрецов, томящиеся в преисподней. Поджо, циничного папского секретаря, служившего порочному понтифику, друзья уже превозносили как героя, волшебного целителя, возрождающего изувеченное и поруганное тело античности.
Так или иначе, в январе 1417 года Поджо вновь оказался в монастырской библиотеке, возможно в Фульде. Там он и снял с полки поэму, об авторе которой уже знал либо от Квинтилиана, либо из хроник святого Иеронима: T. LUCRETI CARI DE RERUM NATURA .
Глава 8 Как все устроено
Поэму «О природе вещей» читать нелегко. В ней насчитывается 7400 строк, и она написана гекзаметром, стандартным стихотворным шестистопным нерифмованным размером, которым пользовались латинские поэты вроде Вергилия и Овидия, пытавшиеся имитировать грека Гомера. Поэма состоит из шести книг, не озаглавленных, но насыщенных чарующей лирикой, художественно-поэтическими образами и философскими размышлениями о религии, жизни и смерти, физическом устройстве мира, эволюции человеческого общества, природе наслаждений и страхов человека, о радости и пагубности любви, стихиях и болезнях. Стиль изложения – нередко сложен и труден для восприятия, перегружен замысловатыми синтаксическими оборотами. Для того чтобы получить удовольствие от чтения книги, желательно иметь соответствующую интеллектуальную подготовку.
Эти трудности, конечно, не могли смутить Поджо и его просвещенных друзей. Они в совершенстве владели латынью, выработали навыки разгадывания древних текстов, с интересом и даже наслаждением разбирали куда более головоломные богословские трактаты Отцов Церкви. Кроме того, уже первые страницы поэмы должны были убедить Поджо в том, что он нашел нечто совершенно уникальное.
Можно предположить: Поджо не сразу понял, что эта поэма заключает в себе угрозу перевернуть привычные представления человека об окружающем его мире. Наверняка гуманист все равно решил бы ее реанимировать и издать: возрождение наследия мыслителей древности было для него главным жизненным поприщем, единственным нравственным принципом, не зараженным разочарованиями и цинизмом. Но тогда он должен был сказать себе примерно те же самые слова, которые произнес Фрейд, прибывая с Юнгом на пароходе в Нью-Йорк, чтобы послушать хвалебные речи почитателей: «Разве они не знают, что мы везем им чуму?»
Та разновидность «чумы», которой давал волю Лукреций – и в этом действительно обвиняли его поэму, когда она снова стала доступна читателям, – называлась очень просто: атеизм. Однако сам Лукреций в действительности не был атеистом. Он верил в существование богов. Но он верил и в то, что боги не имеют никакого отношения к жизни людей и к тому, как и для чего они живут. Божествам уготована вечная безмятежность, их абсолютно не волнуют страдания и переживания человека, и они равнодушны к любой его деятельности.
Если вам так хочется, пожалуйста, называйте море Нептуном, хлеб – Церерой, к вину применяйте имя Вакха, а вся окружность Земли пусть будет для вас Матерью богов [36] . Вы можете посещать и божественные святилища, если сумеете воспринимать божьи лики «в совершенном спокойствии духа» (6:78). Но вам не удастся ни прогневить, ни умилостивить божества. Процессии, жертвоприношения, неистовые пляски под барабаны, кимвалы и дудки, нарядные жрецы-евнухи, разбрасывание лепестков роз, резные образы божественных младенцев – вся эта обрядовая атрибутика, несмотря на притягательность, абсолютно бессмысленна: боги далеки и обособлены от нашего мира.
Можно, конечно, посчитать Лукреция, несмотря на его религиозность, и атеистом, коварным и потаенным, ведь практически во все времена и практически для всех верующих обращение к Богу означало надежду на защиту, прощение грехов, избавление от кары Божьей и получение других милостей и поблажек. Какая польза от Бога, который не в состоянии ни наказывать, ни вознаграждать? Однако именно такие ожидания и переживания Лукреций и относил к числу самых токсичных суеверий, замешенных на невежестве и пустых страхах. Человек, воображая, будто его судьба и ритуальная ревностность волнуют богов, оскорбляет их: словно счастье и благополучие божественных созданий зависит от наших нечленораздельных высказываний и хорошего поведения. Но боги не обидчивы, тем более что им нет никакого дела до наших переживаний. Что бы мы ни делали (или не делали), для них не представляет никакого интереса. Главная проблема состоит в том, что ложные верования и представления наносят человеку вред.
Такие взгляды, безусловно, вступали в противоречие с христианскими убеждениями Поджо и могли реально навредить любому его современнику, осмелившемуся их открыто высказывать. Однако и Поджо, и более поздние читатели поэмы «О природе вещей» в свое оправдание могли сказать, что блистательный античный поэт интуитивно вскрыл примитивность языческих верований и абсурдность поклонения богам, которых в действительности не существует. Лукреций имел несчастье родиться и жить до пришествия Мессии. Если бы он появился на свет столетием позже, то успел бы познать истину. По крайней мере ему удалось осознать несостоятельность воззрений своих современников. Отчасти по этой причине в английских переводах поэмы упорно трактуется как «суеверие» то, что в латинском тексте называется religio .
Но поэма Лукреция заостряла внимание не только на атеизме или безбожии. В ней утверждалась материальность мироздания и выдвигались еще более бунтарские идеи, подхваченные впоследствии мыслителями той же самой страны, в которой они родились и куда их возвратил Поджо, нашедший манускрипт: Макиавелли, Бруно и Галилей. За тысячу лет они не стали менее опасными.
В наше время многое из того, что провозглашалось Лукрецием о строении Вселенной, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, по крайней мере теми, кто способен читать такие книги. В любом случае многие из нас, сами того не подозревая, применяют его идеи в жизни1. С другой стороны, часть аргументов античного поэта по-прежнему остаются чуждыми и отвергаются даже теми, кто с удовольствием пользуется благами, созданными на их основе. Для основной массы людей, живших во времена Лукреция, за исключением, может быть, горстки упертых интеллектуалов, утверждения поэта-философа казались совершенно неприемлемыми, безумными и нечестивыми.
Целесообразно изложить суть «еретического» учения Лукреция.
• Вся природа сотворена из невидимых частиц. Лукреций, чуравшийся специфических терминов, предпочитал не пользоваться стандартным греческим философским определением этих неделимых элементов – «атомами», а применял простые латинские слова и словосочетания: «первоначала вещей», «первичные начала», «вещей начала», «родовые тела вещей», «первородные начала», «семена вещей». Все возникает из этих «семян материи» и после распада и разложения возвращается в прежнее состояние элементарных частиц. Неизменные, неделимые, невидимые и неисчислимые, они находятся в непрестанном движении, сталкиваются друг с другом, соединяются, образуя новые формы, расходятся, сочетаются снова и так до бесконечности.
• Элементарные частицы материи – «семена вещей» – вечны. Время безгранично, эта абстрактная субстанция, не имеющая начала и окончания, беспредельна. Невидимые частицы, из которых образована вся Вселенная – от звезд до мельчайших насекомых, – неразрушимы и бессмертны, хотя каждый отдельный субъект Вселенной существует временно. Иными словами, все, что мы видим, даже вещи, которые кажутся нам вечными, сформировались на какой-то срок: строительные элементы, из которых они образовались, рано или поздно реорганизуются. Но сами эти строительные элементы вечны, как и непрерывный процесс формирования, разложения и перераспределения частиц.
Ничто не властвует над созданием и разрушением, общая масса материи остается неизменной, и то, что отмирает, восполняется возникновением новых форм:Первоначала вещей, таким образом, всякого рода
Неисчислимы и все, очевидно, способны восполнить.
Вот почему никогда нельзя смертоносным движеньям
Жизни навек одолеть и ее истребить совершенно.
Но и движенья, что жизнь создают и способствуют
росту,
Вечно созданья свои сохранять нерушимо не могут.
Между началами так с переменным успехом в сраженьях
Испокон века война, начавшися, вечно ведется:
То побеждают порой животворные силы природы,
То побеждает их смерть. Мешается стон похоронный
С жалобным криком детей, впервые увидевших солнце.
Не было ночи такой, ни дня не бывало, ни утра,
Чтобы не слышался плач младенческий, смешанный
с воплем,
Сопровождающим смерть и мрачный обряд погребальный.
(2.569–580)
Гарвардский профессор, испанец по происхождению, Джордж Сантаяна назвал идею «беспрерывной мутации форм, возникающих из вечных и неразрушимых субстанций материи», величайшим свершением человеческого разума2.
• Элементарные частицы неисчислимы, но их формы и размеры ограничены. Они подобны буквам алфавита, из которых можно составить бесчисленное множество предложений (2.688). Из семян вещей, как и из букв в языке, образуются комбинации согласно некоему генетическому коду. Не все буквы и слова могут сочетаться, точно так же и не все частицы могут соединяться друг с другом. Некоторые семена вещей легко и свободно сцепляются, иные же, встречаясь, не сливаются и отталкиваются друг от друга. Лукреций не берется утверждать, что ему известен этот таинственный генетический код материи. Однако он считает исключительно важным понимать, что такой код существует и его можно рано или поздно обнаружить научными методами [37] .
• Все частицы непрестанно движутся в бесконечной пустоте. Как и время, пространство беспредельно. Нет ни фиксированных краев, ни начала, ни середины, ни конца, ни пределов. Материя – не плотная масса частиц. В вещах есть пустота, позволяющая частицам двигаться, сталкиваться, соединяться и разъединяться. О существовании пустоты свидетельствуют не только движения, которые мы наблюдаем вокруг нас, но и то, что «сквозь каменья пещер сочится текучая влага», «всюду по телу живых созданий расходится пища», «звуки идут через стены домов», «мороз до костей проникает жестокий».
Вселенная, таким образом, состоит из материи – первичных частиц и всего того, что из них образуется, и пространства, пустого и неосязаемого. Ничего другого не существует.
• У Вселенной нет ни создателя, ни творца. И сами частицы не были сотворены, и они неуничтожимы. Мировой порядок или хаос не являются продуктом каких-либо божественных замыслов. Провидение – чистейшей воды фантазия.
Все существующее не возникло в результате реализации некоего продуманного плана или умного расчета, содержащего в самой материи. У первоначал нет режиссера, который бы направлял их движения, и они «не условливались заранее» о своих действиях:Но многократно свои положения в мире меняя,
От бесконечных времен постоянным толчкам
подвергаясь,
Всякие виды пройдя сочетаний и разных движений,
В расположенья они наконец попадают, из коих
Вся совокупность вещей получилась в теперешнем
виде3.
(1.1024–1028)
Существование материи не имеет конца и определенной цели, идет лишь непрерывный процесс возникновения и разрушения, управляемый случайностями.
• Все появляется в результате отклонений. Если бы неисчислимые элементарные частицы падали в пустоте под действием своего веса прямолинейно, подобно дождевым каплям, то ничего бы не рождалось. Но они движутся не по заданному курсу, аУносясь в пустоте, в направлении книзу отвесном,
Собственным весом тела изначальные в некое время
В месте неведомом нам начинают слегка отклоняться,
Так что едва и назвать отклонением это возможно.
(2.218–220)
То есть и положение элементарных частиц, и направление движения недетерминированы4.
Отклонение, Лукреций дает ему различные латинские названия – declinatio, inclinatio, clinamen, – самое минимальное, nec plus quam minimum (2.244). Но его вполне достаточно для того, чтобы вызвать бесконечную цепь столкновений. Все, что существует во Вселенной, возникло в результате произвольных столкновений малых частиц. Их бесконечные комбинации, рождающиеся вследствие коллизий, и обеспечивают «восполнение всякой убыли»:Всегда обновляется жадное море
Водами рек; и земля, согретая солнечным жаром,
Вновь производит плоды; и живые созданья, рождаясь,
Снова цветут; и огни, скользящие в небе, не гаснут.
(1.1031–1034)
• Отклонение – первооснова свободной воли. У всех живых существ, наделенных сознанием, свободная воля проистекает из произвольного отклонения элементарных частиц. Ибо если бы любое действие было предопределено, то не было бы свободы5. Все происходило бы по велению судьбы. Но наша свободная воля способна противостоять року.
Что же доказывает существование свободной воли? Разве материя в живых созданиях не приводится в движение под воздействием таких же сил, какие заставляют подниматься в воздух пыль? Лукреций иллюстрирует различие скаковыми лошадьми, перед которыми открыты ворота, но они не могут помчаться сразу и столь же мгновенно, как дух их жаждет и как бы это сделала пыль под воздействием порыва ветра. Он создает образ мгновения, в течение которого должна возбудиться и прийти в движение «вся совокупность материи». Поскольку этот пример не до конца проясняет затронутую Лукрецием проблему – скаковые лошади все-таки привыкли слушаться наездников, – то он просто утверждает: «Хоть сила извне и толкает многих людей и влечет их часто стремглав, понуждая против их воли идти, но все же в груди нашей сокрыто нечто, что против нее восстает и бороться способно». То есть человек способен не поддаться этой силе6.
• Природа непрестанно экспериментирует. Не было ни какого-то одномоментного ее происхождения [38] , ни мифического сотворения. Вся живая материя – от растений и насекомых до высших животных и человека – претерпевает долгий путь эволюции, сопряженный со сложным процессом проб и ошибок. В этом процессе были и будут фальстарты, тупики и ошибки, появлялись и будут появляться уроды, чудовища и вундеркинды и существа, не наделенные качествами, необходимыми для борьбы за выживание и порождения потомства. Существа, способные адаптироваться и воспроизводиться, будут преуспевать до тех пор, пока изменившиеся условия не лишат их такой возможности7.
И удачные и неудачные адаптации являются результатом фантастического количества комбинаций, нарождающихся, воспроизводящихся или погибающих во временной и пространственной бесконечности. Нам трудно осознать этот процесс, но Лукреций убежден: «То, что родится, само порождает себе примененье» (4.835). Поэт-философ объясняет: «До зарождения глаза ведь и зрения не было вовсе, до появленья на свет языка не бывало и речи» (4.836–837). Эти органы появились не для исполнения предназначенных им функций. Их полезность постепенно осознали существа, в которых они возникли, подарив им способности к выживанию и продолжению рода.
• Весь существующий мир создан не для нас и не по чьей-то воле. Земля с ее морями, пустынями, различными климатическими зонами, дикими животными и эпидемиями, конечно же, возникла не для того, чтобы служить домом для человека. В отличие от животных, которые от рождения обеспечиваются всем необходимым для выживания, детеныши человека появляются на свет беззащитными. Читаем у Лукреция:Вот и младенец: он, точно моряк, что жестокой волною
Выброшен, так и лежит на земле нагой, бессловесный,
В жизни совсем беспомощный, лишь только из матери
чрева
В тяжких потугах на свет его породила природа8.
(5.223–525)
Судьба всего человеческого рода (не говоря уже об отдельном индивиде) вовсе не является некой особой ценностью, ради которой существует весь мир. Нет никаких оснований полагать, что люди, как представители фауны, будут присутствовать на земле вечно. Напротив, в бесконечном потоке перемен, не имеющем временных пределов, неизбежно появляются новые биологические виды и отмирают старые. Без сомнения, до нас существовали формы жизни, неизвестные нам, и после нас будут формы жизни, которых нет сейчас.
• Человек не уникальное создание природы. Он является частью глобального материального мира, связывающего его не только со всеми другими формами жизни, но и с образованиями неорганической материи. Невидимые частицы, из которых состоит вся живая природа, включая и человека, не обладают ощущениями и не произошли из какого-то загадочного источника. Все мы сделаны из одного и того же материала.
Что бы ни воображал о себе человек, он не занимает привилегированного положения в существующем мире, хотя люди и не желают признавать того факта, что многие их самые ценные качества свойственны и животным. Конечно, каждый человек индивидуален, но то же самое можно сказать и обо всех других живых существах, иначе как бы теленок узнал свою матку, а корова признала голос своего детеныша9. Стоит лишь более внимательно всмотреться в окружающий нас мир, и станет ясно, что многие из наших самых острых и тягостных переживаний присущи не только нам.
• Человеческое сообщество образовалось не в золотой век благоденствия и изобилия, а в примитивной борьбе за выживание. Не было никакой первоначальной райской эры, когда, как думают некоторые романтики, счастливые и благостные мужчины и женщины якобы вели безмятежный и праздный образ жизни, пользуясь бесчисленными дарами природы. Первые люди, не имея огня и не владея навыками земледелия или какими-либо иными средствами улучшения условий своего существования, занимались главным образом только тем, что добывали себе еду.
Возможно, создавались рудиментарные формы кооперации в интересах выживания, но превращение межчеловеческих связей в устойчивые общины, управляемые определенными нормами и обычаями, происходило очень медленно. Вначале они складывались на основе спаривания – по взаимному желанию либо в результате сделки или изнасилования – либо организовывались для охоты и сбора еды. Смертность была чрезвычайно высокой, хотя и не столь высокой, по саркастическому замечанию Лукреция, как в «наши» времена, сопряженные с войнами, катастрофами и чревоугодием.
По Лукрецию, совершенно абсурдно считать членораздельную речь волшебным изобретением, подаренным человеку. Люди, подобно другим животным, вначале издавали различные звуки и жестикулировали в зависимости от ситуации и лишь постепенно пришли к тому, чтобы пользоваться понятными друг другу словами. Таким же образом они научились петь и создавать музыку, подражая птицам и мелодичному звучанию тростника.
Искусства, ремесла и блага цивилизации не даны человеку некими божествами, а приобретены тяжелым трудом, применением талантов и умственной энергии всего человеческого рода. Они рождались и в страхе перед богами, и в жажде богатства, славы и владычества. Однако их первоисточником было стремление к личной безопасности, уходящее корнями в то далекое прошлое, когда человек пытался одолеть своих естественных врагов в борьбе за выживание. Эта жестокая борьба – с диким зверьем, угрожавшим человеку, закончилась для него в целом успешно, но инстинкты тревоги, агрессии и стяжательства сохранились и приумножились. В результате человек создал оружие, которое начал применять и против себе подобных.
• Душа смертна. Душа человека материальна, как и тело. Мы не можем установить ее местонахождение только потому, что она состоит из исключительно малых «семян», пронизывающих вены, мышцы и сухожилия. Наши инструменты недостаточно чувствительны для того, чтобы измерить ее. В момент смерти она улетучивается, подобно тому, как «букет пропадет у Вакховой влаги», или «весь аромат благовонного масла», «или же как-нибудь вкус из чего-либо весь удалится» (3.221–222). Мы же не думаем, что в вине или благовонном масле содержится таинственная душа; аромат состоит из мельчайших веществ, которые невозможно измерить. Точно так же и душу человека составляют мельчайшие элементы, скрытые в самых потаенных частях тела. Когда тело умирает, то есть когда распадается его материя, вместе с ним гибнет и душа [39] .
• Загробной жизни не существует. Кого-то из нас утешает, а кого-то и мучает мысль о том, что ждет человека после смерти. Кто-то рассчитывает на то, что будет вечно собирать цветы в райском саду. Кто-то страшится предстать перед строгим судией, который приговорит его на нескончаемые муки (при этом странным образом предусматривается, чтобы осужденный после смерти имел кожу, чувствительную и к пеклу, и к холоду, и обладал телесным аппетитом и жаждой). Но если вы поймете, что душа умирает вместе с телом, то будете знать и другое: после смерти вас никто не покарает и не наградит. Вам надо думать не о загробной, а о реальной жизни на земле.
• Смерть для нас ничего не значит. Когда мы умерли, то есть когда частицы, из сцепления которых состояло наше тело, распались, мы не испытываем никаких ощущений – ни удовольствия, ни боли, ни желаний, ни страха. Лукреций пишет по этому поводу, что люди всегда скорбят и причитают: «Нет, никогда ни твой радостный дом, ни жена дорогая больше не примут тебя, не сбегутся и милые дети наперерыв целовать и наполнять отрадою сердце» (3.895–898). Но не прибавит никто: «Но зато у тебя не осталось больше тоски никакой, ни стремленья ко всем этим благам. Ты ведь в усыплении останешься смертном все остальные века без забот и без тягостной скорби».
• Все организованные религии – иллюзорные суеверия. Они проистекают из нереализованных страстных желаний, страхов и невежественности. Человеку свойственно задумываться над образами могущества, красоты и умиротворенности. Присваивая соответствующие функции богам, он становится заложником своих видений.
Всем присуще испытывать странные чувства, вызывающие такие грезы. Вы смотрите на звезды, и у вас возникает представление о существах, обладающих безмерным могуществом. То же самое происходит, когда вы задумываетесь о бесконечности Вселенной или совершенности мироздания. О карающем действии сверхъестественных сил вам может прийти мысль, когда вас вдруг постигнет цепь необъяснимых злоключений или когда природа начнет демонстрировать свои разрушительные способности10. Известно естественное происхождение таких природных явлений, как молнии или землетрясения, – и Лукреций их подробно объясняет, – но они приводят в ужас человека, он испытывает суеверный страх и начинает молиться.
• Религии жестокосердны. Религии всегда претендуют на то, что вселяют надежду и любовь, но они основаны на жестокости. Отсюда – и фантастические предостережения о возмездии, и непрестанное возбуждение тревожности у верующих. Главный символ религии – и самое наглядное свидетельство ее порочности – принесение в жертву ребенка родителем.
Почти во всех вероисповеданиях содержится миф о таком жертвоприношении, а в некоторых религиях оно осуществлялось реально. Лукреций, очевидно, имел в виду именно эту традицию, приводя в качестве примера религиозных злодеяний принесение в жертву Агамемноном своей дочери Ифигении. Возможно, ему были известны и иудейская история Авраама и Исаака, и другие аналогичные легенды Ближнего Востока, заинтересовавшие римлян. Лукреций писал поэму около 50 года до н. э. и вряд ли осознавал, что миф о жертвоприношении покорит западный мир. Но его едва ли могли удивить навязчивые образы умерщвленного и окровавленного сына.
• Не существует ни ангелов, ни демонов, ни призраков. В реальной действительности не бывает никаких бестелесных существ – духов. Всякие парки, гарпии, демоны, джины, нимфы, сатиры, дриады, звездные вестники и духи мертвых, которыми древние греки и римляне населили весь мир, – чистейший вымысел. Забудьте о них.
• Высшая цель жизни человека – прибавление наслаждений и убавление боли. Жизнь надо устраивать так, чтобы она доставляла радость и счастье. Нет более высокого этического принципа, чем служение этой цели ради собственного блага и блага своих соплеменников. Все другие претензии – на служение государству, прославление богов или правителей, самопожертвование во имя добродетели – второстепенны, обманчивы и лживы. Проявление воинственности и увлечения жестокими спортивными состязаниями, характерные для эпохи Лукреция, казались ему особенно порочными и противоестественными. Естественные потребности человека очень просты. Из-за неспособности понять пределы этих потребностей человек вовлекается в ненужную и бессмысленную борьбу за все новые и новые блага и почести.
Люди должны осознавать, что роскошь, к которой они стремятся, в основном для них бесполезна и не улучшит или почти не улучшит их благополучие: «Не покидает и жар лихорадочный тела скорее, коль на узорных коврах и на ярком пурпуровом ложе мечешься ты, а не должен лежать на грубой подстилке» (2.34–36). Но как трудно перебороть страх перед богами и загробной карой, так же нелегко устоять перед искушением обеспечить защищенность и благоденствие и себе, и своей общине приобретениями и завоеваниями. Однако от приобретений человек не становится счастливее.
В знаменитых вводных строках ко второй книге Лукреций предлагает наблюдать за этим безумным занятием со стороны:Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры11,
С твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого,
Не потому, что для нас будут чьи-либо муки приятны,
Но потому, что себя вне опасности чувствовать сладко.
Сладко смотреть на войска на поле сраженья в жестокой
Битве, когда самому не грозит никакая опасность.
Но ничего нет отраднее, чем занимать безмятежно
Светлые выси, умом мудрецов укрепленные прочно:
Можешь оттуда взирать на людей ты и видеть повсюду,
Как они бродят и путь, заблуждаяся, жизненный ищут;
Как в дарованьях они состязаются, спорят о роде,
Ночи и дни напролет добиваясь трудом неустанным
Мощи великой достичь и владыками сделаться мира [40] .
(2.1–13)
• Самая большая помеха наслаждениям не боль, а иллюзии. Первейшие враги человеческого счастья – непомерные желания, стремление получить больше, чем необходимо смертному для жизни, и непреходящий страх. Лукреций завершает поэму описанием эпидемии чумы в Афинах, но даже и такое бедствие ужасает не столько страданиями и смертями, сколько «смятением и паникой», которые оно вызывает.
Человек поступает разумно, избегая боли, и этот принцип является одним из основополагающих в этической системе Лукреция. Но как не допустить того, чтобы боязнь боли не стала панической и не принесла еще больше страданий? И вообще, что делает людей несчастливыми?
Ответ на этот вопрос Лукреций связывает с человеческим воображением. Хотя люди смертны и не вечны, они подвержены иллюзиям о вечности – вечном наслаждении и вечной боли. Фантазией о вечной боли можно объяснить их склонность к религиозности: ложное верование в бессмертие души заставляет человека страшиться осуждения на вечные страдания и вымаливать у богов лучшей участи – вечных наслаждений в раю. Фантазия о вечном наслаждении помогает понять склонность человека к романтической любви: из-за ложного верования в то, что счастье зиждиться на абсолютном обладании объектом безграничной страсти, человек оказывается в таком положении, когда он испытывает постоянное чувство неудовлетворенного голода и жажды и вместо счастья получает одни страдания.
Тем не менее вполне разумно добиваться сексуальных наслаждений: в конце концов, они входят в число немногих естественных удовольствий, которые может получать человеческое тело. По Лукрецию, обычная ошибка – путать эту радость с иллюзорным желанием обладать: войти в лоно и, завладев, насытиться. Полное насыщение всегда призрачно. Даже в самом жарком смешении обоюдной страсти возлюбленные не в состоянии достичь всей полноты удовлетворения:Ведь и в самый миг обладанья
Страсть продолжает кипеть и безвыходно мучит
влюбленных:
Сами не знают они, что насытить: глаза или руки?
Цель вожделений своих сжимают в объятьях и, телу
Боль причиняя порой, впиваются в губы зубами
Так, что немеют уста, ибо чистой здесь нету услады.
(4.1076–1081) В этой сцене, которую У.Б. Йитс назвал «самым ярким изображением полового акта, когда-либо ему встречавшимся»12, Лукреций вовсе не призывает к более пристойным и сдержанным сексуальным отношениям. Он акцентирует внимание на ненасытности сексуального вожделения, которое сохраняется даже при удовлетворении желания13. В ненасытности сексуальной жажды Лукреций усмотрел одну из лукавых стратегий Венеры: по этой причине после небольших перерывов половой акт неоднократно повторяется. Лукреций признает, что повторяющиеся любовные утехи приносят удовольствие. Но он обеспокоен эмоциональными страданиями, которыми они сопровождаются, импульсами агрессии и прежде всего тем, что даже в момент наивысшего экстаза остается ощущение неудовлетворенного желания. В 1685 году эту концепцию секса по Лукрецию английскому читателю представил поэт Джон Драйден (отрывок из поэмы приводится в переводе с оригинального латинского текста Ф.А. Петровского. – Примеч. пер .):
И, наконец, уже слившися… посреди наслаждений
Юности свежей, когда предвещает им тело восторги,
И уж Венеры посев внедряется в женское лоно,
Жадно сжимают тела и, сливая слюну со слюною,
Дышат друг другу в лицо и кусают уста в поцелуе.
Тщетны усилия их: ничего они выжать не могут,
Как и пробиться вовнутрь и в тело всем телом проникнуть,
Хоть и стремятся порой они этого, видно, добиться:
Так вожделенно они застревают в тенетах Венеры, —
Млеет их тело тогда, растворяясь в любовной усладе…14
(4.1105–1114)
• Понимание природы вещей побуждает к познанию. Идеи Лукреция (Вселенная состоит из атомов и пустоты, и ничего более; мироздание сотворено не для нас и не неким провидцем-создателем; мы не имеем никакого права считать себя центром мироздания; в эмоциональном и физиологическом отношении другие существа такие же, как мы; наши души так же материальны и смертны, как тела) не должны приводить нас в отчаяние. Напротив, ясное представление о том, как все устроено, открывает путь к счастью. Малозначительность человека (то, что не из-за него и не ради него возникло все существующее) – вовсе не повод для беспокойства.
Человек может жить счастливо, но не из-за того, что он ощущает себя центром Вселенной, поклоняется богам или приносит себя в жертву ради добродетелей, которые должны продлить его бренное существование. Главные преграды счастью создают неосуществимые желания и боязнь смерти. Однако эти препятствия легко преодолеть с помощью разума.
Разумное суждение доступно не только экспертам, а любому человеку. Надо лишь отказаться от ложных представлений, навязываемых жрецами и другими фантазерами, и трезво и спокойно попытаться осознать действительную природу вещей. Все предположения – научные, нравственные, все попытки организовать достойную жизнь – должны основываться на признании ключевой роли невидимых «семян вещей», строения мира из атомов, пустоты и ничего более.
На первый взгляд при таком понимании мироустройства создается ощущение непроглядной холодной пустоты и Вселенная лишается своей магической притягательности. Но избавление от вредных заблуждений еще не означает разочарования. Философию, как говорили в древности, породило удивление. Недоумение и изумление пробудили в человеке интерес к познанию, а знание в итоге погубило наши способности удивляться чему-либо. Лукреций предлагает удивляться, познавая природу вещей.Поэма «О природе вещей» – редчайшее свершение человеческого интеллектуального дарования: оно талантливо исполнено и как философское, и как поэтическое произведение. Составляя перечень основных положений философско-этической системы Лукреция, я неизбежно обошел вниманием сильнодействующий магнетизм его поэзии, который он сам преуменьшил, сравнив свои стихи с медом, которым обмазывают края чаши со снадобьем, чтобы больному было легче его выпить [41] . Преуменьшение значения поэтической стороны произведения меня не удивляет. Его философский ментор Эпикур не любил велеречивость, полагая, что истину надо выражать простой и ясной прозой.
Однако Лукреций не случайно использовал поэтическую форму реализации своего миссионерского проекта и разоблачения мифотворчества. Почему сказители небылиц завладели монополией на средства, изобретенные человеком для выражения сладости и красоты мироздания? Без этих средств мир, в котором мы живем, будет казаться неуютным и неприветливым, и человек, желая обеспечить себе безмятежное существование, будет верить в фантазии, даже если они и губительны для него. С помощью поэзии действительную природу вещей – бесчисленные неразрушимые частицы, сталкивающиеся друг с другом, сцепляющиеся, оживающие, разбегающиеся, умирающие, воспроизводящиеся, создающие удивительный, постоянно изменяющийся мир – можно описать в красочных художественных образах и метафорах.
Человеческие существа, считал Лукреций, не должны верить в зловредные легенды о том, что их души в реальном мире пребывают лишь временно и им предстоит отправиться куда-то еще. Эта вера породит в них деструктивное отношение к окружающей среде, в которой им отведен один-единственный жизненный срок. Их жизнь, как и существование других форм материи во Вселенной, условна и ранима: все существующее в мире, в том числе и сама Земля, рано или поздно распадется и возвратится в первозданное состояние элементарных частиц – атомов, из которых возникнут новые формы в бесконечном движении вечной материи. Однако пока мы живы, нам следует наслаждаться жизнью, поскольку мы являемся частью грандиозного процесса непрестанного сотворения мира, которому Лукреций придал определенный эротизм.
Отчасти по этой причине большой мастер метафор вопреки своему убеждению в том, что боги глухи к треволнениям человека, начинает поэму лирическим гимном Венере. Возможно, лучший перевод этих пылких строк Лукреция на английский язык опять же сделан Джоном Драйденом (ниже следует отрывок из поэмы в переводе Ф.А. Петровского. – Примеч. пер .):
Рода Энеева мать, людей и бессмертных услада,
О благая Венера! Под небом скользящих созвездий
Жизнью ты наполняешь и все судоносное море,
И плодородные земли; тобою все сущие твари
Жить начинают и свет, родившися, солнечный видят.
Ветры, богиня, бегут пред тобою; с твоим приближеньем
Тучи уходят с небес, земля-искусница пышный
Стелет цветочный ковер, улыбаются волны морские,
И небосвода лазурь сияет разлившимся светом15.
(1.1–9)
Гимн поистине лучезарный и восторженный. Словно поэт в экстазе действительно видит саму богиню любви и то, как при ее появлении проясняется небо и пробуждается земля, осыпая ее цветами. Богиня – воплощение любви, и ее возвращение на дуновении западного ветра наполняет все живые существа радостью и страстным желанием соития:
…Весеннего дня лишь только откроется облик,
И, встрепенувшись от пут, Фавоний живительный дунет,
Первыми весть о тебе и твоем появленье, богиня,
Птицы небес подают, пронзенные в сердце тобою.
Следом и скот, одичав, по пастбищам носится тучным
И через реки плывет, обаяньем твоим упоенный,
Страстно стремясь за тобой, куда ты его увлекаешь,
И, наконец, по морям, по горам и по бурным потокам,
По густолиственным птиц обиталищам, долам зеленым,
Всюду внедряя любовь упоительно-сладкую в сердце,
Ты возбуждаешь у всех к продолжению рода желанье.
(1.9–20)
Нам трудно представить, как воспринимали все эти эротические образы монахи, копировавшие латинские стихи и сохранившие их для потомков, или Поджо Браччолини, наверняка хотя бы пролиставший поэму после того, как вызволил ее из забвения. Почти все основные принципы Лукреция были противны целомудренной христианской ортодоксии. Но вряд ли можно было не поддаться обаянию обольстительно прекрасной поэзии. По крайней мере она очаровала великого итальянца Боттичелли, позже, в том же XV веке, написавшего под влиянием поэмы художественный образ пленительной Венеры, выходящей из синевы моря.
Глава 9 Возвращение Лукреция
«Лукреций ко мне еще не вернулся, – писал Поджо венецианскому другу, патрицию-гуманисту Франческо Барбаро, – хотя и был скопирован». Очевидно, Поджо не позволили взять древний манускрипт (гуманист относился к нему так трепетно, словно это был сам поэт) с собой в Констанц. Монахи проявили осторожность, заставив его найти копииста. Поджо, видимо, не рассчитывал на то, что писец доставит результат своего труда лично. «Это место расположено далеко, и редко кто приезжает оттуда, – сообщал Поджо. – Мне придется подождать, пока кто-нибудь его не привезет»1. Как долго он готов ждать? «Если никто не приедет, – заверял Поджо друга, – то я не буду ставить государственные дела выше личных проблем». Очень странное заявление: какие дела он считал государственными и какие – личными? Поджо, возможно, просто давал понять Барбаро: официальные обязанности в Констанце (какими бы они ни были) не помешают ему добыть Лукреция.
Когда наконец Поджо получил манускрипт «О природе вещей»2, он сразу же отослал его Никколо Никколи во Флоренцию. Либо копия, исполненная писцом, была шероховатой, либо Никколи захотел иметь свой экземпляр, друг Поджо переписал ее. Эти два дубликата – Никколо и немецкого писца – породили десятки других копий, сохранилось более пятидесяти, и они использовались для издания поэмы Лукреция в продолжение всего XV века и начала XVI столетия. Таким образом, благодаря усилиям Поджо действительно поэма, пролежавшая в забвении тысячу лет, снова стала доступна широкому читателю. В Лаврентийской библиотеке, спроектированной Микеланджело для Медичи, и сейчас хранится копия поэмы Лукреция, исполненная Никколи с копии немецкого писца, исполненной с копии IX века – Codex Laurentianus 35.30. Манускрипт – одна из главных библиографических редкостей современности – выглядит очень скромно: переплет из красной кожи, инкрустированный металлом, поблек и обтрепался; к обложке прикреплена цепь. Внешне он мало чем отличается от других манускриптов, кроме одного обстоятельства: читателю выдаются латексные перчатки, когда ему вручается книга.
Копия, исполненная немецким писцом и посланная Поджо из Констанца во Флоренцию, утеряна. Предположительно Никколи, сделав экземпляр для себя, отправил ее обратно Поджо, но тот, похоже, не удосужился переписать манускрипт. Возможно, Поджо, уверенный в мастерстве Никколи, или его наследники, решившие, что не стоит хранить копию писца, выбросили ее. Утерян и манускрипт, с которого делал копию немецкий писец: он, очевидно, оставался в монастырской библиотеке. Сгорела ли книга при пожаре? Или чернила были аккуратно стерты для другого текста? Пропала ли она из-за небрежного хранения, от сырости и гниения? Или же набожный читатель, возмущенный ее содержанием, уничтожил манускрипт? От нее не осталось никаких следов. Тем не менее уцелели два других манускрипта «О природе вещей» IX века, не известные Поджо и его современникам-гуманистам. Эти два манускрипта, названные по их формату Oblongus (продолговатый) и Quadratus (квадратный), занес в каталог известный нидерландский ученый-филолог и коллекционер XVII века Исаак Фосс, и они хранятся в библиотеке Лейденского университета с 1689 года. Пережили время и фрагменты третьего манускрипта IX века, составляющие около 45 процентов текста поэмы Лукреция и хранящиеся в коллекциях Копенгагена и Вены. Но к тому времени, когда всплыли все эти рукописи, поэма Лукреция благодаря усилиям Поджо уже внесла свою лепту в трансформацию представлений о мире.
Вполне возможно, что Поджо послал копию поэмы Никколи, лишь бегло пролистав ее. На него свалилось слишком много забот. Бальдассаре Косса, лишенный папства, маялся в тюрьме. Второй претендент на престол Святого Петра – Анджело Коррер, которого заставили отказаться от титулования Григорием XII, умер в октябре 1417 года. Третий заявитель – Педро де Луна – забаррикадировался сначала в крепости Перпиньян, а потом на неприступной скале Пеньискола на морском побережье возле Валенсии. Он упорно называл себя Бенедиктом XIII, но практически все, в том числе и Поджо, понимали, что его притязания несерьезны. Папский престол оставался вакантным, а Вселенский собор, как нынешний Евросоюз, раздирали противоречия между английской, французской, немецкой, итальянской и испанской делегациями: они непрестанно пререкались по поводу условий избрания нового понтифика.
В затянувшийся период междувластия многие члены курии уже нашли себе применение; другие – вроде Бруни, друга Поджо – вернулись в Италию. Попытки Поджо подыскать себе достойное занятие успехом не увенчались. У апостолического секретаря опозоренного папы завелись враги, а он не желал умиротворить противников отречением от бывшего хозяина. Другие чиновники папского двора охотно свидетельствовали против понтифика, уже сидевшего в тюрьме, но фамилия Поджо не фигурировала в списке свидетелей обвинения. Посодействовать ему мог только один из главных союзников Коссы – кардинал Дзабарелла, если бы его избрали папой, но Дзабарелла умер в 1417 году. Когда наконец на тайном конклаве осенью 1418 года кардиналы избрали нового понтифика, им оказался человек, совершенно не заинтересованный в том, чтобы окружать себя интеллектуалами-гуманистами: Оддо Колонна, взявший имя Мартина V. Поджо не предложили пост апостолического секретаря, хотя он мог остаться при папском дворе в должности писца. Поджо не пошел служить папе, а принял другое, неожиданное и рискованное решение.
В 1419 году он согласился занять должность секретаря Генри Бофорта, епископа Винчестера. Дядя Генриха V (шекспировского героя битвы при Азенкуре) Бофорт возглавлял английскую делегацию на соборе в Констанце, где, очевидно, и встретился с Поджо, который произвел на него большое впечатление. Для богатого и могущественного английского епископа Поджо мог стать полезным секретарем, искушенным, высокообразованным, посвященным во все тонкости куриальной бюрократии и владевшим гуманитарными познаниями. Для итальянца назначение секретарем Бофорта означало сохранить собственное достоинство. Поджо мог испытывать моральное удовлетворение, отказавшись от менее высокой должности, приняв которую он бы унизил себя. Однако Поджо не знал английского языка. Если это не имело особого значения для церковника-аристократа, для которого родным языком был французский (Бофорт также владел латынью и итальянским языком), то Поджо вследствие такого пробела в своей образованности никогда не чувствовал бы себя в Англии как дома.
Решение, принятое накануне своего сорокалетия, уехать в страну, где нет ни родственников, ни соратников, ни друзей, было вызвано не только обидой. Перспектива пожить на далекой чужбине – Англия тогда казалась более отдаленной и экзотичной, чем Тасмания современному римлянину – прельстила Поджо как охотника за манускриптами. Он добился впечатляющих успехов в Швейцарии и Германии, прославивших его в кругах гуманистов. Новые великие открытия наверняка ждут его в монастырских библиотеках Англии. Эти библиотеки еще не были обследованы на основе прочтения известных классических текстов, энциклопедических знаний, позволяющих напасть на следы утерянных манускриптов, и феноменальной филологической интуиции, которой, безусловно, владел Поджо. Если его уже почитают как полубога за воскрешение канувших в Лету античных шедевров, то какие же лавры посыплются на него после новых триумфов в Англии!
Поджо провел в Англии почти четыре года, но его постигли сплошные разочарования. Епископ Бофорт оказался вовсе и не таким богатым, как думал вечно безденежный Поджо. К тому же он постоянно куда-нибудь уезжал – «как кочевник или скиф», и секретарь скучал без дела. Кроме Никколи, о Поджо позабыли все итальянские друзья: «Обо мне забыли, словно я умер»3. Англичане, с которыми он встречался, были, как на подбор, неприятные и неприветливые: «Очень много любителей предаваться чревоугодию и похоти и очень мало поклонников литературы, а среди них преобладают невежды, интересующиеся больше пустяшными дебатами и софизмами, а не реальными познаниями».
Его письма в Италию наполнены стенаниями. Разразилась чума; погода мерзопакостная; мать и брат пишут ему только для того, чтобы попросить денег, которых у него нет; его замучил геморрой. Но больше всего Поджо разочаровали библиотеки, по крайней мере те, которые он посетил. Они, с его точки зрения, оказались совершенно никчемными. Поджо писал Никколи во Флоренцию:
...
«Я побывал во многих монастырях, все они напичканы новыми докторами богословия. Но вряд ли услышишь от них что-нибудь стоящее. Я видел несколько томов древних текстов, у нас дома есть гораздо более ценные экземпляры. Почти все монастыри на этом острове построены за последние четыреста лет, то есть в эпоху, не создавшую ни выдающихся ученых, ни книг, которые нам нужны. Те книги, которые мы ищем, исчезли без следа»4.
Возможно, есть что-то в Оксфорде, добавляет Поджо, однако Бофорт не собирается ехать туда, а его собственные ресурсы чрезвычайно ограничены. Его друзьям-гуманистам придется отказаться от надежд на потрясающие открытия: «Не ждите манускриптов из Англии, здесь ими практически не интересуются»5.
Поджо утешал себя тем, что мог заняться изучением наследия Отцов Церкви – в Англии не было недостатка в богословских трудах, – но он мучительно переживал оторванность от классической литературы: «За четыре года я совсем забросил гуманистические исследования, – сетовал Поджо, – и не прочел ни одной книги, имеющей отношение к литературному стилю. Вы это поймете по письмам, они уже не такие, как прежде»6.
В 1422 году, потратив немало моральных усилий на стенания, увещевания и откровенную лесть, Поджо все-таки добился должности секретаря в Ватикане. Однако денег на путешествие у него не было. «Куда и к кому мне только ни приходится обращаться, чтобы уехать отсюда за чей-нибудь счет», – писал он чистосердечно7. Поджо, очевидно, все же нашел благодетелей и вернулся в Италию, так и не найдя утерянных библиографических сокровищ и не оставив сколько-нибудь заметных следов в английской интеллектуальной жизни.
12 мая 1425 года Поджо напомнил Никколи о том, что все еще ждет, когда он вернет ему текст, посланный восемь лет назад: «Мне Лукреций нужен на две недели8, не более, но ты хочешь скопировать и его, и Силия Италика, и Нония Марцелла, и Цицерона в одно дыхание. Когда ты разбрасываешься, тебе ничего не удастся сделать». Прошел месяц, и 14 июня Поджо снова написал другу, заметив с укоризной, что не он один желал бы прочесть поэму: «Если ты пришлешь мне Лукреция, то сделаешь одолжение многим людям. Я обещаю, что продержу книгу не больше месяца, и она вернется к тебе»9. Минул еще один год, а богатый коллекционер, видимо, считал, что самое лучшее место для поэмы «О природе вещей» на его полках рядом с древними камеями, фрагментами статуй и антикварным стеклом. Казалось, что, превратившись в очередной трофей коллекционера, поэма вновь затерялась, но на этот раз не в монастыре, а в позолоченных покоях гуманиста.
12 сентября 1426 года Поджо в очередной раз напомнил Никколи о книге: «Пришли мне и Лукреция ненадолго. Я возвращу его тебе»10. Через три года, 13 декабря 1429 года, Поджо, потеряв терпение, уже писал: «Ты держишь у себя Лукреция двенадцать лет. Мне кажется, что тебе построят гробницу раньше, чем ты скопируешь книги». Через две недели он написал снова и, очевидно, от досады преувеличил срок ожидания: «Ты не выпускаешь из рук Лукреция четырнадцать лет и Аскония Педиана тоже… Не кажется ли тебе, что, когда мне хочется почитать этих авторов, то я лишен этой возможности только из-за твоей невнимательности?.. Я желаю прочесть Лукреция, но его у меня нет. Не собираешься ли ты хранить его у себя еще десять лет? – И затем добавляет в более примирительном тоне: – Прошу тебя прислать мне Лукреция или Аскония. Я сам сделаю копии в самое ближайшее время, верну книги тебе, и ты можешь держать их у себя сколько угодно».
Наконец Поджо получил манускрипт, точная дата неизвестна. Вызволенная из плена любителя старины11, поэма вновь обрела читателя: ее переписывали, о ней говорили, она уже оказывала влияние на умы. Мы не знаем об оценках Поджо и Никколи; о воздействии поэмы на других людей рассказывается в заключительных главах.
Вернувшись в Рим, Поджо окунулся в знакомую рутину папского двора, предавшись привычным занятиям: договаривался о доходных сделках, обменивался циничными анекдотами во «вральне», переписывался с коллегами-гуманистами, вздорил с соперниками. Суматошное чиновничье существование – двор редко оставался на одном и том же месте сколько-нибудь длительное время – не мешало ему переводить древние тексты с греческого языка на латынь, копировать манускрипты, сочинять эссе на моральные проблемы, философские и риторические трактаты, диатрибы, писать траурные речи об усопших друзьях: скончались Никколо Никколи, Лоренцо де Медичи Пополано, кардинал Никколо Альбергати, Леонардо Бруни, кардинал Джулиано Чезарини.
Поджо обзавелся и детьми. Со своей любовницей Лучей Паннелли, если имеющиеся свидетельства верны, он нажил двенадцать сыновей и двух дочерей. По тем временам Поджо вел себя предосудительно, но он и не скрывал наличия внебрачного потомства. Когда кардинал, с которым у него сложились дружеские отношения, устроил ему взбучку за сомнительное поведение, Поджо признал свою вину, но язвительно добавил: «Разве мы не видим, как во всех странах священники, монахи, аббаты, епископы и даже духовные лица более высокого ранга наживают детей от замужних женщин, вдов и даже от девственниц, посвятивших себя служению Господу?»
По мере возрастания доходов, а налоговые записи свидетельствуют, что после возвращения из Англии они значительно приумножились, менялся и образ жизни Поджо. Он по-прежнему страстно увлекался античными текстами, но поисковые экспедиции прекратились. Поджо пошел по стопам своего богатого друга, начав коллекционировать предметы старины. «У меня целая комната заполнена мраморными головами», – похвалялся он в 1427 году. В том же году Поджо приобрел дом в Террануове, тосканском городке, где родился и где теперь будет наращивать богатства. Денег на усадьбу он заработал, скопировав манускрипт Ливия и продав его за 120 золотых флоринов.
Отец Поджо, погрязший в долгах, когда-то был вынужден бежать из города. Его сын задумал создать здесь свою «академию», куда он смог бы укрыться в старости и жить в свое удовольствие. «Я нашел великолепный мраморный женский бюст12, совершенно неповрежденный и мне очень полюбившийся, – писал Поджо спустя несколько лет. – Его обнаружили, когда рыли фундамент для одного дома. Я позаботился о том, чтобы бюст принесли ко мне и поставили в саду, который мне хочется украсить древностью». Об очередном приобретении изваяний Поджо сообщал: «Когда они будут доставлены, я помещу их в гимназии»13. Академия, сад, гимнастическая школа – Поджо мечтал воссоздать, хотя бы для себя, мир античных греческих философов. И не скупился на затраты, чтобы придать ему соответствующую эстетическую привлекательность. «Скульптор Донателло видел одну из статуй и дал ей высокую оценку», – гордился Поджо.
Тем не менее жизнь Поджо никогда не была спокойной. В 1433 году, когда он служил апостолическим секретарем понтифика Евгения IV, преемника Мартина V, в Риме вспыхнуло восстание против папства. Переодевшись монахом и бросив своих сторонников на произвол судьбы, папа сбежал в лодке по Тибру в Остию, где его ожидало судно, подготовленное флорентийскими союзниками. Бунтовщики, столпившиеся на берегу реки, признали его и закидали камнями. Папе все-таки удалось уйти от них. Поджо с побегом не повезло: его поймала одна из банд врагов понтифика. Переговоры об освобождении не давали никакого результата, пока его не вынудили откупиться за весьма солидную сумму.
Как бы то ни было, неприятности оказывались преходящими, и Поджо мог вернуться к своим занятиям книгами, статуями, переводами, пререканиями и наращиванием богатств. Наконец, 19 января 1436 года произошло самое знаменательное событие в его жизни: он женился на Вадже ди Джино Буондельмонти. Ему исполнилось пятьдесят шесть лет, новобрачной – восемнадцать. Брак был совершен не ради денег, Поджо прельстили более высокие материи, своего рода культурный капитал [42] 14. Семья Буондельмонти занимала далеко не последнее место в ряду древних феодальных родов во Флоренции. Хотя в своих сочинениях Поджо и порицал людей, гордящихся аристократическим происхождением, видимо, он все же испытывал влечение к знатности. Для тех же, кто насмехался над его женитьбой, Поджо написал диалог «An seni sit uxor ducenda» – «Надо ли жениться старику?». Предсказуемые возражения, на грани мизогамии, получают предсказуемые ответы, тоже не менее сомнительные. Согласно мнению противника – в его роли выступает не кто иной, как Никколо Никколи, – глупо старику, тем более ученому человеку, менять свой привычный образ жизни на неизвестное, чуждое и рискованное бытие. Новобрачная может оказаться капризной, злой, несдержанной, гулящей и ленивой. Если она вдова, то неизбежно будет вспоминать о счастливых днях, проведенных с бывшим мужем. Если попадется юная девица, то ей наверняка наскучит стареющий супруг. А если еще появятся и дети, то старика всегда будет мучить мысль о том, что он оставит их до того, как они повзрослеют.
Но нет – не соглашается апологет, – многоопытность мужчины в зрелых годах компенсирует неискушенность молодой жены, он может лепить из нее все, что угодно. Он будет сдерживать ее горячность, а если судьба даст им и детей, то они станут его утешением в глубокой старости. Кроме того, с какой стати его жизнь должна быть короткой? Сколько бы лет ему ни отведено, он проживет их в обществе человека, которого любит. Развязка наступает тогда, когда сам Поджо заявляет, что он счастлив, а Никколи признает: в жизни могут быть исключения из пессимистических правил.
В эпоху, когда, по нашим стандартам, средняя продолжительность жизни была сравнительно низкой, Поджо показал неплохой пример долголетия. Он счастливо прожил с Ваджой более четверти века. Она родила ему пять сыновей – Пьетро Паоло, Джованни Баттиста, Якопо, Джованни Франческо, Филиппо и дочь Лукрецию. Все они благополучно стали взрослыми людьми. Четверо из пятерых сыновей избрали церковную карьеру, пятый, Якопо, стал выдающимся ученым. Он оказался причастным к заговору Пацци против Лоренцо и Джулиано де Медичи, и его повесили во Флоренции в 1478 году.
О судьбе любовницы и ее четырнадцати детей ничего не известно. Друзья упивались его нравственной чистотой и добродетельностью. Враги распространяли истории о равнодушии, приводя в пример брошенных внебрачных детей. Согласно Валле, Поджо отменил процесс признания четверых сыновей, рожденных Лучой, законными. Это обвинение может быть и злостным наветом, которыми традиционно обменивались гуманисты-соперники, хотя у нас нет и свидетельств, которые указывали бы на то, что Поджо проявлял заботу о тех, от кого отказывался.
Как мирянин, Поджо не был обязан уходить со службы при папском дворе после женитьбы. Он ревностно служил папе Евгению IV в продолжение многих лет, отмеченных острыми конфликтами между папством и церковными соборами, дипломатическими дрязгами, гонениями на еретиков, военными авантюрами, побегами и полномасштабной войной. После смерти Евгения в 1447 году Поджо остался на посту апостолического секретаря папы Николая V.
Это уже был восьмой по счету папа, которому служил Поджо в качестве секретаря, и постаревший чиновник, которому уже было далеко за шестьдесят, начал чувствовать усталость. Кроме того, его отвлекали другие дела. Все больше времени у него отнимало сочинительство, требовало внимания и растущее семейство. Вследствие флорентийского происхождения жены активизировались контакты с этим городом, ценные для Поджо. Он считал Флоренцию и своим родным городом и старался посещать его хотя бы раз в год. С другой стороны, ему приносила удовлетворение служба при новом понтифике. Еще до избрания Николай V, в миру Томмазо да Сарцана, проявил себя как просвещенный гуманист. Он отличался той же склонностью к классическим познаниям, которая была присуща Петрарке, Салютати и другим выдающимся гуманистам.
Поджо, повстречавшийся с ним в Болонье и успевший подружиться, в 1440 году посвятил ему одно из своих произведений – «О несчастии государей». Теперь в поздравительном послании, отправленном по случаю избрания, он заверял папу в том, что не всем государям уготовано быть несчастными. Ваше новое, высокое положение, возможно, лишит вас радостей, которые приносят дружба и литература, писал Поджо, но вы по крайней мере можете стать «покровителем людей-гениев и будете способствовать тому, чтобы свободные искусства подняли свои поникшие головы»15. «Позвольте надеяться, ваше святейшество, – добавлял Поджо, – что вы не забудете ваших старых друзей, среди которых нахожусь и я».
Хотя властвованием Николая V Поджо мог быть в целом доволен, идиллия, о которой мечтал апостолический секретарь, оказалась призрачной. Именно в этот период состоялась потасовка с Георгием Трапезундским – с воплями и нанесением ударов. Его, наверно, расстроило и то, что папа, в котором он хотел видеть патрона гениев, взял к себе апостолическим секретарем заклятого врага Лоренцо Валлу. Поджо и Валла не преминули сразу же ввязаться в публичную перебранку, награждая друг друга ехидными комментариями по поводу ошибок в латыни и еще более язвительными замечаниями в отношении личной гигиены, секса и семьи.
Пошлость ссор только усиливала желание уйти в отставку, не покидавшее Поджо с того времени, когда он купил дом в Террануове и начал коллекционировать древние артефакты. Поджо уже заслужил право на отдых: он пользовался широкой известностью как знаток античности, ученый, писатель и влиятельный папский чиновник. Поджо завел друзей во Флоренции, породнившись с одной из самых знатных семей города, сблизился с родом Медичи. Хотя он большую часть взрослой жизни провел в Риме, флорентийцы с радостью приняли бы его в свое сообщество. Правительство Тосканы одобрило законопроект, специально посвященный его особе. В нем с удовлетворением отмечалось, что Поджо заявил о своем намерении вернуться на родную землю и провести остаток жизни в научных изысканиях. Поскольку литературные труды не позволяют ему достичь того же уровня достатка, какой дает коммерческая деятельность, то и он сам, и его дети освобождаются от уплаты всех налогов.
В апреле 1453 года умер канцлер Флоренции Карло Марсуппини. Канцлер был убежденным гуманистом, перед смертью он переводил «Илиаду» на латынь. Это пост уже не воплощал сосредоточие государственной власти, усиление могущества Медичи снизило политическую значимость канцлерства. Много лет минуло с тех пор, когда владение классической риторикой Салютати имело решающее значение для выживания республики. Однако традиция, чтобы пост канцлера занимал выдающийся ученый, утвердилась: в этом качестве два срока прослужил друг Поджо, необычайно одаренный историк Леонардо Бруни.
Должность была и высокооплачиваемой и престижной. Флоренция осыпала своих канцлеров-гуманистов всевозможными благами и почестями, на который был только способен процветающий и гордый город. Канцлерам, умиравшим при должности, устраивали государственные похороны, превосходившие пышностью погребения любого другого гражданина республики. Когда семидесятитрехлетнему Поджо предложили этот пост, он без колебаний согласился. Более пятидесяти лет он служил при дворе абсолютного монарха, теперь ему предстояло стать главой города, прославившегося своей приверженностью к гражданским свободам.
Пост канцлера Флоренции Поджо занимал пять лет. В правительстве не все шло гладко под его руководством. Поджо, похоже, пренебрегал менее значительными обязанностями. Но он добросовестно исполнял свою символическую роль, находя время и для литературных занятий. В этот период Поджо написал угрюмое двухтомное сочинение «О презренности человеческого существования». Диалог, начинаясь с завоевания Константинополя турками, переходит затем к бедам, которые сваливаются на головы практически всех мужчин и женщин любых сословий и профессий и во все времена. Один из собеседников, Козимо де Медичи, заявляет, что надо сделать исключение для пап и князей церкви, которые, похоже, живут в роскоши и довольстве. Говоря от своего имени, Поджо отвечает: «Могу засвидетельствовать (ибо жил с ними пятьдесят лет), что мне не встретился ни один, кто бы не жаловался на жизнь, не испытывал бы беспокойство, смятение, тревоги и страхи»16.
Мрачный настрой диалога можно воспринять как признак того, что Поджо под конец жизни одолела грусть. Однако другое произведение, относящееся к тому же периоду, опровергает это предположение. Еще полвека назад он освоил греческий язык и теперь перевел на латынь смешную сатиру Лукиана Самосатского «Осел», о колдовстве и метаморфозах. И уж совсем не подтверждает унылость настроений третье сочинение – патетически-пристрастное изложение «Истории Флоренции» с середины XIV века. Необычайное тематическое разнообразие трех сочинений – одно из них вполне соответствует вкусам средневекового аскета, другое отражает настроения гуманиста Ренессанса, а третье – гражданского патриота – указывает лишь на противоречивый характер и его психологического состояния, и общественного положения.
В апреле 1458 года, после того как ему исполнилось семьдесят восемь лет, Поджо подал в отставку, заявив, что намерен посвятить себя науке и литературе как частное лицо. Спустя восемнадцать месяцев, 30 октября 1459 года, он умер. Поскольку он уже не занимал пост канцлера, правительство Флоренции не устроило государственные похороны, организовав погребальную церемонию в церкви Санта-Кроче и вывесив портрет, исполненный Антонио Поллайоло, в одном из общественных залов города. Город заказал и статую, которую водрузили перед собором Санта-Мария дель Фьоре. Через столетие, в 1560 году, когда переделывали фасад собора, статую перенесли в другое место, и теперь она является частью скульптурной группы из двенадцати апостолов. Любой истинный христианин был бы рад такой чести, но Поджо вряд ли посетили бы какие-либо восторженные чувства. Он всегда предпочитал общественное признание.Знаки этого признания в основном исчезли. Место его захоронения в Санта-Кроче пропало, на нем возникли памятники другим знаменитостям. Город, в котором он родился, действительно переименовали, назвав Террануова-Браччолини в честь своего славного сына, а на городской тенистой площади в 1959 году – через пятьсот лет после смерти – возвели скульптуру. Но мало кто из прохожих скажет, кому она посвящена.
Тем не менее своими открытиями в начале XV столетия Поджо вписал свое имя в историю наряду с такими выдающимися флорентийцами, как Филиппо Брунеллески, Донателло, Фра Анджелико, Паоло Уччелло, Лука делла Роббиа, Мазаччо, Леон Баттиста Альберти, Филиппо Липпи, Пьеро делла Франческа. Если знаменитый купол Брунеллески стал определяющей деталью силуэта Флоренции, то поэма Лукреция «О природе вещей» навсегда изменила всю картину мира.
Глава 10 Муки инакомыслия
До нас дошло более пятидесяти манускриптов поэмы «О природе вещей», относящихся к XV столетию, но их, возможно, и больше. После того как умное изобретение Гутенберга стало коммерчески рентабельным, ее начали печатать во многих экземплярах. Все издания обыкновенно сопровождались оговорками и предупреждениями об одиозности содержания.
На исходе XV века Флоренцией как сугубо «христианской республикой» несколько лет правил Джироламо Савонарола. Под влиянием его страстных и притягательных проповедей значительную часть населения Флоренции, как представителей знати, так и простолюдинов, охватила истерия покаяния. Педерастия наказывалась смертной казнью; банкиры и купцы подвергались нападкам за роскошь и равнодушие к беднякам; пресекалось увлечение азартными играми, танцами и пением и всеми другими занятиями ради удовольствия. Наиболее запоминающейся драконовской мерой, прославившей правление Савонаролы, были так называемые «костры тщеславия»: самые ярые сторонники монаха ходили по улицам, врываясь в дома горожан, и собирали греховные предметы – зеркала, косметику, обольстительные одеяния, песенники, музыкальные инструменты, игральные карты и кости, языческие скульптуры и картины, произведения античных поэтов – и кидали их в огромный костер на Пьяцца делла Синьория.
Спустя некоторое время город устал от пуританизма Савонаролы, и 23 мая 1498 года его, закованного в цепи, повесили вместе с двумя самыми оголтелыми сторонниками и сожгли на том же месте, где он устраивал показательные спектакли с сожжением греховных предметов. Но когда диктатор был на вершине могущества и держал граждан в благоговейном страхе, он с удовольствием нападал на античных философов в великопостных проповедях, адресуя свой сарказм самой легковерной аудитории – женщинам. «Слушайте, женщины! – кричал он толпе. – Есть люди, утверждающие, что этот мир сотворен из атомов, то есть мельчайших частиц, летающих в воздухе»1. Смакуя очевидную для него абсурдность такого утверждения, монах призывал затем слушателей посмеяться вместе с ним: «Теперь, женщины, посмейтесь над умственными способностями этих ученых мужей!»
К девяностым годам XV века, то есть через шестьдесят – семьдесят лет после возрождения поэмы Лукреция, атомистическое учение уже пользовалось такой известностью, что возникла необходимость в его осмеянии. Конечно, известность еще не означала, что открыто признавалась его истинность. Никакой благоразумный человек не осмелился бы во всеуслышание сказать: «Я считаю, что мир состоит только лишь из атомов и пустоты, а и душой и телом мы представляем собой фантастические сложные структуры атомов, связанных между собой на определенное время и обреченных на то, чтобы однажды распасться». Ни один из уважаемых граждан не стал бы открыто утверждать: «Душа умирает вместе с телом. Нет никакого Суда Божьего после смерти. Вселенная не создана для нас некоей божественной волей, и все разговоры о загробной жизни – чистейшая фантазия». Никто из разумных людей, желавших спокойного и мирного существования, не говорил бы на публике: «Проповедники, требующие от нас, чтобы мы жили в страхе и боялись вечных мук, лгут. Бог не интересуется нашими деяниями, и, хотя природа прекрасна и удивительно сложна, нет никаких свидетельств того, что она сотворена по чьему-то очень проницательному замыслу. Для нас важнее всего стремиться к удовольствиям, ибо удовольствие – наивысшая цель нашего существования». Никто не произнес бы и такие слова: «Смерть – ничто для нас, она не должна нас волновать». Но все эти дерзновенные идеи, порожденные Лукрецием, находили понимание там, где уже заявляло о себе ренессансное мышление.
В то же самое время, когда Савонарола призывал слушателей насмехаться над сторонниками атомизма, один молодой флорентиец переписывал для себя полный текст поэмы «О природе вещей». Ни в одном из своих знаменитых произведений он ни разу не упомянул об этом факте, хотя влияние идей Лукреция на этого молодого человека обнаружить нетрудно. Он был благоразумным гражданином. Тем не менее почерк выдал его в 1961 году: скопировал поэму Никколо Макиавелли2. Его копия поэмы Лукреция хранится в Ватиканской библиотеке – MS Rossi 884. Разве не достойное место для хранения детища Поджо, апостолического секретаря? По примеру, поданному другом Поджо, папой-гуманистом Николаем V, классическим текстам отведено в Ватиканской библиотеке почетное место [43] .
Сарказм Савонаролы все же вызывался реальными опасениями: свод мировоззренческих убеждений, изложенных увлекательным поэтическим языком, мог стать настольной книгой по изучению (а инквизиторам пособием для выявления) атеизма. Его внедрение в интеллектуальную среду Ренессанса вызвало тревожную реакцию, в том числе у тех, кто был к нему предрасположен. Озабоченность проявил и один из выдающихся флорентийцев середины XV столетия Марсилио Фичино. Философа-гуманиста, которому было чуть более двадцати лет, потрясла поэма «О природе вещей»3, и он написал толковый комментарий, назвав поэта «нашим блистательным Лукрецием». Но, образумившись, то есть вспомнив о вере, он сжег комментарий. Фичино затем обрушился на апологетов Лукреция, называя их «лукрецинами», и посвятил свою жизнь тому, чтобы приспособить учение Платона для философского обоснования и защиты христианства. Вторым направлением борьбы с идеями Лукреция стали попытки отделить от них поэтические достоинства. Это было присуще и Поджо: он гордился открытием поэмы, как и другими находками, но никогда открыто не ассоциировал себя и не ввязывался в обсуждение идейного содержания. В своих сочинениях Поджо и его близкие друзья, как Никколи, могли заимствовать изящность стиля и отдельных выражений, но они игнорировали опасные идейные сентенции. Более того, нам известно, что во время очередной вспышки неприязни к своему врагу Лоренцо Валле Поджо обвинил его в еретической приверженности кумиру Лукреция – Эпикуру4. Одно дело получать удовольствие от вина, другое – воздавать ему хвалу во славу эпикурейства5. Валла даже превзошел Эпикура, считает Поджо, в нападках на девственность и восхвалении проституции. «Пятна вашего святотатства не смыть никакими словами, – угрожающе предупреждал Поджо. – Их можно удалить только огнем, от которого, надеюсь, вам не уйти».
Валла вполне мог отвести обвинение, указав Поджо на то, что он же сам и вытащил на свет божий поэму Лукреция. Гуманист-соперник не сделал этого, видимо, в силу того, что Поджо сумел дистанцироваться от идеологических проблем, которые создавало его открытие. Но скорее все дело в ограниченном количестве экземпляров поэмы. В начале тридцатых годов, когда Валла сочинял хвалу возлияниям и сексу в трактате под названием «De voluptate» («Об удовольствии»), столь шокировавшую Поджо, манускрипт Лукреция все еще находился в цепких руках Никколи6. Факт существования текста поэмы, разглашенный гуманистами, мог способствовать возрождению интереса к эпикуреизму, однако Валла, скорее всего, основывался на других источниках и на собственном богатом воображении, когда трудился над эссе во славу удовольствий.
Интересоваться языческой философией, не согласовавшейся с фундаментальными принципами христианства, было рискованно. Ответ Валлы на нападки Поджо позволяет нам сформулировать третий тип реакции на роль эпикурейства в XV столетии. Эту стратегию противодействия эпикурейским идеям мы могли бы назвать «диалогическим дезавуированием». Да, идеи, противные Поджо, присутствуют в трактате «Об удовольствии», но они принадлежат не Валле, а одному из персонажей литературного диалога, представителю эпикуреизма7. В конце диалога побеждает не эпикурейство, а христианская ортодоксия в лице монаха Антонио Рауденсе: «Когда Антонио Рауденсе закончил свою речь, мы поднялись не сразу. Нас охватило восхищение его благочестием и набожностью»8.
И все же. В середине диалога Валла охотно воспроизводит основные принципы эпикуреизма: мудрость уединения в благостной тиши безмятежных кущ философии от погони за достижением бессмысленных целей («С берега вам весело смотреть на волны, а вернее, на тех, кто в них барахтается»); первенство телесных удовольствий; приоритетность умеренности; противоестественность воздержания от секса; отрицание какой-либо загробной жизни. «Совершенно очевидно, – заявляет эпикуреец, – что умершего не ожидает ни вознаграждение, ни наказание»9. И дабы это утверждение не давало повода для вольного толкования, например, для исключения из общего правила души человека, он разъясняет:
...
«Согласно моему Эпикуру… ничего не остается после разложения живого существа, и под определением «живое существо» он подразумевает как человека, так и льва, волка, собаку и другие создания, способные дышать. Со всем этим я полностью согласен. Они едят, и мы едим; они пьют, и мы пьем; они спят, и мы тоже. Они возбуждаются, оплодотворяются, рождают детенышей и вскармливают их так же, как и мы. Они обладают определенным разумом и памятью, одни больше, другие меньше, и у нас этих способностей чуть больше, чем у них. Мы такие же, как они, почти во всем; и наконец, они умирают, умираем и мы, и мы и они полностью».
Если у нас не вызывает сомнений последнее умозаключение – «и наконец, они умирают, умираем и мы, и мы и они полностью», – то нам придется согласиться и с другим постулатом: «Поэтому как можно дольше (желательно, чтобы очень и очень долго!) нам не следует лишать себя телесных удовольствий, которые нельзя вновь обрести в другой жизни»10.
Можно допустить, что Валла писал эти слова только для того, чтобы их развенчал благочестивый монах Рауденсе:
...
«Если бы перед вами предстал образ ангела рядом с вашей возлюбленной, то она показалась бы вам ужасной и отвратительной, и вы отвернулись бы от нее, как от омерзительного трупа, и обратили бы свой взор на прекрасного ангела, чья красота, скажу я вам, не воспламеняет, а гасит похоть и внушает священное благоговение»11.
Если моя интерпретация верна, то трактат «Об удовольствии» есть не что иное, как памфлет, имевший целью помешать распространению тлетворного влияния поэмы Лукреция12. В отличие от Фичино, пытавшегося остановить заражение, Валла предпочел вскрыть абсцесс и излечить его целительными поучениями христианской веры.
Однако Поджо, непримиримый оппонент Валлы, пришел к другому выводу: форму диалога и христианскую аргументацию Валла использовал для того, чтобы прикрыть свои наскоки на христианскую доктрину. Если ненависть Поджо к врагу ставит под сомнение искренность его обвинений, то знаменитое доказательство Валлой подложности так называемого «Константинова дара» убедительно свидетельствует о том, что его никак нельзя записать в число христианских ортодоксов. С этой точки зрения трактат «Об удовольствии» можно считать сочинением радикала, лишь прикрывающегося фиговым листком христианства, поскольку автор все-таки был священником, стремившимся к тому же получить пост апостолического секретаря, которого он со временем добился.
Так что же преобладало – попытки сдержать расползание идей или стремление развенчать их? Крайне маловероятно, чтобы кто-то смог теперь ответить на этот вопрос на основе свидетельств, которых, скорее всего, не существует. Для этого необходимо иметь ясное представление о действительном положении интеллектуалов в XV и XVI веках13. Вероятно, очень незначительная часть мыслящих людей исповедовала идеи радикального эпикуреизма. К примеру, в 1484 году флорентийскому поэту Луиджи Пульчи было отказано в христианском погребении на основании того, что он отрицал чудеса и считал душу «не более чем орешком в горячем белом хлебе»14. Для многих ищущих умов Ренессанса идеи эпикурейства, привлекшие к себе внимание после возрождения поэмы Лукреция, не стали цельной философской или идеологической системой.
В то же время мировоззренческие принципы Лукреция, изложенные превосходным поэтическим языком, оказывали влияние на интеллектуалов. Особое значение имела, если так можно выразиться, «подвижность», вновь обретенная поэмой, многие столетия пролежавшей в забвении в одной или, возможно, двух монастырских библиотеках. Поэма снова пошла по рукам, а это значит, что начали распространяться и эпикурейские доводы, замалчивавшиеся и язычниками и христианами, и опасные идеи.
Поджо, словно не замечая содержания поэмы «О природе вещей», дал ей новую жизнь: сам сделал копию и отправил ее друзьям во Флоренцию. После того как сочинение вновь обрело читателя, оно столкнулось с двумя проблемами. Во-первых, чтобы ее понять, надо было владеть латинским языком. Вторая сложность заключалась в том, чтобы о ней говорить открыто и, кроме того, разобраться и серьезно воспринять идеи автора. Валла нашел способ, как выразить один из центральных принципов эпикуреизма – удовольствие есть высшее благо: изложил его в форме диалога. Эпикуреец в его диалоге отстаивает принцип удовольствия с энтузиазмом, искусностью и убедительностью, можно сказать, впервые за минувшее тысячелетие.
В декабре 1516 года, почти через сто лет после великого открытия Поджо, флорентийский синод – могущественная организация высокопоставленных церковников – запретил чтение Лукреция в школах. Изящество латыни могло побудить учителей к тому, чтобы рекомендовать поэму подопечным. Клерикалы назвали поэму «безнравственным и непристойным сочинением, проповедующим смертность души». Нарушителям грозило осуждение на вечные муки и штраф в размере десяти дукатов.
Запрет мог ограничить распространение поэмы и в какой-то степени повлиял на ее доступность в Италии, но остановить процесс уже было невозможно. Ее издали в Болонье, потом в Париже, затем она сошла и с печатного станка Альда Мануция в Венеции. Во Флоренции Филиппо Гвинти выпустил издание поэмы под редакцией гуманиста Пьера Кандидо, которого Поджо знал по службе при дворе папы Николая V.
В издание Гвинти вошли поправки, предложенные выдающимся воителем, ученым и поэтом греческого происхождения Микеле Тарканиотой Марулло. Он был настолько известен в кругах итальянских гуманистов, что его портрет написал Боттичелли. Марулло сочинял превосходные языческие гимны, навеянные лирикой Лукреция. В 1500 году он, все еще занимаясь изучением поэмы «О природе вещей», вдруг решил облачиться в доспехи и отправился из Вольтерры сражаться с войсками Чезаре Борджиа, став лагерем возле Пьомбино. Лил дождь, и крестьяне советовали ему не переходить вспучившуюся Чечину. Говорят, будто он ответил: еще в детстве цыган предсказывал, что ему опасаться надо не Нептуна, а Марса. На середине реки лошадь споткнулась и свалилась на него. По легенде, умирая, он будто бы клял богов. В кармане у него была копия поэмы Лукреция.
Гибель Марулло могла послужить предостережением – даже такой либеральный мыслитель, как Эразм Роттердамский, считал, что Марулло пишет как язычник, – но она не погасила интерес к Лукрецию. Даже у церковных владык – многие из них имели гуманистические склонности – не было единого мнения относительно вредности поэмы. В 1549 году предлагалось включить ее в Индекс запрещенных книг (отменен лишь в 1966 году), то есть сочинений, недозволенных читать католикам, но предложение было отвергнуто по инициативе могущественного кардинала Марчелло Червини, избранного впоследствии папой. (Он прослужил понтификом меньше месяца – с 9 апреля до 1 мая 1555 года.) Шеф инквизиции Микеле Гислиери тоже воспротивился запрету поэмы «О природе вещей». Он зачислил Лукреция в разряд тех авторов, чьи языческие сочинения можно читать лишь как небылицы. Гислиери, избранный папой в 1566 году, сосредоточился на борьбе против еретиков и евреев и не обращал внимания на вредоносность языческих поэтов.
Католические интеллектуалы действительно реализовывали идеи Лукреция в сочинениях, основанных на вымысле. Хотя Эразм и назвал Марулло «язычником», сам же написал вымышленный диалог «Эпикуреец», в котором один из персонажей, Гедоний, утверждает: «Нет большего эпикурейца, чем праведный христианин»15. Благочестивые христиане, постящиеся, оплакивающие свои грехи и терзающие свою плоть, конечно, не похожи на гедонистов, но они хотят жить праведно, «а нельзя жить в радости, не живя праведно».
Если этот парадокс больше напоминает демагогическую уловку, то друг Эразма Томас Мор гораздо более серьезно отображает эпикуреизм в знаменитом произведении «Утопия» (1516 год). Томас Мор, ученый, увлеченный языческими греческими и латинскими текстами, возвращенными из небытия Поджо и другими гуманистами, был и исключительно набожным христианским аскетом, носившим власяницу и истязавшим себя до крови. Острый и беспокойный ум ученого позволял ему постичь интеллектуальную силу античного мира, но католические убеждения заставляли прочерчивать четкую демаркационную линию, за которую не должен переходить ни он, ни кто-либо другой. Такими он видел «христианских гуманистов», к которым причислял и себя.
Сначала Мор выносит обвинительный приговор Англии: знать ведет праздный образ жизни, пользуясь трудом других людей, выжимает соки из арендаторов, поднимая плату за землю; аристократы и даже аббаты изгоняют бессчетное число крестьян с земель, на которых выгоднее пасти овец с более тонкой и ценной шерстью, доводя человека до нищеты и преступности; города усеяны виселицами, на которых казнят воров дюжинами без каких-либо признаков того, что эти драконовские меры отвратят людей от воровства в невыносимых условиях жизни.
Изображая гнусную английскую реальность – хронист XVI века Холиншед подтверждает, что во время правления короля Генриха VIII были повешены 72 тысячи воров, – Томас Мор противопоставляет ей вымышленный остров Утопия (название на греческом языке означает «несуществующее место»), обитатели которого убеждены: «человеческое счастье целиком или по крайней мере большей частью» заключается в достижении удовольствий [44] . Это ключевое положение эпикурейской этики, доказывает нам автор, и лежит в основе кричащего диссонанса между славным обществом жителей Утопии и его собственной порочной и безнравственной Англией. И принцип удовольствия, столь ярко выраженный Лукрецием в гимне Венере, – не декоративный элемент человеческого существования, а радикальная идея, которая, если отнестись к ней со всей серьезностью, полностью изменит жизнь человека.
Томас Мор поместил свою Утопию в самой отдаленной части мира. Ее первооткрывателем, сообщает нам автор в начале произведения, был человек, «примкнувший к Америго Веспуччи и сопровождавший его в трех из четырех путешествий, о которых сейчас читают повсюду, но из последнего путешествия не вернувшийся с ним». Он был одним из тех, кто решил остаться в самом дальнем гарнизоне у пределов их экспедиций, вверив себя судьбе.
Читая письма Америго Веспуччи и пытаясь вообразить себе новую землю, названную в его честь «Америкой», Томас Мор особенно заинтересовался наблюдениями путешественника о людях, которые ему встретились: «Поскольку их жизнь целиком посвящена удовольствиям, я бы охарактеризовал ее эпикурейской»16. Мора, должно быть, осенила идея, что он может воспользоваться открытиями Веспуччи для художественного осмысления некоторых наиболее дерзких утверждений Лукреция. В его замысле не было ничего необычного. Флорентиец Веспуччи принадлежал к кругу гуманистов, в среде которых и имела хождение поэма «О природе вещей». Утопийцы, писал Томас Мор, верят в то, что «позволительны любые удовольствия, если они не приносят вреда». И их стиль поведения нельзя отнести к обычаю особого рода, он отражает философскую позицию: «Похоже, они усвоили больше, чем надо, из философской школы, согласно которой удовольствие полностью или по крайней мере в значительной степени определяет ощущения человеческого счастья». А эта «школа» – философская система Эпикура и Лукреция.
Поместив Утопию подальше от своей родины, Томас Мор мог без опаски отобразить идею, которую произнести вслух осмелился бы не каждый его современник: языческие тексты, возрожденные гуманистами, очень важны, хотя и необычны для восприятия17. Они вновь вошли в интеллектуальную жизнь Европы после многовекового забвения, способствуя не культурной преемственности или пробуждению, а сея смуту в душе. Эти тексты воспринимались как голоса из другого мира, так же отличающегося от нашего, как Бразилия Веспуччи отличалась от Англии, и они притягивали к себе и своим далеким прошлым, и необычайной ясностью мысли.
Описание вымышленного острова в Новом Свете позволяет Томасу Мору выразить и второй тип реакции на античные тексты, будоражащие умы гуманистов. Эти тексты примечательны не отдельными философскими установками, а тем, что они отражают образ жизни в особых исторических, материальных, культурных и социальных условиях. Эпикуреизм обитателей Утопии надо рассматривать в общем контексте человеческого существования.
И этот особый образ жизни должен быть доступен каждому человеку. Томас Мор со всей серьезностью отнесся к утверждению, содержащемуся в поэме «О природе вещей», о том, что философия Эпикура освободит человечество от страданий. Конечно, Мор подразумевал универсальность в том смысле, в каком на греческом языке означает понятие «католический». Эпикуреизм не ограничивается стенами садов элиты, он распространяется на все общество в целом. «Утопия» – и вымысел и проект его реализации: от общественного жилья до всеобщей системы здравоохранения, от детских садов и религиозной терпимости до шестичасового рабочего дня. Мор попытался воспроизвести социальные условия, благодаря которым появится возможность того, что стремление к счастью станет коллективной целью общества.
Согласно Мору, такие условия создадутся после ликвидации частной собственности. Иначе алчность человека, «тяга к знатности, пышности, величию и славе» неизбежно приведут к имущественному неравенству и обрекут значительную часть населения на бедность, будут провоцировать недовольство и преступность. Одного коммунизма недостаточно. Необходимо запретить определенные идеи. К примеру, утопийцы сурово наказывают, в том числе и осуждением на самые тяжелые формы рабства, тех, кто отрицает божественное Провидение и загробную жизнь.
Отрицание Провидения и жизни после смерти – два ключевых компонента всей поэмы Лукреция. Томас Мор, в столь яркой художественной форме воплотивший идеи эпикуреизма в самом значительном произведении на эту тему со времени обнаружения поэмы «О природе вещей», выхолостил из нее антиклерикальное идеологическое содержание. Все жители Утопии вправе стремиться к удовольствиям, но те из них, кто думает, что душа умирает вместе с телом, или не верит в предопределенность и творца Вселенной, подлежат аресту и наказанию.
Только таким образом, по версии Мора, удовольствие может быть доступно не только для привилегированной группы философов, удалившихся от общества. Люди, как минимум, должны верить в Провидение, определяющее и состояние и структуру Вселенной, а также знать то, что нормы, регулирующие как удовольствия, так и дисциплинированность поведения, также устанавливаются Провидением. Такая мировоззренческая позиция подразумевает и веру в наказания и воздаяния в загробной жизни. В противном случае станет невозможным поддерживать порядок в уже беспредельно развращенном обществе Мора18.
По стандартам эпохи Томаса Мора утопийцы необычайно терпимы. Они не навязывают какую-либо единую религиозную доктрину и не сажают в тиски тех, кто отказывается признавать ее. Им дозволено поклоняться любым богам и даже делиться своими верованиями с другими людьми, соблюдая благонравие и сдержанность. Однако в Утопии не допускается, чтобы кто-то посмел думать, будто душа после смерти разлагается вместе с телом, или подвергать сомнению то, что богов волнуют деяния человечества. Эти люди представляют угрозу. Они недостойны называться людьми, и им не место в обществе. Ибо никто не может находиться среди граждан Утопии, если не согласен с тем, что законы и обычаи действенны только тогда, когда основаны на страхе.
Возможно, страх и искореним в саду философа, но его нельзя искоренить в обществе, состоящем из самых разных людей. Даже при всем социальном благополучии человеческая натура такова, что заставляет его силой или обманом добиваться исполнения своих желаний. Томасом Мором двигали чувства ревностного католика. Однако в это же время к такому же выводу пришел менее набожный человек, Макиавелли. «Законы и обычаи, – писал автор «Государя», – неэффективны, если не полагаются на страх».
Томас Мор попытался представить, что необходимо сделать для создания просвещенного содружества людей, в котором нет жестокости и беспорядка, нет имущественного неравенства и виселиц, а все организовано так, чтобы каждый индивид получал от жизни удовольствие. Виселицы действительно можно демонтировать, оставив лишь несколько в назидание человеку, считает Мор, лишь в том случае, если людей будет постоянно преследовать мысль о виселицах (и воздаяниях) в загробном мире. Без таких средств внушения социальный порядок непременно распадется, поскольку каждый индивид будет стремиться лишь к исполнению своих желаний: «Разве кто сомневается в том, что человек будет хитростью уходить от исполнения общественных законов или нарушать их для того, чтобы реализовать свои желания, если у него нет страха ни перед чем, кроме законов, и нет надежд на будущую жизнь вне смертного тела?» Мор был готов к тому, чтобы одобрить публичную казнь любого, кто думает иначе.
У обитателей Утопии Мора имелись практические основания для насаждения веры в Провидение и загробную жизнь: они считали, что не могут довериться человеку, не разделяющему эти убеждения. Но Томас Мор, благочестивый христианин, руководствовался другими мотивами, наставлениями Иисуса Христа. «Не две ли малые птицы продаются за ассарий [45] ? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего, – говорил Иисус своим ученикам. – У вас же и волосы на голове все сочтены» [46] . Перефразируя эти слова, и Гамлет сетовал: «Есть воля Провидения и в падении воробья». Кто из истинных христиан посмел бы поспорить с этим?
Но такой человек нашелся, им был доминиканский монах Джордано Бруно. В середине восьмидесятых годов XVI столетия тридцатишестилетний Бруно сбежал из монастыря в Неаполе и отправился странствовать по Италии и Франции, оказавшись затем в Лондоне. Обаятельный и обладавший беспокойным и строптивым характером, бывший монах жил на средства, предоставлявшиеся патронами или обеспечивавшиеся преподаванием искусства запоминания и так называемой «ноланской философии», названной им самим по наименованию маленького города близ Неаполя, в котором родился. Эта философия имела несколько корней, образовавших богатую воображением, но запутанную систему взглядов, частью которой был и эпикуреизм. Имеется множество свидетельств, указывающих на то, что поэма «О природе вещей» потрясла и перевернула все мировоззрение Джордано Бруно.
Во время пребывания в Англии Бруно написал и опубликовал целый ряд очень странных сочинений. Достаточно привести выдержки из одного из них, чтобы понять, какие идеологические осложнения они провоцировали. Я имею в виду памфлет «Изгнание торжествующего зверя», опубликованный в 1584 году. Выдержки приводятся в блистательном переводе Ингрид Д. Роуленд. Они длинны, но длинноты являются частью всего замысла. Меркурий, вестник богов, подробно рассказывает Софии о распоряжениях Юпитера:
...
«Юпитер распорядился, чтобы сегодня в полдень в саду отца Францина две дыни из всех прочих созрели, но чтоб их сорвали не раньше как через три дня, когда, по общему убеждению, их можно станет есть. Воля Юпитера, чтоб в то же самое время из сада у подножия горы Чикала, в доме Джованни Бруно тридцать ююб (китайских фиников) были вовремя собраны, семнадцать попадали от ветра на землю, пятнадцать – съедены червями. Чтоб Васта, супруга Альбенцио, подвивая себе волосы на висках и перегрев щипцы, спалила бы пятьдесят семь волосинок, но головы не обожгла и на этот раз, почуяв гарь, терпеливо перенесла ее, не злословя меня, Юпитера. Чтоб у нее от бычачьего помета родилось двести пятьдесят две улитки, из коих четырнадцать потоптал и раздавил насмерть Альбенцио, двадцать шесть умерли, опрокинувшись, двадцать две поселились в хлеву, восемьдесят отправились в путешествие по двору, сорок две удалились на жительство под соседний с воротами камень, шестнадцать пошли, влача свой домик, туда, где им удобнее, остальные – наудачу»19.
Но это еще не все.
...
«Чтоб у Лауренцы, когда она станет чесаться, выпало семнадцать волос, тринадцать порвались и из них за три дня десять вновь выросли, а семь – никогда более. Собаке Антонио Саволино – принести пятерых щенят, троим из них дожить до своего времени, двум – быть выброшенными, а из первых трех – одному быть в мать, другому разниться от матери, третьему – частью в мать, частью в отца, пса Полидоро. Как раз в это время закуковать кукушке и так, чтоб ее слышно было в доме, и прокуковать ей ровно двенадцать раз, а затем вспорхнуть и полететь на развалины замка Чикалы на одиннадцать минут, а оттуда на Скарвайту, а что дальше, о том позаботимся после».
Меркурий записал своей рукой все, что надлежало промыслить сегодня в мире:
...
«Юбке, которую мастер Данезе станет кроить на скамье, быть испорченной. Из досок кровати Константина вылезти и поползти на подушку двенадцати клопам: семи большущим, четырем – малюсеньким и одному – так себе; а что будет с ними сегодня вечером при свете свечи, о том позаботимся после. Чтоб на пятнадцатой минуте того же часа у старушки Фиуруло из-за движения языка, который повернется в четвертый раз через нёбо, выпал третий коренной зуб из правой нижней челюсти, и чтоб выпал без крови и без боли, ибо этот зуб наконец достиг предела своего шатания, длившегося ровно семнадцать лунных месяцев. Чтоб Амброджо после сто двенадцатого серьезного предупреждения наконец приступил к исполнению супружеских обязанностей, но не осеменил супругу на этот раз, а сделал это в другой раз, используя сперму, приготовленную женой с луком-пореем, который он только что ел с просом и винным соусом. У сына Мартинелло пусть начнут пробиваться волосы мужества на подбородке и ломаться голос. Чтоб у Паулино, когда он захочет поднять с земли сломавшуюся иглу, лопнул от напряжения красный шнурок на трусах, а если выругается из-за этого, наказать его сегодня вечером; пусть макароны у него будет пересолены и подгорят, разобьется полная фляжка вина, а если выругается и по этой причине, то промыслим о сем после» [47] .
Создавая эту фантасмагорию, Бруно преследовал одну цель – показать, что Божий промысел, по крайней мере в том виде, в каком его понимают, – полная чушь. Детали обыденные, а общая идейная направленность чрезвычайно рискованная. Насмешка над заявлением Иисуса о том, что у всех на голове «и волосы сочтены», могла спровоцировать неприятный визит блюстителей нравов. Религия – дело серьезное, по крайней мере для тех, кто призван следить за приверженностью ортодоксии. Они не любят даже безобидные шутки. Во Франции крестьянина по имени Изамбар арестовали за то, что он после мессы на обещание монаха сказать несколько слов о Господе крикнул: «Чем меньше, тем лучше»20. В Испании портной Гарсия Лопес, выходя из церкви, где он прослушал длинный перечень служб на предстоящую неделю, сказал во всеуслышание: «Когда мы были евреями, у нас было по одной Пасхе в год, теперь, похоже, у нас каждый день будет Пасха и пост»21. На него донесли в инквизицию.
Но Бруно был в Англии. Несмотря на все старания Томаса Мора, стремившегося в роли канцлера ввести инквизицию, Англия не захотела ее иметь. Тем не менее можно было легко навлечь на свою голову неприятности неосторожными высказываниями. Однако Бруно всегда пренебрегал опасностями – и когда убирал иконы из своей кельи, и в данном случае, насмехаясь над одной из самых священных догм. В его насмешке заключался серьезный философский подтекст: действительно, если согласиться с тем, что Божий промысел предопределяет падение воробья и число волос на голове, то придется пойти еще дальше, признать, что Провидение не имеет пределов и распространяется буквально на все – от мельтешения пылинок в солнечных лучах до движения планет. «О Меркурий, у тебя много дел», – сочувственно сказала София.
София замечает, что потребуется тысяча тысяч миллионов языков для того, чтобы рассказать о том, что должно случиться в крошечной деревушке коммуны Кампанья. Незавидная доля Юпитера. Однако Меркурий затем признает, что все устроено не так. Не существует умельца-бога, пребывающего за пределами Вселенной, отдающего команды, распределяющего воздаяния и наказания и решающего все за всех. Это абсурд. Во Вселенной поддерживается определенный порядок, но он встроен в природу вещей, в материю, из которой состоит все – от звезд до людей и клопов. Природа – это не абстракция, а мать, порождающая все существующее. Иными словами, перед нами Вселенная Лукреция.
Беспредельность Вселенной – не повод для грусти от ощущения своей ничтожности. Напротив, Бруно восторгает то, что Вселенная бесконечна во времени и пространстве и построена из мельчайших частиц, атомов, связывающих единичное и преходящее в бесконечность. «Мир прекрасен», – писал Бруно, отметая все тревоги, сожаления и покаяния, которые порождает человеческое существование22. Бессмысленно искать божественность в истерзанном теле Сына человеческого и надеяться на Отца Небесного. «Зачем искать божественность где-то далеко, если она находится совсем рядом, – заявлял Бруно. – Она внутри нас». И его философская жизнерадостность проявлялась во всем. Он был «душой застольной беседы, настоящим эпикурейцем», говорил о нем один флорентийский современник23.
Подобно Лукрецию, Бруно был против того, чтобы человек все свои потребности в любви и сексе реализовывал на одном объекте страсти. Совершенно необходимо удовлетворять сексуальные побуждения тела, но глупо принимать их за истинные удовольствия, которые приносит только философия – ноланская философия, естественно. И эти удовольствия – не абстрактные и бестелесные. Бруно, возможно, первым из мыслителей по прошествии целого тысячелетия понял философско-эротический смысл гимна Лукреция Венере. Вселенная, в которой постоянно что-то зарождается, по своей природе сексуальна.
Протестантизм, с которым Бруно столкнулся в Англии и других странах, показался ему слишком фанатичным и ограниченным, столь же несообразным, как и контрреформация католицизма. Концепция сектантства вызывала в нем неприязнь. Он ценил интеллектуальное мужество, готовность бороться за истину против воинствующих невежд, с ходу отвергающих все, что им непонятно. Образцом такой стойкости стал для него астроном Коперник, «избранный богами на роль зари, предвосхитившей восход солнца древней и истиной философии, многие века томившейся в темном склепе высокомерного, злобного и завистливого невежества»24.
Утверждение Коперника, что Земля – не центр Вселенной, а планета, вращающаяся вокруг Солнца, все еще считалось крамольным и осуждалось как церковью, так и научным истеблишментом. Бруно пошел еще дальше, доказывая, что у Вселенной вообще нет центра. Ссылаясь на Лукреция, он заявлял о существовании множества миров, в которых неисчислимые «семена вещей», сочетаясь в различных комбинациях, образуют другие расы людей и живые существа25. Каждая из звезд, которые мы наблюдаем, является солнцем, светящимся в бесконечном пространстве. Многие из них имеют свои спутники, вращающиеся вокруг них подобно тому, как наша Земля вращается вокруг Солнца. И Вселенная существует не для нас, не имея никакого отношения ни к нашим деяниям, ни к нашим судьбам. Мы являемся лишь мизерной частью непостижимо грандиозного образования. Но это не должно нас пугать. Напротив, мы должны воспринимать мир с восторгом, благодарностью и благоговением.
Высказывая эти идеи, Бруно подвергал себя серьезной опасности. Однако, когда от него потребовали согласовать свою космологию со Священным Писанием, Бруно ответил: Библия больше пригодна для формулирования нравственных принципов, а не для выстраивания структуры небес. Многие согласились бы с его позицией, но неблагоразумно было бы заявлять об этом публично, тем более в печати.
Все же Бруно был не единственным светилом науки в Европе, переосмысливающим природу вещей. В Лондоне он почти наверняка встречался с Томасом Хэрриотом26. Этот умнейший человек построил самый большой в Англии телескоп, наблюдал солнечные пятна и спутники планет, описал лунную поверхность, выдвинул гипотезу о движении планет по эллиптической орбите, разработал метод математического картографирования, открыл закон синуса в рефракции, произвел потрясающие усовершенствования в алгебре. Многие его открытия предваряли научные достижения Галилея и Декарта, принесшие им известность. Однако они не связываются с именем Хэрриота: их обнаружили недавно среди неопубликованных материалов, оставшихся после его смерти. Среди бумаг был найден и перечень нападок и обвинений в атеизме, составленный Хэрриотом, убежденным сторонником атомизма. Ученый знал, что нападки только усилятся, если он опубликует свои открытия, и предпочел славе жизнь. Можно ли винить его в этом?
Однако Бруно не мог молчать. «Силой своего разума, – писал Бруно о самом себе, – он разрушил монастырские темницы истины, сделав открытия, доступные только пытливому познанию, обнажил сокрытые тайны природы, дал зрение слепцам и способность говорить немым, не осмеливавшимся высказывать свои спутанные мысли»27. В поэме «О беспредельном и неисчислимом», написанной на латыни в подражание Лукрецию, Бруно вспоминал: в детстве ему казалось, что мир заканчивается Везувием, так как глаза не могли видеть того, что находится за вулканом. Теперь он представлял себя частью беспредельного мира и не мог снова замуроваться в интеллектуальном узилище, навязываемом средой.
Возможно, если бы Бруно оставался в Англии – или во Франкфурте, Праге или в Виттенберге, куда он тоже ездил, – то ему и удалось бы сохранить свободу, хотя это тоже было бы непросто. Но в 1591 году он принял роковое решение вернуться в Италию, надеясь получить безопасное прибежище в независимой Падуе и Венеции. Безопасность оказалась иллюзорной. Патрон донес на него в инквизицию. Бруно арестовали в Венеции, переправили в Рим, где и заключили в камеру священной канцелярии католической церкви возле базилики Святого Петра.
Судебный процесс над Бруно длился восемь лет. Необычайно затяжной характер разбирательства можно объяснить, с одной стороны, непреклонностью узника в отстаивании своих философских взглядов, а с другой – упорным желанием церковных сановников добиться от него покаяния и отречения от опасных для религии убеждений. Даже под пытками он отвергал право инквизиторов решать, что является ересью, а что – правильной верой. Это было верхом дерзости. Священная канцелярия не признавала ни территориальных, ни духовных ограничений своего могущества. Она считала себя единственной и последней инстанцией в установлении правоверности.
На глазах возбужденной толпы преклоненного Бруно приговорили к сожжению как «дерзкого, злостного и упорствующего еретика». Он не был стоиком, и его, безусловно, ужасала предстоящая казнь. Но один из очевидцев, немецкий католик, записал слова, произнесенные угрожающе еретиком во время оглашения приговора: «Вам же страшнее выносить этот приговор, чем мне его выслушивать».
17 февраля 1600 года расстриженного, отлученного от церкви и бритоголового доминиканца посадили на осла и привели к костру, разложенному на площади Цветов. Он по-прежнему упорно отказывался от покаяния и, очевидно, не желал молчать. Его последние слова неизвестны, но они, видимо, так досаждали церковным властям, что ему в буквальном смысле сковали железом язык. Согласно сохранившемуся свидетельству, Джордано Бруно вставили в рот железный кляп с шипами. Когда к его лицу поднесли распятие, он отвернулся. После сожжения уцелевшие кости раздробили, а пепел – мельчайшие частицы, которые, как он верил, должны снова вступить в великий и вечный круговорот материи – развеяли.
Глава 11 Жизнь после смерти
Избавиться от Джордано Бруно оказалось легче, чем от поэмы Лукреция «О природе вещей». После того как она вернулась к читателям, провидческие идеи и образы поэта античности стали проникать в произведения писателей и художников Возрождения, многие из которых считали себя правоверными христианами. Проявления ее интеллектуального влияния в живописи или эпических романах для властей были менее заметны и менее опасны, чем в сочинениях ученых и философов. Церковная полиция редко интересовалась расследованиями ереси1 в произведениях искусства. Поэтический дар Лукреция способствовал распространению его радикальных идей. Художественными средствами, трудно поддающимися надзору, их популяризировали и мастера искусства эпохи Возрождения: живописцы Сандро Боттичелли, Пьеро ди Козимо, Леонардо да Винчи, поэты Маттео Боярдо, Лудовико Ариосто и Торквато Тассо. И эти идеи вскоре вышли за пределы Флоренции и Рима.
В середине девяностых годов XVI века на сцене лондонского театра Меркуцио подтрунивал над Ромео:
А, так с тобой была царица Меб!
То повитуха фей. Она не больше
Агата, что у олдермена в перстне.
Она в упряжке из мельчайших атомов
Катается у спящих по носам [48] .
(Ромео и Джульетта, I. iv. 55–59)
«Упряжка из мельчайших атомов» – Шекспир был уверен: его аудитория понимает, каким же микроскопическим должен выглядеть экипаж, изображенный Меркуцио. Не менее примечательно в контексте трагедии о всепобеждающей силе страсти и отречение от жизни после смерти, прозвучавшее в словах Ромео:
Из этого дворца зловещей ночи
Я больше не уйду; здесь, здесь останусь,
С могильными червями, что отныне —
Прислужники твои. О, здесь себе
Найду покой, навеки нерушимый…
(V. iii. 108–110)
Судя по всему, автор «Ромео и Джульетты» имел представление о материализме Лукреция, как и Спенсер, Донн и Бэкон. Хотя Шекспир не учился в Оксфорде и Кембридже, он знал латынь в достаточной мере для того, чтобы самостоятельно прочесть поэму «О природе вещей». В любом случае, он, очевидно, был знаком с Джоном (Джованни) Флорио, другом Джордано Бруно, и мог также обсуждать поэму Лукреция с драматургом Беном Джонсоном: подписанная им копия поэмы2 хранится в библиотеке Хаутона в Гарварде.
Без всякого сомнения, Шекспир мог познакомиться с идеями Лукреция по книгам Монтеня «Опыты», которые он очень ценил. «Опыты» были вначале опубликованы на французском языке в 1580 году, и затем в 1603 году их перевел на английский язык Флорио. Эссе Монтеня содержат около ста прямых цитат из поэмы «О природе вещей». И дело не только в цитатах: в образе мыслей Лукреция и Монтеня много общего.
Монтень разделял презрительное отношение Лукреция к морали, основанной на пугале загробной жизни. Он призывал полагаться на собственные ощущения и реалии материального мира, отвергал аскетическое самоистязание и ценил внутреннюю свободу и согласие с самим с собой. На его отношение к проблеме страха перед смертью оказали влияние как стоики, так и материализм Лукреция, хотя перевес явно на стороне жизнерадостной этики поэмы «О природе вещей», славящей телесные удовольствия.
Понятийно-теоретическая философия Лукреция не могла служить ориентиром для Монтеня, избравшего публицистический стиль философствования и строившего свой анализ зигзагов и поворотов в физическом и духовном состоянии человека на основе житейского опыта:
...
«Я не очень большой любитель овощей и фруктов3, за исключением дынь. Мой отец терпеть не мог соусов. Я же люблю соусы всякого рода… От времени до времени в нас рождаются случайные и бессознательные причуды. Так, например, редьку я сперва находил полезной для себя, потом вредной, теперь она снова приносит мне пользу» [49] .
Однако в познании человека и самого себя Монтень исходит из материального видения мира, присущего поэме Лукреция, найденной Поджо Браччолини в 1417 году.
Мир – это вечное движение, – писал Монтень в эссе «О раскаянии»:
...
«Все, что он в себе заключает, непрерывно движется: земля, скалистые горы Кавказа, египетские пирамиды, – и движется все это вместе со всем остальным, а также и само по себе. Даже устойчивость – и она не что иное, как ослабленное и замедленное движение».
И человек не является исключением. Независимо от того, стоим мы или идем, нас влекут куда-нибудь еще и внутренние побуждения. «Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайностей», – пишет Монтень в эссе «О непостоянстве наших поступков».
Но чтобы не создавалось впечатления, будто мы все-таки контролируем наши действия, Монтень, следуя теории произвольных отклонений Лукреция, указывает и на случайный характер перемен человеческого состояния: «Мы не идем, нас несет, подобно предметам, подхваченным течением реки, то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива». («Не видим ли мы, что человек сам не знает, чего он хочет, и постоянно ищет перемены мест, как если бы это могло избавить его от бремени?» – задавался вопросом и Лукреций.) Так же летуча и изменчива жизнь интеллекта, включая сочинение эссе: «Из одного предмета мы делаем тысячу, множим, подразделяем, словно подчиняясь закону беспредельности атомов Эпикура». Лучше, чем кто-либо другой, включая Лукреция, Монтень отобразил, что значит думать, писать и жить категориями вселенной Эпикура.
В отличие от Лукреция, Монтеня не посещало желание с твердой земли, вне опасности наблюдать за бедой, постигшей другого человека, когда на морских просторах разыгрываются ветры. Для него не существовало такой надежной скалы, он чувствовал себя на борту корабля. Однако он разделял эпикурейский скептицизм Лукреция относительно неутолимого стремления к славе, власти и богатству и ценил уединение среди книг в тиши кабинета, обустроенного в башне дворца. Хотя, конечно, это уединение лишь обостряло ощущения текучести, случайности, нестабильности и сложности окружающего мира, заложником которого он, как и все мы, был.
Публицистический темперамент Монтеня позволял ему преодолевать догматизм эпикурейства. Поэтическая образность идей и изящество стиля поэмы Лукреция помогли осмысливать и описывать пережитые жизненные ситуации на основе и прочитанных трудов других классических авторов. В общем-то, идеи Лукреция просматриваются практически во всем его «верчении внутри себя», как он сам называл процесс самопознания: и в отвержении концепции набожного страха и религиозного фанатизма, и в проповеди ценности действительной, а не загробной жизни. Они обнаруживаются и в его интересе к так называемым примитивным обществам, и в тяге к простоте и естественности межчеловеческих контактов, и в анализе жестокости, и в отношении к животным.
Именно в духе Лукреция Монтень в эссе «О жестокости» писал: «Я охотно отказываюсь от приписываемого нам мнимого владычества4 над всеми другими созданиями». Он признавал, что не только «не может видеть, как цыпленку сворачивают голову», но и «не в силах отказать моей собаке в прогулке, которую она мне предлагает или которую она от меня требует». Точно так же Монтень в «Апологии Раймунда Сабунданского», высмеивая притязания человека на центральное место в мироздании, писал:
...
«…Почему, например, и гусенок не мог бы утверждать о себе следующее: “Внимание Вселенной устремлено на меня: земля служит мне, чтобы я мог ходить по ней; Солнце – чтобы мне светить; звезды – чтоб оказывать на меня свое влияние; ветры приносят мне одни блага, воды – другие; небосвод ни на кого не взирает с большей благосклонностью, чем на меня; я любимец природы”»5.
А размышляя о благородной смерти Сократа, Монтень тоже в духе Лукреция фокусирует внимание на очень неожиданной, но совершенно эпикурейской детали: «на содрогании от удовольствия, которое он испытал от возможности почесать себе ногу, когда с него сняли оковы» (эссе «О жестокости»)6.
Мало того, влияние Лукреция чувствуется во всех рассуждениях Монтеня на две излюбленные темы: секса и смерти7. Вспомнив рассказ куртизанки Флоры о том, что она «никогда не спала с Помпеем без того, чтобы не оставить на его теле следов своих укусов», Монтень тут же цитирует слова из поэмы Лукреция: «Цель вожделений своих сжимают в объятьях и, телу боль причиняя порой, впиваются в губы зубами так, что немеют уста» (эссе «О том, что трудности распаляют наши желания»). Если сексуальное вожделение слишком сильное и непреодолимое, то надо от него освобождаться, рекомендует Монтень в эссе «Об отвлечении», ссылаясь на скабрезный совет Лукреция «влаги запас извергать накопившийся в тело любое». «Я часто делал это с большой пользой», – добавляет Монтень [50] . По мнению Монтеня, у Лукреция он нашел и самое восхитительное описание полового акта – в повествовании о тайных любовных утехах Венеры с Марсом (эссе «О стихах Вергилия»):
...
«Жестокими воинскими трудами ведает всесильный своим оружием Марс, который часто склоняется на твое лоно, сраженный никогда не заживающей раной любви; не сводя с тебя глаз, богиня, он насыщает любовью свои жадные взоры, и на него, лежащего распростертым на спине, нисходит с твоих уст, богиня, твое дыхание; и вот тогда, прильнув к нему священным телом и обняв его сверху, излей из своих сладостных уст обращенную к нему речь» [51] .
Монтень цитирует Лукреция на латыни, опасаясь, что не сможет передать на своем французском языке всю прелесть и полноту любовной сцены.
Постоянно возникает эффект присутствия этого человека, словно специально пришедшего из далекого прошлого, чтобы передать людям нечто важное. Эту близость, безусловно, чувствовал Монтень. Она помогала спокойно подготовиться к собственному уходу в небытие. Однажды ему довелось видеть, как человек, умирая, скорбел по поводу того, что не успел закончить книгу. Для Монтеня такие сожаления абсурдны. И для этого случая у него есть подходящая цитата из поэмы Лукреция: «Но зато у тебя не осталось больше тоски никакой, ни стремления ко всем этим благам». Что касается собственной кончины, то Монтень писал: «Я хочу… чтобы смерть застала меня за посадкой капусты, но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней, и тем более к моему не до конца возделанному огороду8 (эссе «О том, что философствовать – это значит учиться умирать»).
Сохранять «равнодушие к смерти» в действительности не так просто. Это понимает и Монтень, считая, что и в смерти надо руководствоваться голосом разума и природы: «Природа не дает нам зажиться. Она говорит: ”Уходите из этого мира так же, как вы вступили в него9. Такой же переход, какой некогда бесстрастно и безболезненно совершили вы от смерти к жизни, совершите теперь от жизни к смерти. Ваша смерть есть одно из звеньев управляющего Вселенной порядка; она звено мировой жизни„».
В подтверждение своих слов Монтень цитирует Лукреция:
...
«Смертные перенимают жизни одни у других… и словно скороходы, передают друг другу светильник жизни» (эссе «О том, что философствовать – это значит учиться умирать»).
Лукреций – постоянный спутник Монтеня. Древний мыслитель научил его и пониманию природы вещей, и тому, как прожить жизнь с удовольствием и без сожалений, и как подготовить разум к достойной встрече со смертью.
В 1989 году Пол Куорри, тогда библиотекарь Итонского колледжа, приобрел на аукционе за 250 фунтов стерлингов превосходный экземпляр поэмы «О природе вещей» издания 1563 года под редакцией Дениса Ламбена. На форзацах сохранились пометки на латинском и французском языках, но имя владельца не было известно. Ученые быстро установили, подтвердив и догадки Куорри, что копия принадлежала Монтеню, который и оставил свои многочисленные пометки, свидетельствовавшие о жгучем интересе читателя10. Его имя просто-напросто затерялось под слоем других записей. Однако один комментарий, сделанный на оборотной стороне третьего форзаца, совершенно недвусмысленно разоблачал владельца: «Поскольку движения атомов столь многообразны, то не исключено, что, они, уже соединившись этим образом, когда-нибудь в будущем могут снова сойтись в той же комбинации и породят другого Монтеня»11.
Монтень усердно помечал те места в поэме, которые казались ему в особенности антирелигиозными: опровергавшие, к примеру, фундаментальные христианские принципы сотворения мира ex nihilo [52] , божественного Провидения и Суда Божьего после смерти. Страх смерти, писал он на полях, причина всех наших пороков. Душа – материальна, в этом Монтень совершенно не сомневался. «Душа телесна» (296); «душа и тело едины» (302); «душа смертна» (306); «душа, подобно ступне, является частью тела» (310); «тело и душа нераздельны» (311). Это заметки читателя, не его собственные утверждения. Однако они свидетельствуют о том, какие радикальные заключения он делал, читая материалистические суждения Лукреция. И хотя благоразумие подсказывало держать подобные идеи при себе, они явно получали все большее распространение.
Поэма Лукреция читалась даже в Испании, где инквизиция отличалась особенной жестокостью. Напечатанные экземпляры завозились из Италии и Франции, из рук в руки тайком передавались манускрипты. Известно, что в начале XVII века французское издание поэмы, отпечатанное в 1565 году, имел Алонсо де Оливера, врач принцессы Изабеллы Бурбонской. Можно привести и другие факты. В 1625 году испанский поэт Франциско де Кеведо приобрел манускрипт поэмы всего за один реал12. Писатель и коллекционер Родриго Каро из Севильи хранил в своей библиотеке, судя по описи, составленной в 1647 году, два экземпляра поэмы, отпечатанные в Антверпене в 1566 году. А в Гваделупе преподобный Самора держал в монастырской келье издание Лукреция, напечатанное в Амстердаме в 1663 году. Как это понял еще Томас Мор, безуспешно пытавшийся скупить и сжечь протестантское издание Библии, после появления печатных станков стало чрезвычайно трудно «убивать» книги. Еще труднее уже было преградить путь новым идеям, появляющимся в физике и астрономии.
Хотя попытки подавить инакомыслие, конечно, предпринимались. Вот, к примеру, образчик усилий проповедников XVII века, пытавшихся задушить то, что не удалось погубить сожжением Бруно:
Ничто не возникает из атомов,
Все существующие тела и формы прекрасны сами по себе,
Без них весь мир превратился бы в хаос.
Изначально все создано Господом,
Чтобы одно порождало другое.
Все ничто, если ничего не порождает.
О Демокрит, из атомов ничего не возникает.
Атомы ничего не создают; поэтому атомы – ничто13.
Это слова из латинской молитвы, которую молодые иезуиты должны были ежедневно повторять для того, чтобы отвести от себя особенно пагубные соблазны. Цель молитвы – изгонять наваждение атомизма и утверждать, что формы, структура и красота всего существующего в мире – творение Господа. Приверженцы атомизма радовались и дивились тому, как устроен мир. Лукрецию Вселенная представлялась извечным созданием во славу Венеры. Но послушный молодой иезуит должен был каждый день убеждать себя в том, что прекрасному божественному миропорядку, наглядно воплощенному в барочных зданиях и статуях, угрожает холодное, стерильное и хаотичное царство бездушных атомов.
Почему это было важно? Уже в «Утопии» Томас Мор доказал, что божественное Провидение и посмертные воздаяния или наказания несомненны даже для нехристиан, живущих на краю света. Но обитателей Утопии в любом случае не интересовали законы физики. Зачем же иезуитам, самому воинственному и интеллектуально подготовленному ордену, понадобилось бороться с атомизмом? Представление о невидимых частицах продолжало существовать и в Средние века. Идея об основном строительном материале Вселенной – атоме – уцелела, несмотря на утрату античных текстов. Об атомах можно было говорить без особого риска в контексте божественного Провидения. А в высших кругах католической церкви были и люди, готовые воспринимать новые научные идеи. Почему же в эпоху Высокого Возрождения атомизм вдруг стал представлять угрозу?
Ответ на этот вопрос, безусловно, связан с возрождением и распространением поэмы Лукреция «О природе вещей», которая объединила идею атомизма с целым рядом других опасных концепций. Гипотеза о мельчайших частицах, взятая отдельно, не могла вызывать большого беспокойства. В конце концов, все должно же из чего-то состоять. Но поэма Лукреция добавила к атомам недостающие элементы теории, и последствия оказались катастрофическими и для нравственности, и для этики, и для политики, и для теологии.
Поначалу эти осложнения не для всех были очевидными. Савонарола позволял себе насмехаться над узколобыми интеллектуалами, вообразившими, что мир состоит из каких-то невидимых частиц, но он по крайней мере только иронизировал и не призывал объявить им аутодафе. Католики вроде Эразма и Томаса Мора, как мы уже видели, пытались приспособить элементы эпикуреизма к христианской вере. А Рафаэль, когда в 1509 году писал фреску «Афинская школа» – идиллию греческих философов – в Ватиканском дворце, очевидно, верил в возможность гармоничного слияния всего классического наследия, а не отдельных его компонентов, с христианской доктриной, которую представляли богословы на фреске противоположной стены. Рафаэль видное место на картине отвел Платону и Аристотелю, но под аркой он расположил много и других выдающихся мыслителей, среди которых, если верны традиционные интерпретации, можно разглядеть Гипатию Александрийскую и даже Эпикура.
Однако к середине столетия подобная идиллия уже была нереальна. В 1551 году теологи, собравшиеся на Тридентский собор, наконец разрешили споры вокруг главного христианского таинства. Они подтвердили как церковную догму концепцию Фомы Аквинского, еще в XIII веке нашедшего способ, как с помощью Аристотеля примирить пресуществление – то есть трансформацию освященного хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы – с законами физики. Благодаря выделению Аристотелем в материи «акциденций» и «субстанции» стало возможным объяснить, каким образом то, что выглядит и пахнет, как хлеб, может претвориться (и вовсе не символически) в плоть Христа. Во время Евхаристии доступные для органов чувств свойства хлеба – акциденции – остаются неизменными, тогда как субстанция освященной облатки пресуществляется в субстанцию Господа.
Теологи в Тренто представили эти аргументы не в виде теории, а в форме истины, бесспорной и несовместимой с учениями Эпикура и Лукреция. И проблема заключалась не в их язычестве, Аристотель ведь тоже был язычником, а в физике. Атомизм отрицал расхождение между субстанцией и акциденциями и таким образом выбивал краеугольный камень из-под чудесной интеллектуальной конструкции, воздвигнутой на аристотелевском фундаменте. И эта угроза появилась именно в тот момент, когда протестанты начали свое мощное наступление на католическую доктрину. Наступление Реформации не имело никакого отношения к атомизму – эпикурейцами не были ни Лютер, ни Цвингли, ни Кальвин, ни Уиклиф, ни Ян Гус, – но католицизму казалось, что античный материализм открыл против него второй фронт. Действительно, атомизм мог дать реформаторам опасное интеллектуальное оружие массового поражения. Церковь не могла допустить, чтобы кто-либо воспользовался этим оружием, и ее идеологическая охранка – инквизиция – взялась выявлять очаги и каналы его распространения.
«Вера должна стоять на первом месте среди всех прочих законов философии, – заявлял один иезуит в 1624 году. – Следовательно, установленное слово Божье не может подвергаться измышлениям»14. Предупреждение было очень серьезное, не разрешалось даже рассуждать и дискутировать на эту тему: «Для того чтобы владеть истиной, а она может быть только одна, философ должен противостоять всему, что противоречит вере, и принимать как должное все, что заключено в вере». Иезуит не назвал имени человека, которому адресовал свое предостережение, но для современников было ясно, что он имел в виду автора недавно опубликованного научного сочинения «Пробирщик» («Пробирных дел мастер»). Им был не кто иной, как Галилео Галилей.
Галилео уже навлек на себя неприятности тем, что астрономическими наблюдениями подтвердил гипотезу Коперника о вращении Земли вокруг Солнца. Под давлением инквизиции он обещал больше не настаивать на этой крамольной идее. Однако «Пробирщик», опубликованный в 1623 году, не оставлял никаких сомнений в том, что ученый продолжал придерживаться опасных мнений. Он отстаивал тождественность звездного и земного миров, утверждая, что нет существенной разницы в природе Солнца, планет и Земли с ее обитателями. Подобно Лукрецию, Галилей верил в то, что все во Вселенной доступно познанию посредством наблюдения и разума. Как и Лукреций, он полагался на свидетельство чувственных ощущений в мыслительном постижении объективной реальности. Как и Лукреций, Галилей был убежден в том, что эта реальность состоит из мельчайших частиц, которые он называл «minims», то есть атомов, образующих бесчисленное многообразие сочетаний.
У Галилея были могущественные друзья. Свое сочинение «Пробирщик» он посвятил просвещенному папе Урбану VIII, который, будучи еще кардиналом Маффео Барберини, поддерживал исследования ученого. Пока папа сохранял желание защитить своего подопечного, ученый мог надеяться на то, что ему удастся избежать ответственности за дерзновенные взгляды. Но и сам понтифик испытывал давление со стороны тех, кто жаждал борьбы с ересью. 1 августа 1632 года орден иезуитов осудил и запретил доктрину атомизма. Этот запрет уже не касался «Пробирщика», разрешенного к публикации еще восемь лет назад. Однако в том же 1632 году Галилей опубликовал другое сочинение – «Диалог о двух системах мира»: он-то и дал его врагам повод для доноса в конгрегацию священной канцелярии, то есть в инквизицию.
22 июня 1633 года инквизиция провозгласила свой вердикт: «Мы выносим приговор и оглашаем, что ты, Галилей, в соответствии с доказательствами суда и твоими признаниями священной канцелярии объявляешься крайне подозреваемым в ереси». Заступничество могущественных друзей все-таки спасло ученого от пыток и казни, и его осудили на пожизненное заключение под домашним арестом15. Обвинение в ереси сводилось к тому, что он придерживался «ложной и противной Священному и Божественному Писанию доктрины, будто Солнце является центром мироздания и не перемещается с востока на запад, а Земля движется и не является центром мироздания». В 1982 году итальянский ученый Пьетро Редонди обнаружил в архивах священной канцелярии документ, проливающий несколько иной свет на подоплеку обвинения. Это был меморандум, детализирующий еретический характер сочинения «Пробирщик». Инквизитор нашел в нем свидетельства атомизма, несовместимого со вторым каноном 13-й сессии Тридентского собора, сформулировавшей догму Евхаристии. Если согласиться с теорией синьора Галилео Галилея, то надо признать, писал инквизитор, что внешние свойства объектов Святого Причастия – «осязаемость, вкус, запах и прочее», характерные для хлеба и вина, создаются в наших ощущениях «очень мелкими частицами». Тогда Святое Причастие должно состоять из значительных количеств хлеба и вина, а это чистейшая ересь. И через тридцать три года после сожжения Бруно атомизм представлял угрозу для религиозных ортодоксов.
Если уже было поздно пресекать инакомыслие, то всегда можно было от него откреститься. Типичный пример такой оговорки мы находим в издании Лукреция, которым пользовался Монтень и которое готовил к печати и аннотировал в 1563 году Денис Ламбен16. Действительно, отмечал филолог, Лукреций отрицает бессмертность души, божественное Провидение и провозглашает удовольствие наивысшим благом. Но, хотя «поэма и чужда нашим религиозным чувствам, она все-таки является поэтическим произведением», – писал Ламбен. Разграничительная черта между идейным содержанием и художественным исполнением проведена, и теперь можно дать оценку литературным достоинствам: «И только лишь поэма? Нет, изящная поэма, чудесная поэма, восторженно принятая и осыпанная похвалами всеми мыслящими людьми». А как же быть с содержанием, с «этими бредовыми идеями Эпикура, этими абсурдными рассуждениями о произволе атомов и бесчисленности миров и прочими безумными утверждениями?» Истинно верующим, добропорядочным христианам бояться нечего, заявлял Ламбен: «Нам не составляет никакого труда опровергнуть их, да в этом нет и необходимости, потому что они опровергаются голосом истины и отвергаются самими людьми, не желающими их выслушивать». Очень ловкий прием: восхвалять поэтические достоинства и не обращать внимания на идеи.
Эстетическое удовольствие от чтения поэмы Лукреция мог получить только тот, кто в совершенстве владел латинским языком, а это была достаточно узкая и замкнутая группа интеллектуальной элиты. Любой, кто попытался бы популяризировать ее, вызвал бы подозрения церковных властей. Прошло более двухсот лет со времени ее возвращения из забвения гуманистом Поджо в 1417 году, прежде чем были предприняты первые такие попытки.
Это стало возможным к началу XVII века благодаря новым научным открытиям и нарастающему интеллектуальному инакомыслию. Блистательный французский астроном, философ и священник Пьер Гассенди (1592–1655) изыскал наконец способ, как примирить эпикуреизм с христианством, объявив атомы творением Господа. Его выдающийся ученик, драматург Мольер (1622–1673), сделал первый поэтический перевод поэмы «О природе вещей» (к сожалению, не сохранился). Лукреций уже появился на французском языке в прозе; перевод осуществил аббат Мишель де Маролль (1600–1681). Вскоре на «народный», итальянский язык поэму перевел математик Алессандро Маркетти (1633–1714), и она пошла по рукам в виде манускрипта, к большому неудовольствию Римско-католической церкви, десятилетиями запрещавшей ее публикацию. В Англии богатый мемуарист Джон Ивлин (1620–1706) перевел первую книгу поэмы Лукреция; полную версию рифмованных двустиший опубликовал в 1682 году молодой оксфордский выпускник Томас Крич.
Лукреций Крича публике очень понравился, но тогда уже имелся английский перевод почти всей поэмы, тоже в двустишиях, хотя и в ограниченном количестве, сделанный пуританкой Люси Хатчинсон, женой полковника Джона Хатчинсона, члена парламента и цареубийцы [53] (этот перевод был опубликован только в XX веке). Ее труд примечателен тем, что к тому времени, когда переводчица представила текст 11 июня 1675 года Артуру Эннесли, первому графу Энглси, она, по ее словам, испытывала отвращение к принципам, изложенным в поэме, и хотела, чтобы они исчезли с лица земли.
Безусловно, Хатчинсон предпочла бы предать стихи огню, указала переводчица в посвящении графу, «если бы по случайности она не лишилась их, утеряв последнюю копию»17. Эти слова можно отнести на счет женской скромности. По крайней мере целомудрием она объясняет отказ перевести несколько сотен чересчур сексуально откровенных строк в четвертой книге, оставив их «повитухе, более привычной к непристойностям, чем изящное перо». Точно так же она осудила «атеизм и нечестивость» Лукреция, не пожелав даже замечать «вдохновенной музы»18.
Безумный Лукреций для Хатчинсон был ничем не лучше других языческих философов и поэтов, чьи произведения привычно рекомендовались ученикам учителями. Ей была противна «эта практика образования, утверждающая распущенность в душах, вселившуюся в них с первородным грехом, препятствующая выздоровлению и поганящая языческой грязью родники истины, ниспосланной милостью Божьей». Вместо Евангелия, писала с ужасом и скорбью Хатчинсон, люди теперь читают Лукреция, «внимая нечестивым и мерзким доктринам, восхваляющим бесовские пляски атомов»19.
Почему же тогда Хатчинсон, надеявшаяся на то, что все эти богопротивные идеи исчезнут с лица земли, сделала перевод, наняла профессионального переписчика для пяти книг и собственноручно скопировала шестую книгу?
Ответ на этот вопрос самой Хатчинсон не отличается оригинальностью. Поначалу она не понимала, насколько опасны идеи Лукреция. Она занялась переводом из простого любопытства, желая разобраться в том, о чем ей приходилось узнавать из вторых рук20. Из ее слов можно заключить, что Лукреция обсуждали в частных разговорах, не в лекционных залах или с кафедр, а подальше от внимательных глаз и ушей доносчиков властей. Одаренная и образованная женщина хотела знать, о чем ведут беседы мужчины ее мира.
Когда ее религиозность стала вполне зрелой, то есть, как написала Хатчинсон, когда она познала истинный Свет и Любовь, любознательность и некоторая гордость своими свершениями начали приносить ей боль:
...
«Я стала стыдиться той небольшой известности, которой пользовалась среди моих немногих самых близких друзей как человек, понимающий этого зловредного поэта. Я убедилась, что никогда не понимала его, пока не научилась относиться к нему с отвращением и опасаться иметь дело с нечестивыми книгами»21.
Почему же тогда она решила внести свою лепту в распространение нечестивой книги?
Хатчинсон утверждала, что просто-напросто исполняла просьбу графа Энглси, захотевшего увидеть книгу, которую она теперь заклинала его спрятать куда-нибудь подальше. Спрятать, но не уничтожить. Что-то удерживало ее от предания книги огню – и не только гордость своим свершением. Закоренелая пуританка, она, как и Мильтон, испытывала неприятие любой цензуры. В конце концов, Хатчинсон «чему-то и научилась»22 у Лукреция: «Он доказал мне, что тупое суеверие ведет чувственный разум в атеизм». Иными словами, Лукреций убедил ее в том, что «детские сказки», рассчитанные на воспитание набожности, могут возбудить в рациональном мышлении неверие.
Возможно, ей было и трудно избавиться от книги. «Я переводила ее на английский язык, – писала Хатчинсон, – в комнате, где дети разучивали некоторые практические навыки, которые показали им учителя. А я отмечала слоги моего перевода нитками на канве, на которой вышивала, и записывала их пером, обмакивая его в чернильницу, стоявшую рядом»23.
Лукреций считал, что и, казалось бы, совершенно нематериальные вещи, такие как мысли, идеи, фантазии и душа человека, неотделимы от атомов, образующих материальный мир – вроде пера, чернил и вышивальных нитей, с помощью которых Хатчинсон подсчитывала слоги в стихотворных строках перевода. По его теории, даже зрение зависит от образов, тончайшая вуаль которых исходит от предметов, и эти образы или подобия витают в пустоте, пока не встретятся глазу. По мысли Лукреция, именно такие образы люди принимают за призраки, которые якобы появляются из загробной жизни. Эти видения – вовсе не души мертвых, а тончайшие ткани атомов, все еще находящиеся в пространстве после смерти и разложения плоти человека, от которого они отделились. Неизбежно, и они рассеются, но пока способны удивлять и пугать живых людей.
Эта теория вызывает у нас теперь ироническую улыбку. Но в принципе на ее основе можно создать мысленный образ возвращения к жизни после смерти поэмы, которая исчезла почти навсегда, словно рассеявшись в невидимые атомы и превратившись в один из призраков утерянных античных текстов, будораживших воображение охотников за манускриптами. Она уцелела благодаря усилиям многих людей, находивших в разное время и в разных местах и зачастую по стечению случайных обстоятельств материальные объекты – папирусы и пергаменты, старательно переписывая их и возвращая к жизни. Так и пуританка Люси Хатчинсон, сидя в комнате рядом с детьми и подсчитывая нитками слоги перевода поэмы «О природе вещей», может быть, и сама того не подозревая, дала жизнь атомам поэмы Лукреция на английском языке.
Правда, к тому времени, когда Хатчинсон отослала свой перевод графу Энглси, «бесовские пляски» атомов уже вошли в интеллектуальную жизнь Англии. Эдмунд Спенсер написал восторженный и поразительно напоминающий о Лукреции гимн Венере; Фрэнсис Бэкон провозгласил, что «в природе не существует ничего действительного, помимо единичных тел»24; Томас Гоббс сделал вывод о прямой связи между страхами и религиозными заблуждениями.
И в Англии, и в Европе стала популярной вера в то, что и атомы сотворены Богом25. Исаак Ньютон сформулировал типичную для его эпохи научную позицию по этой проблеме, причислив себя к сторонникам атомизма. «Частицы, сохраняя свою целостность, – писал он, – могут образовывать тела одной и той же природы и структуры во все времена: если бы они истирались или распадались на части, то изменилась бы и зависящая от них природа вещей». Ньютон, естественно, позаботился о том, чтобы в роли главного творца у него выступал Бог. Ученый писал во втором издании «Оптики» (1718 год):
...
«Бог в самом начале сотворения мира создал материю из цельных, весомых, твердых, непроницаемых и подвижных частиц таких размеров и форм, таких других свойств и таких пропорций в пространстве, которые больше всего соответствовали бы цели, для которой Он их создавал; и эти первичные частицы, будучи цельными, несравненно тверже любых пористых тел, состоящих из них; и они настолько тверды, что никогда не истираются и не распадаются на части; ни одна обыкновенная сила не способна разделить то, что сам Бог создал цельным при первом сотворении»26.
Для Ньютона и других ученых XVII века не составляло особого труда согласовать атомизм с христианской верой. Однако опасения Хатчинсон не были безосновательными. Материализм Лукреция породил не только скептиков вроде Драйдена и Вольтера, но и ниспровергателей веры эпохи Просвещения – Дидро, Юма и других.
Дальше предстояли еще более убедительные экспериментальные подтверждения древнего атомизма. Когда Чарльз Дарвин приступал к исследованию природы человека, ему не было нужды опираться на идеи Лукреция в отношении абсолютно естественного и неуправляемого процесса производства и воспроизводства живых существ половым путем. Они уже оказали влияние на эволюционные теории деда – Эразма Дарвина. Чарльзу оставалось найти аргументы собственными исследованиями на Галапагосе и в других экзотических местах. И когда Эйнштейн писал об атомах, он тоже основывался на экспериментальных и математических данных, а не на античных философских трактатах. Тем не менее и он, и другие ученые понимали, что именно древние трактаты определили направления экспериментальных исследований, заложивших основы современного атомизма. Означает ли это, что теперь можно забыть и о поэме Лукреция, и о драме ее поисков, и о гуманисте Поджо Браччолини, нашедшем манускрипт? Вопрос риторический, и каждый волен дать на него свой ответ.
Одним из тех, для кого Лукреций оставался авторитетом и в XIX столетии, был богатый виргинский плантатор, обладавший скептическим, беспокойным умом и склонностями к науке, Томас Джефферсон. У него имелось по крайней мере пять латинских изданий поэмы «О природе вещей», а также ее переводы на английском, итальянском и французском языках. Это была одна из его любимых книг, утверждавшая его в понимании материальности природы. Более того, Лукреций убедил его в том, что страх и невежество не являются неизбежными спутниками человеческого существования.
Джефферсон нашел наследию Лукреция такое применение, которое не могло возникнуть даже в богатом воображении древнего мыслителя, хотя и приходило на ум Томасу Мору в XVI веке. Джефферсон, в отличие от поэта, не стремился уйти от конфликтов общественного бытия. Наоборот, он принимал в нем самое активное участие, став одним из отцов-основателей новой республики и соавторов исторического политического документа. Джефферсон создавал государство не только для защиты жизни и свободы граждан, но и для того, чтобы они «обрели счастье». Главная идея Лукреция так или иначе нашла отражение в Декларации независимости.
Семидесятисемилетний Джефферсон и другой бывший президент, Джон Адамс, которому уже было восемьдесят пять лет, любили обмениваться мнениями о смысле жизни. 15 августа 1820 года Джефферсон писал Адамсу:
...
«И чтобы дать отдохнуть уму, должен был в конце концов вернуться к своему обычному успокоительному «я чувствую, следовательно, существую». Я ощущаю тела, которые не являются мной самим; следовательно, есть другие существования. Я называю их материей . Я чувствую, что они изменяют место. Так я узнаю о движении . Отсутствие материи – пустота в моем понимании, или ничто , или нематериальное пространство . На основе ощущения материи и движения мы можем воспроизвести все определенности, которые мы можем иметь или которые нам нужны»27.
Именно такие мысли Лукреций хотел привить своим читателям. «Я эпикуреец»28, – писал Джефферсон другому корреспонденту, поинтересовавшемуся его философскими взглядами [54] .
От автора
Древнеримский философ, чья поэма дала мне увлекательную тему для исследования перипетий ее поиска и воздействия на современное миропонимание, верил в то, что высшим жизненным благом надо считать удовольствие, и получал его в общении с друзьями. Я рад тому, что у меня много друзей и коллег, охотно помогавших мне в работе над этой книгой. В продолжение года я имел возможность обсуждать особенности философско-этической системы Лукреция в Берлинском институте специальных исследований Wissenschaftskolleg с Бернардом Уильямсом, ныне покойным, чьи глубокие познания были для меня исключительно полезны. Позднее в том же институте мне довелось участвовать в чтениях, посвященных Лукрецию. Их вели два философа Кристоф Горн и Кристоф Рапп, и в группу входили также Хорст Бредекамп, Сьюзан Джеймс, Рейнхард Майер-Калькус, Квентин Скиннер и Рами Таргофф. Семинар, который посещали все желающие, заинтересованно и придирчиво разобрал как научные, так и поэтические достоинства сочинения Лукреция.
Неоценимую помощь мне оказало еще одно замечательное научно-исследовательское сообщество – Американская академия в Риме. Нигде мне не писалось с таким вдохновением и поистине эпикурейским наслаждением, как в этом институте. Я чрезвычайно благодарен за это директору академии Кармеле Вирчилло Франклин и всем сотрудникам. Мой агент Джил Книрим и редактор Алейн Салерно Мейсон были для меня надежной опорой и дотошными критиками. Я приношу благодарность всем, кто помогал мне советами, знаниями или просто оказывал моральную поддержку. Мне трудно перечислить всех моих добровольных соратников, я могу отметить лишь некоторых. Это Альберт Асколи, Хоми Бхабха, Алисон Браун, Джин Брукер, Джозеф Коннорс, Брайан Каммингз, Тревор Дадсон, Кеннет Гувенз (Гоуэнз), Джеффри Хамбергер, Джеймс Ханкинз, Филип Харди, Бернард Джассен, Джозеф (Йозеф) Кёрнер, Томас Лакёр, Джордж Логан, Дэвид Норбрук, Уильям О’Коннелл, Роберт Пински, Оливер Примавеси, Стивен Шейпин, Марчелло Симонетта, Джеймс Симпсон, Пиппа Скотнес, Ник Уайлдинг и Дэвид Вуттон.
Я чувствовал постоянную интеллектуальную и моральную поддержку со стороны моих студентов и коллег в Гарварде, а богатейшая библиотека университета всегда вызывала у меня благоговейный восторг. Мне хотелось бы особенно поблагодарить за содействие в поиске необходимых источников Кристину Барретт, Ребекку Кук, Шона Кайнью, Аду Палмер и Бенджамина Вудринга.
И конечно, самую горячую признательность за советы и соучастие я выражаю своей жене – Рами Таргофф.
Примечания
Предисловие
1. Первыми весть о тебе… Lucretius, On the Nature of Things , trans. Martin Ferguson Smith (London: Sphere Books, 1969; rev. edn., Indianopolis: Hackett, 2001), I:12–20. Я обращался к различным переводам поэмы: Х.А. Дж. Мунро (1914), У.Г.Д. Рауса и Мартина Фергюсона Смита (1975, 1992), Фрэнка О. Копли (1977), Рональда Мелвилла (1997), А.Е. Столлингза (2007) и Дэвида Славитта (2008). Из более ранних переводов я прочел тексты Джона Ивлина (1620–1706), Люси Хатчинсон (1620–1681), Джона Драйдена (1631–1700) и Томаса Крича (1659–1700). На мой взгляд, наилучший перевод сделал Драйден, хотя он перевел лишь небольшую часть поэмы (615 строк, менее десяти процентов) и в его передаче современному читателю нередко трудно понять Лукреция. Я предпочел воспользоваться прозаическим переводом Смита (если нет иных ссылок) и цитировал строки из латинского текста по изданию Лёбовской классической серии – Cambridge, MA: Harward University Press, 1975.
2. «Вот и Весна, и Венера идет…» On the Nature of Things , 5:737–740. Крылатый вестник Венеры – Купидон, его Боттичелли изобразил слепым и мечущим стрелы. Флора, римская богиня цветов, разбрасывает лепестки со своего роскошного платья. Зефир, бог благодатного западного ветра, тянется к нимфе Хлорис. О влиянии Лукреция на творчество Боттичелли, внушенном гуманистом Полициано, см.: Charles Dempsey, The Portrayal of Love: Botticelli’s «Primavera» and Humanist Culture at the Time of Lorenzo the Magnificent (Princeton: Princeton University Press, 1992), pp. 36–49; Horst Bredekamp, Botticelli: Primavera, Florenz als Garten der Venus (Frankfurt am Main: Fischer Verlag GmbH, 1988); и эссе Аби Варбурга 1893 года: Aby Warburg, «Sandro Botticelli» Birth of Venus and Spring: An Examination of Concepts of Antiquity in the Italian Early Renaissance», in The Revival of Pagan Antiquity , ed. Kurt W. Forster, trans. David Britt (Los Angeles: Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1999), pp. 88–156.
3. …вел обширную переписку. Сохранилось 558 писем Поджо, адресованных 172 различным персонажам. Франческо Барбаро, поздравляя Поджо в июле 1417 года с великолепной находкой, упоминает письмо об экспедиции, посланное Поджо «нашему прекрасному и просвещенному другу Гуарино Веронскому» – Two Renaissance Book Hunters: The Letters of Poggius Bracciolini to Nicolaus de Nicolis , trans. Phyllis Walter Goodhart Gordan (New York: Columbia University Press, 1974), p. 201. Письма Поджо см.: Poggio Bracciolini, Lettere , ed. Helene Harth, 3 vols. (Florence: Olschki, 1984).
Глава 1. Охотник за манускриптами
1. …хрупкого телосложения… О внешнем облике Поджо: Poggio Bracciolini (1380–1980): Nel VI centenario della nascita , Instituto Nazionale di Studi Sul Rinascimento, vol. 7 (Florence: Sansoni, 1982); Un Toscano del’400 Poggio Bracciolini, 1380–1459 , ed. Patrizia Castelli (Terranuova Bracciolini: Administrazione Communale, 1980). Главный биографический источник – Ernst Walser, Poggius Florentinus: Leben und Werke (Hildescheim: George Olms, 1974).
2. …как моральное согрешение . О согрешении любопытством и трудностях реабилитации см. у Ханса Блюменберга: The Legitimacy of the Modern Age , trans. Robert M. Wallace (Cambridge, MA: MIT Press, 1983; orig. German edn. 1966), pp. 229–453.
3. …«омерзительным и непристойным образом жизни»… Eustace J. Kitts, In the Days of the Councils: A Sketch of the Life and Times of Baldassare Cossa (Afterward Pope John the Twenty Third) (London: Archibald Constable & Co., 1908), p. 359.
4. …Георгий Трапезундский, коллега Поджо, скопил… Peter Partner, The Pope’ Men: The Papal Civil Service in the Renaissance (Oxford: Clarendon Press, 1990), p. 54.
5. В пятидесятых годах… Lauro Martines, The Social World of the Florentine Humanists, 1390–1460 (Princeton University Press, 1963), pp. 123–127.
6. …в это трудное время… В 1416 году Поджо, очевидно, пытался при содействии коллег в курии добиться бенефиция, но это вызвало кривотолки, и субсидия не была предоставлена. Он также мог получить должность писца при новом папе Мартине V, однако Поджо отказался, посчитав ее недостойной для бывшего апостолического секретаря – Walser, Poggius Florentinus, pp. 42ff.
Глава 2. Желанная находка
1. Петрарка… прославил себя… Nicholas Mann, «The Origins of Humanism», The Cambridge Companion to Renaissance Humanism , ed. Jill Kraye (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 11. О реакции Поджо на открытия Петрарки: Riccardo Fubini, Humanism and Secularization: From Petrarch to Valla , Duke Monographs in Medieval and Renaissance Studies, 18 (Durham, NC, and London: Duke University Press, 2003). Об итальянских гуманистах: John Addington Symonds, The Rivival of Learning (New York: H. Holt, 1908; repr. 1960); Wallace K. Ferguson, The Renaissance in Historical Thought: Five Centuries of Interpretation (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1948); Paul Oskar Kristeller, «The Impact of Early Italian Humanism on Thought and Learning» – Bernard S. Levy, ed., Developments in the Early Renaissance (Albany: State University of New York Press, 1972), pp. 120–157; Charles Trinkaus, The Scope of Renaissance Humanism (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1983); Anthony Grafton and Lisa Jardine, From Humanism to the Humanities: Education and the Liberal Arts in the Fifteenth-and Sixteenth-Century Europe (Cambridge. MA: Harvard University Press, 1986); Peter Burke, «The Spread of Italian Humanism» – Anthony Goodman and Angus Mackay, eds., The Impact of Humanism on Western Europe (London: Longman, 1990), pp. 1–22; Ronald G. Witt, «In the Footsteps of the Ancients»: The Origins of Humanism from Lovato to Bruni, Studies in Medieval and Reformation Thought , ed. Heiko A. Oberman, vol. 74 (Leiden: Brill, 2000); and Riccardo, Fubini, L’Umanestimo Italiano e I Suoi Storici (Milan: Franco Angeli Storia, 2001).
2. …стоило бы почитать Мацера и Лукреция . Quintilian, Institutio Oratoria (The Orator’s Education) , ed. and trans. Donald A. Russell, Loeb Classical Library, 127 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), 10.1, pp. 299ff. Хотя полная (или почти полная) копия труда Квинтилиана была найдена Поджо Браччиолини лишь в 1416 году, книга X с перечнем греческих и римских писателей читалась в продолжение всего Средневековья. Квинтилиан писал о Мацере и Лукреции: «Каждый из них хорош в своем предмете, но если первый прозаичен, то второй – труден», с. 299.
3. …грамотность населения, по нашим меркам… Robert A. Kaster, Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity (Berkeley and London: University of California Press, 1988). Оценки грамотности в ранних обществах чрезвычайно ненадежны. Кастер, ссылаясь на исследование Ричарда Дункан-Джонса, утверждает: «Значительное большинство жителей империи было неграмотно в классических языках». Данные на первые три столетия новой эры фиксируют неграмотность на уровне 70 процентов с различными вариациями по регионам. Аналогичные оценки содержатся в следующей работе: Kim Haines-Eitzen, Guardians of Letters: Literacy, Power, and the Transmitters of Early Christian Literature (Oxford: Oxford University Press, 2000), хотя Ким Хейнс-Эйтцен дает еще более низкий уровень грамотности – до 10 процентов. См. также: Robin Lane Fox, «Literacy and Power in Early Christianity» – Alan K. Bowman and Greg Woolf, eds., Literacy and Power in the Ancient World (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
4. «…надлежало дать двадцать псалмов…» Цитируется у Фокса, Robin Lane Fox, «Literacy and Power in Early Christianity», p. 147.
5. «Сверх того, надлежит назначать…» В правилах все-таки учитывался вариант, когда человек просто-напросто не может выдерживать процесс чтения: «Если кто-либо столь слабый и дряблый, что не желает или не способен учиться или читать, то ему надо дать работу, чтобы он не бездельничал». The Rule of Benedict , trans. by Monks of Glenstal Abbey (Dublin: Four Courts Press, 1982), 48:223.
6. «Он тревожно поглядит…» John Cassian, The Institutes , trans. Boniface Ramsey (New York: Newman Press, 2000), 10:2.
7. «Если обнаружится такой монах…» The Rule of Benedict , 48:19–20. Я поправил перевод, написав «в назидание другим», полагая, что именно таков смысл латинского выражения ut ceteri timeant.
8. «…от эйфории». Spiritum elationis, переводчики придают этим словам смысловое значение «тщеславия». На мой взгляд, в данном случае более уместно их толкование в значении чрезмерной радости, восторженности.
9. «Надо соблюдать…» The Rule of Benedict , 38:5–7.
10. «Никто не должен…» Ibid., 38:8.
11. «Настоятель может…» Ibid., 38:9.
12. «Пусть же у того, кто украдет…» Leila Avrin, Scribes, Script and Books: The Book Arts from Antiquity to the Renaissance (Chicago and London: American Library Association and the British Library: 1991), p. 324. Манускрипт в Барселоне.
13. …на основе изумительной каллиграфии… О своеобразном стиле письма Поджо см.: Berthold L. Ullman, The Origin and Development of Humanistic Script (Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1960). Полезное введение в данную тему дает Мартин Дейвис: Martin Davies, «Humanism in Script and Print in the Fifteenth Century» – The Cambridge Companion to Renaissance Humanism , pp. 47–62.
14. …служили апостолическими секретарями… Бартоломео был папским секретарем в 1414 году, Поджо – в 1415-м: Partner, The Pope’s Men , pp. 218, 222.
15. «Мне противны…» Gordan, Two Renaissance Book Hunters , pp. 208–209 (письмо Амброджо Траверсари).
16. «Я намерен двинуться…» Ibid., p. 210.
17. …его провели в оружейный зал… Eustace J. Kitts, In the Days of the Councils: A Sketch of the Life and Times of Baldassare Cossa (London: Archibald Constable & Co., 1908), p. 69.
18. …они уподобляются кузнечикам… Цитируется у Шеперда: W.M. Shepherd, The Life of Poggio Bracciolini (Liverpool: Longman et al., 1837), p. 168.
19. «Пергамент щетинистый…» Avrin, Scribes, Script and Books , p. 224. Писец в действительности работал на веллуме, а не на пергаменте, но, очевидно, ему достался велень очень плохого качества.
20. «Наконец-то я все написал…» Ibid.
21. «Снизойди, о Господи…» Цитируется Патнамом: George Haven Putnam, Books and Their Makers During the Middle Ages , 2 vols. (New York: Hillary House, 1962; repr. of 1896–1898 edn.) 1:61.
22. Монахи, используя ножи… Величественный монастырь в Боббио на севере Италии располагал уникальной библиотекой: в каталоге, составленном в конце IX века, были отмечены редчайшие тексты древних авторов, включая Лукреция. Большинство этих рукописей исчезли, очевидно, благодаря усилиям писцов, соскобливших их для евангелий и псалмов, которыми пользовалась община. Бернард Бишхоф писал: «Многие античные рукописи погибли, когда в Боббио старые произведения стерли и нанесли новые тексты, поступившись правилами Колумбана ради наставлений Бенедикта. Каталог конца IX столетия свидетельствует: в Боббио находилась одна из богатейших библиотек западного мира, где хранились многие грамматические трактаты и редкие поэтические произведения. Навсегда утрачен единственный экземпляр поэмы Септимия Серена De runalibus , автора времен императора Адриана. Казалось, утеряны и произведения Лукреция и Валерия Флакка. К счастью, их нашел в Германии Поджо». – Manuscripts and Librarries in the Age of Charlemagne (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), p. 151.
23. …бенедиктинское аббатство Фульда . С большой долей вероятности, как считают историки, Поджо мог отправиться и в аббатство Мурбах на юге Эльзаса. К середине IX века монастырь, основанный в 727 году, превратился в важнейший центр научного познания. Известно, что в нем хранился и экземпляр Лукреция. Трудности ожидали бы Поджо в любом монастыре.
24. Рабан в юности… В контексте данного исследования особый интерес представляет замечание Рабана, содержащееся в предисловии к поэме «Похвала Святому Кресту», написанной в акростихах в 810 году. Рабан указывает, что в стихах использует риторические фигуры synalpha – сжатие двух слогов в один. По словам Рабана, этот прием он часто находил и у Тита Лукреция – Quod et Titus Lucretius non raro fecisse invenitur . Цитируется у Дэвида Ганца: «Lucretius in the Carolingian Age: The Leiden Manuscripts and Their Carolingian Readers» – Claudine A. Chavannes-Mazel and Margaret M. Smith, eds., Medieval Manuscripts of the Latin Classics: Production and Use, Proceedings of the Seminar in the History of the Book to 1500, Leiden, 1993 (Los Altos Hills, CA: Anderson-Lovelace, 1996), 99.
25. «Похвально используя досуг…» Плиний Младший, «Письма». Letters , 3.7.
26. Но и ему, и другим исследователям… Гуманисты могли обнаруживать отдельные признаки существования поэмы. Макробий в начале V века процитировал несколько строк в «Сатурналии» (George Hadzsits, Lucretius and His Influence [New York: Longmans, Green & Co., 1935]), так же как и Исидор Севильский в «Этимологии» в начале VII столетия. Другие примеры будут приведены ниже, но в начале XV столетия никто и не предполагал, что можно найти всю поэму.
Глава 3. Папирусы Геркуланума
1. …была доступна читателям… «Пришли мне что-нибудь Лукреция или Энния, – писал другу высокообразованный император Антонин Пий (86–161), – что-нибудь благозвучное, сильнодействующее и проникновенное о состоянии души». (Кроме отдельных фрагментов, произведения Энния, раннего римского поэта, так и не были найдены.)
2. «Поэзия Лукреция…» «Lucreti poemata, ut scribes, uta sunt, multis luminibus ingenii, multae tamen artis» – Cicero, Q. Fr . 2.10.3.
3. «Счастлив тот, кто…» Georgics , 2.490–492:
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas,
Atque metus omnis et inexorabile fatum
Subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari.
У Вергилия и Лукреция Ахерон, река подземного царства Аида, символизировала загробную жизнь. О Лукреции в поэме Вергилия «Георгики» см. исследование Моники Гейл: Monica Gale, Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius, and the Didactic Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
4. Вергилий не называет имени своего героя… Автор «Энеиды», осознавая мрачную неумолимость императорской власти и суровую необходимость отказа от удовольствий, более скептически, чем в «Георгиках», настроен в отношении способности человека постичь скрытые силы Вселенной. Однако мировоззрение Лукреция и его поэтическая изящность отражаются во всем эпосе Вергилия. О незримом присутствии Лукреция в «Энеиде» (и других поэмах Вергилия), как и в произведениях Овидия и Горация, см. исследование Филиппа Харди: Philip Hardie, Lucretian Receptions: History, The Sublime, Knowledge (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
5. «Стихам царственного Лукреция…» Amores . 1.15.23–24. См. у Филиппа Харди: Philip Hardie, Ovid’s Poetics of Illusion (Cambridge: Cambridge University Press, 2002) esp. pp. 143–163, 173–207.
6. Меммий был довольно успешным политическим деятелем… Политическая карьера Меммия, зятя беспощадного патриция-диктатора Суллы, внезапно оборвалась в 54 году до н. э., когда его, претендовавшего на место консула, вынудили признаться в причастности к финансовому скандалу [55] , и он лишился поддержки со стороны Юлия Цезаря. По мнению Цицерона, он был ленивым оратором, хотя и прекрасно знал литературу, правда, в большей мере греческую, нежели латинскую. Особым интересом к греческой культуре, видимо, и объясняется тот факт, что после фиаско на политическом поприще Меммий перебрался в Афины, где приобрел участок земли, на котором еще стояли развалины дома философа Эпикура, умершего более двухсот лет назад. В 51 году до н. э. Цицерон обратился к Меммию с личной просьбой отдать развалины «Патрону эпикурейцу». (На их месте Меммий, очевидно, задумал построить собственное имение.) Цицерон писал, что Патрон [56] считает «своей служебной обязанностью и долгом блюсти священность завещаний, престиж имени Эпикура… сохранность обители, местонахождения и памяти о великих людях» – письмо 63 (13:1): Cicero’s Letters to Friends (Loeb edn.), 1:271. Действительным последователем Эпикура был Лукреций, его самый приверженный и талантливый ученик.
7. Эта жуткая история… О рождении легенды см. у Лучано Канфоры: Luciano Canfora, Vita di Lucrezio (Palermo: Sellerio, 1993). Самый оригинальный образ воссоздал, конечно, Теннисон в поэме «Лукреций».
8. О личности Лукреция нам известно немногим более того… Жизнеописание Лукреция, исполненное Канфорой, не является биографией в обычном понимании этого слова. Автор всего лишь предпринял попытку развенчать миф Иеронима. Ада Палмер в своей работе показывает, что ученые эпохи Возрождения собрали сведения, которые якобы давали ключ к пониманию жизнедеятельности Лукреция, но эти «сведения» в большинстве своем оказывались комментариями, относящимися к другим лицам.
9. «Этот человек…» Слова Иоганна Иоахима Винкельмана, процитированные Дэвидом Сайдером: David Sider, The Library of the Villa dei Papiri at Herculaneum (Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2005). Яркое высказывание Винкельмана основано на итальянской поговорке.
10. «размером в пол-ладони…» Из письма Камилло Падерни, директора музея Геркуланума в Королевском дворце в Портичи, от 25 февраля 1755 года. Процитировано Сайдером: The Library , p. 22.
11. …на свитках папируса… Avrin, Scribes, Script and Books , pp. 83ff.
12. Отрытая в Геркулануме комната… В это время раскопками руководил швейцарский военный инженер Карл Вебер, относившийся с большим вниманием и научным интересом к тому, что лежало под землей.
13. В древнем городе ценились… Такая система ценностей имела давнюю традицию. Когда в 146 году до н. э. Сципион разграбил Карфаген, в его руки попали и богатейшие библиотечные собрания этого древнего североафриканского города. Он запросил сенат: что делать с книгами? Ему ответили: имеет смысл перевести на латынь только трактат о земледелии, а остальные манускрипты следует раздарить африканским царькам – Pliny the Elder, Natural History , 18:5.
14. …библиотеку побежденного монарха . Поживиться греческими библиотеками вошло в практику военных походов римлян. В 67 году Лукулл, союзник Суллы, вместе с другим награбленным добром привез из восточной экспедиции и ценнейшую библиотеку, а позднее увлекся изучением греческой литературы и философии. В Риме и на своей вилле в Тускулане под Неаполем он играл роль великодушного патрона греческих интеллектуалов и поэтов. Лукулл фигурирует одним из главных собеседников в диалоге Цицерона Academica .
15. …первая публичная библиотека… Поллио, назначенный управлять на севере Италии (в Транспаданской Галлии), используя свое влияние, помог Вергилию избежать конфискации имущества.
16. Библиотека, основанная Поллио… Император Август создал две библиотеки – Октавианскую и Палатинскую. Октавианская библиотека, посвященная сестре Октавии (33 год до н. э.), располагалась в ее портике и состояла из живописного променада на нижнем уровне и читальной комнаты с собранием книг на втором этаже. Другая библиотека примыкала к храму Аполлона на Палатинском холме и делилась на две части – греческую и латинскую. Оба книжных хранилища были уничтожены пожаром. Преемники Августа продолжили традицию. Тиберий основал библиотеку в своем доме на Палатине (согласно Светонию, император требовал, чтобы в публичных библиотеках обязательно имелись произведения и скульптурные образы его любимых греческих поэтов). Веспасиан открыл библиотеку в храме Мира, построенном после сожжения города Нероном. После пожара активно восстанавливал сгоревшие библиотеки Домициан, посылая гонцов в Александрию за копиями манускриптов. Самую грандиозную имперскую библиотеку создал Ульпий Траян, располагавшуюся сначала в Форуме Траяна, а потом в Термах Диоклетиана. – Lionel Casson, Libraries in the Ancient World (New Haven: Yale University Press, 2002).
17. Постепенно и другие города античности… Библиотеки действовали в Афинах, на Кипре, в Комо, Милане, Смирне, Патрах, Тибуре, в некоторых хранилищах даже позволялось брать книги домой. Однако преобладал запрет на то, чтобы выносить книги из библиотек. Об этом, например, гласила надпись на стене библиотеки Пантайноса (200 год н. э.) на Агоре в Афинах: «Клятвенно просим книги не выносить. Мы открыты с шести утра до полудня». Цитируется у Сайдера: David Sider, The Library of the Villa dei Papiri at Herculaneum , p. 43.
18. …римляне же повсеместно… Clarence E. Boyd, Public Libraries and Literary Culture in Ancient Rome (Chicago: University of Chicago Press, 1915), pp. 23–24.
19. …цивилизованный человек в своем доме… Arnaldo Momigliano, Alien Wisdom: The Limits of Hellenization (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).
20. Однажды на играх в Колизее… Erich Auerbach, Literary Language and Its Public in Late Latin Antiquity and in the Middle Ages , trans. Ralph Manheim (Princeton: Princeton University Press, 1965), p. 237.
21. «В Геркулануме обнаружена …» Knut Kleve, «Lucretius in Herculaneum» – Croniche Ercolanesi 19 (1989), p. 5.
22. «среди своих пьяных…» In Pisonem («Против Пизона») – Cicero, Orations , trans. N.H. Watts, Loeb Classical Library, vol. 252 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1931), p. 167 («in suorum Gaecorum foetore atque vino»).
23. Завтра, друг Пизон… The Epigrams of Philodemos , ed. and trans. David Sider (New York: Oxford University Press, 1997), p. 152.
24. Поглядывая беззаботно на дым… Хотя в этих местах недавно и было землетрясение, последнее мощное извержение вулкана произошло в 1200 году до н. э.
25. Я часто наблюдал подобное… Cicero, De natura deorum («О природе богов»), trans. H. Rackham, Loeb Classical Library, 268 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1933), 1.6, pp. 17–19.
26. «После сказанного мы разошлись…» Ibid., p. 383.
27. «Пусть наша беседа…» Cicero, De officiis («Об обязанностях»), trans. Walter Miller, Loeb Classical Library, 30. (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1913), 1.37, pp. 137.
28. Когда «человеческая жизнь…» Здесь латинское слово religio («религия») переведено как «суеверие» ( superstition ).
29. Эпикур, философский мессия… Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers , 2 vols., Loeb Classical Library, 184–185 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1925), 2:531–533.
30. …философии Эпикура… Epilogismos Эпикура – этим термином часто обозначают «размышление на основе эмпирических данных». Майкл Шофилд объясняет этот феномен как «повседневный процесс оценки и осмысления»: Schofield in Rationality in Greek Thought , ed. Michael Frede and Gisele Striker (Oxford: Clarendon Press, 1996). Он проводит параллель с тем, как описывал Эпикур понятие времени: «Время не поддается такому расследованию, как все остальные свойства предметов, которые мы исследуем, сводя к предвосхищениям… Нет, мы должны исходить из той непосредственной очевидности, которая заставляет нас говорить о долгом или кратком времени и выражать ее соответствующим образом». Согласно Эпикуру, размышление – это «совершенно обыденный вид деятельности, доступный всем и не являющийся каким-то особым интеллектуальным достижением, свойственным, скажем, математикам или диалектикам» (p. 235).
31. «Не думаешь ли ты…» Cicero, Tusculanae disputationes («Тускуланские беседы»), trans. J.B. King. Loeb Classical Library, 141 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1927), 1.6.10.
32. …мне трудно понять… Ibid., 1.21.48–89.
33. …его рвет два раза в день… Высказывание принадлежит Тимократу, брату Метродора, ученика Эпикура, переставшего посещать его школу: Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers , trans. R.D. Hicks, 2 vols., Loeb Classical Library, 185 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1925), 2:535.
34. …гостя потчевали бы… Seneca. Ad Lucilium Epistulae Morales , trans. Richard Gummere, 3 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1917), 1:146.
35. «Когда мы говорим…» Письмо Менекею. У Диогена Лаэртского: Lives of the Eminent Philosophers, 2:657.
36. «Человек наносит себе…» Philodemus, On Choices and Avoidances , trans. Giovanni Indelli and Voula Tsouna-McKirahan, La Scouola di Epicuro, 15 (Naples: Bibliopolis, 1995), pp. 104–106.
37. Я воздухом велю надуть перины… Ben Jonson, The Alchemist , ed. Alvin B. Kernan, 2 vols. (New Haven: Yale University Press, 1974), II. ii. 41–42; 72–87. Джонсон продолжил традицию представлять Эпикура в роли святого покровителя кабаков и борделей, как и Чосер, назвавший в «Кентерберийских рассказах» своего героя Франклина «Epicurus owene sone» («достойным сыном Эпикура»).
38. «Некоторые хотят стать знаменитыми и быть на виду…» Maxim № 7: Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers , trans. R.D. Hicks, 2 vols., Loeb Classical Library, 185 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1925; rev. ed. 1931), 1:665.
39. «От многого можно уберечься…» Ватиканское собрание изречений 31: A.A. Long and D.N. Sedley, The Hellenistic Philosophers , 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 1:150.
Глава 4. «Зубы времени»
1. Неутомимого труженика науки Дидима Александрийского… Moritz W. Schmidt, De Didymo Chalcentero (Oels: A. Ludwig, 1851) and Didymi Chalcenteri fragmenta (Leipzig: Teubner, 1854).
2. …амбициозный литератор Стобей… David Diringer, The Book Before Printing (New York: Dover Books, 1982), pp. 241ff.
3. На этой стене… Andrew M.T. Moore, «Diogenes’s Inscription at Oenoanda», in Dane R. Gordon and David B. Suits, eds., Epicurus: His Continuing Influence and Contemporary Relevance (Rochester, NY: Rochester Institute of Technology Cary Graphic Arts Press, 2003), pp. 209–214. См.: The Epicurian Inscription (of Diogenes of Oinoanda) , ed. and trans. Martin Ferguson Smith (Naples: Bibliopolis, 1992).
4. «Их можно обнаружить…» Aristotle, Historia animalium , trans. A.L. Peck, Loeb Classical Library, 438 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1965–1991), 5:32.
5. Крохотный серебристо-белый червячок… Цитирует Уильям Блейдс: William Blades, The Enemies of Books (London: Elliot Stock, 1896), pp. 66–67.
6. …«непрестанные терзания»… Ovid, Ex ponto , trans. A.L. Wheeler, rev. G.P. Goold, 2nd edn. (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1924), I. I. 73.
7. …«кормом для лютой моли». Horace, Satires. Epistles. The Art of Poetry , trans. H. Rushton Fairclough, Loeb Classiacal Library, 194 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1926), Epistle I.20.12.
8. «Пожиратель книг…» In Greek Anthology , trans. W.R. Paton, Loeb Classiacal Library, 84 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1917), 9:251.
9. Многие, а возможно, и большинство греческих копиистов… Kim Haines-Eitzen, Guardians of Letters: Literacy, Power, and the Transmitters of Early Christian Literature (Oxford: Oxford University Press, 2000), p. 4.
10. «Я получил книгу…» Цитирует Лайонел Гассон: Lionel Gasson, Libraries in the Ancient World (New Haven: Yale University Press, 2001), p. 77.
11. Издателям приходилось мириться… Leila Avrin, Scribes, Script and Books: The Book Art from Antiquity to the Renaissance (Chicago: American Library Association, 1991), p. 171. См. также сс. 149–153.
12. Огромная армия мужчин и женщин… О женщинах-копиистах см. Haines-Eitzen, Guardians of Letters .
13. Изобретение наборного шрифта… По некоторым оценкам, в период между 1450 и 1500 годами напечатано столько же книг, сколько их было выпущено за всю историю человечества до 1450 года. Такое же количество книг было издано с 1500 до 1510 года и вдвое больше в следующем десятилетии.
14. …многоопытная бригада писцов… О писцах см.: L.D. Reynolds and N.G. Wilson , Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature , 2nd edn. (London: Oxford University Press, 1974); Avrin, Scribes, Script and Books ; Rosamond McKitterick, Books, Scribes and Learning in the Frankish Kingdoms, 6 th –9 th Centuries (Aldershot, UK: Variorum, 1994); M.B. Parkes, Scribes, Scripts, and Readers (London: Hambledon Press, 1991). О символической значимости писца: Giorgio Agamben, Potentialities: Collected Essays in Philosophy , ed. Daniel Heller-Roazen (Stanford: Stanford University Press, 2000), pp. 246ff. У Авиценны примером «совершенной умственной потенции» являются способности искусного писца в момент, когда он не пишет.
15. …а в Александрии… В огромные хранилища, располагавшиеся на южной окраине Александрии, баржами свозилось зерно, выращиваемое на плодородных землях речных равнин. Здесь его инспектировали дотошные чиновники, проверяя, чтобы «в нем не было примесей грунта или ячменя, чтобы оно было без гнили и хорошо просеяно». – Christopher Haas, Alexandria in Late Antiquity: Topography and Social Conflict (Baltimore: John Hopkins University Press, 1997), p. 42. Мешки с зерном затем доставлялись по каналу в гавань, где его ожидали корабли. Отсюда суда уходили в города, населению которых уже недоставало провианта с близлежащих местностей. Александрия была одним из важнейших поставщиков хлеба для Древнего мира, она обеспечивала стабильность и потому могла владычествовать. Но Александрия контролировала не только рынок зерна. Купцы города торговали винами, льном, гобеленами, стеклом и папирусом. Болотистые низины возле города были исключительно пригодны для выращивания тростника, из которого изготавливали бумагу. Во все времена – от Цезарей до франкских королей – «александрийский папирус» был излюбленным материалом, на котором бюрократы, философы, поэты, священники, купцы, императоры и ученые записывали свои долги и мысли.
16. …аккумулируя интеллектуальные достижения… Птоломей III (246–221 гг. до н. э.), как свидетельствуют историки, обратился ко всем правителям с просьбой прислать книги для копирования. Чиновникам было приказано конфисковать книги на проходивших судах. Эти манускрипты переписывались, копии возвращались на корабли, а оригиналы передавались в библиотеку, и в каталогах помечалось «с судов». Царские агенты рыскали по всему Средиземноморью в поисках книг – покупали их или одалживали для копирования. Владельцы неохотно одалживали книги, потому что они обычно не возвращались, или требовали огромный залог. Когда после долгих упрашиваний Афины согласились одолжить Александрии бесценные тексты Эсхила, Софокла и Еврипида, они потребовали залог в размере пятнадцати талантов золотом. Птоломей дал залог, получил манускрипты, скопировал, отослал копии обратно и, потеряв деньги, передал оригиналы в Мусейон.
17. …можно было сравнить… Ammianus Marcellinus, History , Loeb Classical Library, 315 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1940), 2:303. См. у Руфина: «Все сооружение состояло из арок с большими окнами над каждой из них. Внутренние палаты отделялись друг от друга и предназначались для ритуалов и тайных обрядов. Дворики для отдыха и маленькие часовни с изображениями богов располагались на верхнем уровне. Повсюду возвышались роскошные дома, в которых жили жрецы. По всему периметру тянулась галерея-портик, стоявшая на колоннах и обращенная вовнутрь. В центре высился храм, весь в мраморе и колоннах из благородного камня. Внутри храма стояла статуя Сераписа, настолько большая, что обе руки божества касались стен». Цитирует Хаас: Haas, Alexandria in Late Antiquity , p. 148.
18. Первый удар… Александрия была важным стратегическим центром и не могла избежать конфликтов, которые раздирали римское общество. В 48 году до н. э. Юлий Цезарь загнал своего соперника Помпея в Александрию. По приказу египетского царя Помпея умертвили и его голову продемонстрировали Цезарю, который изобразил огромное горе. Хотя Цезарь и имел в своем распоряжении не более 4000 солдат, он решил остаться в городе. Противостояние длилось девять месяцев, и немногочисленное римское войско оказалось перед угрозой уничтожения египетским флотом, входившим в гавань. Используя просмоленные и намазанные серой факелы, солдаты Цезаря подожгли корабли. Огонь поднялся неистовый, поскольку корпуса кораблей тоже были просмолены, а палубы навощены. (Подробности поджога заимствованы у Лукана: Lucan, Pharsalia , trans. Robert Graves [Baltimore: Penguin, 1957], p. 84, III:656–700). Огонь перекинулся с кораблей на берег, распространившись на склады и библиотеку или по крайней мере на отдельные книгохранилища. Конечно, никто не хотел поджигать манускрипты, они просто послужили легковоспламеняющимся материалом. Поджигатели о них даже и не думали. Цезарь поручил владычество завоеванным городом сестре свергнутого царя деятельной красавице Клеопатре. Утраты библиотеки можно было довольно быстро восстановить. Через несколько лет влюбленный Марк Антоний подарил Клеопатре 200 тысяч свитков, захваченных в Пергаме. (Колонны Пергамской библиотеки и сейчас стоят среди руин когда-то великого города на турецком берегу Средиземного моря.) Манускрипты, украденные в одной библиотеке и отданные другой, естественно, не могли заменить то, что уже утрачено. Библиотекари Александрии все сделали для того, чтобы восстановить потери, и Александрия по-прежнему оставалась важным интеллектуальным центром. Но пожар доказал: Марс – опасный враг книжной культуры.
19. А на исходе века… Лишь в 407 году епископам разрешили закрывать или уничтожать храмы. – Haas, Alexandria in Late Antiquity , p. 160.
20. «Будто напившись…» Руфин, ibid., pp. 161–163.
21. Не правда ли, что мы мертвы … Greek Anthology , p. 172.
22. «Если вы решите…» The Letters of Synesius of Cyrene , trans. Augustine Fitzgerald (Oxford: Oxford University Press, 1926), p. 253. В Гипатии было нечто такое, вызывающее уважение не только ученых мужей, но и рядовых граждан. Юноша, приехавший в Александрию из Дамаска изучать философию через двести лет после гибели Гипатии, все еще мог слышать восхищенные рассказы о ней: «Весь город любил ее и относился к ней с исключительным почтением, и властители прежде всего ей выказывали знаки уважения». – Damascius, The Philosophical History , trans. Polhymnia Athanassiadi (Athens: Apamea Cultural Association, 1999), p. 131. Вот какие слова посвятил ей поэт Паллад:
Searching the zodiac, gazing on Virgo,
Knowing your province is really the heavens,
Finding your brilliance everywhere I look,
I render you homage, revered Hypatia,
Teaching’s bright star, unblemished, undimmed… [57]
Poems , trans. Tony Harrison (London: Anvil Press Poetry, 1975), no. 67.
23. «Таковы были ее…» Socrates Scholasticus, Ecclesiastical History (London: Samuel Bagster & Sons, 1844), p. 482.
24. Кто-то начал распространять слухи… The Chronicle of John, Bishop of Nikiu (ок. 690 года н. э.), trans. R.H. Charles (Text and Translation Society, 1916): «Она во все времена увлекалась магией, астролябией и музыкой и многих людей заманила в свои сатанинские сети. Правитель города очень почитал ее, так как она притянула его к себе чарами магии» (84:87–88), p. 100.
25. …начался упадок… Спустя более двухсот лет арабы, завоевавшие Александрию, находили на полках манускрипты, но это были в основном христианские богословские тексты, а не сочинения языческих философов, математиков и астрономов. Когда халифа Омара спросили, что делать с найденными книгами, он ответил: «Если их содержание соответствует слову аллаха, мы можем обойтись без них, ибо нам достаточно слова аллаха. Если же их содержание не соответствует слову аллаха, то нам нет нужды их сохранять. Идите и уничтожьте их». Цитируется у Роя Маклеода: Roy MacLeod, ed., The Library of Alexandria: Centre of Learning in the Ancient World (London: I.B. Tauris, 2004), p. 10. Если эта история верна, то папирусные свитки, пергаменты и кодексы были отправлены в термы, где их сжигали в печах для подогрева воды. В качестве топлива они служили полгода. См. также: Luciano Canfora, The Vanished Library: A Wonder of the Ancient World , trans. Martin Ryle (Berkeley: University of California Press, 1989), and Casson, Libraries in the Ancient World . О Гипатии см.: Maria Dzielska, Hypatia of Alexandria (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1995).
26. «Надобен теперь не философ…» Ammianus Marcellinus, History , trans. Rofle, I:47 (xiv. 6.18).
27. «Я постился…» Jerome, Select Letters of St. Jerome , Loeb Classical Library, 2362 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1933), p. 125. Письмо XXII Евстохию.
28. «После рассудительных наставлений…» «В молодости, когда моим кровом была дикая пустыня, я с трудом преодолевал побуждения к греху и пылкие позывы моего естества. Я пытался подавить их частыми постами, но меня постоянно терзали мучительные грезы. Чтобы избавить себя от этих мук, я отдал себя в руки одному из собратьев, иудею, принявшему христианство, и попросил научить меня его языку. Таким образом, после колкой выразительности Квинтилиана, красноречия Цицерона, весомости Фронто и мягкой плавности Плиния я приступил к изучению нового алфавита и произнесению неприятно звучащих, гортанных слов ( stridentia anhelantiaque verba )» – Jerome, Select Letters , p. 419. В этом же письме Иероним советует монаху: «Плетите сети для ловли рыбы и переписывайте манускрипты, чтобы ваши руки научились добывать еду, а душа наслаждалась чтением», p. 419. Копирование манускриптов в монашеских братствах, как мы уже видели, сыграло важнейшую роль в сохранении поэмы Лукреция и других языческих текстов.
29. «Ты лжешь…» Jerome, Select Letters , p. 127.
30. «О Господи…» Ibid., p. 129.
31. Но в этом пристрастии… «Вовсе не мелочь для благородного человека с изысканной речью, состоятельного – избегать появления на улицах в компании с персоной, облеченной властью, не чураться людских толп, симпатизировать бедным и общаться с крестьянами». Ep. 66.6, похвала Паммахию, цитируется Робертом Кастером: Robert A. Kaster, Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity (Berkeley: University of California Press, 1988), p. 81.
32. «Какое отношение Гораций…» Jerome, Select Letters , письмо XXII, Евстохии, p. 125.
33. Ему дали жизнь в Нурсии… Pope Gregory I, Dialogues , trans. Odo John Zimmerman (Washington, DC: Catholic University of America Press, 1959), 2:55–56.
34. …мириться с Платоном и Аристотелем… Не все разделяли это мнение. Тертуллиан, например, писал в трактате «О прескрепции против еретиков»: «Философия… “это материя мирового разума, опрометчивая истолковательница природы и Божьего произволения. Философия и подстрекает ереси… Какое отношение имеют Афины к Иерусалиму, Академия к Церкви и еретики к христианам? Наше установление идет с портика Соломона, а он учил, что Господа надо искать в простоте сердца. Прочь все попытки произвести стоическое, платоническое и диалектическое христианство! Нам нет нужды в любознательности, если у нас есть Иисус Христос, и в поисках истины, если у нас есть Евангелие! Когда у нас есть вера, нам не надо верить во что-то еще. Это наша первейшая вера, и более нет ничего, во что нам следовало бы верить”».
См.: Ante-Nicene Fathers, ed. Alexander Roberts and James Donaldson, 10 vols. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1951), 3:246. Соответственно, в XV веке и позднее предпринимались попытки согласовать христианство с модифицированной версией эпикуреизма.
35. …«плоды больного воображения»… Minucius Felix, Octavius , trans. T.R. Glover and Gerald H. Rendall, Loeb Classical Library, 250 (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1931), p. 345 (осмеяние христиан), p. 385 (осмеяние язычников). См. в том же томе Apologeticus («Апологию») Тертуллиана: «Я обращаясь к вашей литературе, научающей вас разуму и свободным искусствам, и какие же нелепости нахожу! Я читаю о том, как боги ради троянцев и ахейцев сражаются друг с другом подобно гладиаторам…», p. 75.
36. Зачем, например, руки и ноги… Tertullian, Concerning the Resurrection of the Flesh , trans. A. Souter (London: SPCK, 1922), pp. 153–154.
37. « Да!» – обращается Тертуллиан… Ibid., p. 91.
38. Хотя для ранних христиан… См.: James Campbell, «The Angry God: Epicureans, Lactantius, and Warfare», in Gordon and Suits, eds., Epicurus: His Continuing Influence and Contemporary Relevance . Кемпбелл пишет, что «сердитым» Бог начал становиться в христианстве только в IV веке – с возрастанием могущества Рима. До этого времени христианство терпимее относилось к эпикуреизму. «Тертуллиан, Климент Александрийский и Афинагор находили в эпикуреизме много полезных идей, и Рихард Юнгкунц требовал, чтобы любые рассуждения о патристической антипатии к эпикуреизму были взвешенными и обоснованными». Эпикурейские принципы социальной добродетельности, прощения, взаимовыручки и неприятия мирских соблазнов очень близки христианским нормам… Де Уитт допускал, что «эпикурейцу легко стать христианином, а христианину, при известных условиях, – эпикурейцем», p. 47.
39. «Нам не следует…» Затем он добавлял: «Хотя боги мудро уничтожили их сочинения, и таких книг в основном уже не имеется» – Флориди в письме Сексту, p. 13. Помимо эпикурейцев, Юлиан хотел изгнать также и пирронистов, то есть приверженцев скептицизма.
40. … apikoros – эпикурейцами . Строго говоря, это определение не означает «атеист». Как пояснял Маймонид, apikoros – это человек, отрицающий откровение и убежденный в том, что Бог не интересуется проблемами человека.
41. Если дать волю идее Эпикура… Tertullian, Apologeticus , 45:7 (Loeb, p. 197).
42. «Эпикур губит религию». См.: Lactantius, De ira («A Treatise on the Anger of God»), in Ante-Nicene Christian Fathers , ed. Roberts and Donaldson, vol. 7, ch. 8.
43. …что в ней заключается… См.: Lactantius, Divine Institutes , 3-I.
44. Он осмотрелся и увидел… Pope Gregory I, Dialogues , 2:60.
45. Причинение боли… Бичевание широко применялось во времена античности, и не только в Риме: «И если виновный достоин будет побоев, – говорится во Второзаконии, – то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету» (25:2) Об истории бичевания см.: Nicklaus Largier, In Praise of the Whip: A Cultural History of Arousal , trans. Graham Harman (New York: Zone Books, 2007).
46. Насилие было неотъемлемой частью… Публичные наказания не прекратились с завершением эпохи язычества. Как свидетельствует Молине, жители Монса купили бандита по очень высокой цене для того, чтобы посмотреть, как его будут четвертовать, и радовались, словно перед ними не умерщвляли, а воскрешали человека, – Molinet, in Jean Delumeau, Sin and Fear: The Emergence of a Western Guilt Culture, 13 th —18 th Centuries , trans. Erick Nicholson (New York: St. Martins’ Press, 1990; orig. 1983), p. 107. Швейцарскому мемуаристу Феликсу Платтеру на всю жизнь запомнилось зрелище, увиденное им в детстве: «Казнили преступника, изнасиловавшего семидесятилетнюю женщину: с него раскаленными щипцами сдирали кожу. Я собственными глазами видел, как дымилась под щипцами горевшая плоть. Его казнил мастер Николас, палач из Берна, специально вызванный для этой процедуры. Узник был человек сильный и выносливый. На рейнском мосту ему ободрали кожу на груди и потом повели на эшафот. К этому времени он уже совершенно ослаб, и кровь стекала по его рукам. Он уже не мог больше стоять и постоянно падал. Наконец ему отрубили голову. Они воткнули в него кол и выбросили труп в канаву. Все это происходило на моих глазах, отец держал меня за руку».
47. …за небольшим исключением… Одним из этих исключений было поведение святого Антония, который, согласно его биографу, «обладал потрясающим безразличием к боли, самоконтролем и бесстрастностью»: «Для него образцом был Иисус Христос, которому были чужды проявления эмоциональной слабости и пороки» – Athanasius (приписывается), Life of Anthony , section 67. Цитируется: Averil Cameron and Peter Garnsey, eds., Cambridge Ancient History: Late Empire, A.D. 337–425 (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 13:616.
48. К 600 году… См.: Peter Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, A.D. 200–1000 (Oxford: Blackwell, 1996), p. 221; R.A. Markus, The End of Ancient Christianity (Cambridge: Cambridge University Press, 1990); and Marilyn Dunn, The Emergence of Monasticism: from the Desert Fathers to the Early Middle Ages (Oxford: Oxford University Press, 2000).
49. Обязательность добровольной готовности… В этом не было ничего нового. Сознательное причинение себе боли в подражание божеству было присуще культам поклонения Исиде, Аттису и другим идолам.
50. «Тело надо обрабатывать…» Largier, In Praise of the Whip: A Cultural History of Arousal, pp. 90, 188.
51. Со дня Пришествия… Ibid., p. 36. Из этой же книги заимствованы и другие примеры самоистязания.
Глава 5. У истоков Возрождения
1. Он родился в Террануове… Ernst Walser, Poggius Florentinus: Leben und Werke , (Hildesheim: Georg Olms, 1974).
2. Папки с документами… Iris Origo, The Merchant of Prato: Francesco di Marco Datini, 1335–1410 (Boston: David Godine, 1986, orig. 1957).
3. «Намного слаще тратить деньги…» Lauro Martines, The Social World of the Florenrine Humanists, 1390–1460 (Princeton: Princeton University Press, 1963), p. 22.
4. …потребность в рабах… «К концу XIV века практически в каждой состоятельной семье Тосканы имелся по крайней мере один раб. Рабы включались в приданое невест, ими оплачивались гонорары врачей, они даже были у священников». – Origo, The Merchant of Prato, pp. 90–91.
5. «Во имя Господа…» Ibid., p. 109.
6. …процветающей международной суконной промышленности… Тонкая шерсть покупалась на Майорке, в Каталонии, Провансе и в Котсуолдсе, где она была особенно высокого качества и особенно дорогостоящая, и провозилась через границы с алчными таможенниками. Для выделки и окраски тоже требовались импортные материалы: квасцы с побережья Черного моря – для изготовления протравки при окрашивании; чернильные орешки, из которых делались высококачественные пурпурно-черные красители; вайда из Ломбардии – для получения особенно густого синего цвета; марена из Нидерландов (для красителей ярко-красного или с добавлением вайды темно-красного и пурпурового цветов). Все это было необходимо ввозить для удовлетворения потребностей в обычных шерстяных тканях. Редкие и более дорогие цвета, в какие одевались аристократы, можно было получить с применением мурекса из Восточного Средиземноморья (густой алый цвет), кошенили (карминный цвет), кристаллического вещества, найденного на берегах Красного моря (оранжево-красный цвет), или кермеса (самый экстравагантный и особенно ценный, кардинальский пурпуровый цвет).
7. «Предназначены для каких-то иных целей…» Martin Davis, Humanism in Script and Print: The Cambridge Companion to Renaissance Humanism , ed. Jill Kraye (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 48. Петрарке опыт напоминал больше рассматривание картины, а не чтение книги.
8. …осуждалось как один из смертных грехов. Благочестивые христиане должны были подавлять любопытство и отвергать тлетворные последствия. Хотя Данте и восхищается решимостью Улисса отправиться за Геркулесовы столпы, он приговаривает своего героя к вечному заточению в восьмом рву восьмого круга ада.
9. Петрарка был правоверным христианином… См., в частности: Charles Trinkaus, In Our Image and Likeness: Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought , 2 vols. (Chicago: University of Chicago Press, 1970).
10. Созерцание золота, серебра… «Aurum, argentum, gemmae, perpurea vestis, marmorea domus, cultus ager, pietae tabulae, phaleratus sonipes, caeteraque id genus mutam habent et superficiariam voluptatem: libri medullitus delectant, colloquuntur, consultunt, et viva quaddam, nobis atque arguta familiaritate junguntur» . Цитирует Джон Аддингтон Саймондз: John Addington Symonds, The Renaissance in Italy , 7 vols. (New York: Georg Olms, 1971; orig. 1875–1886), 2:53 (translated by SG).
11. К эпохе, в которой ему пришлось жить… «Помимо других интересов, я особенно увлекался античностью, поскольку мне всегда была не по душе моя эпоха, и даже любовь близких мне людей не успокаивала меня. Я всегда хотел родиться в другое время. Дабы не замечать своего времени, я всегда пытался в мыслях вписать себя в другую эпоху». Posteriati, ed. P.G. Ricci, in Petrarch, Prose , p. 7. Цитирует Рональд Уитт: Ronald G. Witt, In the Footsteps of the Ancients: The Origins of Humanism from Lovato to Bruni (Leiden: Brill, 2000), p. 276.
12. …гораздо менее продолжительные и дорогостоящие… Для получения Doctor uriusque juris (DUJ) – звания юриста по каноническому и гражданскому праву надо было потратить десять лет.
13. «Для меня предпочтительнее…» Witt, In the Footsteps , p. 263.
14. «Древние авторы…» Rerum fam . XXII. 2 in Familiari , 4:106. Цитирует Уитт: Witt, In the Footsteps , p. 62. Письмо, возможно, относится к 1359 году.
15. «Я всегда считал…» Цитирует Мартинес: Martines, Social World , p. 25.
16. И Петрарка и Салютати были убеждены… Петрарка писал: «Какой толк оттого, что вы усвоите цицероновскую живость речи и познаете сочинения греков или римлян? Вы будете говорить красиво, приятно, сладкозвучно и безукоризненно, но ваша речь не будет основательной, рассудительной, жесткой и, самое главное, всем понятной». Rerum fam . I. 9: Witt, In the Footsteps , p. 242.
17. Салютати избрал другой путь… По натуре Салютати был, конечно, гораздо более сложным человеком, чем показано в нашем повествовании. В начале восьмидесятых годов он, уступая просьбе близкого друга, написал целый трактат в защиту монашеского образа жизни и, несмотря на чрезвычайную занятость, психологически был склонен к уединенным раздумьям.
18. …руководил всеми делами… См. письмо Салютати Гаспаре Скуаро де Броаспини в Верону от 17 ноября 1377 года: «В этом великом городе, жемчужине Тосканы, зерцале всей Италии, ведущем свое происхождение от достославного Рима, чье древнее наследие он пытается применять в борьбе за спасение Италии и всеобщей свободы, здесь во Флоренции мне выпала доля заниматься делами безмерной ответственности, но приносящими глубочайшее удовлетворение». – Eugenio Garin, La Cultura Filosofica del Renascimento Italiano: Ricerche e Documenti (Florence: Sansuni, 1979), pp. 3–27.
19. «Долго ли вы будете пребывать…» Witt, In the Footsteps , p. 308.
20. «С появлением у нас Хрисолора…» Symonds, The Renaissance in Italy , pp. 80–81.
21. …налоги во Флоренции… «Попробуйте представить себе, – писал Никколи в конце жизни фискальным чиновникам, – какие налоги я могу платить при моих долгах и самых необходимых затратах. Именно по этой причине я взываю к вашему милосердию и снисхождению и прошу отнестись ко мне таким образом, чтобы налоги не вынудили меня умереть в старости вдали от мест, где я родился и потратил все, что имел». Цитирует Мартинес: Martines, Social World , p. 116.
22. «Женитьба доставляет бездну…» Alberti, The Family in Renaissance Florence (Libri della Famiglia) , trans. Renée Neu Watkins (Columbia: University of South Carolina Press, 1969), 2:98. Иногда можно встретить утверждения, будто такое благожелательное отношение к браку привнес протестантизм, однако имеется немало свидетельств, указывающих на то, что оно появилось гораздо раньше.
23. Если он богат… Origo, Merchant of Prato , p. 179.
24. …была «домработница»… Vespasiano da Bisticci, The Vespasiano Memoirs: Lives of the Illustrious Men of the XV Century , trans. William George and Emily Waters (London: Routledge, 1926), p. 402.
25. Поджо вряд ли подавали еду… « Однажды Николао, выйдя из дома, увидел мальчишку, у которого на шее красовался халцедон с фигурой, вырезанной на камне рукой Поликлета, чудесное произведение искусства. Он спросил у мальчика имя отца и, узнав его, послал к нему узнать, не продаст ли он камень. Отец с готовностью согласился, как человек, не имевший понятия о его происхождении и реальной стоимости. Николао послал ему пять флоринов, и добряк, которому принадлежал камень, думал, что ему заплатили вдвое больше, чем надо». Ibid., p. 399. Приобретение оказалось очень выгодным. «Во Флоренции во времена папы Евгения жил некий маэстро Луиджи, патриарх, чрезвычайно интересовавшийся подобными вещами, и он послал к Николао человека узнать, нельзя ли посмотреть халцедон. Николао послал камень, и халцедон так ему понравился, что он оставил его у себя, послав Николао двести золотых дукатов. Он так его уговаривал, что Николао, человек небогатый, разрешил владеть камнем. После смерти этого патриарха халцедон перешел во владение к папе Павлу, а потом к Лоренцо де Медичи». Ibid., p. 399. О необычайных приключениях и путешествии во времени античной камеи см.: Luca Guiliani, Ein Geschenk für den Kaiser: Das Geheimnis des grossen Kameo (Munich: Beck, 2010).
26. Он завещал… В действительности желания Никколи превысили его реальные возможности. Он умер в долгах. Долги были погашены его другом Козимо де Медичи в обмен на права распоряжаться коллекцией. Половина манускриптов была передана в новую библиотеку Сан-Марко, где их поместили в великолепном строении Микелоццо. Другая половина книг послужила основой для формирования знаменитой теперь Лаврентийской библиотеки города. Хотя Никколи и причастен к ее созданию, идея организации публичных библиотек связана не только с его именем. К этому призывал и Салютати. См.: Berthold L. Ullman and Philip A. Stadter, The Public Library of Renaissance Florence: Niccolo@ Niccoli, Cosimo de’ Medici, and the Library of San Marco (Padua: Antenore, 1972), p. 6.
27. «Дабы выглядеть начитанными…» Cino Rinuccini, Invettiva contro a cierti calunniatori di Dante e di messer Francesco Petrarcha and di messer Giovanni Boccacio . Цитирует Уитт: Witt, In the Footsteps , p. 270. См.: Ronald Witt, «Cino Rinuccini’s Risponsiva alla Invetirra di Messer Antonio Lusco», Renaissance Quarterly 23 (1970), pp. 133–149.
28. «Не узнали бы выражения…» Bruni, Dialogus I, у Мартинеса: Martines, Social World , p. 235.
29 . «До тех пор, пока литературное наследие…» Ibid.
30. …«вторым я»… Martines, Social World , p. 241.
31. «Он обладал даром слова…» Vespasiano Memoirs, p. 353.
32. …«своими трудами, усердием…» Martines, Social World , p. 265.
Глава 6. Фабрика вранья
1. Он прекрасно осознавал… См. письмо Поджо Никколо Никколи от 12 февраля 1421 года: «Ибо я не из числа тех совершенных людей, способных отказаться от отца и матери, продать все и отдать бедным; на это способны лишь очень немногие, и они жили давно, в прежние времена». Gordon, Two Renaissance Book Hunters, p. 49.
2. «Я решительно настроился…» William Shepherd, Life of Poggio Bracciolini (Liverpool: Longman et al., 1837), p. 185.
3. «Я не считаю…» Gordon, Two Renaissance Book Hunters, p. 58.
4. …красноречиво выразила… Peter Partner, The Pope’s Men: The Papal Civil Service in the Renaissance (Oxford: Clarendon Press. 1990), p. 115.
5. …где «преступные деяния…» …Lapo da Castiglionchio, On the Excellence and Dignity of the Roman Court , in Chrisropher Celenza, Renaissance Humanism and the Papal Curia: Lapo da Castiglionchio the Younger’s De curiae commodis (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999), p. 111.
6. «Нет ничего более чуждого религии…» Ibid., p. 127.
7. …«личным секретарем папы…» Ibid., p. 155.
8. Глупо требовать… Ibid., p. 205.
9. …многими его соотечественниками . См. Chrisropher Celenza, Renaissance Humanism and the Papal Curia, pp. 25–26.
10. Никому не было пощады… Ibid., p. 177.
11. «Мы никого не щадили…» Poggio, The Facetiae, or Jocose Tales of Poggio , 2 vols. (Paris: Isidore Liseaux, 1879), Conclusions, p. 231. (Ссылки даются на тома парижского издания и номера новелл.) Манускрипт «Фацетий» появился лишь в 1457 году, за два года до смерти Поджо, но Поджо излагает анекдоты, которые писцы и секретари рассказывали друг другу за много лет до того, как он решил предать их гласности. См.: Lionello Sozzi, «Le «Facezie» e la loro fortuna Europea» in Poggio Bracciolini 1380–1980: Nel VI centenario della nascita@ (Florence: Sanconi, 1982), pp. 235–259.
12. «Теперь все в порядке…» Ibid., I:16.
13. «В конце дня…» Ibid., I:50.
14. Вот женщина… и другие истории. Ibid., I:5, I:45, I;123, 2:133.
15. «Per Sancta Dei Evangelia…» Ibid., 2:161.
16. …окажутся в списке произведений… Jesús Martinez de Bujanda, Index des Livres Interdits , 11 vols. (Sherbrooke, Quebec: Centre d’e2tudes de la Renaissance; Geneva: Droz; Montreal: Médiaspaul, 1984–2002), II (Rome):33.
17. …«редко ценятся талант…» Poggio, Facetiae , I:23.
18. «…некомпетентные личности…» Ibid., I:113.
19. В папском дворце, в кружке секретарей… Ibid., 2:187.
20 . «Хотя я и мог откусить пальцы…» John Monfasani, George of Trebizond: A Biography and a Study of His Rhetoric and Logic (Leiden: Brill, 1976), p. 110.
21. …они доказывали таким образом… Symonds, The Revival of Learning (New York: C.P. Putnam’s Sons, 1960), p. 176. «В XV веке ученость требовала полной самоотдачи», p. 177.
22. …демонстрирует чрезмерную непорочность в жизни… «Aspira ad virtutem recta, non hac tortuosa ac fallaci via; fac, ut mens conveniat verbis, opera sint ostentationi similia; enitere ut spiritus paupertas vestium paupertatem excedat, tunc fugies simulatoris crimen; tunc tibit et reliquis proderis vera virtute. Sed dum te quantunvis hominem humilem et abiectum videro Curiam frequentatem, non solum hypocritam, sed pessimum hypocritam iudicabo». (17: p. 97). Poggio Bracciolini, Opera omnia , 4 vols. (Turin: Erasmo, 1964–1969).
23. «…вовсе не сообщества…» Gordon, Two Renaissance Book Hunters, pp. 156, 158.
24. «Мне надо попробовать себя…» Ibid., p. 54.
25. «…уйти от этой мирской суеты…» Ibid., p. 75.
26. «Я не знаю…» Ibid., p. 66.
27. «У меня одна цель…» Ibid., p. 68.
28. …«проблески интеллекта»… Ibid., pp. 22–24.
29. «Меня до глубины души потрясла…» Ibid., p. 146.
30. «Я обнаружил книгу…» Ibid.
31. …хотел бы переплести… Ibid., p. 148.
32. «Страна еще не оправилась…» Ibid., p. 164.
33. «Посвятим же себя книгам». Ibid., p. 166.
34. «Я давно решил…» Ibid., p. 173.
35. «Ваш Поджо…» Ibid., p. 150.
36. …где-то после 1410 года… Точная дата назначения Поджо на пост апостолического секретаря при папе Иоанне XXIII неизвестна. В 1411 году он еще числился писцом папы и доверенным помощником ( familiaris ). Однако папская булла от 1 июня 1412 года подписана Поджо в роли Secretarius , секретаря, как и последующая булла, датированная временем сессий Вселенского собора в Констанце. В продолжение всего собора Поджо именовал себя Poggius Secretarius apostolicus . См.: Walser, Poggius Florentinus: Leben und Werke , p. 25, n4.
Глава 7. «Яма для ловли лис»
1. Как с двумя соперниками, претендовавшими на святой престол… Большую часть XIV столетия папы пребывали в Авиньоне. Лишь в 1377 году Григорий XI, француз по происхождению, вдохновившись, как утверждает легенда, словами святой Екатерины Сиенской, перевел папский двор в Рим. На следующий год понтифик умер, и римляне, опасаясь, что новый французский папа пожелает вернуться к цивилизованным удобствам и надежности Авиньона, потребовали от конклава кардиналов избрать на престол итальянца. Понтификом избрали неаполитанца Бартоломео Приньяно, принявшего имя Урбана VI. Спустя пять месяцев фракция французских кардиналов объявила его избрание недействительным, поскольку оно происходило под давлением толпы, и на своем конклаве проголосовала за Роберта Женевского, обосновавшегося в Авиньоне и называвшегося теперь Климентом VII. У церкви таким образом появилось двое пап-соперников.
Французский выдвиженец отличался суровым и жестким нравом. За год до избрания он, возглавляя в качестве папского легата отряд бретонских солдат, пообещал мятежным гражданам Чезены полную амнистию, если они откроют ворота города. Когда его впустили в город, он устроил массовое побоище, приказав: «Убивайте их всех подряд». Урбан VI, в свою очередь, занимался тем, что искал деньги для наемников, организовывал альянсы, предавал итальянцев, обогащался, пытал и казнил врагов, едва успевал избежать ловушек и постоянно то покидал, то возвращался в Рим. Урбан заклеймил французского соперника антипапой, Роберт объявил Урбана антихристом. Детали их противоборства нас не интересуют: к тому времени, когда в Риме появился Поджо и папа и антипапа умерли, и их место заняли другие претенденты на святой престол.
2. Между ними простирались… Свои переживания Поджо отразил в трактате De varietate fortunae («Об изменчивости судьбы»): «Взгляните… на холмы города, пустыри перемежаются лишь руинами и огородами». Цитируется Эдуардом Гиббоном: Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire , 6 vols. (New York: Knopf, 1910), 6:617.
3 и 4. «Как потускнела…», «Взгляните на Палатинский холм…» Ibid., 6:302. Гиббон использует эти цитаты для иллюстрации катастрофического характера деградации Рима.
5. «Буду папой». Eustace J. Kitts, In the Days of the Councils: A Sketch of the Life and Times of Baldassare Cossa (Afterward Pope John the Twenty Third) (London: Archibald Constable & Co., 1908), p. 152.
6. К примеру, человеку, желавшему… Ibid., pp. 163–164.
7. Житель Констанца… Ulrich Richental, Chronik des Konstanzer Konzils 1414–1418 («Richental’s Chronicle of the Council of Constance»), in the Council of Constance: the Unification of the Church , ed. John Hine Mundy and Kennerly M. Woody, trans. Louise Ropes Loomis (New York: Columbia University Press, 1961), pp. 84–199.
8. Из других источников… См., например: Remigo Sabbadini, Le Scoperte dei Codici Latini e Greci ne Secoli XIV e XV (Florence: Sansoni, 1905), 1:76–77.
9. …«обитал в конюшнях или где-либо еще…» «Richental’s Chronicle», p. 190.
10. …устраивали публичные казни. «Говорили, будто толпы людей казнили за грабежи, убийства и другие преступления, но это неправда. Я узнал от наших магистратов в Констанце, что не более двадцати двух человек были преданы смерти за такие деяния». «Richental’s Chronicle», p. 157.
11 и 12. …«каждые четырнадцать дней…», «Продавались и лягушки с улитками…» Ibid., pp. 91, 100.
13. «Если он явно прегрешает…» Цитируется Гордоном Леффом: Gordon Leff, Heresy, Philosophy and Religion in the Medieval West (Aldershot, UK: Ashgate, 2002), p. 122.
14. …странное обвинение… Kitts, In the Days of the Councils , p. 335.
15. «Когда папа давал свое благословение…» «Richental’s Chronicle», p. 114.
16. «Если Его Святейшество…» Ibid., p. 116.
17. 20 марта 1415 года… Такую дату сообщает нам Рихенталь. Другой современник, Гийом Филластр, дает несколько иную версию: «Папа, оценив ситуацию, бежал из города по реке в ночь со среды на четверг 21 марта в сопровождении эскорта, предоставленного Фридрихом, герцогом Австрийским» в the Council of Constance , p. 222.
18. «Члены курии сопровождали…» Филластр в the Council of Constance , p. 236.
19. Ему предъявили семьдесят обвинений. E.H. Gillert, The Life and Times of John Huss , 2 vols. (Boston: Gould & Lincoln, 1863), I:508.
20. Что касается Поджо… Kitts, In the Days of the Councils , pp. 199–200.
21. Изумительно было следить… Письмо Поджо об Иерониме и ответ Бруни цитируются Уильямом Шепхердом: William Shepherd, The Life of Poggio Bracciolini (Liverpool: Longman et al., 1837), pp. 78–90.
22. «Он прожил в огне дольше…» «Richental’s Chronicle», p. 135. Поджо, утверждавший, что «видел кончину и весь процесс», писал Бруни: «Ни Муций не переносил так стойко боль, когда держал свою руку в огне, как Иероним, когда горело все его тело, ни Сократ не принимал яд с такой легкостью, с какой Иероним пошел на костер» (Shepherd, p. 88). Поджо имел в виду Муция Сцеволу, легендарного римлянина, стоически сжигавшего свою руку на глазах врага Рима этрусского царя Порсены.
23. «И старые и молодые женщины…» И эта, и последующие цитаты из послания Поджо своему другу Никколи от 18 мая 1416 года: Gordon, Two Renaissance Book Hunters, pp. 26–30.
24. …древнего комментария о Вергилии. L.D. Reynolds, Texts and Transmission: A Survey of the Latin Classics (Oxford: Clarendon Press. 1983), p. 158. Автор комментария – римский грамматист IV века Донат.
25. Эти семь речей… Принадлежность перу Поджо копий речей Цицерона, хранящихся в Ватиканской библиотеке (Vatican lat. 11458 [X]), установил в 1948 году А. Кампана: Has septem M. Tulii orationes, que antea culpa temporum apud Italos deperdite erant, Poggius Florentinus, perquisitis plurimis Gallie Germanieque summo cum studio ac diligentia bibyothecis, cum latenetes comperisset in squalore et sordibus, in lucem solus extulit ac in pristinam dignitatem decoremque restituens Latinis musis dicavit (p. 91).
26. Он был печален и скорбен… Развивая образ манускрипта-узника, Поджо утверждает, что «Наставления» Квинтилина сыграли важную роль в спасении Римской республики. Квинтилиан, оказавшийся в «заточении», «испытывал унижение вследствие того, что у него, способствовавшего обеспечению безопасности всего населения своим авторитетом и красноречием, не нашлось ни одного заступника, который посочувствовал бы его бедам, позаботился бы о его благополучии и не позволил бы подвергнуть незаслуженному наказанию». – Из письма другу Никколи от 15 декабря 1425 года: Gordon, Two Renaissance Book Hunters, p. 105. В этих словах можно уловить боль, которую сам Поджо испытывал из-за осознания своей вины в осуждении и казни Иеронима Пражского. Или, вернее, спасением манускрипта он компенсировал гибель человека. Высвобождением античного текста из «застенков» монахов, Поджо компенсировал свою неспособность дать свободу обреченному Иерониму.
27. «Один-единственный труд римлянина…» Ibid., Letter IV, p. 194.
28. Если люди, нации и провинции… Ibid., Letter IV, p. 197.
Глава 8. Как все устроено
1. …применяют его идеи в жизни. Воздействие идей Лукреция на развитие современной философии и естественных наук подробно исследовано Кэтрин Уилсон: Catherine Wilson, Epicureanism at the Origins of Modernity (Oxford: Clarendon Press, 2008). См. также: W.R. Johnson, Lucretius and the Modern World (London: Duckworth, 2000); Dane R. Gordon and David B. Suits, Epicurus: His Continuing Influence and Contemporary Relevance (Rochester, NY: RIT Cary Graphic Arts Press, 2003; and Stuart Gillespie and Donald Mackenzie, «Lucretius and the Moderns», in The Cambridge Companion to Lucretius , ed. Stuart Gillespie and Philip Hardie (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), pp. 306–324.
2. …величайшим свершением человеческого разума. George Santayana, Three Philosophical Poets: Lucretius, Dante, and Goethe (Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1947), p. 23.
3. Но многократно свои положения в мире меняя… Это один из многочисленных случаев, когда при переводе теряется впечатление от изумительного искусства Лукреция пользоваться словами. Описывая здесь формирование бесчисленных комбинаций, поэт сталкивает не только атомы, но и слова: «sed quia multa modis multis mutata per omne» [58] .
4. …и положение элементарных частиц… Жилль Делёз исследует то, насколько идея недетерминированного движения атомов согласуется с современной физикой: Gilles Deleuze, The Logic of Sense , trans. Mark Lester with Charles Stivale, ed. Constantin V. Boundas (New York: Columbia University Press, 1990).
5. …если бы любое действие…
Если ж движения все непрерывную цепь образуют
И возникают одно из другого в известном порядке,
И коль не могут путем отклонения первоначала
(declinando… primordia motus)
Вызвать движений иных, разрушающих рока законы,
Чтобы причина не шла за причиною испокон века,
Как у созданий живых на земле не подвластная року,
Как и откуда, скажи, появилась свободная воля,
Что позволяет идти, куда каждого манит желанье?..
(2.251–258)
6. …способен не поддаться… Делать что-то или не делать, идти вперед или оставаться на месте – человек делает выбор, поскольку ничто не детерминировано, то есть благодаря непредсказуемому, свободному движению материи:
Но чтоб ум не по внутренней только
Необходимости все совершал и чтоб вынужден не был
Только сносить и терпеть и пред ней побежденный
склоняться,
Легкое служит к тому первичных начал отклоненье,
И не в положенный срок и на месте дотоль неизвестном.
(2.293–294)
7. Существа, способные адаптироваться… Как не существует Божьего благоволения относительно всего этого сложного процесса эволюции, так нет и совершенных и законченных форм, которые создаются в ее результате. Даже преуспевающие создания имеют недостатки, и это свидетельствует о том, что они не являются продуктом какого-то высшего интеллекта, а возникли и эволюционируют случайно. Лукреций сформулировал принцип развития, который многие современные мужчины назвали бы с горечью фатумом простаты.
8. Вот и младенец… Драйден перевел эти строки следующим образом:
Thus like a sailor by the tempest hurled
Ashore, the babe is shipwrecked on the world:
Naked he lies, and ready to expire;
Helpless of all that human wants require:
Exposed upon unhospitable earth,
From the first moment of his hapless birth.
John Dryden, Complete Poems , ed. James Kinsley, 4 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1958), I:421. Здесь и в других местах я позволил себе поправить орфографию и пунктуацию Драйдена.
9. …как бы теленок узнал…
Так у святилищ богов, разукрашенных, часто теленок
Падает пред алтарем, в дыму фимиама заколот,
Крови горячей поток испуская с последним дыханьем.
Сирая мать между тем, по зеленым долинам блуждая,
Ищет напрасно следы на земле от копыт раздвоенных,
Всю озирая кругом окрестность, в надежде увидеть
Свой потерявшийся плод; оглашает печальным
мычаньем
Рощи тенистые; вспять возвращается снова и снова
К стойлам знакомым в тоске по утраченном ею
теленке.
(2.352–360).
Этот отрывок отражает больше, чем горе коровы, лишившейся теленка; он обращает наше внимание на жестокость и губительность религии, в данном случае по отношению к животным. Культ приношения в жертву живого существа, бессмысленный, искусственный и варварский, противопоставляется естественным, природным ценностям – не только способности матери узнать свое дитя, но и любви, которая побуждает искать его. Животные – не бессловесные твари, «запрограммированные» на то, чтобы заботиться о своем потомстве. Они тоже испытывают эмоции. И каждое животное имеет свою индивидуальность.
10. …вам может прийти мысль…
Иль у кого же тогда не спирает дыхания ужас
Пред божеством, у кого не сжимаются члены в испуге,
Как содрогнется земля, опаленная страшным ударом
Молнии, а небо кругом огласят громовые раскаты?
(5:1218–1221)
11. Сладко, когда на просторах морских… На эту тему небольшую, но очень занимательную книгу написал Ханс Блюменберг: Hans Blumenberg, Shipwreck with Spectator: Paradigm of a Metaphor for Existence , trans. Steven Rendall (Cambridge, MA: MIT Press, 1997). Он делает вывод, что за минувшие столетия стороннему наблюдателю пришлось осознать: все мы находимся на этом корабле.
12. «…самым ярким изображением полового акта…» A. Norman Jeffares, W.B. Yeats: Man and Poet , 2nd edn. (London: Routledge & Kegan Paul, 1962), p. 267, цитируется Дэвидом Хопкинсом: David Hopkins, «The English Voices of Lucretius from Lucy Hutchinson to John Mason Good»: The Cambridge Companion to Lucretius , p. 266. Ниже приводится перевод данного отрывка, исполненный Драйденом:
When Love its utmost vigor does imploy,
Ev’n then, ‘tis but a restless wandring joy:
Nor knows the Lover, in that wild excess,
With hands or eyes, what first he would possess:
But strains at all; and fast’ning where he strains,
Too closely presses with his frantic pains,
With biting kisses hurts the twining fair,
Which shows his joys imperfect, unsincere.
(I.414)
Нам это слово «unsincere» может показаться странным, но это латинизм. Sincerus на латыни означает «чистый», «подлинный», «настоящий», и Лукреций просто пишет, что ярость страсти возникает из-за того, что наслаждение влюбленных неподлинное: quia non est pura voluptas (4:1081).
13. …внимание на ненасытности сексуального вожделения…
Как постоянно во сне, когда жаждущий хочет напиться
И не находит воды, чтобы унять свою жгучую жажду,
Ловит он призрак ручья, но напрасны труды
и старанья:
Даже и в волнах реки он пьет, но напиться не может, —
Так и Венера в любви только призраком дразнит
влюбленных:
Не в состояньи они, созерцая, насытиться телом,
Выжать они ничего из нежного тела не могут,
Тщетно руками скользя по нему в безнадежных
исканьях.
(4:1097–1104)
14. И, наконец, уже слившися… Ниже дается перевод этого отрывка в прозе Смита: «И наконец, влюбленные сомкнулись чреслами, пылая жаром юности; их томит сладостное предчувствие экстаза; Венерино семя уже готово оросить женское лоно; они жадно вжимаются друг в друга, дышат тяжко, сливаясь ртами и слюною и впиваясь зубами в губы. Но тщетно все, не могут они ни выжать ничего из любимого тела, не войти в него полностью, ни сплавиться с ним. Видно, что хотят они этого безумно, терзаясь страстью в оковах Венеры, пока их тела не начинают слабеть и вянуть, изнуренные бурей экстаза».
15. Рода Энеева мать… Привожу этот отрывок в прозаическом переводе Смита: «Матерь рода Энея, отрада для людей и богов, о Венера, светоч жизни, ты под скользящими звездами неба оживотворяешь и море, несущее на себе корабли, и плодоносные земли. Благодаря тебе нарождаются все живые существа и видят первый луч солнца. При твоем появлении, богиня, стихают ветры, и уходят тучи, и земля начинает покрываться благоухающими цветами, тебе радостно улыбаются морские просторы, и небо наливается лучезарным светом.
И как только весна откроет свои врата, подует живительный Фавоний, высвободившись из темницы; птицы небес, богиня, пронзенные твоей красотой, возвестят о твоем прибытии. Дикие звери и скот хлынут на обильные пастбища и поплывут по бурным рекам, влекомые твоим обаянием всюду, куда бы ты их ни позвала. Ты вселяешь любовь в сердце каждого существа, живущего в морях, горах, речных потоках, в лесах и на зеленых равнинах, пробуждая в них страстное желание к продолжению рода».
Глава 9. Возвращение Лукреция
1. «Это место расположено далеко…» Письмо адресовано Франческо Барбаро. У Гордана: Gordan, Two Renaissance Book Hunters , Appendix: Letter VIII, p. 213.
2. Когда… получил манускрипт… История текстов поэмы Лукреция волновала не одно поколение ученых и стала предметом самой знаменитой филологической реконструкции, выполненной немецким филологом Карлом Лахманном (1793–1851). Копия, сделанная писцом для Поджо, известна среди текстологов под названием Poggianus . Разобраться в текстологических проблемах мне помог Д. Дж. Баттерфилд из Кембриджского университета, и я благодарен ему за это.
3. «Обо мне забыли…» и следующая цитата. Ibid., pp. 38, 46.
4 и 5. «Я побывал во многих монастырях…», «Не ждите манускриптов…» Ibid., pp. 46, 48.
6. «За четыре года…» Ibid., p. 74.
7. «Куда и к кому мне только ни приходится обращаться…» Ibid., p. 65.
8 и 9. «Мне Лукреций нужен…», «Если ты пришлешь мне Лукреция…» Ibid., pp. 89, 92.
10. «Пришли мне и Лукреция…» и последующие цитаты. Ibid., pp. 110, 154, 160.
11. Вызволенная из плена… Никколи скопировал многие античные тексты. Они сохранились и находятся в монастыре Сан-Марко, которому гуманист завещал свою библиотеку. Среди них, помимо поэмы Лукреция, можно увидеть произведения Плавта, Цицерона, Валерия Флакка, Цельса, Авла Геллия, Тертуллиана, Плутарха и Хрисостома. Некоторые копии, включая Аскония Педиана, о котором упоминает Поджо, утеряны. См.: B.L. Ullman and Philip A. Stadter, The Public Library of Renaissance Florence. Niccolo Niccoli, Cosimo de’ Medici and the Library of San Marco (Padua: Antenore, 1972), p. 88.
12 и 13. «Я нашел…», «Когда они будут доставлены…» Gordan, Two Renaissance Book Hunters , pp. 147, 166–167.
14. …культурный капитал. Как отмечает Лауро Мартинес, в XIII веке пальма первенства во власти и богатстве перешла от старой феодальной аристократии к купеческому классу, к семьям вроде Альбицци, Медичи, Ручеллаи и Строцци. Хотя отец новобрачной и не относился к категории очень богатых людей, он все еще оставался достаточно состоятельным человеком. «В 1427 году Джино, отец Ваджи, владел большим особняком с просторным внутренним двором и лавкой, двумя загородными коттеджами, четырьмя фермами, земельными участками и живностью. У него имелись также невыплаченные займы в размере 858 флоринов и государственные облигации рыночной стоимостью 118 флоринов. Общий капитал составлял 2424 флорина. Из-за долгов поместья в размере 500 флоринов, арендных, прожиточных и других вычетов налогооблагаемый капитал не превышал 336 флоринов. Таким образом, брак с Ваджой вряд ли вызывался расчетами на породнение с денежным семейством. Однако Вадже полагалось приданое стоимостью 600 флоринов, это было стандартное вознаграждение, общепринятое среди политических семей среднего достатка и сиятельных древних родов, обедневших, но гордившихся своей аристократической генеалогией». Lauro Martines, The Social World of the Florentine Humanists, 1390–1460 , (Princeton: Princeton University Press, 1963), pp. 211–212.
15. «…покровителем людей-гениев…» William Shepherd, Life of Poggio Bracciolini (Liverpool: Longman et al., 1837), p. 394.
16. «Могу засвидетельствовать…» См.: Charles Trinkaus, In Our Image and Likeness: Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought , 2 vols. (Chicago: University of Chicago Press, 1970), I:268.
Глава 10. Муки инакомыслия
1. «Слушайте, женщины!..» Цитирует Алисон Браун: Alison Brown, The Return of Lucretius to Renaissance Florence (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), p. 49. См.: Girolamo Savonarola, Prediche sopra Amos e Zacaria, no. 3 (February 19, 1496), ed. Paolo Ghiglieri (Rome: A. Belardetti, 1971), I:79–81. См. также: Peter Godman, From Poliziano to Machiavelli: Florentine Humanism in the High Renaissance (Princeton: Princeton University Press, 1998), p. 140; Jill Kraye, «The Revival of Hellenistic Philosophies»: The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy , ed. James Hankins (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), pp. 102–106.
2. …скопировал поэму Никколо Макиавелли… О копии манускрипта, принадлежавшей Макиавелли, см.: Brown, Return of Lucretius , pp. 68–87 and Appendix, pp. 113–122.
3. …чуть более двадцати лет… О Фичино см.: James Hankins, «Ficino’s Theology and the Critique of Lucretius», the proceedings of the conference on Platonic Theology: Ancient, Medieval and Renaissance , held at the Villa I Tatti and the Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Florence, April 26–27, 2007.
4. …в еретической приверженности… О полемике: Salvatore I. Camporeale, «Poggio Bracciolini contro Lorenzo Valla. Le «Orationes in L. Vallam»«: Poggio Bracciolini, 1380–1980 (Florence: Sansoni, 1982), pp. 137–161. Вообще о проблеме ортодоксальности у Валлы (и Фочино тоже) см..: Christopher S. Celenza, The Lost Italian Renaissance: Humanists, Historians, and Latin’s Legacy (Baltimore: John Hopkins University Press, 2006), pp. 80–114.
5. Одно дело получать удовольствие от вина… «Nunc sane video, cur in quodam tuo opusculo, in quo Epicureorum causam quantam datur tutaris, vinum tantopere laudasti… Bacchum compotatoresque adeo profuse laudans, ut epicureolum quendam ebrietatis assertorem te esse profitearis… Quid contra virginitatem insurgis, quod numquam fecit Epicurus? Tu prostitutas et prostibula laudas, quod ne gentiles quidem unquam fecerunt. Non verbis oris tui sacrilegi labes, sed igne est expurganda, quem spero te non evasurum». Цитируется Доном Камероном Алленом: Don Cameron Allen, «The Rehabilitation of Epicurus and His Theory of Pleasure in the Early Renaissance», Studies in Philology 41 (1944), pp. 1–15.
6. …манускрипт Лукреция… Валла цитирует Лукреция и дает отдельные отрывки из Лактанция и других христианских авторов.
7. …представителю эпикуреизма. Этим представителем был не вымышленный персонаж, а современник Валлы – поэт Маффео Веджо. Он не считает себя эпикурейцем, но готов отстаивать принцип удовольствия в пику аргументам стоиков, утверждающим, что высшим благом является добродетель, и представляющим гораздо более серьезную угрозу христианской ортодоксии.
8. «Когда Антонио Рауденсе…» Lorenzo Valla, De vero falsoque bono/On Pleasure , trans. A. Kent Hieatt and Maristella Lorch (New York: Abaris Books, 1977), p. 319. Я пользуюсь более известным названием De voluptate («Об удовольствии»).
На самом деле Валла прибегает к нескольким тактическим уловкам, помимо диалогического дезавуирования, для того чтобы уберечься от обвинений в эпикурействе. У него имелись все основания для опровержения обвинений Поджо. Эпикурейские аргументы, занимающие всю вторую книгу диалога «Об удовольствии» и значительную часть первой книги, аккуратно сбалансированы христианскими доктринами, которые в итоге побеждают.
9. «Совершенно очевидно…» Valla, De voluptate , pp. 219–221.
10. «Поэтому как можно дольше…» Ibid., p. 221.
11. «Если бы перед вами…» Ibid., p. 295.
12. …помешать распространению… См.: Greenblatt, «Invisible Bullets: Renaissance Authority and Its Subversion»: Glyph 8 (1981), pp. 40–61.
13. Для этого необходимо иметь ясное представление… Michele Marullo, Inni Naturali (Florence: Casa Editrice le Lettere, 1995); о Бруно и эпикуреизме см. в числе других работ: Hans Blumenberg, The Legitimacy of the Modern Age (Cambridge, MA: MIT Press, 1983; orig. Die Legitimita$t der Neuzeit , 1966).
14. …«не более чем орешком…» «L’anima é sol… in un pan bianco caldo un pinocchiato» – Brown, Return of Lucretius , p. 11.
15. «Нет большего эпикурейца…» Erasmus, «The Epicurean»: The Colloquies of Erasmus , trans. Craig R. Thompson (Chicago: University of Chicago Press, 1965), pp. 538, 542. О критике Эразмом Марулло см.: P.S. Allen, Opus Epistolarum des. Erasmi Roterodami , 12 vols. (Oxford: Oxford University Press, 1906–1958), 2:187; 5:519, trans. in Collected Works of Erasmus (Toronto: University of Toronto Press, 1974), 3:225; 10:344. Contemporaries of Erasmus: A Biographical Register of the Renaissance and Reformation , ed. P.G. Bietenholz and Thomas B. Deutscher (Toronto: University of Toronto Press, 2003), 2:398–399.
16. «Поскольку их жизнь целиком посвящена удовольствиям…» Цитируется в «Утопии» Мора: More, Utopia , ed. George M. Logan and Robert M. Adams (Cambridge: Cambridge University Press, rev. edn. 2002), p. 68.
17. …отобразить идею… В «Утопии» Томас Мор показывает, как античные тексты могли сохраняться, утрачиваться или портиться, в том числе и в результате непредвиденных инцидентов: «Отправляясь в четвертый раз в плавание, – рассказывает Гитлодей, – я взял с собою на корабль вместо товаров порядочную кипу книг, потому что принял твердое решение лучше не возвращаться никогда, чем скоро. Поэтому у утопийцев имеется от меня значительное количество сочинений Платона, еще больше Аристотеля, равно как книга Теофраста о растениях, но, к сожалению, в очень многих местах неполная. Именно во время нашего плавания книга эта оставалась без достаточного надзора и попалась обезьяне, которая, резвясь и играя, вырвала здесь и там несколько страниц и растерзала» [59] . P. 181.
18. …в уже беспредельно развращенном обществе Мора. Когда я писал эти строки, в Соединенных Штатах в тюрьмах отбывал наказание один из девяти афроамериканцев в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, а разрыв в достатке между богатыми и бедными был самым большим за последние сто лет.
19. Юпитер распорядился… Ingrid D. Rowland, Giordano Bruno: Philosopher/Heretic (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2008), pp. 17–18, translating Spaccio de la Bestia Trionfante , 1, part 3, in Dialoghi Italiani , ed. Giovanni Gentile (Florence: Sansoni, 1958), pp. 633–637.
20. «Чем меньше, тем лучше». Walter L. Wakefield, «Some Unorthodox Popular Ideas of the Thirteenth Century», in Medievalia et Humanistica , p, 28.
21. «Когда мы были евреями…» John Edwards, «Religious Faith and Doubt in Late Medieval Spain: Soria circa 1450–1500», in Past and Present 120 (1988), p. 8.
22. «Мир прекрасен». Giordano Bruno, The Ash Wednesday Supper , ed. and trans. Edward A. Gosselin and Lawrence S. Lerner (Hamden, CT: Archon Books, 1977), p. 91.
23. «…душой застольной беседы…» Якопо Корбинелли, флорентийский секретарь – королеве-матери Катерине де Медичи. Цитирует Роуленд: Rowland, Giordano Bruno, p. 193.
24. …«избранный богами…» The Ash Wednesday Supper , p. 87.
25. …о существовании множества миров… De L’Infinito, Universo e Mondi, Dialogue Quinto , in Dialoghi Italiani , pp. 532–533; цитируется поэма «О природе вещей», 2:1067–1076.
26. …встречался с Томасом Хэрриотом . См.: J.W. Shirley, ed., Thomas Harriot: Renaissance Scientist (Oxford: Clarendon Press, 1974) and Shirley, Thomas Harriot: A Biography (Oxford: Clarendon Press, 1983); J. Jacquot, «Thomas Harriot’s Reputation for Impiety», Notes and Records of the Royal Society 9 (1951–1952), pp. 164–187.
27. «Силой своего разума…» The Ash Wednesday Supper , p. 90.
Глава 11. Жизнь после смерти
1. …редко интересовалась расследованиями ереси… Самое знаменитое исключение из общего правила составляют претензии инквизиции к картине Паоло Веронезе «Тайная вечеря». Инквизиторам не понравилась реалистичность изображения: оживленных лиц, аппетитных яств на столе, собаки, выпрашивающей подачку. Художника обвинили в непочтительности и чуть ли не в ереси. Ему пришлось дать другое название картине: «Пир в доме Левия».
2. …подписанная им копия поэмы… Джонсон поставил свою подпись на титульном листе и, несмотря на крошечный размер книги – одиннадцать на шесть сантиметров, сделал многочисленные пометки на полях – свидетельство внимательного, заинтересованного чтения. Похоже, его больше всего поразило то место в поэме, где Лукреций утверждает, что богам нет никакого дела до жизни и деяний смертных. В конце страницы он приписал свой перевод двух строк:
Far above grief & dangers, those blest powers,
Rich in their active goods, need none of ours.
(В высях далеких блаженствуют боги,
Не нужны им наша скорбь и тревоги.)
См.: (2:649–650):
Nam privati dolori omni, privata periclis,
Ipsa suis pollens opibus, nil indiga nostri.
Люси Хатчинсон перевела соответствующие строки следующим образом:
The devine nature doth it selfe possesse
Eternally in peaceful quiettnesse,
Nor is concerned in mortall mens affairs,
Wholly exempt from dangers, griefes, and cares,
Rich in it selfe, of us no want it hath. [60]
3. «Я не очень большой любитель…» The Complete Essays of Montaigne , trans. Donald M. Frame (Stanford: Stanford University Press, 1957), pp. 846, 240.
4. «…от приписываемого нам мнимого владычества…» Ibid., p. 318.
5. «…Почему, например, и гусенок…» Ibid., p. 397.
6. …«на содрогании от удовольствия…» Ibid., p. 310.
7. …секса и смерти . Последующие цитаты: Ibid., pp. 464, 634, 664.
8 . «Я хочу… чтобы смерть…» Ibid., p. 62.
9. «Уходите из этого мира…» Ibid., p. 65.
10. Ученые быстро установили… M.A. Screech, Montaigne’s Annotated Copy of Lucretius: A Transcription and Study of the Manuscript, Notes, and Pen-Marks (Geneva: Droz, 1998).
11. «Поскольку движения атомов…» «Ut sunt diuersi atomorum motus non incredibile est sic conuenisse olim atomos aut conuenturas ut alius nascatur montanus» . – Ibid., p. 11. Я несколько изменил перевод Скрича: «Поскольку движения атомов столь многообразны, то не исключено, что они, уже однажды соединившись, когда-нибудь в будущем могут снова сойтись, и родится другой Монтень».
12. В 1625 году испанский поэт… Trevor Dadson, «Las bibliotecas de la nobleza: Dos inventarios y un librero, año de 1625»: Aurora Egido and José Enrique Laplana, eds., Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa. Homenaje a la memoria de Domingo Ynduráin (Zaragoza: Institucio2n Fernando el Cato2lico, 2008), p. 270. Я премного благодарен профессору Дадсону за его исследования испанских библиотек, давшие мне материал для заметок об отношении к Лукрецию в Испании после Тридентского собора.
13. Ничто не возникает из атомов… Pietro Redondi, Galileo Heretic , trans. Raymond Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 1987; итальянское издание 1983 года), «Documents», p. 340 – «Exercitatio de formis substantialibus et de qualitatibus physicis, anonymous » .
14. «Вера должна стоять на первом месте…» Ibid., p. 132.
15. …осудили на пожизненное заключение… Многие историки науки не согласны с утверждением Редонди о том, что Галилея судили не столько за гелиоцентризм, сколько за атомизм. Но ведь церковь могла ставить ему в вину и то и другое.
16. …которым пользовался Монтень… «At Lucretius animorum immortalitatem oppugnat, deorum providentiam negat, religiones omneis tollit, summum bonum in voluptate ponit. Sed haec Epicuri, quem sequitur Lucretius, non Lucretii culpa est. Poema quidem ipsum propter sententias a religione nostra alienas, nihilominus poema est. tantumne? Immo vero poema venustum, poema praeclarum, poema omnibus ingenii luminibus distinctum, insignitum, atque illustratum. Hasce autem Epicuri rationes insanas, ac furiosas, ut & illas absurdas de atomorum concursione fortuita, de mundis innumerabilibus, & ceteras, neque difficile nobis est refutare, neque vero necesse est: quippe cum ab ipsa veritatis voce vel tacentibus omnibus facillime refellantur» (Paris, 1563) f. 3. Я воспользовался переводом Ады Палмер и чрезвычайно признателен ей также за неопубликованное эссе «Понимание атомизма в эпоху Ренессанса» («Reading Atomism in the Renaissance»).
17. …«если бы по случайности…» Lucy Hutchinson’s Translation of Lucretius: «De rerum natura» , ed. Hugh de Quehen (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996), p. 139.
18. …«вдохновенной музы». Тем не менее, касаясь перевода Джона Ивлина, Хатчинсон заметила, что «мужской интеллект» представил публике только одну книгу очень трудной поэмы, хотя «она могла украсить его голову лавровым венком».
19. …«…нечестивым и мерзким доктринам…»… Lucy Hutchinson’s Translation of Lucretius, pp. 24–25.
20. …из простого любопытства… Ibid., p. 23.
21. Я стала стыдиться… Ibid., p. 26.
22. …«чему-то и научилась»… Ibid.
23. «Я переводила…» Ibid., p. 24.
24. …«в природе не существует…»… Francis Bacon, Novum Organum , II. ii.
25. …и атомы сотворены Богом. Наиболее ярко эта идея выражена в трудах французского священника, астронома и математика Пьера Гассенди (1592–1655).
26. Бог в самом начале… Isaak Newton, Opticks , Query 32 (London, 1718). Цитируют Монте Джонсон и Кэтрин Уилсон: «Lucretius and the History of Science», The Cambridge Companion to Lucretius , pp. 141–142.
27. И чтобы дать отдохнуть уму… А Уильяму Шорту Джефферсон писал 31 октября 1819 года: «Я рассматриваю подлинные доктрины Эпикура (а не приписываемые ему) как содержащие все рациональное в философии нравственности, что Греция и Рим оставили нам». Цитирует Чарльз А. Миллер: Jefferson and Nature: An Interpretation (Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1988), p. 24. John Quincy Adams, «Dinner with President Jefferson»: Memoirs of John Quincy Adams, Comprising Portions of His Diary from 1795 to 1848 , ed. Charles Francis Adams (Philadelphia, 1874): November 3, 1807: «Г-н Джефферсон сказал, что эпикурейская философия подошла ближе всего к истине, по его мнению, из всех античных философских систем. Он хотел бы, чтобы перевели сочинение Гассенди на эту тему. Им дано наиболее верное изложение того, что сохранилось. Я упомянул Лукреция. Он сказал, что только частично – только естественная философия. А нравственную философию надо брать лишь у Гассенди».
28. «Я эпикуреец», – писал Джефферсон… Miller, Jefferson and Nature , p. 24.
Избранная библиография
SELECTED BIBLIOGRAPHY
Adams, H. P. Karl Marx in His Earlier Writings. London: G. Allen & Unwin, 1940.
Adams, John Quincy. “Dinner with President Jefferson”, Memoirs of John Quincy Adams, Comprising Portions of his Diary from 1795 to 1848, ed. Charles Francis Adams. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1874–77, pp. 60–61.
Alberti, Leon Battista. The Family in Renaissance Florence, trans. Renée Neu Watkins. Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1969, pp. 92–245.
Dinner Pieces, trans. David Marsh. Binghamton, NY: Medieval and Renaissance Texts and Studies in Conjunction with the Renaissance Society of America, 1987.
Intercenales, ed. Franco Bacchelli and Luca D’Ascia. Bologna: Pendragon, 2003.
Albury, W. R. “Halley’s Ode on the Principia of Newton and the Epicurean Revival in England”, Journal of the History of Ideas 39 (1978), pp. 24–43.
Allen, Don Cameron. “The Rehabilitation of Epicurus and His Theory of Pleasure in the Early Renaissance”, Studies in Philology 41 (1944), pp. 1–15.
Anon. “The Land of Cokaygne”, in Angela M. Lucas, ed., Anglo-Irish Poems of the Middle Ages: The Kildare Poems. Dublin: Columbia Press, 1995.
Aquilecchia, Giovanni. “In Facie Prudentis Relucet Sapientia: Appunti Sulla Letteratura Metoposcopica tra Cinque e Seicento”, Giovan Battista della Porta nell’Europa del Suo Tempo. Naples: Guida, 1990, pp. 199–228.
The Atomists: Leucippus and Democritus: Fragments, trans, and ed. C. C. W. Taylor. Toronto: University of Toronto Press, 1999.
Avrin, Leila. Scribes, Script and Books: The Book Arts from Antiquity to the Renaissance. Chicago and London: American Library Association and the British Library, 1991.
Bacci, P. Cenni Biografici e Religiosita di Poggi Bracciolini. Florence: Enrico Ariani e l’arte della Stampa, 1963.
Bailey, Cyril. The Greek Atomists and Epicurus: A Study. Oxford: Clarendon Press, 1928.
Baker, Eric. Atomism and the Sublime: On the Reception of Epicurus and Lucretius in the Aesthetics of Edmund Burke, Kant, and Schiller. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.
Baldini, Umberto. Primavera: The Restoration of Botticelli’s Masterpiece, trans. Mary Fitton. New York: H. N. Abrams, 1986.
Barba, Eugenic “A Chosen Diaspora in the Guts of the Monster”, Tulane Drama Review 46 (2002), pp. 147–53.
Barbour, Reid. English Epicures and Stoics: Ancient Legacies in Early Stuart Culture. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1998.
Baron, Hans. The Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic Humanism and Republican Liberty in the Age of Classicism and Tyranny. Princeton: Princeton University Press, 1955.
Bartsch, Shadi, and Thomas Bartscherer, eds. Erotikon: Essays on Eros, Ancient and Modern. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
Beddie, James Stuart. Libraries in the Twelfth Century: Their Catalogues and Contents. Cambridge, MA: Houghton Mifflin, 1929.
“The Ancient Classics in the Medieval Libraries”, Speculum 5 (1930), pp. 1–20.
Beer, Sir Gavin de. Charles Darwin: Evolution by Natural Selection. New York: Doubleday, 1964.
Benedict, St. The Rule of Benedict, trans. Monks of Glenstal Abbey. Dublin: Four Courts Press, 1994.
Bernard of Cluny. “De Notitia Signorum”, in l’abbé Marquard Herrgott, ed., Vetus Disciplina Monastica, Seu Collection Auctorum Ordinis S. Benedicti. Paris: C. Osmont, 1726, pp. 169–73.
Bernhard, Marianne. Stifts-und Klosterbibliotheken. Munich: Keyser, 1983.
Bernstein, John. Shaftesbury, Rousseau, and Kant. Rutherford, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 1980.
Berry, Jessica. “The Pyrrhonian Revival in Montaigne and Nietzsche”, Journal of the History of Ideas 65 (2005), pp. 497–514.
Bertelli, Sergio. “Noterelle Machiavelliane”, Rivista Storica Italiana 73 (1961), pp. 544–57.
Billanovich, Guido. “Veterum Vestigia Vatum: Nei Carmi dei Preumanisti Padovani”, in Giuseppe Billanovich et al., eds., Italia Medioevale e Umanis-tica. Padua: Antenore, 1958.
Biow, Douglas. Doctors, Ambassadors, Secretaries: Humanism and Professions in Renaissance Italy. Chicago: University of Chicago Press, 2002.
Bischhoff, Bernhard. Manuscripts and Libraries in the Age of Charlemagne, trans. Michael M. Gorman. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Bishop, Paul, ed. Nietzsche and Antiquity: His Reaction and Response to the Classical Tradition. Rochester, NY: Camden House, 2004.
Black, Robert. “The Renaissance and Humanism: Definitions and Origins”, in Jonathan Woolfson, ed., Palgrave Advances in Renaissance Historiography. Houndmills, Basingstoke, UK, and New York: Palgrave Macmillan, 2005, pp. 97–117.
Blades, William. The Enemies of Books. London: Elliot Stock, 1896.
Blondel, Eric. Nietzsche: The Body and Culture, trans. Sean Hand. Stanford: Stanford University Press, 1991.
Boitani, Piero, and Anna Torti, eds. Intellectuals and Writers in Fourteenth-Century Europe. The J. A. W. Benett Memorial Lectures, Perugia, 1984. Tübingen: Gunter Narr, 1986.
Bolgar, R. R., ed. Classical Influences on European Culture, A.D. 1500–1700 . Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
Bollack, Mayotte. Lejardin Romain: Epicurisme et Poésie à Rome, ed. Annick Monet. Villeneuve dAsq: Presses de l’Universite Charles-de-Gaulle-Lille 3, 2003.
Benoît de Port-Valais, Saint. Colophons de Manuscrits Occidentaux des Origines au XVIe Siécle/Benedictins du Bouveret. Fribourg: Editions Universitaires, 1965.
Boyd, Clarence Eugene. Public Libraries and Literary Culture in Ancient Rome. Chicago: University of Chicago Press, 1915.
Bracciolini, Poggio. The Facetiae, or Jocose Tales of Poggio. Paris: Isidore Liseux, 1879.
“Epistolae – Liber Primus” in Opera Omnia, ed. Thomas de Tonelli. Turin: Bottega d’Erasmo, 1964.
Two Renaissance Book Hunters: The Letters of Poggius Bracciolini to Nicolaus de Nicolis, trans. Phyllis Walter Goodhart Gordan. New York: Columbia University Press, 1974.
Lettere, ed. Helene Harth. Florence: Leo S. Olschki, 1984.
Un Vieux Doát-Il Se Marier? trans. Véronique Bruez. Paris: Les Belles Lettres, 1998.
La Vera Nobilita. Rome: Salerno Editrice, 1999.
Brady, Thomas, Heiko A. Oberman, and James D. Tracy, eds. Handbook of European History, 1400–1600: Late Middle Ages, Renaissance and Reformation. Leiden: E.J. Brill, 1995.
Brant, Frithiof. Thomas Hobbes’ Mechanical Conception of Nature, trans. Vaughan Maxwell and Anne I. Fansboll. Copenhagen: Levin & Munksgaard, 1928.
Bredekamp, Horst. Botticelli: Primavera. Florenz als Garten der Venus. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 1988.
“Gazing Hands and Blind Spots: Galileo as Draftsman”, in Jürgen Renn, ed., Galileo in Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp. 153–92.
Bredvold, Louis. “Dryden, Hobbes, and the Royal Society”, Modern Philology 25 (1928), pp. 417–38.
Brien, Kevin M. Marx, Reason, and the Art of Freedom. Philadelphia: Temple University Press, 1987.
Brody, Selma B. “Physics in Middlemarch: Gas Molecules and Ethereal Atoms”, Modern Philology 85 (1987), pp. 42–53.
Brown, Alison. “Lucretius and the Epicureans in the Social and Political Context of Renaissance Florence”, I Tatti Studies: Essays in the Renaissance 9 (2001), pp. 11–62.
The Return of Lucretius to Renaissance Florence. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.
Brown, Peter. Power and Persuasion in Late Antiquity: Towards a Christian Empire. Madison: University of Wisconsin Press, 1992.
The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, A.D. 200–1000. Oxford: Blackwell, 1996.
Bruckner, Gene A. Renaissance Florence. Berkeley: University of California Press, 1969, 1983.
Bull, Malcolm. The Mirror of the Gods. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Bullough, D. A. Carolingian Renewal: Sources and Heritage. Manchester and New York: Manchester University Press, 1991.
Burns, Tony, and Ian Fraser, eds. The Hegel-Marx Connection. Basingstoke, UK: Macmillan Press, 2000.
Calvi, Gerolamo. I Manoscritti di Leonardo da Vinci dal Punto di Vista Cronologico, Storico e Biografico. Bologna: N. Zanichelli, 1925.
Campbell, Gordon. “Zoogony and Evolution in Plato’s Timaeus, the Preso-cratics, Lucretius, and Darwin”, in M. R. Wright, ed., Reason and Necessity: Essays on Plato’s Timaeus. London: Duckworth, 2000.
Lucretius on Creation and Evolution: A Commentary on De Rerum Natura, Book Five, Lines 772–1104 . Oxford: Oxford University Press, 2003.
Campbell, Keith. “Materialism”, in Paul Edwards, ed., The Encyclopedia of Philosophy. New York: Macmillan Company and The Free Press, 1967, pp. 179–88.
Campbell, Stephen J. “Giorgione’s Tempest, Studiolo Culture, and the Renaissance Lucretius”, Renaissance Quarterly 56 (2003), pp. 299–332.
The Cabinet of Eros: Renaissance Mythological Painting and the Studiolo of Isabella d’Este. New Haven: Yale University Press, 2004.
Camporeale, Salvatore I. “Poggio Bracciolini versus Lorenzo Valla: The Orationes in Laurentium Vallam”, in Joseph Marino and Melinda W. Schlitt, eds. Perspectives on Early Modern and Modern Intellectual History: Essays in Honor of Nancy S. Struever. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2000, pp. 27–48.
Canfora, Luciano. The Vanished Library, trans. Martin Ryle. Berkeley: University of California Press, 1990.
Cariou, Marie. L’Atomisme; Trois Essais: Gassendi, Leibniz, Bergson et Lucreèce. Paris: Aubier Montaigne, 1978.
Casini, Paolo. “Newton: The Classical Scholia”, History of Science 22 (1984), pp. 1–58.
Casson, Lionel. Libraries in the Ancient World. New Haven: Yale University Press, 2002.
Castelli, Patrizia, ed. Un Toscano del’400: Poggio Bracciolini, 1380–1459. Terranu-ova Bracciolini: Amministrazione Comunale, 1980.
Castiglioni, Arturo. “Gerolamo Fracastoro e la Dottrina del Contagium Vivum”, Gesnerus 8 (1951), pp. 52–65.
Celenza, C. S. “Lorenzo Valla and the Traditions and Transmissions of Philosophy”, Journal of the History of Ideas 66 (2005), pp. 24.
Chamberlin, E. R. The World of the Italian Renaissance. London: George Allen & Unwin, 1982.
Chambers, D. S. “Spas in the Italian Renaissance”, in Mario A. Di Cesare, ed., Reconsidering the Renaissance: Papers from the Twenty-first Annual Conference. Binghamton, NY: Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1992, pp. 3–2.7-
Chang, Kenneth. “In Explaining Life’s Complexity, Darwinists and Doubters Clash”, The New York Times, August 2, 2005.
Cheney, Liana. Quattrocento Neoplatonism and Medici Humanism in Botticelli’s Mythological Paintings. Lanham, MD, and London: University Press of America, 1985.
Chiffoleau, Jacques. La Comptabilité de I’Au-Delá: Les Hommes, la Mort et la Réligion dans la Region d’Avignon á la Fin du Moyen Age (vers 1320–vers 1480). Rome: Ecole Francaise de Rome, 1980.
Christie-Murray, David. A History of Heresy. London: New English Library, 1976.
Cicero. The Speeches of Cicero, trans. Louis E. Lord. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1937.
Tusculan Disputations, trans, and ed. J. E. King. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960.
De Natura Deorum; Academica, trans, and ed. H. Rackham. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1967.
Cicero’s Letters to His Friends, trans. D. R. Shackleton Bailey. Harmondsworth, UK, and New York: Penguin Books, 1978.
Clanchy, M. T. From Memory to Written Record: England, 1066–1307. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.
Clark, A. C. “The Literary Discoveries of Poggio”, Classical Review 13 (1899), pp. 119–30.
Clark, Ronald William. The Survival of Charles Darwin: A Biography of a Man and an Idea. London: Weidenfeld & Nicolson, 1985.
Clay, Diskin. Lucretius and Epicurus. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.
Cohen, Bernard. “Quantum in se Est: Newton’s Concept of Inertia in Relation to Descartes and Lucretius”, Notes and Records of the Royal Society of London, 19 (1964), pp. 131–55.
Cohen, Elizabeth S., and Thomas V. Cohen. Daily Life in Renaissance Italy. Westport, CT: Greenwood Press, 2001.
Cohn, Samuel, Jr., and Steven A. Epstein, eds. Portraits of Medieval and Renaissance Living: Essays in Memory of David Herlihy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996.
Coleman, Francis. The Harmony of Reason: A Study in Kant’s Aesthetics. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1974.
Connell, William J. “Gasparo and the Ladies: Coming of Age in Castiglione’s Book of the Courtier”, Quaderni d’ltalianistica 23 (2002), pp. 5–23.
Ed. Society and Individual in Renaissance Florence. Berkeley and London: University of California Press, 2002.
and Andrea Zorzi, eds. Florentine Tuscany: Structures and Practices of Power. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Contreni, John J. Carolingian Learning, Masters and Manuscripts. Aldershot, UK: Variorum, 1992.
Cranz, F. Edward. “The Studia Humanitatis and Litterae in Cicero and Leonardo Bruni”, in Marino and Schlitt, eds., Perspectives on Early Modern and Modern Intellectual History: Essays in Honor of Nancy S. Struever. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2001, pp. 3–26.
Crick, Julia, and Alexandra Walsham, eds. The Uses of Script and Print, 1300– 1700. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Cropper, Elizabeth. “Ancients and Moderns: Alessandro Tassoni, Francesco Scannelli, and the Experience of Modern Art”, in Marino and Schlitt, eds., Perspectives on Early Modern and Modern Intellectual History: Essays in Honor of Nancy S. Struever, pp. 303–24.
Dampier, Sir William. A History of Science and Its Relations with Philosophy and Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 1932.
Darwin, Erasmus. The Letters of Erasmus Darwin, ed. Desmond King-Hele. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Daston, Lorraine, and Fernando Vidal, eds. The Moral Authority of Nature. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
De Lacy, Phillip. “Distant Views: The Imagery of Lucretius”, The Classical Journal 60 (1964), pp. 49–55.
De Quehen, H. “Lucretius and Swift’s Tale of a Tub”, University of Toronto Quarterly 63 (1993), pp. 287–307.
Dean, Cornelia. “Science of the Soul? ‘I Think, Therefore I Am’ Is Losing Force”, The New York Times, June 26, 2007, p. D8.
Deimling, Barbara. “The High Ideal of Love”, Sandro Botticelli: 1444/45–1510. Cologne: B. Taschen, 1993, pp. 38–55.
Deleuze, Gilles. Logic du Sens. Paris: Minuit, 1969.
The Logic of Sense, trans. Mark Lester with Charles Stivale. New York: Columbia University Press, 1990.
Delumeau, Jean. Sin and Fear: The Emergence of a Western Guilt Culture, 13th–18th Centuries, trans. Eric Nicholson. New York: St. Martin’s Press, 1990.
Dempsey, Charles. “Mercurius Ver: The Sources of Botticelli’s Primavera”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 31 (1968), pp. 251–73.
“Botticelli’s Three Graces”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 34 (1971), pp. 326–30.
The Portrayal of Love: Botticelli’s Primavera and Humanist Culture at the Time of Lorenzo the Magnificent. Princeton: Princeton University Press, 1992.
Depreux, Philippe. “Büchersuche und Büchertausch im Zeitalter der Karolingischen Renaissance am Beispiel des Breifwechsels des Lupus von Ferrières”, Archiv für Kulturgeschichte 76 (1994).
Diano, Carlo. Forma ed Evento: Principi per una Interpretazione del Mondo Greco. Venice: Saggi Marsilio, 1993.
Didi-Huberman, Georges. “The Matter-Image: Dust, Garbage, Dirt, and Sculpture in the Sixteenth Century”, Common Knowledge 6 (1997), pp. 79–96.
Diogenes. The Epicurean Inscription [of Diogenes of Oinoanda], ed. and trans. Martin Ferguson Smith. Naples: Bibliopolis, 1992.
Dionigi, Ivano. “Lucrezio”, Orazio: Enciclopedia Oraziana. Rome: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996–98, pp. 15–22.
Lucrezio: Le parole e le Cose. Bologna: Patron Editore, 1988.
Diringer, David. The Book Before Printing: Ancient, Medieval and Oriental. New York: Dover Books, 1982.
Dottori, Riccardo, ed. “The Dialogue: Yearbook of Philosophical Hermeneutics”, The Legitimacy of Truth: Proceedings of the III Meeting. Rome: Lit Verlag, 2001.
Downing, Eric. “Lucretius at the Camera: Ancient Atomism and Early Photographic Theory in Walter Benjamin’s Berliner Chronik”, The Germanic Review 81 (2006), pp. 21–36.
Draper, Hal. The Marx-Engels Glossary. New York: Schocken Books, 1986.
Drogin, Marc. Biblioclasm: The Mythical Origins, Magic Powers, and Perishability of the Written Word. Savage, MD: Rowman & Littlefield, 1989.
Dryden, John. Sylvae: or, the Second Part of Poetical Miscellanies. London: Jacob Tonson, 1685.
Dunant, Sarah. Birth of Venus. New York: Random House, 2003.
Duncan, Stewart. “Hobbes’s Materialism in the Early 1640s”, Britishjournalfor the History of Philosophy 13 (2005), pp. 437–48.
Dupont, Florence. Daily Life in Ancient Rome, trans. Christopher Woodall. Oxford and Cambridge, MA: Blackwell, 1993.
Dyson, Julia T. “Dido the Epicurean”, Classical Antiquity 15 (1996), pp. 203–21.
Dzielska, Maria. Hypatia of Alexandria, trans. F. Lyra. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.
Early Responses to Hobbes, ed. Gaj Rogers. London: Routledge, 1996.
Edwards, John. “Religious Faith and Doubt in Late Medieval Spain: Soria circa 1450–1500”, Past and Present 120 (1988), pp. 3–25.
Englert, Walter G. Epicurus on the Swerve and Voluntary Action. Atlanta, GA: Scholars Press, 1987.
Epicurus. The Epicurus Reader, trans, and ed. Brad Inwood and L. P. Gerson. Indianapolis: Hackett, 1994.
Erwin, Douglas H. “Darwin Still Rules, But Some Biologists Dream of a Paradigm Shift”, The New York Times, June 26, 2007, p. D2.
Faggen, Robert. Robert Frost and the Challenge of Darwin. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997.
Fara, Patricia. Newton: The Making of a Genius. New York: Columbia University Press, 2002.
and David Money. “Isaac Newton and Augustan Anglo-Latin Poetry”, Studies in History and Philosophy of Science 35 (2004), pp. 549–71.
Fenves, Peter. A Peculiar Fate: Metaphysics and World-History in Kant. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991.
Late Kant: Towards Another Law of the Earth. New York: Routledge, 2003.
Ferrari, Mirella. “In Papia Conveniant ad Dungalum”, Italia Medioevale e Umanistica 15 (1972).
Ferruolo, Arnolfo B. “Botticelli’s Mythologies, Ficino’s De Amore, Poliziano’s Stanze per la Giostra: Their Circle of Love”, The Art Bulletin [College Art Association of America] 37 (1955), pp. 17–25.
Ficino, Marsilio. Platonic Theology, ed. James Hankins with William Bowen; trans. Michael J. B. Allen and John Warden. Cambridge, MA, and London: Harvard University Press, 2004.
Finch, Chauncey E. “Machiavelli’s Copy of Lucretius”, The Classical Journal 56 (1960), pp. 29–32.
Findlen, Paula. “Possessing the Past: The Material World of the Italian Renaissance”, American Historical Review 103 (1998), pp. 83–114.
Fleischmann, Wolfgang Bernard. “The Debt of the Enlightenment to Lucretius”, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 29 (1963), pp. 631–43.
Lucretius and English Literature, 1680–1740. Paris: A. G. Nizet, 1964.
Flores, Enrico. Le Scoperte di Poggio e il Testo di Lucrezio. Naples: Liguori, 1980.
Floridi, Luciano. Sextus Empiricus: The Transmission and Recovery ofPhyrrhonism. New York: Oxford University Press, 2002.
Foster, John Bellamy. Marx’s Ecology: Materialism and Nature. New York: Monthly Review Press, 2000.
Fraisse, Simone. L’Influence de Lucrèce en France au Seizieme Siecle. Paris: Librarie A. G. Nizet, 1962.
Frede, Michael, and Gisela Striker, eds. Rationality in Greek Thought. Oxford: Clarendon Press, 1996.
Fubini, Riccardo. “Varieta: Un’Orazione di Poggio Bracciolini sui Vizi del Clero Scritta al Tempo del Concilio di Costanza”, Giornale Storico della Letteratura Italiana 142 (1965), pp. 24–33.
L’Umanesimo Italiano e I Suoi Storici. Milan: Franco Angeli Storia, 2001.
Humanism and Secularization: From Petrarch to Valla, trans. Martha King. Durham, NC, and London: Duke University Press, 2003.
Fusil, C. A. “Lucrèce et les Philosophes du XVIIIe Siecle”, Revue d’Histoire Littéraire de la France 35 (1928).
“Lucrèce et les Littérateurs, Poètes et Artistes du XVIIIe Siècle”, Revue d’Histoire Littéraire de la France 37 (1930).
Gabotto, Ferdinando. “LEpicureismo di Marsilio Ficino”, Rivista di Filosofia Scientifica 10 (1891), pp. 428–42.
Gallagher, Mary. “Dryden’s Translation of Lucretius”, Huntington Library Quarterly 7 (1968), pp. 19–29.
Gallo, Italo. Studi di Papirologia Ercolanese. Naples: M. DAuria, 2002.
Garaudy, Roger. Marxism in the Twentieth Century. New York: Charles Scribner’s Sons, 1970.
Garin, Eugenio. Ritratti di Unamisti. Florence: Sansoni, 1967.
La Cultura Filosofica del Rinascimento Italiano. Florence: Sansoni, 1979.
Garrard, Mary D. “Leonardo da Vinci: Female Portraits, Female Nature”, in Norma Broude and Mary Garrard, eds., The Expanding Discourse: Feminism and Art History. New York: HarperCollins, 1992, pp. 59–85.
Garzelli, Annarosa. Miniatura Fiorentina del Rinascimento, 1440–1525. Florence: Giunta Regionale Toscana: La Nuova Italia, 1985.
Ghiselin, Michael T “Two Darwins: History versus Criticism”, Journal of the History of Biology 9 (1976), pp. 121–32.
Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 6 vols. New York: Knopf, 1910.
Gigante, Marcello. “Ambrogio Traversari Interprete di Diogene Laerzio”, in Gian Carlo Garfagnini, ed., Ambrogio Traversari nel VI Centenario della Nascita. Florence: Leo S. Olschki, 1988, pp. 367–459.
Philodemus in Italy: The Books from Herculaneum, trans. Dick Obbink. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.
Gildenhard, Ingo. “Confronting the Beast – From Virgil’s Cacus to the Dragons of Cornelis van Haarlem”, Proceedings of the Virgil Society 25 (2004), pp. 27–48.
Gillett, E. H. The Life and Times of John Huss. Boston: Gould & Lincoln, 1863.
Gleason, Maud. Making Men: Sophists and Self-Presentation in Ancient Rome. Princeton: Princeton University Press, 1995.
Goetschel, Willi. Constituting Critique: Kant’s Writing as Critical Praxis, trans. Eric Schwab. Durham, NC: Duke University Press, 1994.
Goldberg, Jonathan. The Seeds of Things: Theorizing Sexuality and Materiality in Renaissance Representations. New York: Fordham University Press, 2009.
Goldsmith, M. M. Hobbes’ Science of Politics. New York: Columbia University Press, 1966.
Golner, Johannes. Bayerische Kloster Bibliotheken. Freilassing: Pannonia-Verlag, 1983.
Gombrich, Ernst H. “Botticelli’s Mythologies: A Study in the Neoplatonic Symbolism of His Circle”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 8 (1945), PP. 7–60.
Gordon, Dane R., and David B. Suits, eds. Epicurus: His Continuing Influence and Contemporary Relevance. Rochester, NY: RIT Cary Graphic Arts Press, 2003.
Gordon, Pamela. “Phaeacian Dido: Lost Pleasures of an Epicurean Intertext”, Classical Antiquity 17 (1998), pp. 188–211.
Grafton, Anthony. Forgers and Critics: Creativity and Duplicity in Western Scholarship. Princeton: Princeton University Press, 1990.
Commerce with the Classics: Ancient Books and Renaissance Readers. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997.
and Ann Blair, eds., The Transmission of Culture in Early Modern Europe. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990.
and Lisa Jardine, From Humanism to the Humanities: Education and the Liberal Arts in Fifteenth-and Sixteenth-Century Europe. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
Grant, Edward. “Bernhard Pabst: Atomtheorien des Lateinischen Mittelalters”, Isis 87 (1996), pp. 345–46.
Greenblatt, Stephen. Learning to Curse: Essays in Early Modern Culture. New York and London: Routledge Classics, 2007.
Greenburg, Sidney Thomas. The Infinite in Giordano Bruno. New York: Octagon Books, 1978.
Greene, Thomas M. “Ceremonial Closure in Shakespeare’s Plays”, in Marino and Schlitt, eds., Perspectives on Early Modern and Modern Intellectual History: Essays in Honor of Nancy S. Struever. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2000, pp. 208–19.
Greetham, David C. Textual Scholarship: An Introduction. New York: Garland, 1994.
Textual Transgressions: Essays Toward the Construction of a Bibliography. New York and London: Garland, 1998.
Gregory, Joshua. A Short History of Atomism: From Democritus to Bohr. London: A. C. Black, 1931.
Gregory I, Pope. Dialogues. Washington, DC: Catholic University of America Press, 1959.
The Letters of Gregory the Great, trans. John R. C. Martin. Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 2004.
Grieco, Allen J. Michael Rocke, and Fiorella Gioffredi Superbi, eds. The Italian Renaissance in the Twentieth Century. Florence: Leo S. Olschki, 1999.
Gruber, Howard E. Darwin on Man: A Psychological Study of Scientific Creativity. Chicago: University of Chicago Press, 1981, pp. 46–73.
Gruen, Erich S. The Hellenistic World and the Coming of Rome. Berkeley: University of California Press, 1984.
Guehenno, Jean. Jean Jacques Rousseau, trans. John Weightman and Doreen Weightman. London: Routledge & Kegan Paul, 1966.
Haas, Christopher. Alexandria in Late Antiquity: Topography and Social Conflict. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.
Hadot, Pierre. What Is Ancient Philosophy? trans. Michael Chase. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.
Hadzsits, George D. Lucretius and His Influence. New York: Longmans, Green & Co., 1935.
Haines-Eitzen, Kim. Guardians of Letters: Literacy, Power, and the Transmitters of Early Christian Literature. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Hale, John R., ed. A Concise Encyclopaedia of the Italian Renaissance. London: Thames & Hudson, 1981.
The Civilization of Europe in the Renaissance. London: HarperCollins, 1993.
Hall, Rupert. Isaac Newton, Adventurer in Thought. Oxford: Blackwell, 1992.
Hamman, G. L’Epopée du Livre: La Transmission des Textes Anciens, du Scribe a l’Emprimérie. Paris: Libr. Academique Perrin, 1985.
Hankins, James. Plato in the Italian Renaissance. Leiden: E. J. Brill, 1990.
“Renaissance Philosophy Between God and the Devil”, in Grieco et al., eds., Italian Renaissance in the Twentieth Century, pp. 269–93.
“Renaissance Humanism and Historiography Today”, in Jonathan Woolfson, ed., Palgrave Advances in Renaissance Historiography. New York: Palgrave Macmillan, 2005, pp. 73–96.
“Religion and the Modernity of Renaissance Humanism”, in Angelo Mazzocco, ed., Interpretations of Renaissance Humanism. Lei-den: E. J. Brill, 2006, pp. 137–54.
and Ada Palmer. The Recovery of Ancient Philosophy in the Renaissance: A Brief Guide. Florence: Leo S. Olschki, 2008.
Hardie, Philip R. “Lucretius and the Aeneid”, Virgil’s Aeneid: Cosmos and Imperium. New York: Oxford University Press, 1986, pp. 157–240.
Ovid’s Poetics of Illusion. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Harris, Jonathan Gil. “Atomic Shakespeare”, Shakespeare Studies 30 (2002), pp. 47–51.
Harris, William V. Restraining Rage: The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.
Harrison, Charles T. Bacon, Hobbes, Boyle, and the Ancient Atomists. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1933.
“The Ancient Atomists and English Literature of the Seven-teenth Century”, Harvard Studies in Classical Philology 45 (1934), PP-1–79.
Harrison, Edward. “Newton and the Infinite Universe”, Physics Today 39 (1986), pp. 24–32.
Hay, Denys. The Italian Renaissance in Its Historical Background. Cambridge: Cambridge University Press.
Heller, Agnes. Renaissance Man, trans. Richard E. Allen. London: Routledge & Kegan Paul, 1978 (orig. Hungarian 1967).
Herbert, Gary B. The Unity of Scientific and Moral Wisdom. Vancouver: University of British Columbia Press, 1989.
Himmelfarb, Gertrude. Darwin and the Darwinian Revolution. New York: W. W. Norton & Company, 1968.
Hine, William. “Inertia and Scientific Law in Sixteenth-Century Commentaries on Lucretius”, Renaissance Quarterly 48 (1995), pp. 728–41.
Hinnant, Charles. Thomas Hobbes. Boston: Twayne Publishers, 1977.
Hirsch, David A. Hedrich. “Donne’s Atomies and Anatomies: Deconstructed Bodies and the Resurrection of Atomic Theory”, Studies in English Literature, yoo-1900 31 (1991), pp. 69–94.
Hobbes, Thomas. Leviathan. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
The Elements of Law Natural and Politic: Human Nature, De Corpore Politico, Three Lives. Oxford: Oxford University Press, 1994.
Hoffman, Banesh. Albert Einstein, Creator and Rebel. New York: Viking Press, 1972.
Holzherr, George. The Rule of Benedict: A Guide to Christian Living, with Commentary by George Holzherr, Abbot of Einsiedeln. Dublin: Four Courts Press, 1994.
Home, Herbert. Alessandro Filipepi, Commonly Called Sandro Botticelli, Painter of Florence. Princeton: Princeton University Press, 1980.
Hubbard, Elbert. Journeys to Homes of Eminent Artists. East Aurora, NY: Roy-crafters, 1901.
Humanism and Liberty: Writings on Freedom from Fifteenth-Century Florence, trans, and ed. Renee Neu Watkins. Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1978.
Hutcheon, Pat Duffy. The Road to Reason: Landmarks in the Evolution of Humanist Thought. Ottawa: Canadian Humanist Publications, 2001.
Hutchinson, Lucy. Lucy Hutchinson’s Translation of Lucretius: De rerum natura, ed. Hugh de Quehen. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996.
Hyde, William de Witt. From Epicurus to Christ: A Study in the Principles of Personality. New York: Macmillan, 1908.
Impey, Chris. “Reacting to the Size and the Shape of the Universe”, Mercury 30 (2001).
Isidore of Seville. The Etymologies of Isidore of Seville, ed. Stephen A. Barney et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Jacquot, J. “Thomas Harriot’s Reputation for Impiety”, Notes and Records of the Royal Society 9 (1951–52), pp. 164–87.
Jayne, Sears. John Colet and Marsilio Ficino. Oxford: Oxford University Press, 1963.
Jefferson, Thomas. Papers. Princeton: Princeton University Press, 1950.
Writings. New York: Viking Press, 1984.
Jerome, St. Select Letters of St. Jerome, trans. F. A. Wright. London: William Heinemann, 1933.
The Letters of St. Jerome, trans. Charles Christopher Mierolo. Westminster, MD: Newman Press, 1963.
John, Bishop of Nikiu. The Chronicle, trans. R. H. Charles. London: Williams & Norgate, 1916.
John of Salisbury. Entheticus, Maiorand Minor, ed. Jan van Laarhoven. Leiden: E.J. Brill, 1987.
Johnson, Elmer D. History of Libraries in the Western World. Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1970.Johnson, W R. Lucretius and the Modern World. London: Duckworth, 2000.
Jones, Howard. The Epicurean Tradition. London: Routledge, 1989.
Jordan, Constance. Pulci’s Morgante: Poetry and History in Fifteenth-Century Florence. Washington, DC: Folger Shakespeare Library, 1986.
Joy, Lynn S. “Epicureanism in Renaissance Moral and Natural Philosophy”, Journal of the History of Ideas 53 (1992), pp. 573–83.
Judd, John. The Coming of Evolution: The Story of a Great Revolution in Science. Cambridge: Cambridge University Press, 1910.
Kaczynski, Bernice M. Greek in the Carolingian Age: The St. Gall Manuscripts. Cambridge, MA: Medieval Academy of America, 1988.
Kain, Philip J. Marx’ Method, Epistemology and Humanism. Dordrecht: D. Reidel, 1986.
Kamenka, Eugene. The Ethical Foundations of Marxism. London: Routledge & Kegan Paul, 1972.
Kantorowicz, Ernst H. “The Sovereignty of the Artist: A Note on Legal Maxims and Renaissance Theories of Art”, in Millard Meiss, ed., Essays in Honor ofErwin Panofsky. New York: New York University Press, 1961, pp. 267–79.
Kargon, Robert Hugh. Atomism in England from Hariot to Newton. Oxford: Clarendon Press, 1966.
Kaster, Robert A. Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity. Berkeley: University of California Press, 1988.
Kemp, Martin. Leonardo da Vinci, the Marvelous Works of Nature and Man. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981.
Leonardo. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Kemple, Thomas. Reading Marx Writing: Melodrama, the Market, and the “Grun-drisse.” Stanford: Stanford University Press, 1995.
Kenney, E. J. Lucretius. Oxford: Clarendon Press, 1977.
Kidwell, Carol. Marullus: Soldier Poet of the Renaissance. London: Duckworth, 1989.
Kitts, Eustace J. In the Days of the Councils: A Sketch of the Life and Times ofBal-dassare Cossa (Afterward Pope John the Twenty-Third). London: Archibald Constable & Co., 1908.
Pope John the Twenty-Third and Master John Hus of Bohemia. London: Constable & Co., 1910.
Kivisto, Sari. Creating Anti-Eloquence: Epistolae Obscurorum Virorum and the Humanist Polemics on Style. Helsinki: Finnish Society of Sciences and Letters, 2002.
Kohl, Benjamin G. Renaissance Humanism, 1300–1550: A Bibliography of Materials in English. New York and London: Garland, 1985.
Kors, Alan Charles. “Theology and Atheism in Early Modern France”, in Grafton and Blair, eds., Transmission of Culture in Early Modern Europe, pp. 238–75.
Korsch, Karl. Karl Marx. New York: John Wiley & Sons, 1938.
Koyre, Alexandre. From the Closed World to the Infinite Universe. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1957.
Krause, Ernst. Erasmus Darwin, trans. W. S. Dallas. London: John Murray, 1879.
Krautheimer, Richard. Rome: Profile of a City, 312–1308. Princeton: Princeton University Press, 1980.
Kristeller, Paul Oskar. Renaissance Thought: The Classic, Scholastic, and Humanist Strains. New York: Harper, 1961.
Renaissance Concepts of Man and Other Essays. New York: Harper, 1972.
Renaissance Thought and the Arts: Collected Essays. Princeton: Princeton University Press, 1965, 1980.
and Philip P. Wiener, eds. Renaissance Essays. New York: Harper, 1968.
Kuehn, Manfred. Kant: A Biography. New York: Cambridge University Press, 2001.
Lachs, John. “The Difference God Makes”, Midwest Studies in Philosophy 28 (2004), pp. 183–94.
Lactantius. “A Treatise on the Anger of God, Addressed to Donatus”, in Rev. Alexander Roberts and James Donaldson, eds.; William Fletcher, trans., The Works of Lactantius. Vol. II. Edinburgh: T. & T Clark, 1871, pp. 1–48.
Lange, Frederick Albert. The History of Materialism: and Criticism of Its Present Importance, trans. Ernest Chester Thomas, intro. Bertrand Russell. London: K. Paul, Trench, Trubner; New York: Harcourt, Brace, 1925.
Leff, Gordon. Heresy, Philosophy and Religion in the Medieval West. Aldershot, UK, and Burlington, VT: Ashgate, 2002.
Le Goff Jacques. The Medieval Imagination, trans. Arthur Goldhammer. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
Leonardo da Vinci. The Notebooks. New York: New American Library, i960.
Leonardo da Vinci. The Literary Works of Leonardo, ed. Jean Paul Richter. Berkeley: University of California Press, 1977.
Leto, Pomponio. Lucrezio, ed. Giuseppe Solaro. Palermo: Sellerio, 1993.
Levine, Norman. The Tragic Deception: Marx Contra Engels. Oxford: Clio Books, 1975.
Lezra, Jacques. Unspeakable Subjects: The Genealogy of the Event in Early Modern Europe. Stanford: Stanford University Press, 1997.
Lightbrown, R. W. Botticelli: Life and Work. New York: Abbeville Press, 1989.
Löffler, Dr. Klemens. Deutsche Klosterbibliotheken. Cologne: J. P. Bachman, 1918.
Long, A. A. Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics, 2nd edn. Berkeley: University of California Press, 1987.
and D. N. Sedley, The Hellenistic Philosophers, 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
Longo, Susanna Gambino. Lucrèce et Epicure á la Renaissance Italienne. Paris: Honoré Champion, 2004.
Lucretius. On the Nature of Things, trans. W. H. D. Rouse, rev. Martin F. Smith. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1924, rev. 1975.
De Rerum Natura Libri Sex, ed. Cyril Bailey. Oxford: Clarendon Press, 1947.
De Rerum Natura, ed. Cyril Bailey. London: Oxford University Press, 1963.
The Nature of Things, trans. Frank O Copley. New York: W. W. Norton & Company, 1977.
On the Nature of Things, trans. Anthony M. Esolen. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995.
On the Nature of the Universe, trans. Ronald Melville. Oxford: Oxford University Press, 1997.
On the Nature of Things, trans. Martin Ferguson Smith. London: Sphere Books, 1969; rev. trans. Indianapolis: Hackett, 2001.
The Nature of Things, trans. A. E. Stallings. London: Penguin, 2007.
DeRerum Natura, trans. David R. Slavitt. Berkeley: University of California Press, 2008.
Lund, Vonne, Raymond Anthony, and Helena Rocklinsberg. “The Ethical Contract as a Tool in Organic Animal Husbandry”, Journal of Agricultural and Environmental Ethics 17 (2004), pp. 23–49.
Luper-Foy, Steven. “Annihilation”, Philosophical Quarterly 37 (1987), pp. 233–52.
Macleod, Roy, ed. The Library of Alexandria: Centre of Learning in the Ancient World. London: I. B. Tauris, 2004.
MacPhail, Eric. “Montaigne’s New Epicureanism”, Montaigne Studies 12 (2000), pp. 91–103.
Madigan, Arthur. “Commentary on Politis”, Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy 18 (2002).
Maglo, Koffi. “Newton’s Gravitational Theory by Huygens, Varignon, and Maupertuis: How Normal Science May Be Revolutionary”, Perspectives on Science, 11 (2003), pp. 135–69.
Mah, Harold. The End of Philosophy, the Origin of “Ideology”. Berkeley: University of California Press, 1987.
Maiorino, Giancarlo. Leonardo da Vinci: The Daedalian Mythmaker. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1992.
Malcolm, Noel. Aspects ofHobbes. New York: Oxford University Press, 2002.
Marino, Joseph, and Melinda W. Schlitt, eds. Perspectives on Early Modern and Modern Intellectual History: Essays in Honor of Nancy S. Struever. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2000.
Markus, R. A. The End of Ancient Christianity. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1990.
Marlowe, Christopher. Christopher Marlowe: The Complete Poems and Translations, ed. Stephen Orgel. Harmondsworth, UK, and Baltimore: Penguin Books, 1971.
Marsh, David. The Quattrocento Dialogue. Cambridge, MA, and London: Harvard University Press, 1980.
Martin, Alain, and Oliver Primavesi. L’Empédocle de Strasbourg. Berlin and New York: Walter de Gruyter; Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, 1999.
Martin, John Jeffries. Myths of Renaissance Individualism. Houndmills, Basingstoke, UK: Palgrave, 2004.
Martindale, Charles. Latin Poetry and the Judgement of Taste. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Martines, Lauro. The Social World of the Florentine Humanists, 1390–1460. Princeton: Princeton University Press, 1963.
Scourge and Fire: Savonarola and Renaissance Florence. London: Jonathan Cape, 2006.
Marullo, Michele. Inni Naturali, trans. Doratella Coppini. Florence: Casa Editrice le Lettere, 1995.
Marx, Karl, and Frederick Engels. Collected Works, trans. Richard Dixon. New York: International Publishers, 1975.
On Literature and Art. Moscow: Progress Publishers, 1976.
Masters, Roger. The Political Philosophy of Rousseau. Princeton: Princeton University Press, 1968.
“Gradualism and Discontinuous Change”, in Albert Somit and Steven Peterson, eds., The Dynamics of Evolution. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992.
Mayo, Thomas Franklin. Epicurus in England (1650–1725). Dallas: Southwest Press, 1934.
McCarthy, George. Marx and the Ancients: Classical Ethics, Social Justice, and Nineteenth-Century Political Economy. Savage, MD: Rowman & Littlefield, 1990.
McDowell, Gary, and Sharon Noble, eds. Reason and Republicanism: Thomas Jefferson’s Legacy of Liberty. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1997.
McGuire, J. E., and P. M. Rattansi. “Newton and the Pipes of Pan”, Notes and Records of the Royal Society of London 21 (1966), pp. 108–43.
McKitterick, Rosamond. “Manuscripts and Scriptoria in the Reign of Charles the Bald, 840–877”, Giovanni Scoto nel Suo Tempo. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1989, pp. 201–37.
“Le Role Culturel des Monasteres dans les Royaumes Carolingiens du VHIe au Xe Siecle”, Revue Benedictine 103 (1993), pp. 117–30.
Books, Scribes and Learning in the Frankish Kingdoms, 6th-gth Centuries. Aldershot, UK: Variorum, 1994.
Еd. Carolingian Culture: Emulation and Innovation. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
McKnight, Stephen A. The Modern Age and the Recovery of Ancient Wisdom: A Reconsideration of Historical Consciousness, 1450–1650. Columbia, MO: University of Missouri Press, 1991.
McLellan, David. The Thought of Karl Marx. New York: Harper & Row, 1971.
McNeil, Maureen. Under the Banner of Science: Erasmus Darwin and His Age. Manchester: Manchester University Press, 1987.
Meikle, Scott. Essentialism in the Thought of Karl Marx. London: Duckworth, 1985.
Melzer, Arthur M. The Natural Goodness of Man: On the System of Rousseau’s Thought. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
Merry weather, F. Somner. Bibliomania in the Middle Ages. London: Woodstock Press, 1933.
Michel, Paul Henry. The Cosmology of Giordano Bruno, trans. R. E. W. Maddison. Paris: Hermann; Ithaca, NY: Cornell University Press, 1973.
Miller, Charles A. Jefferson and Nature: An Interpretation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988.
Moffitt, John F. “The Evidentia of Curling Waters and Whirling Winds: Leonardo’s Ekphraseis of the Latin Weathermen”, Leonardo Studies 4 (1991). pp. 11–33.
Molho, Anthony et al. “Genealogy and Marriage Alliance: Memories of Power in Late Medieval Florence”, in Cohn and Epstein, eds., Portraits of Medieval and Renaissance Living, pp. 39–70.
Morel, Jean. “Recherches sur les Sources du Discours sur l’Inégalité”, Annales 5 (1909), pp. 163–64.
Mortara, Elena. “The Light of Common Day: Romantic Poetry and the Every-dayness of Human Existence”, in Riccardo Dottori, ed., The Legitimacy of Truth. Rome: Lit Verlag, 2001.
Muller, Conradus. “De Codicum Lucretii Italicorum Origine”, Muséum Hel-veticum: Revue Suisse pour I’Etude de l’Antiquite 2 Classique 30 (1973). pp. 166–78.
Mundy, John Hine, and Kennedy M. Woody, eds.; Louise Ropes Loomis, trans. The Council of Constance: The Unification of the Church. New York and London: Columbia University Press, 1961.
Murphy, Caroline P. The Pope’s Daughter. London: Faber & Faber, 2004.
Murray, Alexander. “Piety and Impiety in Thirteenth-Century Italy”, in C.J. Cuming and Derek Baker, eds., Popular Belief and Practice, Studies in Church History 8. London: Syndics of the Cambridge University Press, 1972, pp. 83–106.
“Confession as a Historical Source in the Thirteenth Century”, in R. H. C. Davis andj. M. Wallace-Hadrill, eds., The Writing of History in the Middle Ages: Essays Presented to Richard William Southern. Oxford: Clarendon Press, 1981, pp. 275–322.
“The Epicureans”, in Piero Boitani and Anna Torti, eds., Intellectuals and Writers in Fourteenth-Century Europe. Tubingen: Gunter Narr, 1986, pp. 138–63.
Nelson, Eric. The Greek Tradition in Republican Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Neugebauer, O. The Exact Sciences in Antiquity. Princeton: Princeton University Press, 1952.
Newton, Isaac. Correspondence of Isaac Newton, H. W Tumbull et al., eds., 7 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1959–1984.
Nicholls, Mark. “Percy, Henry”, Oxford Dictionary of National Biography, 2004–07.
Nichols, James. Epicurean Political Philosophy: The De Rerum Natura of Lucretius. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1976.
Nussbaum, Martha. The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton: Princeton University Press, 2009, pp. 140–91.
Oberman, Heiko. The Dawn of the Reformation. Grand Rapids, MI: William Eerdmans Publishing Co., 1986.
Olsen, B. Munk. L’Etude des Auteurs Classiques Latins aux Xle et Xlle Siècles. Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1985.
O’Malley, Charles, and J. B. Saunders. Leonardo da Vinci on the Human Body: The Anatomical, Physiological, and Embryological Drawings of Leonardo da Vinci. New York: Greenwich House, 1982.
O’Malley, John W., Thomas M. Izbicki, and Gerald Christianson, eds. Humanity and Divinity in Renaissance and Reformation: Essays in Honor of Charles Trinkaus. Leiden: E.J. Brill, 1993.
Ordine, Nuccio. Bruno and the Philosophy of the Ass, trans. Henryk Baraanski in collab. with Arielle Saiber. New Haven, CT: Yale University Press, 1996.
Origen. Origen Against Celsus, trans. Rev. Frederick Crombie, in Anti-Nicene Christian Library: Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325, ed. Rev. Alexander Roberts and James Donaldson, vol. 23. Edinburgh: T. & T. Clark, 1872.
Osborn, Henry Fairfield. From the Greeks to Darwin: The Development of the Evolution Idea Through Twenty-Four Centuries. New York: Charles Scribner’s Sons, 1929.
Osier, Margaret. Divine Will and the Mechanical Philosophy: Gassendi and Descartes on Contingency and Necessity in the Created World. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Еd. Atoms, Pneuma, and Tranquility: Epicurean and Stoic Themes in European Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Osier, Sir William. “Illustrations of the Book-Worm”, Bodleian Quarterly Record, 1 (1917). PP-355–57.
Otte, James K. “Bernhard Pabst, Atomtheorien des Lateinischen Mittelalters”, Speculum 71 (1996), pp. 747–49.
Overbye, Dennis. “Human DNA, the Ultimate Spot for Secret Messages (Are Some There Now?)”, The New York Times, June 26, 2007, p. D4.
Overhoff, Jurgen. Hobbes’ Theory of the Will: Ideological Reasons and Historical Circumstances. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000.
Pabst, Bernhard. Atomtheorien des Lateinischen Mittelalters. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994.
Palladas. Palladas: Poems, trans. Tony Harrison. London: Anvil Press Poetry, 1975.
Panofsky, Erwin. Renaissance and Renascences in Western Art, 2 vols. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1960.
Parkes, M. B. Scribes, Scripts and Readers: Studies in the Communication, Presentation and Dissemination of Medieval Texts. London: Hambledon Press, 1991.
Parsons, Edward Alexander. The Alexandrian Library, Glory of the Hellenic World: Its Rise, Antiquities, and Destructions. New York: American Elsevier Publishing Co., 1952.
Partner, Peter. Renaissance Rome, 1500–1559: A Portrait of a Society. Berkeley: University of California Press, 1976.
The Pope’s Men: The Papal Civil Service in the Renaissance. Oxford: Clarendon Press, 1990.
Paterson, Antoinette Mann. The Infinite Worlds of Giordano Bruno. Springfield, IL: Thomas, 1970.
Patschovsky, Alexander. Quellen Zur Bohmischen Inquisition im 14. Jahrundert. Weimar: Hermann Bohlaus Nachfolger, 1979.
Paulsen, Freidrich. Immanuel Kant; His Life and Doctrine, trans. J. E. Creighton and Albert Lefevre. New York: Frederick Ungar, 1963.
Payne, Robert. Marx. New York: Simon & Schuster, 1968.
Peter of Mldonovice. John Hus at the Council of Constance, trans. Matthew Spinka. New York: Columbia University Press, 1965.
Petrucci, Armando. Writers and Readers in Medieval Italy: Studies in the History of Written Culture, trans. Charles M. Kadding. New Haven and London: Yale University Press, 1995.
Pfeiffer, Rudolf. History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Hellenistic Age. Oxford: Clarendon Press, 1968.
Philippe, J. “Lucre2ce dans la Théologie Chretienne du IIIe au XIIIe Siècle et Spécialement dans les Ecoles Carolingiennes”, Revue de I’Histoire des Religions 33 (1896) pp. 125–62.
Philodemus. On Choices and Avoidances, trans. Giovanni Indelli and Voula Tsouna-McKriahan. Naples: Bibliopolis, 1995.
[Filodemo]. Mémoire Epicurée. Naples: Bibliopolis, 1997.
Acts of Love: Ancient Greek Poetry from Aphrodite’s Garden, trans. George Economou. New York: Modern Library, 2006.
On Rhetoric: Books 1 and 2, trans. Clive Chandler. New York: Routledge, 2006.
Poggio Bracciolini 1380–1980: Nel VI Centenario della Nascita. Florence: Sansoni, 1982.
Politis, Vasilis. “Aristotle on Aporia and Searching in Metaphysics”, Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy 18 (2002), pp. 145–74.
Porter, James. Nietzsche and the Philology of the Future. Stanford: Stanford University Press, 2000.
Primavesi, Oliver. “Empedocles: Physical and Mythical Divinity”, in Patricia Curd and Daniel W. Graham, eds., The Oxford Handbook of Presocratic Philosophy. New York: Oxford University Press, 2008, pp. 250–83.
Prosperi, Adriano. Tribunali della Coscienza: Inquisitori, Confessori, Missionari. Turin: Giulio Einaudi, 1996.
Putnam, George Haven. Books and Their Makers During the Middle Ages. New York: G. P. Putnam’s Sons, 1898.
Puyo, Jean. Jan Hus: Un Drame au Coeurde I’Eglise. Paris: Desclee de Brouwer, 1998.
Rattansi, Piyo. “Newton and the Wisdom of the Ancients”, in John Fauvel, ed., Let Newton Be! Oxford: Oxford University Press, 1988.
Redshaw, Adrienne M. “Voltaire and Lucretius”, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 189 (1980), pp. 19–43.
Reti, Ladislao. The Library of Leonardo da Vinci. Los Angeles: Zeitlin & Ver-Brugge, 1972.
eynolds, L. D. Texts and Transmission: A Survey of the Latin Classics. Oxford: Clarendon Press, 1983.
and N. G. Wilson. Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. London: Oxford University Press, 1968.
Reynolds, Susan. “Social Mentalities and the Case of Medieval Scepticism”, Transactions of the Royal Historical Society 1 (1990), pp. 21–41.
Rich, Susanna. “De Undarum Natura: Lucretius and Woolf in The Waves”, Journal of Modern Literature 23 (2000), pp. 249–57.
Richard, Carl. The Founders and the Classics: Greece, Rome, and the American Enlightenment. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.
Riche, Pierre. Education and Culture in the Barbarian West Sixth Through Eighth Centuries, trans. John J. Cotren. Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1976.
Richental, Ulrich von. Chronik des Konstanzer Konzils 1414–1418. Constance: F. Bahn, 1984.
Richter, J. P. The Notebooks of Leonardo da Vinci. New York: Dover Books, 1970.
Richter, Simon. Laocoon’s Body and the Aesthetics of Pain: Winckelmann, Lessing, Herder, Moritz, Goethe. Detroit: Wayne State University Press, 1992.
Roche, J. J. “Thomas Harriot”, Oxford Dictionary of National Biography (2004), p. 6.
Rochot, Bernard. Les Travaux de Gassendi: Sur Epicure et sur YAtomisme 1619–1658 . Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1944.
Rosenbaum, Stephen. “How to Be Dead and Not Care”, American Philosophical Quarterly 23 (1986).
“Epicurus and Annihilation”, Philosophical Quarterly 39 (1989), pp. 81–90.
“The Symmetry Argument: Lucretius Against the Fear of Death”, Philosophy and Phenomenological Research 50 (1989), pp. 353–73.
“Epicurus on Pleasure and the Complete Life”, The Monist, 73 (1990).
Rosier, Wolfgang. “Hermann Diels und Albert Einstein: Die Lukrez-Ausgabe Von 1923/24”, Hermann Diels (1848–1922) et la Science de VAntique. Geneva: Entretiens sur lAntique Classique, 1998.
Rowland, Ingrid D. Giordano Bruno: Philosopher/Heretic. New York: Farrar, Straus & Giroux, 2008.
Ruggiero, Guido, ed. A Companion to the Worlds of the Renaissance. Oxford: Blackwell, 2002.
Ryan, Lawrence V. “Review of On Pleasure by Lorenzo Valla”, Renaissance Quarterly 34 (1981), pp. 91–93.
Sabbadini, Remigio. Le Scoperte dei Codici Latini e Greci ne Secoli XIV e XV Florence: Sansoni, 1905.
Saiber, Arielle, and Stefano Ugo Baldassarri, eds. Images of Quattrocento Florence: Selected Writings in Literature, History, and Art. New Haven: Yale University Press, 2000.
Santayana, George. Three Philosophical Poets: Lucretius, Dante, and Goethe. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1947.
Schmidt, Albert-Marie. La Poésie Scientifique en France au Seizième Stècle . Paris: Albin Michel, 1939.
Schofield, Malcolm, and Gisela Striker, eds. The Norms of Nature: Studies in Hellenistic Ethics. Paris: Maison des Sciences de l’Homme, 1986.
Schottenloher, Karl. Books and the Western World: A Cultural History, trans. William D. Boyd and Irmgard H. Wolfe. Jefferson, NC: McFarland & Co., 1989.
Sedley, David. Lucretius and the Transformation of Greek Wisdom. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Segal, C. Lucretius on Death and Anxiety: Poetry and Philosophy in De Rerum Natura. Princeton: Princeton University Press, 1990.
Seznec, Jean. The Survival of the Pagan Gods: The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art, trans. Barbara F. Sessions. New York: Harper & Row, 1953.
Shapin, Steven, and Simon Schaffer. Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton: Princeton University Press, 1985.
Shea, William. “Filled with Wonder: Kant’s Cosmological Essay, the Universal Natural History and Theory of the Heavens”, in Robert Butts, ed., Kant’s Philosophy of Physical Science. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1986.
Shell, Susan. The Embodiment of Reason: Kant on Spirit, Generation, and Community. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
Shepherd, Wm. Life of Poggio Bracciolini. Liverpool: Longman et al., 1837.
Shirley, J. W Thomas Harriot: A Biography. Oxford: Clarendon Press, 1983.
Еd. Thomas Harriot: Renaissance Scientist. Oxford: Clarendon Press, 1974.
Sider, David. The Library of the Villa dei Papiri at Herculaneum. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2005.
Еd. and trans. The Epigrams of Philodemos. New York: Oxford University Press, 1997.
Sikes, E. E. Lucretius, Poet and Philosopher. New York: Russell & Russell, 1936.
Simonetta, Marcello. Rinascimento Segreto: II mondo del Segretario da Petrarca a Machiavelli. Milan: Franco Angeli, 2004.
Simons, Patricia. “A Profile Portrait of a Renaissance Woman in the National Gallery of Victoria”, Art Bulletin of Victoria [Australia] 28 (1987), pp. 34–52.
“Women in Frames: The Gaze, the Eye, the Profile in Renaissance Portraiture”, History Workshop Journal 25 (1988), pp. 4–30.
Singer, Dorothea. Giordano Bruno: His Life and Thought. New York: H. Schuman, 1950.
Smahel, Frantisek, ed. Haresie und Vorzeitige Reformation im Spätmittelatler. Munich: R. Oldenbourg, 1998.
Smith, Christine, and Joseph F. O’Connor. “What Do Athens and Jerusalem Have to Do with Rome? Giannozzo Manetti on the Library of Nicholas V”, in Marino and Schlitt, eds., Perspectives on Early Modern and Modern Intellectual History: Essays in Honor of Nancy S. Struever. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2000, pp. 88–115.
Smith, Cyril. Karl Marx and the Future of the Human. Lanham, MD: Lexington Books, 2005.
Smith, John Holland. The Great Schism, 1378. London: Hamish Hamilton, 1970.
Smith, Julia M. H. Europe After Rome: A New Cultural History, 500–1000. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Smuts, R. Malcolm, ed. The Stuart Court and Europe: Essays in Politics and Political Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Snow-Smith, Joanne. The Primavera of Sandro Botticelli: A Neoplatonic Interpretation. New York: Peter Lang, 1993.
Snyder, Jane McIntosh. “Lucretius and the Status of Women”, The Classical Bulletin 53 (1976), pp. 17–19.
Puns and Poetry in Lucretius’ De Rerum Natura. Amsterdam: B. R. Gruner, 1980.
Snyder, Jon R. Writing the Scene of Speaking: Theories of Dialogue in the Late Italian Renaissance. Stanford: Stanford University Press, 1989.
Spencer, T. J. B. “Lucretius and the Scientific Poem in English”, in D. R. Dudley, ed., Lucretius. London: Routledge & Kegan Paul, 1965, pp. 131–64.
Spinka, Matthew. John Hus and the Czech Reform. Hamden, CT: Archon Books, 1966.
John Hus: A Biography. Princeton: Princeton University Press, 1968.
Stanley, John L. Mainlining Marx. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2002.
Stevenson, J. ed. A New Eusebius: Documents Illustrating the History of the Church to AD 337. London: SPCK, 1987.
Stinger, Charles L. Humanism and the Church Fathers: Ambrogio Taversari (1386–1439) and Christian Antiquity in the Italian Renaissance. Albany: State University of New York Press, 1977.
The Renaissance in Rome. Bloomington: Indiana University Press, 1998.
Stites, Raymond. “Sources of Inspiration in the Science and Art of Leonardo da Vinci”, American Scientist 56 (1968), pp. 222–43.
Strauss, Leo. Natural Right and History. Chicago: University of Chicago Press, 1953.
Struever, Nancy S. “Historical Priorities”, Journal of the History of Ideas 66 (2005), p. 16.
Stump, Phillip H. The Reforms of the Council of Constance (1414–1418). Leiden: E.J. Brill, 1994.
Surtz, Edward L. “Epicurus in Utopia”, ELH: A Journal of English Literary History 16 (1949), pp. 89–103.
The Praise of Pleasure: Philosophy, Education, and Communism in More’s Utopia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957.
Symonds, John Addington. The Renaissance in Italy. London: Smith, Elder & Co., 1875–86.
Renaissance in Italy. Vol. 3: The Fine Arts. London: Smith, Elder & Co., 1898.
Tafuri, Manfredo. Interpreting the Renaissance: Princes, Cities, Architects, trans. Daniel Sherer. New Haven: Yale University Press, 2006.
Teodoro, Francesco di, and Luciano Barbi. “Leonardo da Vinci: Del Riparo a’ Terremoti”, Physis: Rivista Internazionale di Storia della Scienza 25 (1983), pp. 5–39.
Tertullian. The Writings of Quintus Sept. Flor. Tertullianus, 3 vols. Edinburgh: T. & T. Clark, 1869–70.
Concerning the Resurrection of the Flesh. London: SPCK, 1922.
Ante-Nicene Fathers, ed. A. Roberts and J. Donaldson, vol. 4. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1951.
Tertullian’s Treatise on the Incarnation. London: SPCK, 1956.
Disciplinary, Moral and Ascetical Works, trans. Rudolph Arbesmann, Sister Emily Joseph Daly, and Edwin A. Quain. New York: Fathers of the Church, 1959.
Treatises on Penance, trans. William P. Le Saint. Westminster, MD: Newman Press, 1959.
Christian and Pagan in the Roman Empire: The Witness of Tertullian, Robert D. Sider, ed. Washington, DC: Catholic University of America, 2001.
Tertulliano. Contro gli Eretici. Rome: Citta Nuova, 2002.
Thatcher, David S. Nietzsche in England 1890–1914. Toronto: University of Toronto Press, 1970.
Thompson, James Westfall. The Medieval Library. Chicago: University of Chicago Press, 1939.
Ancient Libraries. Berkeley: University of California Press, 1940.
Tielsch, Elfriede Walesca. “The Secret Influence of the Ancient Atomistic Ideas and the Reaction of the Modern Scientist under Ideological Pressure”, History of European Ideas 2 (1981), pp. 339–48.
Toynbee, Jocelyn, and John Ward Perkins. “The Shrine of St. Peter and the Vatican Excavations”, New York: Pantheon Books, 1957, pp. 109–17.
Trinkaus, Charles. In Our Image and Likeness. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
“Machiavelli and the Humanist Anthropological Tradition”, in Marino and Schlitt, eds., Perspectives on Early Modern and Modern Intellectual History. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2000, pp. 66–87.
Tuma, Kathryn A. “Cezanne and Lucretius at the Red Rock”, Representations 78 (2002), pp. 56–85.
Turberville, S. Medieval Heresy and the Inquisition. London and Hamden, CT: Archon Books, 1964.
Turner, Frank M. “Lucretius Among the Victorians”, Victorian Studies 16 (i973), pp. 329–48.
Turner, Paul. “Shelley and Lucretius”, Review of English Studies 10 (1959), pp. 269–82.
Tyndall, John. “The Belfast Address”, Fragments of Science: A Series of Detached Essays, Addresses and Reviews. New York: D. Appleton & Co., 1880, pp. 472–523.
Ullman, B. L. Studies in the Italian Renaissance. Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1955.
Vail, Amy, ed. “Albert Einstein’s Introduction to Diels’ Translation of Lucretius”, The Classical World 82 (1989), pp. 435–36.
Valla, Lorenzo. De vero falsoque bono, trans, and ed., Maristella de Panizza Lorch. Bari: Adriatica, 1970.
On Pleasure, trans. A. Kent Hieatt and Maristella Lorch. New York: Abaris Books, 1977, pp. 48–325.
Vasari, Giorgio. Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors, and Architects. London: Philip Lee Warner, 1912.
The Lives of the Artists, trans. Julia Conaway Bondanella and Peter Bondanella. Oxford: Oxford University Press, 1988.
Vespasiano. The Vespasiano Memoirs: Lives of Illustrious Men of the XVth Century, trans. William George and Emily Waters. New York: Harper & Row, 1963.
Virgil. Virgil’s Georgics, trans. John Dryden. London: Euphorion Books, 1949.
Wade, Nicholas. “Humans Have Spread Globally, and Evolved Locally”, The New York Times, June 26, 2007, p. D3.
Wakefield, Walter L. “Some Unorthodox Popular Ideas of the Thirteenth Century”, Medievalia et Humanistica 4 (1973), pp. 25–35.
Walser, Ernst. Poggius Florentinus: Leben und Werke. Hildesheim: Georg Olms, 1974.
Warburg, Aby. Sandro Botticellis Gehurt der Venus und Fruhling: Eine Untersuc-hung uber die Vorstellungen von der Antike in der Italienischen Fruhrenaissance. Hamburg & Leipzig: Verlag von Leopold Voss, 1893.
The Renewal of Pagan Antiquity: Contributions to the Cultural History of the European Renaissance, trans. David Britt. Los Angeles: Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1999, pp. 88–156.
Ward, Henshaw. Charles Darwin: The Man and His Warfare. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1927.
Webb, Clement. Kant’s Philosophy of Religion. Oxford: Clarendon Press, 1926.
Weiss, Harry B., and Ralph H. Carruthers. Insect Enemies of Books. New York: New York Public Library, 1937.
Weiss, Roberto. Medieval and Humanist Greek. Padua: Antenore, 1977.
Wenley, R. M. Kant and His Philosophical Revolution. Edinburgh: T. & T. Clark, 1910.
The Spread of Italian Humanism. London: Hutchinson University Library, 1964.
The Renaissance Discovery of Classical Antiquity. Oxford: Blackwell, 1969.
West, David. The Imagery and Poetry of Lucretius. Norman: University of Oklahoma Press, 1969.
Westfall, Richard. “The Foundations of Newton’s Philosophy of Nature”, British Journal for the History of Science, 1 (1962), pp. 171–82.
White, Michael. Leonardo, the First Scientist. New York: St. Martin’s Press, 2000.
Whyte, Lancelot. Essay on Atomism: From Democritus to 1960. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1961.
Wilde, Lawrence. Ethical Marxism and Its Radical Critics. Houndmills, Basingstoke, UK: Macmillan Press, 1998.
Wilford, John Noble. “The Human Family Tree Has Become a Bush with Many Branches”, The New York Times, June 26, 2007, pp. D3, DIO.
Wind, Edgar. Pagan Mysteries in the Renaissance. Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1967.
Witt, Ronald G. “The Humanist Movement”, in Thomas A. Brady, Jr., Heiko A. Oberman, and James D. Tracy, eds., Handbook of European History 1400–1600: Late Middle Ages, Renaissance and Reformation. Leiden and New York: E.J. Brill, 1995, pp. 93–125.
“In the Footsteps of the Ancients”: The Origins of Humanism from Lovato to Bruni, Studies in Medieval and Reformation Thought, ed. Heiko A. Oberman, vol. 74. Leiden: E.J. Brill, 2000.
Woolf, Greg, and Alan K. Bowman, eds. Literacy and Power in the Ancient World. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Yarbrough, Jean. American Virtues: Thomas Jefferson on the Character of a Free People. Lawrence: University Press of Kansas, 1998.
Yashiro, Yukio. Sandro Botticelli and the Florentine Renaissance. Boston: Hale, Cushman, & Flint, 1929
Yates, Frances A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1964.
Yatromanolakis, Dimitrios, and Panagiotis Roilos. Towards a Ritual Poetics. Athens: Foundation of the Hellenic World, 2003.
Yoon, Carol Kaesuk. “From a Few Genes, Life’s Myriad Shapes”, The New York Times, June 26, 2007, pp. D1, D4–D5.
Zimmer, Carl. “Fast-Reproducing Microbes Provide a Window on Natural Selection”, The New York Times, June 26, 2007, pp. D6–D7.
Zorzi, Andrea, and William J. Connell, eds. Lo Stato Territoriale Fiorentino (Secoli XIV–XV): Richerche, Linguaggi, Confronti. San Miniato: Pacini, 1996.
Zwijnenberg, Robert. The Writings and Drawings of Leonardo da Vinci: Order and Chaos in Early Modern Thought, trans. Caroline A. van Eck. New York: Cambridge University Press, 1999.
Примечания
1
По всему тексту выдержки из поэмы Лукреция приводятся в переводе Ф.А. Петровского с латыни по изданиям: Лукреций Тит Кар. О природе вещей. М.: Изд-во АН СССР, 1958; Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М.: Художественная литература, 1983. – Здесь и далее примеч. пер.
2
Шекспир У. Полное собрание сочинений. В 8 т. М.: Искусство, 1958. Т. 3. Ромео и Джульетта, сцена 2, акт 3. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.
3
Кью – королевский ботанический сад. Надпись на ошейнике собаки, подаренной Фредерику, принцу Уэльскому, старшему сыну Георга II и Каролины Ансбахской.
4
Также Бальтазар Косса.
5
Также Сан-Галлен.
6
Обычно переводится как «пойманные на месте преступления». В данном случае речь идет о совокуплении.
7
В завещании Эпикур наказывал праздновать его день рождения каждый год в десятый день гамелиона и чтобы «двадцатого числа каждого месяца установленным образом собирались товарищи по школе в память обо мне и о Метродоре» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Перевод с древнегреческого М.Л. Гаспарова. 2-е издание, исправленное. М.: Мысль, 1986).
8
Бромий (бурный, шумный) – один из эпитетов бога виноградарства и земледелия Диониса.
9
Цицерон. О природе богов. Философские трактаты. М.: Наука, 1985. Книга первая. Перевод с латинского М.И. Рижского.
10
Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М.: Наука, 1974. Трактат «Об обязанностях». Перевод В.О. Горенштейна.
11
Перевод по тексту автора. В русском издании поэмы цитируемый отрывок звучит таким образом:
В те времена, как у всех на глазах безобразно влачилась
Жизнь людей на земле под религии тягостным гнетом,
С областей неба главу являвшей, взирая оттуда
Ликом ужасным своим на смертных, поверженных долу,
Эллин впервые один осмелился смертные взоры
Против нее обратить и отважился выступить против.
12
Шекспир У. Полное собрание сочинений. В 8 т. М.: Искусство, т. 6, 1960. Гамлет, принц Датский, акт III, сцена 1. Перевод М. Лозинского.
13
Перевод по тексту автора и не совпадает с русской версией «Тускуланских бесед»: Цицерон Марк Тулий. Избранные сочинения. М.: Художественная литература, 1975. Перевод М. Гаспарова.
14
Шекспир У. Полное собрание сочинений. В 8 т. М.: Искусство, 1960. Ричард II, акт I, сцена III. Перевод М. Донского.
15
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Перевод с древнегреческого М.Л. Гаспарова. 2-е издание, исправленное. М.: Мысль, 1986.
16
Джонсон Бен. Пьесы. М.: Искусство, 1960. Алхимик, перевод. П. Мелковой, акт второй, сцена первая.
17
Диоген Лаэртский. Указ. соч.
18
Имеется в виду Диоген из Эноанды, философ-эпикуреец, приказавший в 120 году выбить на огромной каменной стене изложение философской системы Эпикура. Отдельные фрагменты надписей найдены археологами в 1884 году.
19
В русском издании: «Как превращает в труху книги прожорливый жук, так беспрестанно грызет нутро мое червь беспокойства». Овидий. Письма с Понта. Книга первая. Бруту. Овидий Публий Назон. Собрание сочинений. В 2 т. СПб.: Биографический институт «Студиа биографика», 1994. Том I.
20
В русском издании: «непросвещенную моль молчаливо кормить будешь» (перевод Н.С. Гинцбурга). Квинт Гораций Флакк. Собрание сочинений. СПб.: Биографический институт, 1993.
21
Гален, античный медик (129/131–200/210), в Александрии изучал анатомию. Его главные труды связаны с анатомией и физиологией тела человека.
22
Древнееврейское Пятикнижие перевели на греческий язык раввины-полиглоты, выписанные Птоломеем из Иерусалима.
23
Перевод английской версии.
24
Также Ипатия.
25
Минуций Феликс. Октавий. Богословские труды, 1981, № 22. Перевод М.Е. Сергеенко.
26
Споря со своими оппонентами и доказывая, что на суд Божий призывается весь человек, Тертуллиан утверждал, что обязанности частей тела служат потребностям жизни, пока сама жизнь не перейдет из временного состояния к вечному: «И когда, наконец, сама жизнь освободится от потребностей, тогда и части тела – от обязанностей». В то же время части тела сохраняются для Божьего суда, «дабы каждый через тело получил сообразно тому, что делал в нем» (Кор. 5:10). Тертуллиан Квинт Септимий Флорент. Избранные сочинения. М.: Издательская группа «Прогресс», 1994. О воскресении плоти. Перевод Н. Шабурова и А. Столярова.
27
«Тощий народ» – бедные ремесленники (ит.) .
28
Чомпи – так называли наемных рабочих шерстяных мастерских (ит.) .
29
Историческая область на северо-западе Италии с городами Равенна, Форли, Римини, с VI века византийские владения, затем принадлежала лангобардам и папам, с 962 года – в составе Священной Римской империи.
30
В переводе А. Дживелегова данное высказывание передано иначе: «Там мы никому не давали спуску и поносили все, что нам не нравилось, причем сам папа иногда показывал нам пример» (Поджо Браччолини. Фацетии. М.; Л.: Academia, 1934; М.: Художественная литература, 1984; М.: Терра, 1996).
31
«Во имя святого Божьего Евангелия».
32
В русском переводе «Фацетий» данный текст изложен иначе: «В римской курии почти всегда царит фортуна, и очень редко прокладывают себе путь талант или добродетель. Всего можно добиться настойчивостью или счастливым случаем, не говоря уже о деньгах, которые царят повсюду на земле» (Поджо Браччолини. Фацетии. М. – Л.: Academia, 1934; М.: Художественная литература, 1984; М.: Терра, 1996).
33
Выдержка дается в переводе с латыни А. Дживелегова по изданию: Поджо Браччолини. Фацетии. М. – Л.: Academia, 1934; М.: Художественная литература, 1984; М.: Терра, 1996. У автора «земляк» Филельфо, а не Поджо.
34
«О городских водопроводах».
35
Полное название – «Institutionis oratorial libri duodecim» .
36
В поэме этот тезис выражен иначе:
Если же кто называть пожелает иль море Нептуном,
Или Церерою хлеб, или Вакхово предпочитает
Имя напрасно к вину применять, вместо нужного слова,
То уж уступим ему, и пускай вся земная окружность
Матерью будет богов для него, если только при этом
Он, в самом деле, души не пятнает религией гнусной.
37
У Лукреция: «От матери известной все, возникая, растет, сохраняя все признаки рода».
38
В пятой книге Лукреция утверждается иное:
Ясно, что было когда-то начальное некое время
И для небес и Земли и что им предстоит разрушенье.
39
У Лукреция:
И дух и душа по природе
Из исключительно мелких семян состоят несомненно,
Ибо они, уходя, ничего не уносят из веса.
Но вместе с тем невозможно считать, что проста их
природа:
Тонкое некое вон дуновенье при смерти исходит
С жаром в смешеньи, а жар за собой увлекает и воздух.
(3.221–222.)
40
Истинный смысл этих слов Лукреция можно понять, лишь прочитав дальнейшие строки:
О вы, ничтожные мысли людей! О чувства слепые!
В скольких опасностях жизнь, в каких протекает
Потемках этого века ничтожнейший срок!
Неужели не видно, что об одном лишь природа вопит
И что требует только, чтобы не ведало тело страданий,
А мысль наслаждалась чувством приятным вдали от
сознанья заботы и страха.
41
У Лукреция:
Мне отрадно устами
К свежим припасть родникам и отрадно чело мне украсить
Чудным венком из цветов, доселе неведомых, коим
Прежде меня никому не венчали голову Музы.
Ибо, во-первых, учу я великому знанью, стараясь
Дух человека извлечь из тесных тенет суеверий,
А во-вторых, излагаю туманный предмет совершенно
Ясным стихом, усладив его Муз обаянием всюду.
Это, как видишь ты, смысл, несомненно, имеет разумный:
Ведь коль ребенку врачи противной вкусом полыни
Выпить дают, то всегда предварительно сладкою влагой
Желтого меда кругом они мажут края у сосуда.
42
Понятие «культурный капитал» ввел французский социолог Пьер Бурдье для обозначения особой разновидности богатства, состоящего из знаний, навыков, традиций, установок, а также владения предметами и объектами культуры, и утверждающего привилегированное положение господствующего класса, элиты.
43
Ватиканская библиотека, собственно, и основана папой Николаем V.
44
Здесь и далее изложение извлечений из сочинения Томаса Мора дается в авторском пересказе и цитировании.
45
Мелкая монета.
46
Мф. 10:29–30.
47
Выдержки даются в переводе А. Золотарева с небольшими изменениями, соответствующими английскому тексту. Использовано издание: Бруно Джордано. Изгнание торжествующего зверя. СПб.: Огни, 1914.
48
В русском варианте пьесы – «в упряжке из мельчайших мошек». В английском тексте автора – a team of little atomi . Для автора использование слова «атомов» имеет принципиальное значение. Перевод Т. Щепкиной-Куперник. Шекспир У. Полное собрание сочинений. В 8 т. М.: Искусство, 1957–1960. Т. 3, 1958. Правда, атомы сохранились в более строгом переводе А. Радловой:
О, вижу, верно, королева Меб
У вас была. Она средь эльфов – бабка,
И росту всего-навсего с агат
У олдермена в перстне. Цугом ездит
Она на атомах по человечьим
Носам, когда они заснут покрепче.
(Шекспир В. Избранные произведения. Л.: Художественная литература, 1939.)
49
Здесь и далее выдержки из сочинений Монтеня даются по изданию: Монтень Мишель. Опыты. В 3 книгах. М.: Наука, 1979.
50
На самом деле Монтень лишь рекомендует «рассеивать пламенную влюбленность», «распределять между несколькими желаниями», в полезности чего он не раз убеждался на опыте.
51
Этот отрывок приводится по изданию «Опытов» Монтеня. В переводе поэмы с латинского языка Ф.А. Петровским он звучит иначе:
Ты ведь одна, только ты можешь радовать мирным покоем
Смертных людей, ибо всем военным делом жестоким
Ведает Марс всеоружный, который так часто, сраженный
Вечною раной любви, на твое склоняется лоно;
Снизу глядя на тебя, запрокинувши стройную шею,
Жадные взоры свои насыщает любовью, богиня,
И, приоткрывши уста, твое он впивает дыханье.
Тут, всеблагая, его, лежащего так, наклонившись
Телом священным своим, обойми и, отрадные речи
С уст изливая, проси, достославная, мира для римлян…
52
Из ничего.
53
Один из членов трибунала, приговорившего к смертной казни короля Карла I.
54
«Я тоже эпикуреец, – писал Джефферсон У. Шорту 31 октября 1819 года, – как вы говорите о себе. Я рассматриваю подлинные доктрины Эпикура (а не приписываемые ему) как содержащие все рациональное в философии нравственности, что Греция и Рим оставили нам». Американские просветители. Избранные произведения в 2 т. М.: Мысль, 1969. Т. 2. По этому же изданию дается и предыдущая цитата.
55
Меммия обвиняли в подкупе избирателей.
56
Патрон был схолархом «Сада», школы Эпикура в Афинах.
57
Созерцая звезды, взирая на Деву, Зная, что вотчина твоя – небо, И видя повсюду твое сияние, Я преклоняюсь перед тобой, досточтимая Гипатия, Светоч наук, непорочный и неугасимый. (Пер. с англ.)
58
Разумеется, замечание автора относится к английскому переводу.
59
Томас Мор. Утопия. Пер. с лат. А.И. Малеина и Ф.А. Петровского. М.: Изд-во АН СССР, 1953.
60
Перевод Ф.А. Петровского:
Ибо все боги должны по природе своей непременно
Жизнью бессмертной всегда наслаждаться в полнейшем
покое,
Чуждые наших забот и от них далеко отстранившись.
Ведь безо всяких скорбей, далеки от опасностей всяких,
Всем обладают они и ни в чем не нуждаются нашем;
Благодеяния им ни к чему, да и гнев неизвестен.

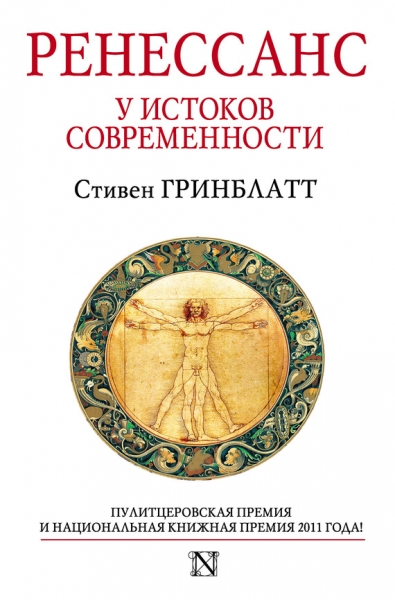

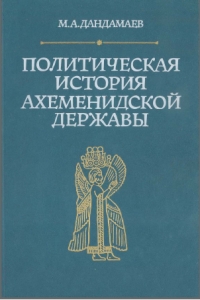
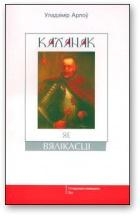
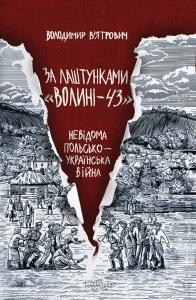
Комментарии к книге «Ренессанс. У истоков современности», Стивен Гринблатт
Всего 0 комментариев