Яков Гордин Кавказская Атлантида. 300 лет войны
ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Россия вступила в двадцать первый век и третье тысячелетие, унося с собой опасно тлеющую Кавказскую проблему — трагический конфликт с трехсотлетней историей, считая от похода Петра I на Каспий в 1722 году.
Западный мир вступает в двадцать первый век и третье тысячелетие, влача за собой более чем тысячелетнюю историю противоборства с агрессивным исламом. Причем со второй половины прошлого столетия мы имеем дело с исламским реваншем, и никакая политкорректность не должна нам мешать трезво сознавать это.
С тех пор, как в середине VII века недавно обратившиеся в ислам, исполненные молодой энергии арабы начали наступление на форпост западного мира — Византию, этот натиск не ослабевал до ХVIII века.
В начале VIII века арабы завоевали Испанию и двинулись на Францию — под угрозой оказалась вся христианская Европа. И когда в 732 году Карл Мартел при Пуатье остановил завоевателей, то это была лишь передышка.
Яростная попытка контрнаступления — два века крестовых походов — успеха не принесла. Боевую эстафету приняли турки-османы, разгромившие Византию, захватившие Балканы, в конце ХVII века доходившие до Вены, которую спас польский король Ян Собесский…
За прошедшее тысячелетие исламский мир сделал колоссальные успехи во всех областях культуры, в средние века значительно опережая Европу. В этом мире шла бурная духовная жизнь. Турецкая и Персидская империи охватили гигантские пространства, контролировали важнейшие морские пути. (Оставим в стороне державу Тимура и Золотую Орду).
С ХVIII века началось обратное движение. Австрия, Венеция, Польша далеко раздвинули свои границы за счет Турции. Россия раз за разом громила турецкие армии. Попытка султана Махмуда II, расстрелявшего в 1826 году из пушек янычарские полки — оплот фундаментализма, — начать европеизацию успеха не принесла. Турция под напором России и внутренних неустройств стремительно превращалась из сверхдержавы в третьестепенное государство. С Персией это произошло еще раньше. И та, и другая великие некогда исламские державы стали пешками в общеевропейской игре, в частности — в сложных интригах Англии и Франции против России, стремившейся утвердиться в Азии.
В первой четверти XIX века из всех европейских пограничий ислам был подкреплен мощным боевым духом только на Кавказе. Не в последнюю очередь потому, что там ислам был сравнительно молод, а в Чечне очень молод. Среднеазиатские ханства, дряхлые деспотические образования, в военном отношении не шли ни в какое сравнение с вольными горскими обществами Кавказа.
Но роковое соревнование Европы и исламского мира было соревнованием отнюдь не только военно-техническим. Это было и соревнованием духовных энергий. И в новое время Европа стала побеждать прежде всего именно в этом соревновании.
«Дряхлый Восток» — скажет Лермонтов в программном стихотворении «Спор». А Ростислав Фадеев, один из идеологов завоевания Кавказа, напишет в 1860 году:
«Мусульманство прокатилось по земле огненным потоком и теперь еще производит страшные пожары в местах, куда оно проникает вовне, чему примером служит Кавказ. <…> Для России Кавказский перешеек вместе и мост, переброшенный с русского берега в сердце азиатского материка, и стена, которою заставлена Средняя Азия от враждебного влияния, и передовое укрепление, защищающее оба моря: Черное и Каспийское. Занятие этого края было первой государственной необходимостью. Но пока русское племя доросло до подошвы Кавказа, все изменилось в горах.
Выбитый из европейской России, исламизм работал неутомимо три века, чтобы укрепить за собой естественную ограду Азии и мусульманского мира — Кавказский хребет, — и достиг цели. <…> Вместо прежних христианских племен мы встретили в горах самое неистовое воплощение мусульманского фанатизма. Шестьдесят лет длился штурм этой гигантской крепости: вся энергия старинного мусульманства, давно покинувшая расслабленный азиатский мир, сосредоточилась на его пределе, в Кавказских горах. Борьба была неистовая, пожертвования страшные».
Генерал Фадеев как исторический и политический мыслитель — фигура далеко не безусловная. Его ретроспективный взгляд целиком определен конкретными имперскими задачами текущего момента. Но в данном случае его наблюдения во многом соответствуют реальности. В XIX веке непреклонное сопротивление кавказских горцев в смысле историософском (было, разумеется, и еще множество других аспектов) явилось арьергардным боем ислама.
Ислам отступал. Постепенно Англия и Франция колонизировали страны, которые были наследницами великих арабских халифатов и Блистательной Порты, они вместе с Россией распоряжались с унизительным высокомерием судьбами Турции и Ирана. Унижение — вот, пожалуй, ключевое слово. Унижение и мощная историческая память о былом величии — опасная смесь. В любой общности находятся радикальные группы, которые преобразуют эту смесь в политическое действие.
Когда я говорю об исламском реванше, я имею в виду именно эти группы, в которых — как некогда в кавказских горцах — сосредоточилась энергия униженного и оскорбленного исламского мира. Иногда эта иррациональная, с прагматической точки зрения, энергия охватывает весьма значительные массы людей. Мы наблюдали это в хомейнистском Иране. Когда униженная общность не может отстоять свое историческое достоинство средствами современными, то в ход идет идеализированное прошлое. И тогда происходящее, кажущееся абсурдным для одной стороны, оказывается фундаментально мотивированным для другой. Радикал-исламист живет вовсе не в том психологическом пространстве, что средний европеец, и любые патерналистические поползновения только усугубляют ощущение исторической обиды.
Исторический процесс — целен. Можно в параллель физическому закону сохранения энергии вывести исторический закон сохранения энергии.
Потомки сталкиваются с тяжкими последствиями событий, которые стимулировали их отдаленные предки. Такова расовая проблема в США. Такова проблема исламского радикализма. Такова проблема Кавказа для России.
Аятолла Хомейни и бен Ладен отнюдь не просто властолюбивы и тем паче вовсе не безумцы. Они люди принципиально иного мировидения, и потому состязание с ними с позиций европейской логики — бессмысленно.
Путь преодоления нарастающего конфликта миропредставлений, который перетекает в следующее тысячелетие, будет долог и тяжел. И одно из непременных условий его преодоления — трезвая оценка реальности. Как показывает опыт великой Кавказской войны, дефицит этой трезвости неизбежно усугубляет трагичность ситуации.
10 августа 1837 года начальник военно-походной канцелярии командующего Кавказским корпусом отправил своему командующему генералу Розену «секретное отношение»:
«Государь Император по всеподданнейшему докладу отношения Вашего Высокопревосходительства от 22 минувшего июля № 732, о взятии отрядом, под начальством генерал-майора Фези состоящим, укрепленного селения Тилитли, после чего дагестанский изувер Шамиль сдался, приняв присягу на подданство России и выдав аманатов, — Высочайше поручить мне соизволил уведомить Ваше Высокопревосходительство, что Его Величеству благоугодно, дабы сделаны были Шамилю и главным его сообщникам внушения воспользоваться прибытием Его Величества в Закавказский край и испросить милости предстать перед лицом Самого Монарха, дабы лично молить о Всемилостивейшем прощении, и принеся со всей искренностию раскаяние в прежних проступках, изъявить чувство верноподданической преданности».
В свете реальной ситуации, которая сложилась тогда на Кавказе, «секретное отношение» представляется документом анекдотическим, построенным на целой цепи заблуждений. Генерал Розен принял хитроумные маневры Шамиля, попавшего в тяжелое военное положение, за чистосердечное желание стать российским подданным, а Петербург со своим уровнем осведомленности и понимания требовал, чтобы «дагестанский изувер» Шамиль явился пасть в ноги императору Николаю, вымаливая прощение. Шамиль, между тем, активно собирал силы для продолжения войны, каковую он и вел еще — и часто весьма успешно — двадцать два года. Самые тяжкие поражения русской армии на Кавказе были впереди…
В середине 1830-х годов, когда Шамиль стал имамом, а Кавказская война отнюдь не выглядела завершенной, в штабе командующего Кавказским корпусом, а в Петербурге — в военном министерстве — активно разрабатывались планы расширения завоеваний, движения через Среднюю Азию навстречу англичанам, осваивавшим Индию. В том, что Средняя Азия будет рано или поздно завоевана, ни Петербург, ни кавказское командование не сомневались. Ермолов отправлял разведывательные экспедиции с целью рекогносцировки будущего театра военных действий. Активен был и Генеральный Штаб. Талантливый военный, соученик и приятель Пушкина по Лицею Вольховский не один год провел в подобных же экспедициях, что, кстати говоря, спасло его, последовательного члена всех декабристских тайных обществ, от каторги — в 1825 году он был в Азии.
Имперская мысль стремительно обгоняла реальные возможности государства.
В начале 1835 года в Тифлис прибыли два афганца, представившиеся посланцами кабульского правительства, которым поручено вести переговоры о сближении с Россией. Они были приняты со всей серьезностью. Но вскоре стало ясно, что полномочия их сомнительны. Тот же Вольховский, ставший к этому времени начальником штаба Кавказского корпуса, писал находившемуся в отъезде командующему корпусом:
«Авганцы, в предупреждение воли Вашей, содержатся так хорошо, как только можно в их положении. Мирза живет у Оленича в загородном доме, при коем приятный сад. Хан переведен из Прибиля дома в квартиру Потоцкого, хорошо устроенную и при коей тоже садик, недостатка они ни в чем не терпят и продовольствуются роскошно; только не могут никуда выходить, ибо сие было бы общественным соблазном. Коль скоро слухи пошли о их подлоге, то в народе начали их называть разбойниками. <…> Притом, если позволить им ходить по городу, то весьма возможно, чтобы они сделали попытку убежать».
Тем не менее, штаб корпуса извлек из пребывания сомнительных послов, но несомненных афганцев, максимум пользы. Штабс-капитану Стишинскому было поручено подробнейшим образом расспросить их, и на основании этих расспросов с добавлением сведений, почерпнутых из европейской литературы об Афганистане, Стишинский составил подробную «Записку об афганцах», содержащую любопытные пассажи. Самих афганцев «Записка» характеризует так:
«Афганцы, как и все горные жители, крепкого сложения, стройны, имеют выразительные черты лица, мужественный вид и вообще воинственный характер; смелы, склонны к перенесению военных трудов, любят дикую свободу, склонны к хищничеству, привязаны к обычаям и предрассудкам своих предков».
Обстановка в Афганистане описывалась как крайне нестабильная и провоцирующая на внешнее вмешательство. При чтении «Записки» трудно избавиться от ощущения, что она описывает будущее поле действий русской армии.
И это было только начало внимательного профессионального интереса российских военных к Афганистану, который на протяжении XIX века не раз приближался к черте, за которой начиналась прямая экспансия, а в XX веке кончился изнурительной войной…
Российское имперское сознание на протяжении столетий с гибельным упорством воспроизводило одни и те же стереотипы, ложившиеся в основу тактики и стратегии по отношению к Кавказу. Современный исследователь так описывает действия Красной Армии, подавлявшей сопротивление на Кавказе в 1920 году:
«Они же (части Красной Армии. — Я. Г.) перекрыли границу с Грузией, откуда по горным тропам поступали так необходимые повстанцам боеприпасы (оружия в Дагестане всегда хватало). Красная Армия заняла сначала равнинные районы Дагестана и Чечни, а затем стала медленно продвигаться в горы. Боевые действия продолжались вплоть до лета 1921 года, когда оставшиеся формирования повстанцев рассеялись по недоступным горным ущельям и пещерам. Сопротивление тем не менее продолжалось: не прекращались убийства советских работников, коммунистов и милиционеров».
Эта схема, вполне соответствующая сегодняшнему дню, воспроизводит и ситуацию на протяжении XIX века. Беда в том, что центральные власти постоянно шли простейшим путем, делая основную ставку на военное подавление. Попытки как дореволюционной, так и советской власти учитывать народные традиции и опираться на местных лидеров были непоследовательны и противоречивы.
Историк и философ Георгий Федотов писал в 1937 году: «Кавказ никогда не был замирен окончательно». И это было правдой. Но главная опасность состояла в том, что российские власти после периодов обострения настойчиво убеждали себя и мир в обратном. И не утруждали себя поисками реального и прочного выхода из трагического конфликта, существовавшего перманентно с разной степенью интенсивности. Компетентное научное издание «Чеченский кризис» в 1995 году сообщало:
«Историки знают, что нынешний конфликт был не единственным “военным решением чеченского вопроса” в XX веке. Первая крупная операция “по усмирению” Чечни была проведена частями Красной Армии летом 1922 года. В ее ходе было изъято несколько сотен винтовок и три пулемета, а также сожжено несколько домов “бандитов”. Три года спустя в такой же операции участвовало 6 тыс. бойцов Красной Армии. С 23 августа по 12 сентября 1925 года были осуществлены воздушные бомбардировки 16 населенных пунктов и более 100 подвергнуты артиллерийскому обстрелу, сожжено 119 домов “бандитского элемента”. Было изъято 25 тыс. винтовок и более 4 тыс. револьверов. В декабре 1929 года Красной Армии и ГПУ вновь пришлось подавлять восстание чеченцев при поддержке броневиков и авиации».
Восстания в Чечне с их кровавым подавлением продолжались с мрачным постоянством до 1944 года. Уже в 1938 году в Чечне повстанцы провели 98 боевых операций, носящих политико-криминальный характер. Было убито 49 руководящих советских работников.
Во время войны войска ГПУ в Чечне в ходе карательных операций уничтожили около 20 тыс. повстанцев. И это при том, что большая часть мужского населения была на фронте…
После победы у власти была уникальная возможность опереться на фронтовиков-чеченцев, волею обстоятельств включившихся в общебоевое братство, но сталинский режим пошел проторенным путем, превзойдя в жестокости все уже бывшее…
Попытки имперской власти с топорным упорством навязать Чечне и всему Кавказу несвойственные ей правила существования лежат в общем контексте взаимоотношений европейской политической цивилизации с миром неевропейским. В частности, с миром исламским. Но если во второй половине XX века западные страны перешли к более гибкой системе отношений, то Россия, как и во многом другом, тяжело запоздала. Окостеневшая советская система, рухнув, поставила новую демократическую власть перед необходимостью немедленно найти новую систему взаимоотношений с Кавказом — взамен выработанной веками. Новая власть, слишком много унаследовавшая от прежней, по сей день с этим не справилась.
Как не справилась с этой задачей в свое время и пришедшая к руководству после 1996 года новая сепаратистская элита, сумевшая только лишь воспроизвести повстанческую политико-криминальную модель поведения.
И та, и другая стороны оказались в плену гибельных стереотипов…
Историческая память как отдельных людей, так и больших общностей имеет одно опасное свойство — она фрагментарна. Национальная вражда и сепаратизм, радикальные формы культурного и государственного самоопределения слишком часто есть результат этой фрагментарности. Только сильные и подготовленные умы способны охватить картину в целом. Эта категория людей называется просветителями.
Одна из фундаментальных задач России на будущее столетие — «выращивание» этой категории. Ни самодержавное, ни коммунистическое государства, агрессивно предлагавшие гражданам свою принципиально фрагментарную модель прошлого, не были заинтересованы в существовании этой категории и всячески ее подавляли. Построенные одно на мифе, другое на вульгарной лжи, эти государства более всего боялись именно выявления общей и объективной картины прошлого, ибо восприятие такой картины неизбежно разрушало представление о власти как о справедливой и законной.
Христианство и ислам — великие системы миропредставления. И та, и другая на протяжении столетий выбрасывали из себя смертоносные протуберанцы радикализма. Христианству удалось справиться со своими крайностями, исламу — нет. Причины понятны. О них уже шла речь. Победоносные христианские державы давно оправились от унижений арабского и османского напора. Побежденный исламский мир мучительно изживает это чувство и, судя по всему, не скоро изживет. В своем самовоспитании его радикалы используют фрагментарные представления об истории, действующие как возбуждающий наркотик.
Надо сказать, что это относится и вообще к народам, испытавшим пусть даже в отдаленные периоды своего существования национальное унижение. Тут можно вспомнить сербов, несколько столетий живших под властью османов. Да и в судьбе России, до брутального XVIII века изживавшей травму монгольского владычества, эта жажда компенсации сыграла немалую роль.
Или XXI век станет веком выравнивания исторических представлений, их сближения у бывших противников, — для чего необходимо сознательное встречное движение обеих сторон, — или интенсивность исламского радикализма будет возрастать, ломая судьбы стран и народов.
Взаимоотношения России и Кавказа — направление их развития в ближайшие годы — станут важнейшим индикатором для XXI века.
ЧТО УВЛЕКЛО РОССИЮ НА КАВКАЗ?
Император Николай <…> неизменно соблюдает правило вести одновременно лишь одну войну, не считая войны Кавказской, завещанной ему и которую он не может ни прервать, ни прекратить…
Лунинзаметки об идеологии кавказской войны
В конце шестидесятых годов XIX века, когда Кавказская война была завершена, а грядущие мятежи горцев еще не начались, когда обществом и государством владела иллюзия полной решенности проблемы, автор знаменитой книги «Россия и Европа» Н. Я. Данилевский писал:
«Возьмите для примера хоть поселения русских на Кавказе. К благословенным ли странам Кавказа стремится русский народ, предоставленный собственной воле? Нет, для него Сибирь имеет несравненно более привлекательности»[1].
Данилевский, безусловно, был в этом вопросе лицом компетентным. Чиновник департамента сельского хозяйства, он изъездил вдоль и поперек всю Россию.
Ту же мысль, но уже на собственно исторической основе, сформулировал и уточнил первый историк-исследователь в точном смысле слова — в отличие от историков-летописцев Кавказской войны Н. Ф. Дубровина, В. А. Потто, А. Зиссермана — М. Н. Покровский. В начале XX века он писал в работе «Завоевание Кавказа»:
«Война с горцами — Кавказская война в тесном смысле — непосредственно вытекала из этих персидских походов: ее значение было чисто стратегическое, всего менее колонизационное. Свободные горские племена всегда угрожали русской армии, оперировавшей на берегах Аракса, отрезать ее от базы»[2].
Данилевский, пожалуй, в силу своего жизненного опыта и знания крестьянской России, глубже взглянул на проблему. Колонизационные мечты у правительства российского были, но вот насколько естественна была эта колонизация — в отличие от совершенно естественной колонизации Сибири — вопрос другой.
В феврале 1792 года в ответ на предложение командующего Кавказской линией генерала Гудовича переселить на земли близ Терека десять тысяч государственных крестьян Екатерина отвечала:
«Касательно переселения государственных крестьян малоземельных из внутри России рассуждаем, что когда строением крепостей по линии земли сии закрыты будут и хлебопашцам доставится безопасность и спокойствие, тогда сами собою, без убытков казне, и помещики, и государственные крестьяне мало-помалу станут переносить жительства свои в сию привольную страну и вскоре, выходя из малоземельных наместничеств, заселят оную к пользе и выгодам собственным и государственным»[3].
Никто не думал в 1792 году, что мир и спокойствие в этих местах — и то относительные — установятся через столетие…
Надо отдать должное М. Н. Покровскому — он отметил чрезвычайно важную черту кавказской драмы. Неколонизационный смысл завоевания Кавказа, принципиально отличающий эту акцию от всех других экспансий Московской Руси и России, делает анализ ситуации особенно сложным.
Завоевание Казанского, Астраханского и Крымского ханств с прилегающими территориями имело многообразное значение. Во-первых, происходило устранение военно-стратегической опасности, ликвидация плацдармов, с которых совершались или могли в любой момент совершаться вторжения на собственно российскую территорию. Во-вторых, эти войны имели ясный оттенок реванша за причиненные некогда Ордой страдания и унижения, что создавало благоприятный психологический климат в русских войсках. И в-третьих, в состав государства включались весьма соблазнительные для колонизации земли.
Основная территория Северо-Восточного Кавказа, где и разворачивались решающие события российско-кавказской драмы, особенно Дагестан, — вовсе не прельщала переселенцев из России. Даже если бы она вдруг оказалась свободна от коренного населения. Это — не Крым и не Поволжье.
К Кавказу XVIII — начала XIX века неприменим знаменитый тезис Ключевского о колонизации как одном из главных факторов русской истории. Описывая колонизационный процесс, Ключевский в первом томе своего «Курса русской истории» упоминает и Кавказ, но, в отличие от других названных им районов — Туркестана, Сибири, не приводит никаких конкретных цифр. И не случайно. Данилевский был прав, когда оговорился относительно переселения по «своей собственной воле». Основная масса переселенцев в Предкавказье, в том числе и казаков, была помещена туда директивным путем — для закрепления и охранения территории.
Ответы на вопросы: в чем истинный смысл завоевания Кавказа? чем оправданы колоссальные жертвы, приносимые страной ради этого завоевания? есть ли иные пути решения кровавого кризиса? — были столь туманны и противоречивы, что длительное время официальные публицисты и государственные мужи не рисковали даже их ставить.
Как всегда бывает в подобных случаях, проблемой занялись аутсайдеры. Причем, главным образом, это были люди, по тем или иным причинам не имеющие возможности прямо влиять на события.
Пожалуй, впервые ясно и недвусмысленно наиболее радикальное решение очертил Пестель в подпольной «Русской правде».
В первой главе своей конституции — «О земельном пространстве государства» — революционер-государственник, говоря о землях, которые необходимо присоединить к России «для твердого установления Государственной безопасности», утверждал:
«Касательно Кавказских земель потому что все опыты, сделанные для превращения горских народов в мирные и спокойные соседы, ясно и неоспоримо уже доказали невозможность достигнуть сию цель. Сии народы не пропускают ни малейшего случая для нанесения России всевозможного вреда, и одно только то средство для их усмирения, чтобы совершенно их покорить; покуда же не будет сие в полной мере исполнено, нельзя ожидать ни тишины, ни безопасности, и будет в тех странах вечная существовать война. Насчет же приморской части, Турции принадлежащей, надлежит в особенности заметить, что никакой нет возможности усмирить хищные горские народы кавказские, пока будут они иметь средство через Анапу и всю вообще приморскую часть, Порте принадлежащую, получать от турок военные припасы и все средства к беспрестанной войне»[4].
Во второй главе — «О племенах Россию населяющих» — Пестель решительно развил свои соображения:
«Кавказские народы весьма большое количество отдельных владений составляют. Они разные веры исповедуют, на разных языках говорят, многоразличные обычаи и образ управления имеют и в одной только склонности к буйству и грабительству между собой сходными оказываются. Беспрестанные междуусобия еще больше ожесточают свирепый и хищный их нрав и прекращаются только тогда, когда общая страсть к набегам их на время соединяет для усиленного на русских нападения. Образ их жизни, проводимой в ежевременных военных действиях, одарил сии народы примечательной отважностью и отличной предприимчивостью; но самый сей образ жизни есть причиной, что сии народы столь же бедны, сколь и мало просвещенны. (Обратим внимание на этот момент! — Я. Г.) Земля, в которой они обитают издревле, известна за край благословенный, где все произведения природы с избытком труды человеческие награждать бы могли и который некогда в полном изобилии процветал, ныне же находится в запустелом состоянии и никому никакой пользы не приносит, оттого что народы полудикие владеют сей прекрасной страной. Положение сего края сопредельного Персии и Малой Азии могло бы доставить России самые замечательнейшие способы к установлению деятельнейших и выгоднейших торговых сношений с Южной Азией и следовательно к обогащению государства. Все же сие теряется совершенно оттого, что кавказские народы суть столь же опасные и беспокойные соседы, сколь ненадежные и бесполезные союзники. Принимая к тому в соображение, что все опыты доказали уже неоспоримым образом невозможность склонить сии народы к спокойствию средствами кроткими и дружелюбными, разрешается Временное Верховное Правление:
1) Решительно покорить все народы живущие и все земли лежащие к северу от границы, имеющей быть протянутой между Россией и Персией, а равно и Турцией; в том числе и приморскую часть, ныне Турции принадлежащую.
2) Разделить все сии Кавказские народы на два разряда: мирные и буйные. Первых оставить в их жилищах и дать им российское правление и устройство, а вторых силой переселить во внутренность России, раздробив их малыми количествами по всем русским волостям, и
3) Завести в Кавказской земле русские селения и сим русским перераздать все земли, отнятые у прежних буйных жителей, дабы сим способом изгладить на Кавказе даже все признаки прежних (то есть теперешних) его обитателей и обратить сей край в спокойную и благоустроенную область русскую»[5].
Жестокий радикализм Пестеля, поражающий при чтении этих страниц, вовсе не уникален. Достаточно вспомнить взаимоотношения Англии и Ирландии сразу после Английской революции и беспредельную жестокость Кромвеля, буквально утопившего Ирландию в крови. Причем и государственнический пафос, и основная аргументация Кромвеля и вообще идеологов колонизации Ирландии чрезвычайно близки к пафосу и аргументации Пестеля.
Нужно помнить, что Пестель писал это в 1824 году, когда активный период Кавказской войны длился около четверти века и действительно были испробованы различные способы замирения горских обществ. В 1824 году ситуация на Северо-Восточном Кавказе была сравнительно спокойной, но пронзительный ум Пестеля точно оценил это спокойствие. В 1825 году восстала вся Чечня и была подавлена Ермоловым. Но Кавказ уже стоял на пороге мюридизма.
«Русская правда» — документ, дающий обширное поле для размышлений. Пестелевская железная конституция продолжает суровую традицию утопических проектов, восходящих к «Государству» Платона, проектов, оперирующих логическими императивами и абсолютно игнорирующих как человеческую природу, так и права отдельной личности.
Но в подходе Пестеля к кавказской проблеме есть одно печальное достоинство — он совершенно трезв. Холодный логик Пестель выбирал наиболее прямой, не отягощенный никакими побочными, — прежде всего нравственными, — соображениями путь к цели. Так было с идеей поголовного уничтожения императорской фамилии. Так было с идеей «окончательного решения» кавказской проблемы.
Пестель представил без обиняков чисто имперскую государственническую точку зрения. И обосновал ее системой аргументов: 1. Необходимость защититься от набегов. 2. Необходимость нейтрализовать постоянный очаг нестабильности на южной границе. 3. Необходимость обеспечить безопасность азиатской торговли России (здесь явно маячит тень Петра I с его каспийско-индийским проектом). 4. Необходимость рационально использовать природные условия, которыми не умеют пользоваться «полудикие народы» Кавказа.
Последний пункт очень характерен: оправдание безжалостного отношения к горцам — уверенность в их хозяйственной и гражданской неполноценности (точка зрения, вполне совпадающая с ермоловской). И с этой точки зрения они совершенно незаконно занимали земли, которые могли быть использованы с пользой для государства.
Это вовсе не противоречит тезису Покровского о неколонизационном смысле завоевания Кавказа. Собственно кавказские земли не были столь обширны, чтобы приобретение их стоило таких колоссальных жертв и затрат. Главный смысл — ликвидация горских племен как военно-политического фактора. (Ермолов за несколько лет до Пестеля писал о развращающем примере горской свободы на Россию.) Для Пестеля в его расчисленном и жестко организованном государстве принципиально недопустимо само существование фактически в пределах империи — после присоединения Грузии — вечно кипящего кавказского котла, где население живет по собственным нерациональным правилам, чуждым пестелевской утопии.
Думаю, что Пестеля безумно раздражала романтизация Кавказской войны, игравшая не последнюю роль в психологической атмосфере завоевания.
Такова была «оправдательная доктрина» Пестеля. Для него над тактической прагматикой высоко возвышалась генеральная идея государственной пользы. И здесь непримиримый враг самодержавия оказался самым последовательным учеником Петра. Но даже современное ему самодержавное государство не могло позволить себе до поры — до разгрома Черкесии в 1864 году — ни подобных деклараций, ни подобных действий. Пестель же бестрепетно записывает план уничтожения — тем или иным способом — целых народов в документ, который он собирался предъявить всему миру.
Хотя политика николаевского правительства на Кавказе большую часть царствования и была в основных чертах попыткой реализовать идеи Пестеля, но попыткой компромиссной, непоследовательной, половинчатой. Отсюда следовали и вполне плачевные результаты.
С екатерининских времен, когда резко возросла российская активность на южных рубежах, индульгенцией для жестких действий против горцев, идеологической мотивацией была защита единоверной Грузии.
В известном манифесте Александра I от 12 сентября 1801 года, которым было узаконено вхождение Грузии в состав империи, согласие императора на этот акт обосновывалось исключительно необходимостью спасти христианский народ от истребления «хищными соседями», что имело под собой вполне реальную основу[6]. Отсюда естественным путем вытекала и логика действий против этих соседей. Но у Пестеля этот гуманистический мотив даже не упоминается. Он в нем не нуждался. Пестель, фигура сколь замечательная, столь и опасная, честно сформулировал позицию группы дворянства, наиболее последовательной в своем героически-имперском устремлении. В предвкушении государственного переворота, ориентированного на революционную диктатуру, дающую победителям неограниченные права, он вслух произнес то, что другие, существующие в традиционно-официальном контексте, сказать просто не решались.
Но Пестель и его радикально-имперские единомышленники (главным образом, вне Тайного общества) были явным меньшинством. Большинство — и практики-завоеватели, и публицисты-государственники — жаждало осознания нравственной цели Кавказской войны — крупной, ясной, исторически обоснованной, которая оправдала бы огромные жертвы, и уже понесенные, и те, что предстояло понести в будущем. В противном случае в русском общественном сознании рано или поздно образовалась бы болезненная сфера, порождаемая непониманием и ощущением неоправданности жертв и усилий.
Есть редкие, но явные свидетельства, что люди, особенно чуткие к этой стороне исторического процесса, внимательно следили за происходящим. В 1852 году Чаадаев запрашивал московского почтмейстера А. Я. Булгакова:
«Не можете ли вы прислать мне ненадолго письмо главного наместника (М. С. Воронцов. — Я. Г.), в котором он вам сообщает о бегстве Хаджи-Мурата и его смерти. Эта новость, не могущая появиться в газетах, очень важна и подробности ее чрезвычайно любопытны»[7].
В правомочности и неизбежности завоевания Кавказа сомнений не возникало, но потребность в стройной и убедительной оправдательной доктрине безусловно была.
Автор первого обзорного сочинения, вышедшего в Петербурге в 1835 году, в котором сделана была попытка дать общую картину военных действий на Кавказе и в Закавказье первой трети XIX века, Платон Зубов (не путать с фаворитом Екатерины II) в прологе пытался сформулировать такую идею:
«Исполнители великих намерений российского Монарха, они (русские генералы. — Я. Г.) извлекли Грузию и сопредельные ей земли, подвластные Российскому скипетру за Кавказом, из страшного анархического состояния; создали их благоустройство, политическую свободу, неприкосновенность собственности; озарили просвещением и гражданственностью; дали способ России предвидеть важные выгоды от ее Закавказских владений и заставили Персию и Азиатскую Турцию трепетать Российского оружия»[8].
«Важные выгоды» здесь вполне гипотетичны — недаром их можно только «предвидеть». Тем более что манифестом от 12 сентября 1801 года Александр пообещал грузинам: «Все подати с земли вашей повелели мы обращать в пользу вашу», то есть все налоги, собранные на новых землях, на этих землях и остаются. «Трепетать» Персию и Турцию можно было заставить — и заставляли! — и не присоединяя Грузию. Этот «трепет» отнюдь не был самоцелью.
Центральная идея здесь — чисто благотворительная: спасение, благоустройство и просвещение единоверного народа. Исполнение христианского долга. Действия в Закавказье и — неизбежно — на Кавказе оказывались новым крестовым походом…
Через шестьдесят с лишним лет, после окончания войны, этот религиозно-благотворительный аспект ретроспективно сформулировал Данилевский:
«Мелкие христианские царства еще со времен Грозного и Годунова молили о русской помощи и предлагали признать русское подданство. Но только император Александр I, в начале своего царствования, после долгих колебаний, согласился наконец исполнить это желание, убедившись предварительно, что грузинские царства, донельзя истомленные вековой борьбой с турками, персиянами и кавказскими горцами, не могли вести долее самостоятельного существования и должны были или погибнуть, или присоединиться к единоверной России. Делая этот шаг, Россия знала, что принимает на себя тяжелую обузу, хотя, может быть, не предугадывала, что она будет так тяжела, — что она будет стоить ей непрерывной шестидесятилетней борьбы. Как бы то ни было, ни по сущности дела, ни по его форме, тут не было завоевания, а было подаяние помощи изнемогавшему и погибавшему»[9].
Но все это формулировалось постфактум. А в разгар изнурительной войны идея крестового похода, сопряженного с такими жертвами и усилиями, была уже недостаточна. В первое десятилетие XIX века мощная инерция имперского строительства, рывка России на юг в Причерноморье, подвиги в этом направлении Румянцева, Суворова и Потемкина, воспитанниками которых были генералы-завоеватели этого периода, заменяли идеологию войны. Позже энтузиазм, рожденный подавлением Польши, во время которого и прославился первый покоритель Кавказа князь Павел Дмитриевич Цицианов, играл ту же роль. Но после 1812 года и заграничных походов требовалось нечто иное, дополняющее и облагораживающее идею государственной пользы как таковой.
Требовалось нечто схожее с идеей, одушевлявшей русское общество в его постоянном противостоянии Турции: во-первых, освобождение единоверных и единокровных братьев-славян и братьев по вере и культуре греков — как аспект гуманистический и религиозный; во-вторых, контроль над Босфором и Дарданеллами, обеспечивающий беспрепятственный выход в Средиземноморье, — как аспект прагматический. Противостояние Турции воспринималось как грандиозная историческая задача европейского масштаба, как благородная миссия, восходящая к миссии Руси, заслонившей Европу от монголов. Эти представления уже трансформировались в XIX веке в чистый миф, но миф психологически комфортный и духовно мобилизующий.
Ермоловский период — приход на Кавказ людей 1812 года, участников заграничных походов с их антидеспотическими настроениями — принес наметки новой доктрины — цивилизаторской и гуманизаторской, на основе которой Ермолов повел непримиримую борьбу с местными деспотиями — ханствами, борьбу, победные результаты которой обернулись против России. Подорвав и почти уничтожив власть ханов, нарушив тем самым и без того неустойчивую структуру политического и военного равновесия в Дагестане, Ермолов поставил Россию лицом к лицу с куда более опасным противником — вольными горскими обществами. Но это — проблема другого ряда.
Сейчас вернемся к идеологии, предлагаемой аутсайдерами — декабристами, которые не были связаны официальным контекстом, дисциплинирующим мысль до ее омертвления.
Как это ни парадоксально, самым внимательным и пристально анализирующим наблюдателем кавказских дел в наиболее тяжелый период войны был загнанный в глубь Сибири Михаил Сергеевич Лунин, один из наиболее сильных мыслителей декабризма.
О Кавказской войне — как характернейшем факторе русской политической и экономической жизни — напряженно думали именно те, кому ясна была катастрофичность генерального пути, выбранного самодержавием.
Историософски мыслящий человек, Лунин включает Кавказскую войну и все, что связано с кавказскими делами, в общий контекст российской жизни. Он перечисляет бездарные акции правительства, в том числе и тяжелейшую, с огромными жертвами выигранную Турецкую войну, неумелую борьбу с холерной эпидемией, приведшую к кровавым бунтам. Лунин с поразительным чутьем обозначает фон, на котором началась убийственная для русских властей пробуксовка военных действий на Кавказе.
«Годы 1833, 34 и 40 будут отмечены трауром в наших летописях из-за почти повсеместного голода, поразившего страну и обличающего некий коренной порок в общественном хозяйстве. В длительных мучениях голода в своих лачугах погибли и гибнут ежедневно тысячи кормильцев и защитников государства, на которых бедствия народные падают всею своею тяжестью. Во всяком бедствии есть предел, который приводит народ в движение. В нескольких внутренних губерниях крестьяне при виде полей, выжженных во время жатвы, павшего скота и гибнущих семейств убили помещиков, подожгли собственные жилища и покинули землю, которую напрасно поливали своим потом…»[10]
Знаменательно, что эти пассажи о тяжком внутреннем положении России вклиниваются в рассуждения Лунина о подавлении Польши и завоевании Кавказа. Выстраивается некая единая система взаимоотношений глубоко неблагополучной империи со своими составляющими. Но отношение к Польше и Кавказу у Лунина принципиально различное. И дело, разумеется, не просто в известном полонофильстве Лунина, а в его подходе к двум этим наиболее актуальным тогда имперским проблемам.
О Польской войне он пишет:
«Потери нашей заново набранной армии еще раз были громадны. Но не одну лишь смерть соотечественников надлежит нам оплакивать в несчастной этой войне. Меч был поднят против родственного народа, введенного в заблуждение обманчивыми обещаниями в предшествующее царствование; и братья истребляли друг друга на полях сражений»[11].
Война с Польшей — трагическое недоразумение, которого можно и нужно было избежать. Не то с Кавказом. Лунин безусловно приветствует включение в состав империи новых территорий — «областей Эриванской, Нахичеванской и Ахалцыхской». Кавказская война вызывает его резкое неприятие не сутью своей, но самим характером действий и последствиями их для России.
Лапидарно, безжалостно и конкретно очертив внутренние неустройства империи, из этих принципиальных неустройств, из неверного общего движения дел в стране, из пагубного выбора модели государственной системы, из отстранения от активной легальной деятельности людей Тайного общества с их спасительными идеями Лунин непосредственно выводит роковые пороки Кавказской войны.
«…Разорительная, убийственная война, заполнившая три предыдущих царствования, оправдать которую можно лишь политическими соображениями, все еще длится на Кавказе. Несмотря на значительные силы, брошенные в эту войну с начала нынешнего царствования, никакого положительного результата нет. Внутренняя часть обширной территории, вдающейся в пределы империи, по-прежнему находится во власти нескольких полудиких народцев, которых не смогли ни победить силой оружия, ни покорить более действенными средствами цивилизации. Эти орды нападают на наши одинокие посты, истребляют наши войска по частям, затрудняют сообщение и совершают набеги в глубь наших пограничных провинций. Медленность военных операций в этих краях приписывают обычно трудностям местности, изрезанной горными цепями и сетью бурных потоков, нездоровому климату и воинственному нраву туземцев. Однако современная военная наука не считает более препятствиями неровности почвы; климат, в котором произрастает виноград, хлопок, шелковица, марена, кошениль, шафран и сахарный тростник, не может быть вреден для человека; и, наконец, бедные туземцы, которых стараются изобразить в столь мрачных красках, это всего лишь слабые разрозненные орды, лишенные союзников, невежественные в военном искусстве, не обладающие ни крепостями, ни армией, ни пушками. Не естественнее ли приписать вялый ход войны причине, которая повсюду в той или иной мере тормозит успехи правительства? Ему пришлось сменить подряд нескольких главнокомандующих за их небрежность или явную неспособность. Один из них был лишен командования и переведен в Сенат за кражи и взятки, которые имел слабость допускать, если не пользовался ими лично. Никто из них, исключая победителя Эривани, не заслужил общественного доверия своими военными или административными талантами. Правительству недостает людей, потому что ему самому недостает принципов»[12].
И тут же Лунин переходит к явлениям, которые для него связаны с многолетней безуспешной «разорительной войной».
«Рекрутчина поглотила за эти пятнадцать лет более миллиона человек. Косвенные налоги возросли вследствие обложения табака и выпуска новых бумажных денег. <…> Государственный долг превышает миллиард рублей, вынуждает нас передать его будущим поколениям как печальное наследие и наследственный недуг»[13].
При этом Лунин полагает, что Николай «не может ни прервать, ни прекратить» Кавказскую войну «по причинам, указанным нами выше».
Однако причины эти не совсем ясны из предыдущего текста.
В отличие от поляков — «родственного народа», кавказские горцы, как видим, не вызывают у Лунина ни уважения, ни сочувствия. Первое, очевидно, объясняется отсутствием личных впечатлений. Горцы даже на непримиримых конкистадоров производили сильнейшее впечатление, которое проявлялось в самых неожиданных формах. Это подлежит подробному исследованию как один из важнейших психологических аспектов Кавказской войны для России. Второе — принципиальное. Движение России на юго-восток, в Азию Лунин считал неизбежным и оправданным. Более того, из двух направлений имперской экспансии: западного и юго-восточного — вечная дилемма российской геополитики — важнейшим он считал второе. И был в этом не одинок.
В 1838 году в очередном письме сестре, — а Лунин, как известно, использовал форму писем к сестре, как Чаадаев письма к некой даме, для изложения своих политических и историософских идей, — он все расставил по местам.
Чтобы придать своему тексту вид частного письма, Лунин воспользовался в качестве повода обсуждением возможной карьеры племянника. Он писал:
«…Ты опровергаешь идею действительной службы на Кавказе для твоего старшего сына. Объяснимся. Южная граница наша составляет самый занимательный вопрос настоящей политики. В стужах сибирских, из глубины заточения мысль моя часто переносится на берега Черного моря и обтекает три военных линии, проведенных русскими штыками, в краю, иззубренном мечами римлян. Предназначенные также значительно действовать в истории, русские в 1557 году имели два направления для развития своей материальной силы: одно на север, другое на юг. Правительство избрало первое. Постоянными усилиями и пожертвованиями оно достигло своей цели. Главная выгода этого направления состоит в приобретении прибрежия двух второстепенных морей и океана неудобоходного. Второе направление представляло важнейшие результаты. Это была мысль Адашева и Сильвестра. Сохранясь силою сокровенною, свойственною идеям органическим, она с полвека тому начала развиваться в постепенных завоеваниях наших на южной границе. Каждый шаг на севере принуждал нас входить в сношения с державами европейскими. Каждый шаг на юге вынуждает входить в сношения с нами. В смысле политическом взятие Ахалциха важнее взятия Парижа. Если дела Кавказа немощны, несмотря на огромные средства, употребляемые правительством, это происходит от неспособности людей, последовательно назначаемых вождями войск и правителями края. Один покоритель Эривани по своим военным талантам отделен от группы этой старой школы. Но он явился мгновенно во главе армии, а в этой земле надо не только покорять, но и организовывать. Система же, принятая для достижения последней цели, кажется недостаточна: ибо не удалась на равнинах запада, как и в горах юга. Пределы письма не позволяют развить все мои мысли. Verbum — sарiеnti[14]. Из этих общих усмотрений следует: служба на Кавказе представляет твоему сыну случай изучить военное искусство во многих его отраслях и принять действительное участие в вопросе важного достоинства для будущей судьбы его отечества»[15].
После фразы о «недостаточности системы» шла фраза, затем вычеркнутая: «Не имея под собой разумной основы, они годится лишь для того, чтобы скрепить присоединенные части». Очевидно, Лунин, стремившийся к максимальной лапидарности и выразительности, считал, что и так все понятно. Но вычеркнутая фраза крайне важна — речь идет о механическом, силовом скреплении частей империи при отсутствии органично объединяющей идеи. Речь идет об отсутствии убедительной идеологии, которая облегчила бы процесс завоевания Кавказа, который в чисто военном отношении не представлял, по мнению Лунина, ничего невозможного. Что вполне соответствовало действительности. Русские батальоны, эскадроны и казачьи сотни за четыре десятилетия исходили Кавказ вдоль и поперек. Задача заключалась не в том, чтобы достигнуть того или иного пункта, а в том, чтобы удержать, освоить пройденное пространство. Вот это-то и не удавалось. Тут требовалась та самая организация, которая была невозможна без идеи, которую — в идеале — могли органично воспринять и усвоить обе противоборствующие стороны. Или, хотя бы, только русская сторона.
По Лунину, успехи в борьбе с Турцией объяснялись сокровенной силой органичной идеи, которая лежала в основе южной стратегии в противовес западной. Лунин не воспринимал западные державы как естественного противника. Странное, на первый взгляд, утверждение: «Каждый шаг на севере принуждал нас входить в сношения с державами европейскими. Каждый шаг на юге вынуждает входить в сношения с нами», — имеет вполне определенный смысл. Продвигаясь на запад, то есть север по отношению к южному направлению, Россия, так сказать, навязывала себя Европе, силой втискивалась в «концерт» европейских держав, отбирала земли, принадлежащие западным странам, что создавало постоянно конфликтную и напряженную ситуацию. Расширяясь на юг, усиливаясь таким образом территориально, морально и в отношении военном, ослабляя Турцию, не одно столетие угрожавшую юго-восточному флангу Европы, Россия делается для Запада желанным и непременным партнером. Она не теснит западные державы, но становится в один ряд с ними.
Вот почему Лунин особо выделяет взятие Ахалциха — мощного турецкого форпоста в Грузии — в 1828 году войсками Паскевича, что принципиально меняло военно-стратегическую обстановку в направлении собственно турецкой границы. Выигранную Турецкую войну Лунин считает важнее победы над Наполеоном в Европе — «взятие Ахалциха важнее взятия Парижа», ибо здесь одержана победа над главным, естественным противником на главном, естественном направлении.
Таким образом, идеологическое оправдание для расширения российских территорий в южном направлении — в том числе и на Кавказе — для Лунина ясно. Но Кавказ — особая сфера, особая ситуация, нуждавшаяся в специальной доктрине. Этой-то доктрины ни правительство, ни кто иной при засилии консерваторов предложить не может.
Для Кавказской войны — в отличие от Персидской и Турецкой — у России нет локальной органичной идеи, поскольку консервативный контекст не дает ей родиться. А талантливых исполнителей нет постольку, поскольку они вырастают только на дрожжах органичных идей. Заколдованный круг.
(Если мы вспомним, что двадцатилетняя Северная война не выдвинула ни одного сколько-нибудь выдающегося полководца, кроме самого Петра, равно как и участие России в Семилетней войне, а турецкие войны екатерининского времени немедленно породили блестящую плеяду военачальников во главе с Румянцевым и Суворовым, то стоит задуматься над лунинским парадоксом.)
На одну лунинскую мысль надо обратить особое внимание: система, принятая Петербургом для того, чтобы организовать новоприобретенные части империи, «не удалась на равнинах запада, как и в горах юга».
Лунин впрямую сравнивает Польшу и Кавказ, подтверждая отсутствие у империи в этот период общей органической идеи, общего объединяющего принципа, кроме механического «скрепления присоединенных частей».
Он видит в этом глубокий порок и угрозу будущему. И, как мы знаем, он не ошибся. Однако, считая покорение Кавказа «вопросом важного достоинства для будущей судьбы <…> отечества» — ни больше ни меньше! — впрямую никак не формулирует эту столь необходимую органическую идею.
Но некоторое представление о том, что имел в виду Лунин, составить все же можно. На следующий год он снова возвращается к кавказской проблеме — ясно, что она не уходила из его мыслей:
«Я указал, что медленность успехов на Кавказе проистекает от людей старого толка: люди с новыми понятиями явились в рядах войска и совершили важный шаг».
Лунин говорит здесь о тех членах Тайного общества или близких к ним людях, которые сыграли незаурядную роль в кавказских событиях, — Николае Николаевиче Раевском-младшем, возглавлявшем русские войска на Черноморском театре, Иване Бурцове, герое Ахалциха, генерале Вольховском, обер-квартирмейстере Кавказского корпуса во время Турецкой войны, а затем начальнике штаба корпуса. Но дело не в их личных талантах и достоинствах, а в той идеологии, которую они, по мнению Лунина, представляли.
Не подразделяя различные группировки Тайного общества по оттенкам — иногда весьма существенным — политических представлений, Лунин считал их всех носителями конституционной либеральной идеи.
Лунин явно не был сторонником компромиссного решения конфликта России с Кавказом. Он был убежденным сторонником военного давления на «слабые разрозненные орды» «бедных туземцев» с одновременной разумной «организацией» края. Но, как ни парадоксально это звучит, он убежден, что эффективно воевать и удерживать завоеванное способна отнюдь не военная империя Николая, а либеральное конституционное государство Тайного общества. И, стало быть, органичную идею для Кавказа следовало искать в этом направлении. Это особый вопрос, требующий отдельного исследования. А здесь скажем только, что стремительное окончание войны после 1856 года, когда появились явные тенденции либерализации политического режима, подтверждает эту странную на первый взгляд мысль Лунина.
У декабристов, близких к Лунину и разделявших убеждение в неизбежности и необходимости завоевания Кавказа, когда сами они оказывались лицом к лицу с кавказской реальностью, появлялись соображения, отличные от лунинских в деталях, но принципиально развивающие и конкретизирующие их.
Глубоко почитавший Лунина и многому от него в моральном и историософском плане научившийся Андрей Розен в воспоминаниях оставил удивительное свидетельство этого движения взглядов. Вспоминая свой отъезд с Кавказа после разрешения выйти в отставку, он писал:
«Прощай, Кавказ! С лишним уже 140 лет гремит оружие русское в твоих ущельях, чтобы завоевать тебя окончательно, чтобы покорить разноплеменных обитателей твоих, незначительных числом, диких, но сильных в бою, неодолимых за твердынями неприступных гор твоих; иначе русский штык-богатырь давно довершил бы завоевание»[16].
Здесь две вещи важны. Розен писал кавказские главы «Записок», судя по всему, в конце 1850-х годов — но до пленения Шамиля, иначе он обязательно упомянул бы об этом роковом моменте войны. Он считает завоевание далеко еще не законченным, что свидетельствует о настроениях в обществе, о том, как представлялась в самой России ситуация на Кавказе. То, что пленение Шамиля и фактическое окончание войны в 1859 году было полной неожиданностью, подтверждается и другими источниками. Р. Фадеев, участник, идеолог, историограф Кавказской войны, так начал свою книгу о ней:
«В прошлом сентябре Россия прочитала с удивлением, едва веря своим глазам, телеграфические донесения князя Барятинского Государю Императору, извещавшие, “что восточный Кавказ покорен от моря Каспийского до Военно-Грузинской дороги”, что “Шамиль взят и отправлен в Петербург”; русское общество знало, хотя и смутно, что в последнее время дела пошли на Кавказе хорошо, но далеко еще не ждало такого быстрого конца»[17].
Это еще одно подтверждение, что Великая Кавказская война была терра инкогнита для русского общества. В конце пятидесятых — уже есть телеграф, масса газет, существует институт корреспондентов, газеты соревнуются по части свежих новостей, цензура не свирепствует, — а общество «смутно» представляет себе, что же происходит на самом многолетнем театре военных действий в отечественной истории.
Далее — Розен абсолютно не сомневается в необходимости покорения Кавказа и в конечной достижимости этой цели. Как и Лунин, он сетует на длительность войны, но объясняет это совершенно по-иному. Лунин считал первопричиной устаревшую порочную идеологию, выдвигавшую принципиально неспособных людей, не умеющих «организовать» завоеванное пространство. Розен объясняет неуспехи русского оружия чисто географически: горцы «неодолимы за твердынями неприступных гор» Кавказа.
Наконец — хронология. Розен, наверняка участник многих разговоров о Кавказской войне, определяет ее длительность около 1859 года в 140 лет. То есть возводит ее начало к персидскому походу Петра I.
Но главное для нас — дальше.
«Мы давно уже владеем равнинами по сию сторону Кавказа; владения наши по ту сторону гор, в Закавказье, простираются далее прежней границы Персии, а все еще Кавказ не наш; ни путешественник, ни купец, ни промышленник не посмеют ехать за линию без воинского прикрытия, без опасения за жизнь свою и за имущество».
То есть Розен стоит на позиции ограниченно прагматической. Необходимость победоносного завершения Кавказской войны диктуется невозможностью терпеть внутри империи неподконтрольный опасный анклав, угрожающий безопасности российских граждан и успехам торговли. Таким образом, речь идет о коммуникациях с Закавказьем.
«Имена Зубова, Лазарева, князя Цицианова, Котляревского, Ермолова, Паскевича, Розена напоминают нам ряд блестящих и геройских подвигов, коих было бы достаточно для покорения многих государств, но оказались бесполезными до сих пор против горцев»[18].
Разумеется, Розен как человек ясного ума догадывался, что безуспешность колоссальных и самоотверженных воинских усилий объясняется не только сильно пересеченной местностью на театре военных действий. И в процессе рассуждения он приходит к весьма определенным выводам.
«До Ермолова военная сила наша была незначительна в тех местах; она увеличивалась при особенных, важных экспедициях только временно. Ермолов имел постоянно не более 40 000 войска, но мастерски владел этой силою, умел быстро направить ее куда нужно было, держал врагов в непрестанном страхе — одно его имя стоило целой армии. Ныне с линейными казаками у нас больше 110 000 воинов на Кавказе постоянно; хотя мы и подвигаемся в завоеваниях, но медленно, ненадежно и дорого. Кажется, что самое начало было неправильное (выделено мной. — Я. Г.); мы подражали прежнему старинному образу действий: как Пизарро и Кортес, принесли мы на Кавказ только оружие и страх, сделали врагов еще более дикими и воинственными, вместо того, чтобы приманить их в завоеванные равнины и к берегам рек различными выгодами, цветущими поселениями»[19].
Сравнение русских войск с испанскими конкистадорами не было изобретением Розена. Очевидно, оно было достаточно распространено. Во всяком случае, Н. Н. Раевский-младший, командовавший Черноморской линией и самоотверженно воевавший, но не разделявший фундаментальных принципов завоевания, писал:
«Наши действия на Кавказе напоминают все бедствия первоначального завоевания Америки испанцами»[20].
Именно это и имел в виду Лунин — консервативный конкистадорский подход к кавказской проблеме. У Розена названы имена-символы. Кавказский корпус поставлен на одну доску с отрядами испанских завоевателей, руководствовавшихся чистой прагматикой, абсолютно не учитывавших интересы туземцев, знавших два принципа — подавляй силой оружия и разделяй и властвуй. Именно эти два принципа и были определяющими до второй половины 1840-х годов. С той только разницей, что Испания, равно как и сами конкистадоры, стремительно обогащалась, а Россия не менее стремительно растрачивала свой капитал. Недаром и Лунин, и Розен постоянно говорят о дороговизне войны.
Из розеновского текста надо выделить фразу: «Кажется, что самое начало было неправильное». Если учесть, что Розен отсчитывает начало Кавказской войны от персидского похода Петра, то его сомнения отнюдь не беспочвенны. Петр и его генералы совершенно неправильно оценили обстановку на Кавказе. Горские общества воспринимались ими даже не как противник, но как досадная злая помеха великому делу. Это был принцип. Совершенно так же Петр отнесся к стрельцам, взбунтовавшимся в 1698 году, даже не попытавшись понять, что же заставило их пойти на этот самоубийственный шаг. Хотя причины были вполне конкретны и устранить их ничего не стоило. Но поведение стрельцов идеально укладывалось в схему, которую Петр для себя построил, — косные, темные люди, желающие сорвать великие начинания. Между тем стрельцы и рады были бы вжиться в эту строящуюся систему отношений, но им не давали такой возможности, их полуосознанно провоцировали. И Петр решил проблему отсечением тысяч голов.
Ситуация с горскими племенами была, конечно же, сложнее. Но путем кропотливой дипломатической работы, не исключавшей отдельные военные акции, налаживанием торговых связей, умным сопоставлением ценностей можно было начать процесс сосуществования.
Горцы действительно пытались не пропустить через свою территорию драгунские полки, идущие неизвестно куда и зачем. Но карательные экспедиции генерала Матюшкина стали камертоном отношений России и Кавказа на столетия вперед… Именно эта, Петром заложенная, традиция взаимоотношений подготовила движение шейха Мансура, ставшее подлинным прологом классического периода Кавказской войны.
То развитие событий, плоды которого Россия пожинает ныне, не было безусловно детерминировано. Существовали — гипотетически! — иные варианты. И в середине XIX века Розен предлагает вернуться к тому, что было упущено в первой трети XVIII века. Он в общих чертах рисует всю систему воздействия на умонастроения горцев.
«Англичане тоже стреляют ядрами и пулями в индийцев и китайцев, но привозят к ним, кроме огнестрельного оружия, всякие орудия для выгодного труда, торговлю, образование, веру и, по доказанному опыту, верную надежду на будущее благосостояние. Россия также старалась действовать мирными средствами: она по обеим сторонам Кавказа поселила иностранных колонистов, но в малом объеме; она последнее время стала селить женатых солдат и отставных по военной дороге в Кабарде; но эти поселения служат не приманкою, а угрозою и страшилищем. Кто исчислит все жертвы, которые государство ежегодно приносит людьми и деньгами? Эти значительные пожертвования уже не позволяют отстать от начатого дела; кроме того, Кавказ нам нужен в будущем для сообщений торговых. Много уже сделано, остается довершить, но только не исключительно одним оружием»[21].
Из всего вышесказанного можно заключить, что Розен, разделяя тезис Пестеля об экономической несостоятельности горцев, делает существенно иные выводы и выдвигает в качестве оправдательной доктрины доктрину цивилизаторскую — Россия призвана принести горцам благосостояние и мирное гражданское существование. И добиваться этого нужно не только навязывая Кавказу свою волю силой оружия, но прежде всего демонстрируя в замиренных районах плоды экономического преуспеяния.
Проект Розена, основанный на английском опыте, конечно же, утопичен. Столетиями, если не тысячелетиями, привыкавшие к повиновению своим властителям индийцы и китайцы, жившие в строго иерархической системе, никак не сопоставимы с гордыми и свободолюбивыми воинами из независимых горских обществ, для которых право жить по своим традициям и миропредставлениям равнозначно было праву жить вообще. Не говоря уже об одушевлявшей и объединявшей их в тридцатые и сороковые годы фанатичной идее мюридизма.
(Да и с английским опытом все было далеко не так благополучно. В те самые годы, когда Розен писал вышецитированные строки, в Индии полыхало ужасающее по жестокости восстание сипаев, подавленное, как теперь бы сказали, адекватными мерами, то есть с неограниченной жестокостью.)
Вполне утопичны были и надежды Розена на мудрое поведение российской администрации на замиренных территориях.
«Много горцев уже поступили добровольно в подданство России, они известны под общим названием мирных черкесов; этим людям следовало дать всевозможные льготы и выгоды, оставить им пока их суд и расправу, не навязывать им наших судей-исправников. Благосостояние покоренных или добровольно покорившихся горцев доставило бы нам в несколько лет больше верных завоеваний и прочных, чем сто тысяч воинов и сто миллионов рублей могли бы это совершить. Пока не покорившиеся горцы видят, что покорные нам братья их ведут жизнь не лучше непокорных, до тех пор будут противиться они до последней крайности… Хорошее управление не меньше русской храбрости может ускорить окончательное покорение и сделать его прочным. <…> Потомство не забудет главных сподвижников в этом деле; потомство соберет плоды с земли, орошенной кровью храбрых, и с лихвою возвратит себе несметные суммы, издержанные предками на это завоевание»[22].
Благосостояние, разумеется, значило немало, но отнюдь не все. Для горца, как уже говорилось, не менее важно было сохранить традиционный миропорядок, который казался ему единственно достойным, сохранить тот стиль жизни, который позволял сохранить самоуважение. Трагичность и неразрешимость ситуации заключалась в том, что этот стиль органически включал в себя и элементы, совершенно неприемлемые для российской стороны, — как, например, набеги, составлявшие чрезвычайно важную — экономически и психологически — часть горского быта.
Но главное не в этом. Розен ждал от николаевского государства того, что тому было категорически несвойственно. Элементы розеновского проекта были использованы князем Барятинским — но уже в другой России. И зерно здесь, конечно, — «оставить им пока их суд и расправу, не навязывать им наших судей-исправников».
Вопрос о суде и расправе был едва ли не ключевым в замиренных областях. Ростислав Фадеев, бывший в первый период после окончания войны сторонником введения судопроизводства, приближенного к европейскому, в семидесятые годы на основании горчайшего опыта радикально изменил свое мнение:
«Подчинение христианским гражданским законам, — писал он в “Записке об управлении азиятскими окраинами”, — равняется для туземца насилованию на каждом шагу его веры, связанной с самыми мелочными обычаями жизни»[23].
Об этом же говорил и Грибоедов:
«Не навязывайте здешнему народу не соответствующих его нравам и обычаям законов, которых никто не понимает и не принимает. Дайте народу им же самим выбранных судей, которым он доверяет. Если возможно, то не вмешивайтесь в его внутреннее управление, пусть в органах управления и в суде присутствуют депутаты, назначенные правительством, а в остальном не прибегайте ни к какому насилию»[24].
Правда, говорил он это неофициально.
Время для реализации подобной методы было безнадежно упущено, о чем прямо и просто написал еще один русский мыслитель, побывавший на Кавказе в конце 1820-х годов. Это был Пушкин. В «Путешествии в Арзрум» есть полторы страницы, поразительные по безнадежности тона:
«Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. (У Розена: “В ермоловское время офицеры на Кавказе терпеть не могли мирных черкесов; они ненавидели их хуже враждебных, потому что они переходили и изменяли непрестанно, смотря по обстоятельствам…”) Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту и бегут, завидя пушку. Зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщения крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение… Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом?»
Любопытно, что у каждого из цитированных мною авторов есть нечто только ему присущее, только им наблюденное и угаданное. Пушкин единственный, кто выводит безнадежность кавказской ситуации из неискоренимых особенностей национальной психологии горцев, то есть фактора, для устранения которого требуются столетия. И этим объясняется тон последующего текста:
«Должно однако ж надеяться, что приобретение Восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением».
Гениально лапидарные тексты Пушкина — родственные в этом отношении лунинским — замечательны тем, что иногда одно слово, один стилистический оборот является смысловым ключом к наиболее существенным пассажам.
Трудно отделаться от впечатления, что вышеприведенные фразы не есть пародия на известный в то время проект адмирала Мордвинова, предложенный Ермолову при его назначении на Кавказ. В проекте, в частности, предлагалось «умягчить суровую нравственность» горцев «нашим роскошеством, сблизить их к нам понятиями, вкусами, нуждами и требованиями от нас домашней утвари». Повторив мало уместное слово «роскошь», Пушкин тут же убил смысл мордвиновского предложения словом «самовар». Укрощать смертельно обиженных, ограбленных черкесов введением в их быт самовара — это могло быть только издевательством над самой идеей бытовой адаптации горцев.
Но далее у Пушкина идет крайне серьезный абзац:
«Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов Корана, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров».
Но далее, как и в случае с мордвиновской идеей, Пушкин одним словом фактически перечеркивает смысл сказанного:
«Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты»[25].
Здесь, разумеется, знаковое слово — «леность», которое приводит нас к знаменитой фразе: «мы ленивы и нелюбопытны». Наблюдая бессмысленную попытку распространения Священного писания на русском языке среди горцев, Пушкин явно не верит в реальность миссионерской деятельности.
Над поисками выхода из российско-кавказской драмы размышляли, разумеется, не только военные профессионалы. Вскоре после пленения Шамиля — осенью 1859 года — Добролюбов, поборник гражданских прав и свобод, опубликовал статью «О значении наших последних подвигов на Кавказе». Слово «подвиги» здесь употреблено в самом точном и серьезном значении.
На всем обширном пространстве статьи Добролюбов ни разу не усомнился в самой необходимости и целесообразности завоевания. Но, подробно очертив основные этапы войны, он трезво проанализировал главные, по его мнению, причины ожесточенного сопротивления горцев — грубость, некомпетентность и невежество русской администрации, совершенно не учитывавшей особенности миропредставления, обычаев и верований кавказских племен.
Оценил он и суть конфликта между великим имамом и охладевшими к нему в середине 1850-х годов горцами:
«Управление Шамиля казалось тяжело для племен, не привыкших к неповиновению, а выгод от этого управления они не находили. Напротив, они видели, что жизнь мирных селений, находящихся под покровительством русских, гораздо спокойнее и стабильнее. Следовательно, им представлялся уже выбор — не между свободой и покорностью, а только между покорностью Шамилю, без обеспечения своего спокойствия и жизни, и между покорностью русским, с надеждой на мир и удобство быта. Само собою разумеется, что рано или поздно выбор их должен был склоняться на последнее»[26].
И делает логичный вывод:
«Отсюда ясно, что нужно для того, чтобы удержать и прочно связать с Россиею новое завоевание: нужно, чтобы всем горским племенам было гораздо лучше при русском управлении, нежели было при Шамиле. Из фактов, которые мы припомнили из истории Кавказа, очевидно, что не случайное появление личностей, подобных Шамилю, и даже не строгое учение мюридизма было причиною восстаний горцев против русских. Коренною причиною была ненависть к русскому господству».
Однако последняя фраза в смысловом отношении недостаточна. Приятие горцами русского владычества означало бы крушение того миропорядка, который горцы считали единственно возможным. (И, несмотря на без малого полтораста лет существования в контексте российской государственности, адаптации к этой государственности и системе ценностей так и не произошло. Кавказ оказался уникально консервативным психологически.)
Рационалист Добролюбов, конечно же, упрощает ситуацию, возлагая все надежды на умное администрирование:
«Когда русское управление сделает то, что для горцев не будет привлекательною перемена его на какое-нибудь другое, — тогда только спокойствие на Кавказе и связь его с Россиею будут вполне обеспечены».
Добролюбов игнорировал как родовые особенности русской администрации, которая за все полтора века и не выработала форм, приемлемых для городского сознания, так и вышеупомянутую консервативность этого сознания.
Но в данном случае важны два момента. Во-первых, если такой непримиримый оппозиционер по отношению к самодержавному государству, как Добролюбов, признавал законность и неизбежность завоевания Кавказа, это значит, что в общественном сознании сам по себе факт завоевания сомнений не вызывал. И во-вторых, его вера в принципиальную возможность окончательного и тотального замирения горских племен.
И Пестель, и Лунин, и Розен, — не говорю уже о Зубове, — и штатский Добролюбов понимают все технологические трудности покорения Кавказа, но в принципе они оптимисты. Они — в отличие от Пушкина — верят, что тем или иным способом на Кавказе можно достичь желаемого результата. Пестель верит в реальность фактического геноцида горских племен, Лунин — в военную победу и разумную организацию управления замиренными территориями на основе либеральных идей, Розен не сомневается в действенности экономико-психологических методов, Зубов уверен в непобедимости российского оружия. Добролюбов, безусловно выражавший мнение демократического круга «Современника», уповает на просвещенную администрацию и на возможность «внушить диким племенам истинные начала образованности и гражданского быта».
Каждый из них подписался бы под конечным выводом Розена:
«Потомство соберет плоды с земли, орошенной кровью храбрых, и с лихвою возвратит себе несметные суммы, издержанные предками на это завоевание»[27].
Недостаточность, психологическая неубедительность цивилизаторской и экономической оправдательных доктрин стали очевидно ясны в период фатальных неудач русской армии на Кавказе.
В середине сороковых годов, скорее всего после катастрофической Даргинской экспедиции 1845 года, ветеран Кавказской войны адмирал Серебряков писал:
«Силою самих обстоятельств мы увлечены за Кавказ; мы покоряем Дербент, Баку, Ганжу и спасаем Грузию, порабощенную игу изуверов, а с этим вместе последнее, слабое христианство в Азии, доблестно боровшееся несколько веков с могуществом мусульманским»[28].
«Сила обстоятельств» здесь — это именно необходимость защитить Грузию, ставшую частью империи. И мотив спасения христианства далеко не случайно снова всплывает как определяющий. За четыре десятилетия выработать действенную идеологию этой изнурительной войны, кроме той, с которой все начиналось, — не удалось.
Следующая после Лунина подлинно историософская попытка осмыслить суть и значение Кавказской войны как проблемы, имеющей прямое касательство к будущей судьбе России, как роковой вопрос, а не просто кровавую попытку прирастить к огромному пространству империи еще один небольшой кусок территории, сделана была только по фактическом окончании войны.
В 1860 году Ростислав Фадеев, чье участие в Кавказской войне имело целью получить из первых рук материал для теоретических построений, выпустил книгу «Шестьдесят лет Кавказской войны». Мы уже к ней обращались. Во вступлении Фадеев писал:
«Наше общество в массе не сознавало даже цели, для которой государство так настойчиво, с такими пожертвованиями добивалось покорения гор»[29].
Это очень значимый пассаж. Через шестьдесят лет после официального начала войны — а на самом деле этот срок куда длиннее! — впервые публично ставится вопрос об истинной, а не формально-официозной цели этого колоссального государственного усилия. И далее Фадеев излагает соображения, восходящие в известной степени к лунинскому тезису об «органической идее» продвижения на юг, а кроме того, предвосхищающие известную нам мысль Покровского о неколонизационном смысле завоевания Кавказа.
«Страны, составляющие Кавказское наместничество, богатые природою, поставленные в удивительном географическом положении для высокого развития в будущем, все-таки, с чисто экономической точки зрения, независимо от других соображений, не могли вознаградить понесенных для обладания ими жертв. На Кавказе решался вопрос не экономический, или, даже если отчасти экономический, то не заключенный в пределах этой страны. Понятно, что для большинства общества этот вопрос, необъяснимый прямой перспективой дела, оставался темным»[30].
Когда Фадеев утверждал, что «на Кавказе решался вопрос не экономический», то есть дохода Россия ожидать не могла, то он понимал, что говорил, ибо прекрасно знал финансовую сторону войны и управления покоренными территориями и позже составлял официальные записки для наместника с подробной росписью расходов.
Уже в наше время в самой фундаментальной работе на интересующую нас тему сказано совершенно категорически:
«В отличие от Закавказья и Предкавказья, Большой Кавказ не представлял для России особого экономического интереса»[31].
Этот мотив экономической ущербности, убыточности приобретенных территорий имел долгую традицию. Еще в 1791 году упоминавшийся генерал Гудович, командовавший Кавказской линией, писал императрице Екатерине о землях по Тереку:
«А дабы край сей стоящий уже больших сумм казне Вашего Императорского Величества приготовлялся впредь к пользе государственной и к поданию доходов, а стража границ около оного не оберегала пустых земель и лесов, дерзаю представить всеподданнейшее мое мнение, чтобы перевести в удобные и выгодные места в сей край по меньшей мере десять тысяч душ государственных крестьян малоземельных из внутри России»[32].
Это, кстати, к вопросу об органичности колонизации… Земли Предкавказья заселялись, но с доходами дело было плохо.
В одной из записок, касающейся способов сокращения расходов на управление Грузией и Кавказом, Фадеев, в частности, писал:
«Грузия не может расшириться, а потому нечего опасаться новых растрат с этой стороны. Совсем другое дело — мусульманские области. Они могут раздвинуться еще очень далеко, но уже в настоящем виде поглощают на свое искусственное управление много государственных средств совершенно бесплодно»[33].
Ключевые же слова в ранее цитированном тексте: «необъяснимый прямой перспективой дела». Уже в тридцатые годы, когда турецкая и персидская угрозы были сняты двумя победоносными войнами, когда ограниченную задачу обеспечения коммуникаций с Закавказьем можно было решить, не завоевывая всю Чечню и весь Дагестан, когда у Кавказского корпуса хватало сил и средств, чтобы обеспечить относительную безопасность русских поселений на линиях от набегов, гигантские жертвы людьми и деньгами для полной победы над Шамилем, с точки зрения прагматической, казались отнюдь не оправданными. Была некая психологическая данность — Кавказ должен быть покорен и войти как обычная административная единица в состав империи. Но почему?
26 сентября 1846 года у Николая I состоялся знаменательный разговор с доверенным человеком нового кавказского наместника М. С. Воронцова. Год назад русские войска были фактически разгромлены Шамилем во время кровавой Даргинской экспедиции. Ситуация на Кавказе была кризисной. Но император заявил:
«Слушай меня и помни хорошо то, что я буду говорить. Не судите о Кавказском крае как об отдельном царстве. Я желаю и должен стараться сливать его всеми возможными мерами с Россиею, чтобы все составляло одно целое»[34].
Это был ответ Воронцову, пытавшемуся дополнить военные усилия новой экономической политикой, предоставлявшей Кавказу и Закавказью право свободной торговли. Но идея, четко сформулированная императором, имела значение куда более широкое. Речь шла о полной интеграции Кавказа в состав империи — без оговорок и послаблений. Безо всякого учета его резких особенностей. Эта идея могла быть полностью реализована только методами полковника Пестеля, предложенными в «Русской правде». А коль скоро империя не решалась прибегнуть к этим методам в полном объеме, а мысль об автономности существования Кавказа, даже в случае его лояльности, была для Николая крамолой, то благополучного решения проблемы не было вообще. Это был один из страшных исторических тупиков, подобный, например, курдской трагедии…
Фадеев попытался показать многослойную основу этого явления.
«Покорение восточных гор обрадовало Россию в ее патриотизме, как победа над упорным врагом, независимо от громадного значения этого события, гораздо яснее понимаемого до сих пор за границей, чем у нас. Утверждение бесспорного русского владычества на Кавказском перешейке заключает в себе столько последствий необходимых или возможных, прямых и косвенных, что покуда невозможно объять их разом; они будут еще выказываться одно за другим, такою длинною цепью, что разве следующее поколение будет знать весь объем событий 1859 года»[35].
Фактическую сторону войны — «объем событий» — следующее поколение, люди восьмидесятых-девяностых годов, действительно узнали достаточно подробно. Но Фадеева главным образом волнует не это. Он тут же наспех пытается выстроить историческую логику процесса, приведшего к войне до победного конца, пытается поймать ведущую идею.
«Начало Кавказской войны совпадает с первым годом текущего столетия, когда Россия приняла под свою власть Грузинское царство. Это событие определило новые отношения государства к полудиким племенам Кавказа; из заграничных и чуждых нам они сделались внутренними, и Россия необходимо должна была подчинить их своей власти»[36].
То есть выдвигаются знакомые нам тезисы — по Зубову: спасение Грузии, по Пестелю: невозможность иметь внутри государства территорию, живущую по собственным «полудиким» законам. Но Фадеев идет дальше и смотрит глубже.
«Кавказ потребовал больших жертв; но чего бы он ни стоил, ни один русский не имеет права на это жаловаться, потому что занятие Закавказских областей не было ни случайным, ни произвольным событием в русской истории. Оно подготовлялось веками, было вызвано великими государственными потребностями и исполнилось само собой»[37].
Это «само собой» — как аналог «силы вещей» у Пушкина, — утверждение исторической неизбежности и органичности происшедшего.
Тут вспоминается тезис Лунина о важном значении завоевания Кавказа для будущих судеб России и глубокая фраза адмирала Серебрякова, «коренного» кавказца: «Силою самих обстоятельств мы увлечены за Кавказ». Фадеев, естественно, не читал ни того, ни другого, и эти смысловые совпадения знаменательны.
«Еще в шестнадцатом столетии, когда русский народ уединенно вырастал на берегах Оки и Волхова, отделенный от Кавказа дикою пустыней, священные обязанности и великие надежды приковали к этому краю внимание первых Царей».
Далее эти тезисы расшифровываются: священные обязанности — это опять-таки помощь единоверцам-грузинам, великие надежды — «доступ к золотым странам востока». Но если бы Фадеев ограничился повторением в более выразительной, быть может, форме того, что уже неоднократно говорилось до него, то не стоило бы к нему обращаться. Однако генеральная идея Фадеева иная. Речь идет о том, что при явном ослаблении Турции и Персии спор за их наследство
«станет спором европейским и будет обращен против нас, потому что все вопросы о западном влиянии или господстве в Азии не терпят раздела; соперник там смертелен для европейского могущества. Чье бы влияние или господство ни простиралось на эти страны (между которыми были земли без хозяина, как, например, весь Кавказский перешеек), оно стало бы во враждебные отношения к нам… Если бы горизонт России замыкался к югу снежными вершинами Кавказского хребта, весь западный материк Азии находился бы совершенно вне нашего влияния и при нынешнем бессилии Турции и Персии не долго дожидался бы хозяина и хозяев. Южные русские области упирались бы не в свободные воды, но в бассейны и земли, подчиненные враждебному влиянию. Если этого не случилось и не случится, то потому только, что русское войско, стоящее на Кавказском перешейке, может охватить южные берега этих морей, протянувши руки в обе стороны»[38].
Это, как видим, сложно модифицированная лунинская идея о прямой взаимосвязи успехов России на юге с отношением к России западных держав. Но идеологический вектор принципиально иной — вместо нейтрального лунинского Запада, культурно родственного, и только не желающего, чтобы Россия расширялась за его счет, здесь мы имеем дело с геополитической установкой, трактующей Запад как неизбежного противника, который стремится окружить Россию и который и есть главный противник на юге. И это новый поворот сюжета: зашедшая с тыла Европа. Хотя и не единственный.
Фадеев считает, что продвижение к Кавказу началось тогда, когда «домашняя борьба с мусульманством, давившим Россию со всех сторон, была решена». Но в середине XIX века Кавказ, по Фадееву, оказывается форпостом, передовым рубежом возможного столкновения с воинствующим исламизмом.
«Мусульманство прокатилось по земле огненным потоком и теперь еще производит страшные пожары в местах, куда оно проникает внове, чему примером служит Кавказ… Для России Кавказский перешеек вместе и мост, переброшенный с русского берега в сердце азиатского материка, и стена, которою заставлена Средняя Азия от враждебного влияния, и передовое укрепление, защищающее оба моря: Черное и Каспийское. Занятие этого края было первою государственною необходимостью. Но покуда Русское племя доросло до подошвы Кавказа, все изменилось в горах. Выбитый из европейской России, исламизм работал неутомимо три века, чтобы укрепить за собой естественную ограду Азии и мусульманского мира — Кавказский хребет, — и достиг цели… Вместо прежних христианских племен мы встретили в горах самое неистовое воплощение мусульманского фанатизма. Шестьдесят лет длился штурм этой гигантской крепости: вся энергия старинного мусульманства, давно покинувшая расслабленный азиатский мир, сосредоточилась на его пределе, в Кавказских горах. Борьба была неистовая, пожертвования страшные. Россия не отставала и преодолела, зная, что великим народам, на пути к назначенной им цели, полагаются и препятствия в меру их силы»[39].
Кавказ, таким образом, оказывается плацдармом, на котором Россия превентивно ограждает себя от экспансии Запада и в то же время ликвидирует опаснейший очаг воинствующего исламизма, чреватого пожарами внутри империи. А кроме того, что весьма существенно, доказывает превосходство христианского духа над мусульманским фанатизмом. И еще — как во времена монгольского нашествия — Россия сковала энергию нового исламизма.
В том или ином виде эти идеи встречались не только у Фадеева, — он их сконцентрировал и ясно оформил; но только он обратил внимание на одно из важнейших следствий Кавказской войны:
«Когда-нибудь Россия прочтет полную историю кавказской войны, составляющей один из великих и занимательнейших эпизодов нашей истории, не только по важности вопросов, решенных русским оружием в этом отдаленном углу империи, но по чрезвычайному напряжению человеческого духа, которым борьба ознаменовалась с обеих сторон…; по особой нравственной физиономии, если можно сказать, запечатлевшей сотни тысяч русских, передвинутых на Кавказ».
Последняя фраза важна необычайно. Фадеев первый громко заявил, что такое событие, как Кавказская война, не может пройти бесследно для самого духа народа и государства, что оно должно войти не только в процесс государственного строительства, но и в процесс формирования мировоззрения общества — всех его слоев. То есть он поставил вопрос о той роли, которую кавказская драма сыграла в общественном сознании России и фундаментальном психологическом устройстве русского человека. В первую очередь — прикосновенного к этой драме.
Дело в том, что деяния такого масштаба не совершаются без мощной психологической потребности той части общества, которая ответственна за решения. У русского дворянства, с одной стороны, и русского самодержавия — с другой, должна была быть неодолимая потребность в подобной войне для того, чтобы она началась и столько лет длилась. И дворянство, и правительство, а быть может, и солдаты в этой войне решали некие психологические, а возможно, и духовные задачи. Вот это прежде всего и подлежит изучению.
Увы, глубинная проблематика целого пласта русской жизни, обозначенного словосочетанием «Россия в Кавказской войне», не была с должным тщанием изучена лучшими умами прошлого века, великими аналитиками русского бытия, современниками, а иногда и активными участниками роковых событий. Достоевский вообще игнорировал Кавказскую войну в своей публицистике. Толстой, получивший офицерский чин «за отличие в делах против горцев», мало интересовался общим смыслом происходящего и рассматривал поведение людей в предлагаемых обстоятельствах. Гениальный «Хаджи-Мурат» — философская притча, приложимая к человеческой жизни вообще. Общегуманистическая рефлексия Лермонтова не мешала ему ревностно выполнять свои обязанности боевого офицера, и, быть может, слишком близкое знакомство с кровавой фактурой событий заслонило от него общий смысл происходящего. Точный и горький анализ Пушкина не получил развития и остался эпизодом в его историософской работе.
Свидетельство тому, что проблема эта необыкновенно сложна и запутанна, что ответить на вопросы: какова же была органичная ведущая идея, лежавшая в основе действий России в течение тяжелой шестидесятилетней (в минимальном исчислении!) войны, и была ли эта идея вообще, как повлияла эта война на самосознание русского человека, насколько определило торжество бульдожьего имперского упрямства дальнейшее движение государства, — свидетельство тому, что ответить на эти вопросы невозможно без углубленного изучения и неимперского подхода — полуторастолетнее отсутствие ответов.
Такой незаурядный мыслитель, как уже цитированный Данилевский, подводя итоги своим кавказским размышлениям, писал:
«После раздела Польши (принципиальная параллель! — Я. Г.) едва ли какое другое действие России возбуждало в Европе такое всеобщее негодование и сожаление, как война с кавказскими горцами и, особливо, недавно совершившееся покорение Кавказа. Сколько ни стараются наши публицисты выставить это дело как великую победу, одержанную общечеловеческой цивилизацией, — ничто не помогает. Не любит Европа, чтобы Россия бралась за это дело. Ну, на Сыр-Дарье, в Коканде, в Самарканде, у дико-каменных киргизов — еще куда ни шло, можно с грехом пополам допустить такое цивилизаторство, — все же вроде шпанской мушки оттягивает, хотя, к сожалению, и в недостаточном количестве, силы России; а то у нас под боком, на Кавказе; мы бы и сами здесь поцивилизировали. Что кавказские горцы и по своей фанатической религии, и по образу жизни, и по привычкам, и по самому свойству обитаемой ими страны, — природные хищники и грабители, никогда не оставлявшие и не могущие оставлять своих соседей в покое, все это не принимается в расчет. Рыцари без страха и упрека, паладины свободы да и только! В Шотландских горах, с небольшим лет сто тому назад, жило несколько десятков, а может, и сотен тысяч таких рыцарей свободы; хотя те были христиане, и пообразованнее, и посмирнее, — да и горы, в которых они жили, не Кавказским чета, — но однако же Англия нашла, что нельзя терпеть их гайлендерских привычек, и при удобном случае разогнала их на все четыре стороны. А Россия под страхом клейма гонительницы и угнетательницы свободы терпи с лишком миллион таких рыцарей, засевших в неисследимых трущобах Кавказа, препятствующих на целые сотни верст кругом всякой мирной оседлости; и, в ожидании, пока они не присоединятся к первым врагам, которым вздумается напасть на нее с этой стороны, — держи, не предвидя конца, двухсоттысячную армию под ружьем, чтобы сторожить все входы и выходы из этих разбойничьих вертепов»[40].
Здесь, как видим, Данилевский собрал все ранее существовавшие основные резоны покорения Кавказа, не прибавив ничего, кроме обличения коварства Запада. Хотя об этом в несколько ином аспекте говорил уже Фадеев.
После Данилевского, в семидесятых-восьмидесятых годах началась энергичная фактологическая разработка истории Кавказской войны, публикация бесчисленных и драгоценных для историков свидетельств и документов, но концептуальное осмысление дела было отодвинуто в неопределенное будущее…
ПРОЛОГ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
Кажется, что самое начало было неправильное.
Декабрист А. Розен, свидетель Кавказской войны. 1850-е гг.I
Первые походы регулярных русских войск в Дагестан — казачьи набеги учитывать невозможно, да и это явление иного порядка, — относятся еще к XVI–XVII векам. В 1594 году состоялся поход воеводы Хворостинина. Поход этот — поразительная модель многих экспедиций в глубь Кавказа уже в XIX веке. Это прямая параллель знаменитому Даргинскому походу Воронцова в 1845 году. Успешное наступление, прорыв к заданной цели — у Хворостинина это столица одного из крупнейших дагестанских владетелей — шамхала Тарковского, Тарки, у Воронцова это — резиденция Шамиля Дарго. Затем, после удачного штурма и овладения крепостью, — полный тупик. Невозможность сколько-нибудь долго удерживать захваченное при катастрофически растянутых и необеспеченных коммуникациях, нехватка продовольствия, болезни, блокада со стороны противника. Затем — как единственный выход — отступление. И тут-то приходит настоящая беда. Хворостинин потерял при отступлении три четверти своего отряда, Воронцов около половины. Все, завоеванное с такими жертвами, — утрачено.
Повод похода Хворостинина — союз с Грузией. Царь Федор Иоаннович титуловал себя «государем земли Иверской, грузинских царей и Кабардинской земли, черкесских и горских князей». Это была, разумеется, чисто символическая формула, но тенденцию она обозначила.
Характер государственного сознания того времени — и не только в России — подразумевал расширение территории как безусловное благо.
Следующий поход в Дагестан — на Тарки — состоялся в 1604 году, при Годунове. Сценарий был трагически схож. Московских воевод — Бутурлина и Плещеева — удивительным образом ничему не научил опыт Хворостинина, прекрасно им известный. Они взяли штурмом Тарки, отстроили крепостные сооружения, затем ввиду бескормицы часть войска ушла в Астрахань, а часть оказалась осажденной многократно превосходящим противником. Переговоры, отступление на почетных условиях, нарушение шамхалом договора и героическая гибель всего отряда вместе с воеводами… Схожая модель реализовалась во время Прутского похода Петра. И неоднократно во время Кавказской войны XIX века.
Совершенно непонятно, как московские воеводы собирались закрепиться в глубине враждебной территории, где против них было все: население, климат, отсутствие надежных коммуникаций для снабжения. Это был набег, разыгранный не по правилам набега.
Набег — вполне осмысленная и целесообразная форма ведения боевых действий — предполагал стремительный прорыв к цели, решение конкретной задачи: захват добычи, уничтожение укреплений и живой силы противника, деморализация противника, — и столь же стремительное отступление. С самого начала русские войска на Кавказе не сумели выработать рациональной тактики, соответствующей характеру театра военных действий.
Старому опытнейшему воеводе Ивану Михайловичу Бутурлину, воевавшему — и успешно — с крымскими татарами, литовцами, шведами, можно было бы задать вопросы, которые через два с половиной века были заданы одним из участников катастрофического Даргинского похода другому старому и опытному генералу графу Михаилу Семеновичу Воронцову:
«Зачем было стоять целую неделю в Дарго? Имелась ли тут в виду какая-либо цель, или это была простая и бесцельная медлительность, стратегическая ошибка, ничем не исправимая и неизгладимая? Вот вопросы, на которые трудно ответить. — При вступлении нашем в Дарго, у нас раненых было немного в сравнении с тем прикрытием, которое мы могли им доставить, кроме того, войска наши были воинственного духа…»
И в том, и в другом случае дело было именно в неясности стратегической задачи. И эта неясность, неопределенность катастрофически сопутствовала действиям русской армии на протяжении десятилетий, являясь главной причиной тяжких неудач.
О Даргинской экспедиции надо говорить специально. Это событие огромного значения для Кавказской войны, концентрат роковых проблем. Здесь же важно было показать истоки порочной традиции.
Следующим этапом — через сто восемнадцать лет — был Персидский поход Петра, и это уже была составляющая обширной и последовательной, хотя и вполне утопичной, завоевательной программы.
Для Петра Кавказ отнюдь не был самоцелью. Его цель — Восток: Бухара, Индия, восточная торговля, возможные результаты которой он сильно идеализировал. При всей прагматичности в замыслах Петра превалировали идеи. Прежде всего, идея строительства империи, не соотнесенная с реальными возможностями страны. Идея каспийского похода развивалась в голове Петра, очевидно, с начала десятых годов — после Полтавы. Прутский провал надолго исключил рывок к Черному морю. Петр переключился на левый восточный фланг — на Каспий. Волынский был послан в Персию как посол — по видимости, как разведчик — по существу. Волынский вернулся в Россию в начале 1719 года, отчитался перед императором и получил от него инструкцию, которая свидетельствовала о скором начале новой войны. В сентябре 1720 года Петр отправил к Волынскому капитана Алексея Баскакова — с тем, чтобы тот из Астрахани двинулся в Персию:
«1) Ехать от Терека сухим путем до Шемахи для осматривания пути: удобен ли для прохода войска водами, кормами конскими и прочим? 2) От Шемахи до Апшерона и оттуда до Гиляни смотреть того же, осведомиться также и о реке Куре. 3) О состоянии тамошнем и о прочих обстоятельствах насматриваться и наведываться и все это делать в высшем секрете».
И устье Куры, впадающей в Каспий, и Гилянь находятся значительно южнее Баку. Петр готовил дальний поход в сердце персидских земель и надеялся основать там плацдарм для дальнейшего продвижения.
Оценка этих планов, их реалистичности с точки зрения военной и экономической, осмысленности их для России в тот момент и вообще — вне поставленной здесь задачи. Я говорю об этом потому только, что грандиозный план прорыва в Индию через Каспий неизбежно увязывал в один узел взаимоотношения России с Грузией и Кавказом.
То, что раньше было вполне периферийной военно-дипломатической проблемой, стало актуальной задачей, без решения которой невозможно было закрепить будущие завоевания.
Петр рассчитывал вести армию вдоль Каспия, частично транспортируя ее водой, частично — кавалерию — пустив сушей. Но в этом случае над правым флангом русских войск нависал Кавказ с его воинственными и не соблюдающими никаких договоров народами. И без того чрезвычайно растянутые и ненадежные коммуникации с собственно российской территорией оказывались под постоянной угрозой, а сохранение коммуникаций было для экспедиционного корпуса вопросом жизни и смерти. Это в полной мере подтвердил несчастный Прутский поход.
Опасения не замедлили подтвердиться — русский отряд бригадира Ветерани подвергся нападению в узком ущелье и понес значительные потери. Ответом была карательная экспедиция, уничтожившая крупное поселение Ендери, названное русскими Андреевской деревней. То есть мгновенно была построена модель будущих взаимоотношений: вторжение — ответный набег — карательная акция — озлобление и месть, провоцирующие новую карательную акцию, вынужденное смирение — новый набег и так далее.
Петр тогда уже понимал значение союза с Грузией для контроля над Кавказом. Волынский вел переговоры с царевичем Вахтангом о введении в Грузию русских воинских частей.
Персидский поход Петра в силу сложной международной комбинации не получил задуманного развития, но для горцев Прикаспия дело этим не кончилось. Петр поручил походному донскому атаману Краснощекову с тысячей казаков и сорока тысячами калмыков наказать тех, кто участвовал в нападениях на русские войска. Приказ был выполнен донцами и калмыками со свирепым энтузиазмом. В таких случаях не трудились отличать правых от виноватых. На следующий год экзекуцию повторил генерал Матюшкин с регулярными частями.
Таков был пролог Кавказской войны.
Драматизм и безвыходность ситуации заключались в том, что Кавказ — особенно его горная часть, непригодная для колонизации, — на всех этапах взаимоотношений с Россией не был ей нужен сам по себе.
Кавказ был привходящим обстоятельством, тяжкой помехой в движении, направленном мимо него. С петровских времен Кавказ представлялся плацдармом, с которого в любую минуту мог быть нанесен удар во фланг или тыл русской армии — сражалась ли она с турками или с персами. Позже Кавказ стал помехой для необходимой связи России с присоединенной Грузией.
России — в принципе — нужен был союзный, лояльный, мирный Кавказ, не обязательно жестко включенный в имперскую структуру, но таковым Кавказ быть не мог в силу психологической природы своего населения, традиций, обычаев, религиозных представлений, наконец, экономических потребностей.
Маловероятно, но все же возможно, что в петровские времена Россия и вольные горские общества — именно они, а не ханства, были основными противниками русских — могли бы договориться. Но только в том случае, если бы Россия удовлетворилась простой лояльностью. С петровского времени и до конца XVIII века в России складывалась имперская государственная доктрина, основанная на сугубо иерархическом миропредставлении, доктрина, не допускавшая партнерства с низшими, предполагавшая абсолютное включение новых народов и территорий в цельную систему.
Это не было капризом или самодурством. Это было непреодолимой психологической потребностью. В кавказском конфликте при сложении противопоказаний к компромиссу с обеих сторон он становился принципиально невозможен.
Это не получилось даже с родственной и европейски цивилизованной Польшей. Когда Александр I попытался построить отношения с Польшей на началах, напоминавших федеративные, — мы знаем, чем это кончилось.
Лунин, размышлявший в Сибири над проблемами Кавказа и Польши, утверждал, что попытка органично включить новые территории в состав империи равно не удалась как на равнинах Запада, так и в горах Востока. Происходило это от неумения и нежелания учитывать национально-психологические традиции тех, на кого направлена была экспансия.
И присоединение Грузии, и вся кавказская ситуация, которая сложилась вслед за этим присоединением — все это носило резкие черты перелома эпох: на этих территориях русский XVIII век столкнулся с веком XIX.
II
XVIII век не знал благотворительности. Екатерина, Орловы, Потемкин были достаточно решительные утописты, совершенно не рассчитывающие реальных возможностей государства. Завоевание новых территорий на юге эти возможности в экономическом плане явно превысило. Отсюда пошло печатание необеспеченных ассигнаций для покрытия военных расходов, соответственно, инфляция, государственные долги и так далее. Но даже они не собирались делать Грузию составной частью империи и тем самым брать на себя ответственность за весь регион. И это при том, что расширение империи на восток, мечта о прорыве в Индию была одной из навязчивых идей Екатерины. Грузия была чрезвычайно выгодным плацдармом в этом движении. Князь Авалов, грузин, писал в предисловии к своему исследованию «Присоединение Грузии к России» (второе издание, 1906 г.):
«Присоединение Грузии к России было политическим событием первостепенной важности. Именно со времени этого присоединения Россия становится на путь, который, может быть, приведет ее к берегам Персидского залива»[41].
Прекрасный знаток данного сюжета, он считал, что тенденция именно такова.
Вкратце дело обстояло следующим образом. Грузия в критические моменты неоднократно обращалась к России с просьбой о заступничестве и военной помощи. И никогда ее не получала. Наконец, в 1783 году между Грузией и Россией был заключен трактат, который объявлял Грузию вассалом российской короны, но отнюдь не частью империи. По этому трактату, что особенно важно, Грузия обязывалась порвать вассальные же отношения с Персией и Турцией. Наиболее актуальна была Персия.
Заключение трактата было несомненной провокацией как для Персии, так и для турецких владетелей на границах Грузии, а особенно для дагестанских ханов, на Персию ориентированных.
Россия прислала в Тифлис два батальона пехоты, что было жестом скорее символическим. Во всяком случае, когда через некоторое время Грузия подверглась жесточайшему набегу аварского хана Омара, русские батальоны защитить ее не смогли. Вообще положение сложилось крайне странное. Очевидно, в Петербурге поняли, что оказать Грузии реальную помощь не смогут. В 1787 году сразу после начала второй Турецкой войны полковник Бурнашев, командовавший русским отрядом, получил предписание вывести войска за пределы Грузии на Кавказскую линию. В приказе было фактическое признание нерациональности заключенного договора. Вывод русских войск мотивировался тем, что царь Ираклий II сможет лучше «обезопасить себя через возобновление прежних своих разрушившихся союзов единственно пребыванием в стране его российских войск». То есть Ираклию предлагалось вернуться под протекторат Персии. Объяснялось это, очевидно, тем, что Потемкин в это время вел свою особую игру с претендентами на шахский престол, а обстановка в Дагестане сложилась для России неблагоприятно.
Попытка Грузии в 1783 году отдаться под военное покровительство России обошлась ей дорого. Несчастный Ираклий неоднократно просил Екатерину выполнить условия трактата и прислать обратно хотя бы те же два батальона, но тщетно. Решение помочь Ираклию было принято только 4 сентября 1795 года, пришло оно к генералу Гудовичу, командовавшему войсками Кавказской линии, 1 октября, а 12 сентября захвативший шахский престол Али-Магомет-хан взял, разграбил и разрушил Тифлис…
Надо сказать, что в Петербурге прекрасно понимали, какую злую шутку сыграли с Грузией. Уже в 1801 году, когда Государственный совет рассматривал по поручению Александра в очередной раз вопрос о Грузии, то в протокол заседания было записано, что «протекция, какую в 1783 году давала Россия Грузии, вовлекла сию несчастную землю в бездну зол, которыми она приведена в совершенное изнеможение».
Царь Ираклий, однако, твердо держался условий трактата 1783 года и отказывался от всех мирных предложений Персии.
Игра с Грузией была для Екатерины связана с ее грандиозными восточными и средиземноморскими планами. В томе двадцать восьмом «Истории» Соловьева приведены замечательные материалы о заседании Совета, созданного императрицей для обсуждения стратегических вопросов. Там было решено возмутить против турок всех православных — как славян, так и грузин. Будущая война с Турцией, таким образом, принимала форму крестового похода против мусульман и должна была разрушить Османскую империю, отдав Восток в руки России. Присоединение Грузии оказалось рудиментом этой утопии, породившим Кавказскую войну.
Печальная особенность ситуации была в том, что второстепенная, служебная задача по причине невыполнимости задачи главной становилась самоцелью.
Реальные очертания взаимоотношения России и Грузии приняли уже при Павле. Но там тоже были свои драматические особенности. Наследовавший Ираклию Георгий XII, сам уже смертельно больной, предписывал своим послам, отправленным в Петербург в сентябре 1799 года:
«Царство и владение мое отдайте непреложно и по христианской правде и поставьте его не под покровительство Императорского Всероссийского престола, но отдайте в полную его власть и на полное его попечение, так чтобы царство Грузинское было бы в Империи Российской на том же положении, каким пользуются прочие провинции России».
Единственно, о чем просит Георгий, так это чтобы Павел
«обнадежил меня Всемилостивейшим письменным обещанием, что достоинство царское не будет отнято у дома моего, но что оно будет передаваться из рода в род, как при предках моих».
То есть грузинский царь становился наследственным наместником российского императора.
Это стремление полностью включить Грузию в состав России вполне объяснимо конкретными обстоятельствами.
Вообще внутригрузинский сюжет является для нас второстепенным. На нем можно было бы так подробно не останавливаться, если бы с Грузии не начался классический период Кавказской войны и действия князя Цицианова, плацдармом которого была именно Грузия, а не Кавказская линия, не определили логику войны на несколько десятилетий. Кроме того, метод, который Петербург использовал для отношений с Грузией, стал моделью отношений с Кавказом в XIX веке.
Последнюю четверть XVIII века Грузия интересовала Россию исключительно как база для продвижения в Персию и далее. Можно очень явственно наблюдать эти приливы и отливы интересов Петербурга к Тифлису в зависимости от восточных планов. Собственно, то же самое было и с Кавказом. То, что Кавказ стал самостоятельным объектом завоевания, есть некое историческое недоразумение. Именно поэтому так сложно было выстроить убедительную идеологию этого завоевания.
Пытаясь понять причины, по которым Россия совершенно для себя неожиданно оказалась втянута в шестидесятилетнюю тяжелую войну, имеет смысл сопоставить метод политического освоения грузинских и кавказских территорий Петербургом с методом, который применял Лондон в Индии. Казалось бы — завоевание и завоевание. Но было одно в высшей степени принципиальное различие. На подвластных территориях Англия оставляла значительную часть власти в руках местных владетелей. Разумеется, они были под контролем английских эмиссаров, в княжествах стояли английские войска или формирования сипаев под командой английских офицеров. Но система местной власти не была ликвидирована и трансформировалась очень медленно. Равно как и не посягала Англия на местные культы. Как мы знаем, это не избавило метрополию от многих неприятностей, в том числе кровавых мятежей, но именно эта метода дала горсти англичан возможность в короткое время поставить под контроль огромный субконтинент с населением, во много раз превышающим население метрополии.
Завоевательное сознание России было принципиально иным. Оно основывалось на стремлении жестко включить приобретенные территории в единообразную регулярную систему. Этот принцип, заданный Петром, стал фундаментальным принципом на полтора столетия вперед. При этом полностью игнорировалась органика процесса. Разумеется, проводить этот принцип идеально последовательно не решался даже самодержавный Петербург, некоторое маневрирование было. Оно, как правило, вынуждалось волнениями, восстаниями. Апофеозом этой методы были реформы сенатора Гана в конце 1830-х — начале 1840-х годов, одним махом отменившего все существовавшие до того грузинские законы — «Уложение царя Вахтанга» — и в несколько месяцев сочинившего новые, основанные на российском законодательстве. Столкновение традиционного правового мировосприятия с чисто формальной юридической системой привело к правовому параличу. В результате Николай вынужден был отменить все нововведения Гана. Но это была во всех отношениях крайняя ситуация. Начало, однако, было положено именно в период присоединения Грузии. Конечно, эта тенденция просматривалась уже в петровские времена, но тогда она не реализовалась в силу обстоятельств.
Павел манифестом, подписанным 18 октября 1800 года, объявил о согласии на просьбу Георгия. В манифесте содержался следующий пассаж:
«И сим объявляем императорским нашим словом, что по присоединении царства Грузинского на вечные времена под державу нашу не только предоставлены и в целости соблюдены будут нам любезноверным новым подданным нашим царства Грузинского и всех оному подвластных областей все права, преимущества и собственность, законно каждому принадлежащая, но что от сего времени каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древние подданные Российские по милости наших предков и нашей наслаждаются под покровом нашим».
Павел утвердил царевича Давида наследником умирающего царя Георгия.
Между тем, Павлом и графом Ростопчиным, ведавшим иностранной политикой, уже было принято негласное решение сделать наследника грузинского престола генерал-губернатором Грузии, оставив ему лишь формально титул царя. Грузия должна была называться Царство Грузинское, но обладать статусом обыкновенной российской губернии. Одновременно российское правительство, чтобы предотвратить неизбежные распри между членами грузинского царствующего дома, решило депортировать всех царевичей и цариц в Россию. Было это, конечно же, грубое нарушение первоначальных договоренностей. Грузинский царский дом и аристократия совершенно не желали полного поглощения Грузии Россией. Речь шла для большинства из них о действенном протекторате. Новый поворот событий сулил грузинским князьям и дворянам весьма неопределенное будущее. Ощущение опасности усугублялось тем, что русские чиновники и офицеры, прибывшие в Грузию, вели себя как в завоеванной стране.
III
Умер царь Георгий. Убит император Павел. И окончательное решение вопроса унаследовал Александр. И тут сложилась довольно любопытная ситуация. Уже 11 апреля 1801 года грузинскую проблему бурно обсуждал Государственный совет.
В этот момент в России было два консультативных органа, к мнению которых прислушивался император, — Государственный совет и неофициальный комитет — молодые друзья Александра: Кочубей, Строганов, Чарторийский и Новосильцев. Кочубей был членом Государственного совета, и там он выступил с общим мнением «молодых друзей», категорически возражавших против включения Грузии в состав империи. Он остался в меньшинстве. Возобладало мнение Платона Зубова. Это было понятно. Государственный совет состоял в основном из «екатерининских орлов», для которых расширение империи по мере возможности было процессом самым естественным и которые еще жили в мире грандиозных проектов блестящего царствования. «Молодые друзья» были людьми новой формации, и ими двигали другие соображения. Они предпочитали сосредоточиться на внутренних реформах, а не на внешней экспансии. Тут явственно столкнулись два века, две эпохи.
Совет рекомендовал Александру принять Грузию по следующим мотивам:
«1) Несогласие членов царской фамилии, тотчас по кончине царя Георгия Ираклиевича обнаружившееся, грозит слабому царству сему пагубным междоусобием; 2) открытое покровительство, которое с давнего времени Россия дарует сей земле, требует, чтобы, для собственного достоинства империи, царство грузинское сохранено было в целостности; 3) спокойствие границ российских тем обеспечится по вящей удобности обуздать своевольство горских народов».
Причем Государственный совет считал необходимым учредить в Грузии временное правление из лиц, назначенных Петербургом.
Последний пункт для нас особенно важен. Вельможи Государственного совета видели в Грузии плацдарм для наступления на горские племена, что с военной точки зрения было совершенно справедливо.
Александр отверг предложение членов совета и приказал еще раз к этому вопросу вернуться. Генерал-прокурор Беклешев передал вельможам, что император питает «крайнее отвращение на принятие царства того в подданство России, почитая несправедливым присвоение чужой собственности». Это, конечно, была игра. Дело было не в этических моментах, хотя такая постановка вопроса характерна для либерала Александра первых лет царствования, — а в вещах более прозаических. Александр и «молодые друзья», свободные от екатерининских утопий, сознавали, хотя далеко не в полной мере, какую лавину проблем может вызвать поглощение Грузии. Не говоря уже о том, что из Грузии шли потоки жалоб на российских эмиссаров и надо было налаживать там сносную систему управления. Ясно было и то, что придется наращивать свое военное присутствие в Закавказье, что сопряжено с внушительными расходами.
13 августа 1801 года состоялось заседание неофициального комитета, посвященное Грузии. «Молодые друзья» снова решительно высказались против присоединения Грузии.
Государственный совет еще раз настоятельно рекомендовал императору Грузию принять. Колебания Александра продолжались пять месяцев. Кроме возможности втянуться в военный конфликт молодого императора, заботившегося о своей репутации, все же смущала необходимость смещения законной царской фамилии. Государственный совет постарался облегчить ему это решение, объяснив, что, по исследовании, выяснилась нелюбовь грузин ко всем возможным претендентам на престол. В Грузии сложилась ситуация, близкая к ситуации междуцарствия 1825 года. Ни один из двух царевичей-претендентов не имел полного юридического права занять престол. Как и в России двадцать пятого года все упиралось в противоречивые завещания двух царей — Ираклия и Георгия.
В решении Государственного совета говорилось:
«Все сии вновь открывшиеся обстоятельства не представляют совету в присоединении Грузии ни малейшей несправедливости, а видит он в том спасение того края, для России же существенную пользу в надежном ограждении границ ея ныне от хищных горских народов, коих обуздать можно будет, а на будущее время от самих даже турок, не говоря уже о персиянах…»
Таким образом, совет выдвигал три главных аргумента — спасение единоверной Грузии, которую, кроме персов и турок, губительно терзали набеги горцев, — особенно джаро-белоканских лезгин, для которых торговля грузинскими пленниками была важной экономической составляющей; приобретение плацдарма для борьбы против горских народов; безопасность тыла и флангов в случае конфликтов России с турками и персами.
После вторичной рекомендации совета, несмотря на сопротивление «молодых друзей», не без оснований опасавшихся последствий такого решения и того, что неизбежная война на Кавказе может переключить энергию общества с внутренних реформ на имперскую экспансию, Александр издал известный манифест 12 сентября 1801 года, реализация которого и стала непосредственным спусковым механизмом Кавказской войны.
Следующим шагом, определившим ход событий, было назначение на пост главноуправляющего Грузией и главнокомандующего кавказскими войсками весьма замечательного и своеобразного человека — князя Павла Дмитриевича Цицианова, что произошло 11 сентября 1802 года.
Однако прежде, чем характеризовать Цицианова, нужно представить себе, в какой ситуации в Грузии и на Кавказе должен был действовать главнокомандующий.
То решение, которое было принято относительно статуса Грузии при Павле и в секретном документе зафиксировано руководителем его внешней политики графом Ростопчиным, теперь стало явным и официальным. Грузия превращалась в российскую губернию, а монархия в ней упразднялась. Это принципиально меняло всю властную систему страны с тысячелетней историей и очень прочными традициями и, естественно, затрагивало массу интересов — как царской семьи, так и князей. Было очевидно, что царская семья неизбежно будет источником смут, и потому решили, как уже говорилось, выслать ее всю в Россию.
Приближающаяся смена системы власти — хотя никто в Грузии не предвидел, какой резкой она будет, — уже при Павле породила источник беспокойства для российских властей на многие годы. Он персонифицировался в царевиче Александре Ираклиевиче, брате царя Георгия. Александр сам претендовал на престол, а потому Георгий попытался схватить его, чтобы, скорее всего, ликвидировать. Александр бежал в горы, к лезгинам, вступил в союз с персами и три десятилетия был одной из самых заметных фигур нашего сюжета, периодически объединяя вокруг себя горцев, ориентированных на Персию, и разного рода недовольных внутри Грузии.
Стоит привести только один эпизод, характеризующий остроту ситуации и силу страстей, с которой столкнулись российские власти.
Генерал Сергей Тучков, служивший в то время в Грузии и принимавший участие в депортации царской семьи, в «Записках» подробно рассказал о кровавых обстоятельствах, сопутствовавших высылке вдовствующей царицы Марии.
«Сия особа, вторая супруга царя Георгия XII, имея с небольшим тридцать лет от роду, была весьма чувствительна и притом слабого здоровья. За несколько времени перед сим происшествием кн. Цицианов посылал неоднократно ген. Лазарева, чтобы уговорить ее ехать в Россию. Она никак на то не соглашалась, отговариваясь слабостью здоровья, тем более, что приходится ехать верхом до самой границы, что почти необходимо. Ген. Лазарев показал ей один раз небольшие русские дрожки, на которых можно было проехать по сей дороге. Но она отвечала, что никогда не ездила на таком экипаже и что никак не согласится сесть на оный. Тогда велел он сделать довольно спокойные и хорошо убранные носилки, или портшез, по-грузински трахтереван называемые, — экипаж, употребляемый в Грузии пожилыми женщинами. Лазарев сам встал в оные и велел себя носить мимо ее окон, останавливаясь перед оными и хваля перед ней спокойность сего экипажа. Все предложения ген. Лазарева делаемы были царице с некоторого рода насмешкой и недовольным уважением. Она жаловалась на то кн. Цицианову и не получала никакого удовлетворения; отговорка же ее ехать заставила их принудить ее к тому силою. И так ген. Лазарев, окружив ночью дом ее батальоном егерей, сказал ей, что до рассвета должна она будет непременно выехать, что он объявляет ей сие именем кн. Цицианова, действующего по повелению императора Александра. На сие отвечала она ему: “Князь Цицианов был некогда мой подданный; а император российский не знаю, какое имеет право со мною так поступать: я не пленница и не преступница, притом слабость здоровья моего, как вы сами видите, не позволяет мне предпринять столь далекий путь”. Ген. Лазарев говорил ей много против того; но она сказала ему: “Дайте мне отдохнуть, завтра увидим, что должно будет делать”. — С сими словами вышел он от нее.
С рассветом вместе со многими офицерами вошел он в ее комнату и нашел ее сидящею на прешироком диване или софе, каковые употребительны в Азии. С ней сидела старшая ее дочь и еще две женщины, и все накрыты были большим одеялом. Ген. Лазарев начал принуждать ее к отъезду, а она представляла ему прежние отговорки. Тогда ген. Лазарев, выйдя на галерею, окружающую дом, сказал своим офицерам: “Берите ее и с тюфяками, на котором она сидит”. Едва они коснулись дивана, как у царицы, ее дочери и у всех бывших тут женщин появились в руках кинжалы. Офицеры отступили, а двое из них выбежали на галерею; один кричал ген. Лазареву: “Дерутся кинжалами”, а другой солдатам: “Егери, сюда!” Генерал, услышав сие, сказал последнему: “На что егерей?..” С сим словом вошел он в комнату, в которой по причине раннего утра не довольно было еще светло, да и занавесы у окна были опущены. Однако же увидел он царицу, стоявшую на полу подле дивана; а дочь ее, девица довольно высокого росту, стояла позади ее на диване, возвышенном от пола меньше фута. Царица, увидя ген. Лазарева, сказала: “Как вы немилосердно со мною поступаете! Посмотрите, как я больна. Какой у меня жар!” И при этом она подала ему левую свою руку. Но лишь только взял он ее за руку, как правой ударила она его в бок кинжалом, повернула кинжал и в то же мгновение выдернула из тела. Говорят, якобы она за несколько дней пред тем брала уроки у одного известного лезгинского разбойника, оставившего своей промысел, как действовать сим оружием. Она пробила его насквозь, а дочь хотела дать ему еще удар по голове большим грузинским кинжалом. Но так как он от великой боли согнулся, то она промахнулась, и удар сей попал матери ее по руке несколько пониже плеча. И она рассекла ей руку до самой кости. Генерал-майор Лазарев едва мог дойти до дверей, упал и кончил жизнь.
При сем смятении тотчас дали знать кн. Цицианову, ген. кн. Орбелианову, коменданту и полицмейстеру. Все, кроме кн. Цицианова, поспешили прибыть и нашли царицу и прочих стоящими на прежних местах с кинжалами в руках. Кн. Орбелианов начал говорить царице, чтоб бросила кинжал, но она ничего ему не отвечала и ничего не делала. Тогда полицмейстер армянин, бывший еще при последнем царе в сей должности, носивший грузинское платье, взяв в руку теплую свою шапку, ухватил ею кинжал царицы и, выдернув из руки, причинил ей тем еще несколько ран на ладони. После этого она упала без чувств; а вступившие егери обезоружили прочих женщин, с осторожностью оборотив ружья прикладами и прижимая их оными к стенам покоя. Тот же час начали их отправлять в путь, причем приказали осмотреть, не имеют ли они спрятанного под одеждою оружия. Молодая царевна, сидя уже на дрожках и увидя сие, вынула из кармана маленький перочинный ножичек, бросила егерям и сказала с усмешкой: “Возьмите, может быть, и это для вас опасно”»[42].
За тем, что происходило в Грузии, внимательнейшим образом наблюдали в горах — и владетели: ханы, шамхал Тарковский, уцмий Каракайдакский, и вольные горские общества. Уничтожение монархии в Грузии, естественно, было воспринято как вероломство и прообраз судьбы горцев. Это было прекрасным материалом для агитации, которой активно занимался, в частности, царевич Александр.
Трагическая перспектива взаимоотношений России и Кавказа определялась не столько существом процесса, сколько технологией, применяемой всеми его участниками. У Грузии не было более благополучного — при всех издержках — выхода, чем пойти под протекторат России. Но грубость и резкость применяемых военными властями методов, разнузданность чиновников заставили все сословия усомниться в правильности выбора и привели к столкновениям, перерастающим в мятежи.
После включения Грузии в состав империи лояльность Кавказа, обеспечивающая надежность коммуникаций между Россией и новым краем, стала абсолютным императивом. Если бы горцы оказались в состоянии это осознать, можно было бы искать компромиссные варианты отношений. Но чеченский общинник и дагестанский уздень, не имея сколько-нибудь ясного представления о возможностях северного исполина и логике его поведения, уверены были, что, истребив несколько экспедиционных отрядов русских, они навсегда отобьют у них охоту проникать в горы. Отказ же от набеговой практики, которая являлась для них, в свою очередь, экономическим, религиозным и военно-поведенческим императивом, был для них равнозначен самоуничтожению — прежде всего духовному.
Русские генералы, реагируя на вызов, не считали нужным различать правых и виноватых, не способны были выработать в этот первый ключевой период гибкую и рациональную тактику, а мощная инерция имперской экспансии, рожденной в петровский период и бурно возродившейся в екатерининский, толкала их к испытанной методе тотального подавления.
Кавказская война до победного конца была предопределена. Молодой Пушкин в эпилоге «Кавказского пленника» с романтическим восторгом очертил эту безвыходную ситуацию:
Тебя я воспою, герой, О Котляревский, бич Кавказа! Куда ни мчался ты грозой — Твой ход, как черная зараза, Губил, ничтожил племена…И тут неприложимы этико-оценочные категории. Обвинять в чем-то горских «хищников», русских генералов, воспевшего их Пушкина столь же бесплодно, как проклинать Цезаря, Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана и других потрясателей мира и создателей империй. Это столь же бесплодно, как и сетовать на изначальное несовершенство человеческой натуры.
Только в XX веке европейская цивилизация, пройдя чудовищный опыт двух великих войн, пришла к представлению о принципиальной недопустимости и практической нерациональности межгосударственного насилия.
И только теперь мы имеем критерии, с помощью которых — при наличии доброй воли сторон — можно находить реальные компромиссы, отвечающие юридической и этической справедливости.
ЦИЦИАНОВ
И воспою тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Поднялся наш орел двуглавый;
Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,
И в сече, с дерзостным челом
Явился пылкий Цицианов.
ПушкинI
Князь Павел Дмитриевич Цицианов — персонаж малоизвестный или вовсе неизвестный даже любителям русской истории. Между тем именно он в начале XIX века заложил фундамент того многообразного, жестокого, трагического явления, которое мы называем Кавказской войной. Именно он определил основные черты взаимоотношений России и горских народов на десятилетия вперед, именно он наметил основы и силовой, и мирной политики.
Ермолов, с именем которого прежде всего ассоциируется Кавказская война, прекрасно понимал значение Цицианова, считал его своим учителем в кавказских делах и вспоминал о нем постоянно.
Здесь стоит привести выборку из ермоловских писем.
Как только назначение Ермолова на Кавказ было решено, Цицианов стал постоянным героем его писем двум друзьям и товарищам по оружию[43].
Ермолов — Михаилу Семеновичу Воронцову, командовавшему русским экспедиционным корпусом во Франции:
«1 июня 1816 г. Петербург.
Грузия, о которой ты любишь всегда говорить, много представляет мне занятий. Со времени кончины славного князя Цицианова, который всем может быть образцом и которому там не было не только равных, ниже подобных, предместники мои оставили мне много труда».
«29 дек. 1816. Тифлис.
Наши собственные чиновники, отдохнув от страха, который вселяла в них строгость славного князя Цицианова…»
«Январь 10, 1817, Тифлис.
…Слабость и неспособность начальствовавших здесь после князя Цицианова, человека единственного!»
«Здесь надобно другого князя Цицианова, которому я дивлюсь и которого после смерти почувствовали здесь цену».
«9 июля 1818. Лагерь на Сунже.
Таким образом исчезли все предприятия славного и необыкновенного Цицианова. Злоба и невежество Гудовича изгладили до самых признаков».
«20 окт. 1818, Сунжа.
Мне приятно было прочесть и другие книжки, в которых справедливо говорится о славном Цицианове. Поистине после смерти его не было ему подобного. Не знаю, долго ли еще не найдем такового, но за теперешнее время, то есть за себя, скажу перед алтарем чести, что я далеко с ним не сравняюся. Каждое действие его в здешней земле удивительно; а если взглянуть на малые средства, которыми он распоряжал, многое казаться должно непонятным. Ты лучше других судить можешь, бывши свидетелем дел его. От старика Дельпоццо знаю я, как он любил тебя, и ты все право имеешь хвастать, что служил под начальством сего необыкновенного человека. Меня бесит, что я никого при себе не имею, кто бы мог описать время его здесь начальствования, но думаю, что и материалов для того достаточных не найдется. Я нашел здесь архив в бесчестном беспорядке, многие бумаги растеряны, сгнили, стравлены мышами. Трудолюбивый мой Наумов собрал, что осталось; теперь он в совершеннейшем устройстве, разобран по содержанию бумаг, по годам и все в переплете. Одного недостает, чтобы в сем виде был он тотчас после смерти Цицианова».
Ермолов — Арсению Андреевичу Закревскому, дежурному генералу Главного штаба:
«18 ноября 1816 года, Тифлис.
Не уподоблюсь слабостию моим предместникам, но если хотя бы немного похож буду на князя Цицианова, то ни здешний край, ни верные подданные Государя нашего ничего не потеряют».
«26 янв. 1817, Тифлис.
По несчастию, после славного Цицианова был глупый Гудович, а что еще хуже, непримиримый Цицианова неприятель».
«Все исчадие здешних царей и владетельных князей одной бешеной собаки не стоит! Много у меня дела, а то бы принялся я за них и припомнил им времена князя Цицианова, которого одна память в трепет приводит».
В чем же дело? Явно мало для столь высокого мнения, для демонстративного превознесения личности и деятельности Цицианова только военных успехов.
Ермолов был человек суровый, честолюбивый, ревнивый к чужим успехам, склонный к уничижению паче гордости, и такое возвеличивание предшественника должно иметь какие-то из ряда вон выходящие причины. Должно быть какое-то редкое совпадение мировосприятий, каких-то существенных черт личности, представлений о том, как именно нужно замирять Грузию и Кавказ.
Тут, очевидно, не только некое совпадение представлений, но и образ действий Цицианова драгоценен для Ермолова как спасительный опыт.
В чем же заключался этот опыт? Что это был за стиль поведения? Какая метода представлялась князю Павлу Дмитриевичу идеальной для приведения к порядку и послушанию Грузии и Кавказа? Действительно ли Цицианов совершил за три года нечто такое, что заложило фундамент русского владычества на Кавказе?
Прежде всего — что представлял из себя князь Цицианов в чисто биографическом плане? Основной биографический источник — сочинение Платона Зубова (не путать с екатерининским фаворитом). Он выпустил в двадцать третьем году небольшую книжечку под названием «Жизнь князя Цицианова», где собрал по еще довольно свежим следам — прошло менее двадцати лет со дня гибели князя — сведения о его семье, воспитании, отрочестве, формировании личности. Есть, кроме того, очень немногочисленные свидетельства мемуаристов-современников.
Павел Дмитриевич Цицианов родился 8 сентября 1754 года в Москве. Отец его происходил из очень хорошего грузинского княжеского рода, который уже во времена князя Павла Дмитриевича породнился с последним грузинским царем Георгием XII, женившимся на княжне Цициановой. Но еще при Петре дед князя Павла Дмитриевича выехал в Россию и служил в гусарах при Анне Иоанновне. Отец нашего Цицианова был человеком вполне просвещенным и не менее обрусевшим. Он обучал сына европейским языкам и вообще воспитывал его как русского дворянина. Через пятьдесят лет, в 1804 году, командующий войсками в Закавказье генерал Цицианов писал в одном из своих гневных посланий непокорным горцам:
«Неверные мерзавцы!.. Вы верно думаете, что я грузинец, и вы смеете так писать? Я родился в России, там вырос и душу русскую имею».
В тринадцать лет он перевел французскую книгу по военному инженерному делу, читал и переводил европейских военных теоретиков. В частности — известного французского военного писателя Фолара, сподвижника Карла XII, выдвинувшего идею атакующей колонны в противовес существовавшей тактике развернутого строя батальонов. Этой идеей впоследствии широко пользовался Наполеон.
Писал молодой Цицианов и стихи. Впрочем, в XVIII веке их писали многие. В том числе и Суворов.
Выбор Фолара в качестве материала для перевода сам по себе значим. Развернутый батальонный строй давал возможность поражать противника залповым ружейным огнем, но плотно построенная колонна выигрывала в стремительности движения и в способности таранным ударом взламывать боевые порядки противника. То, что молодой Цицианов, готовясь к военной карьере во времена, когда господствовала линейная тактика Фридриха II, обратил внимание на Фолара, свидетельствовало о его характере и военных пристрастиях.
Семнадцати лет он начал реальную службу прапорщиком в лейб-гвардии Преображенском полку, затем по собственному желанию перевелся в армию и в тридцать лет получил под командование Санкт-Петербургский гренадерский полк, с которым принял участие во Второй турецкой войне. В 39 лет он был произведен в генерал-майоры — пока довольно заурядная, хотя и вполне успешная военная карьера. Польское восстание 1794 года стало поворотным моментом в его судьбе.
Военная мемуаристика конца XVIII века скупа. Но Цицианов в ней встречается. Участник польской войны Л. Н. Энгельгардт писал:
«Артиллерии капитан Сергей Алексеевич Тучков, к счастию, по первому удару в набат, вскоре ушел к своим двум ротам артиллерии, стоявшим на Погулянке, и нашел всю свою команду готовую у орудий. К нему мало-помалу стали прибегать от сказанных полков некоторые офицеры и нижние чины, и собралось их до 700 человек. Он подступил к городу и стал оный канонировать; поляки хотели было атаковать его, но видя устройство его войск, опасались. Поляки потребовали от Арсеньева (взятый в плен генерал. — Я. Г.), чтобы он приказал Тучкову остановить канонаду, но тот отказался, а принудили полковника Языкова, чтоб он от имени генерала послал таковое приказание. Тучков, получа сие предписание, отвечал, что пока генерала лично не увидит, то приказа не послушает, и требовал, чтоб ему его выдали. Но как начало рассветать, и он увидел, что польские полки собрались и вывезли из своего арсенала артиллерию, то, по малому числу своих войск, ретировался он к Гродне и прибыл туда благополучно, без малейшей потери, хотя при начале жарко был преследуем.
В Гродне командовал генерал-майор князь Павел Дмитриевич Цицианов. Как человек разумный и с воинскими особливыми дарованиями, он был осторожен и содержал войска в должном порядке, и потому тотчас по дошедшей молве принял свои меры: дождавшись Тучкова, взял с Гродны контрибуцию, занял крепкую позицию и оставался там до времени»[44].
На польской войне Цицианов впервые показал свои «особливые воинские дарования», проявив необыкновенную решительность, умение психологически воздействовать на противника, использовав угрозу действием вместо самого действия, — как это было под Гродно.
В одном из приказов Суворов, руководивший взятием Варшавы, поставил генерала Цицианова в пример всем остальным именно за его решительность.
Ермолов, тоже воевавший в Польше, отличился при штурме варшавского предместья, но в чине капитана. Здесь он, скорее всего, услышал о Цицианове.
В 1796 году, когда Валериан Зубов был отправлен Екатериной завоевывать Восток, Цицианова приставили к нему как опытного полководца.
Как известно, Павел, вступив на престол, немедленно отозвал корпус Зубова с Каспия. Но месяцы, проведенные Цициановым на Кавказе и в Закавказье, были для него драгоценным опытом.
Что за личность был князь Цицианов? Воевавший вместе с ним в Польше, а затем уже генерал-майором служивший под его началом в Грузии Тучков писал следующее:
«Он был одарен от природы острым разумом, довольно образован воспитанием, познанием и долговременною опытностию в военной службе, был честным и хотел быть справедливым; но в сем последнем нередко ошибался. При этом был он вспыльчив, горд, дерзок, самолюбив и упрям до той степени, что наконец через то лишился жизни… Считая себя умнее и опытнее всех, весьма редко принимал он чьи-либо советы. Мало было среди его подчиненных таких людей, о которых он имел хорошее мнение. Ежели кому не мог или не хотел делать неприятности по службе, то не оставлял всякими язвительными насмешками, в чем он был весьма остр. Но за подобные ответы ему, даже в шутках, он краснел, сердился, а иногда мстил. Таковой его характер был причиною в молодости его многих для него неприятностей.
И, наконец, когда он командовал в Польше гренадерским полком, то до того дошел, что почти никто из офицеров не хотел служить под его начальством. Один из них, не снеся сделанных ему обид, до такой степени лишился терпения, что, в присутствии многих знатных чиновников, решился дать ему пощечину. Сей несчастный был тогда же арестован. Но дабы пресечь такой неприятный для него самого суд, дал он сам способ сему офицеру уйти за границу. Хотя дело этим и кончилось, но он оставался на худом замечании до кончины императрицы Екатерины II. Он имел более шестидесяти лет, когда прибыл в Грузию, но был довольно бодр и видом величав»[45].
Тучков, человек в своем роде замечательный, участник культурной и политической жизни екатерининской эпохи, претерпел в своей судьбе немало несправедливостей. В том числе и от Цицианова. И потому полностью доверять его характеристике не стоит. Тем более что он сообщает заведомо недостоверные сведения относительно «худого замечания», на котором якобы Цицианов был у Екатерины. Это неверно. Екатерина ценила и отличала Цицианова. Он вынужден был выйти в отставку сразу по воцарении Павла и вернулся в службу только при Александре.
Но значительная доля истины в тучковской характеристике есть. Князь Павел Дмитриевич был человеком могучего темперамента, что способствовало формированию полководческого стиля, но и имело, соответственно, свои немалые человеческие издержки. В генеральской среде екатерининского времени, времени больших возможностей и больших карьер, значительную роль в человеческих отношениях играли факторы служебные, карьерные. Вспомним отношение Суворова к своему продвижению, к продвижению своих коллег. Дележ лавров и заслуг был ревнивый и яростный — благо и того, и другого было немало, а честолюбие поощрялось государыней, и сознание того, что история творится их руками, их руками и дарованиями строится империя, придавало простому служебному соперничеству особую значимость.
II
Мы помним о постоянном противопоставлении Ермоловым Цицианова и Гудовича, его слова о вражде Гудовича к Цицианову, что, по мнению Ермолова, отмахнуться от которого мы не можем, сыграло свою печальную роль в управлении Кавказом и Грузией после смерти Цицианова. Гудович не только сменил Цицианова. Он был и его предшественником на Кавказе с 1791 по 1800 год. И можно догадаться, что именно события 1796 года и определили их отношения. В девяносто шестом году, как мы знаем, Екатерина отправила Валериана Зубова, человека энергичного и храброго, но вполне неопытного в полководческом деле, воевать с Персией. По логике вещей его наставником должен был стать уже служивший на Кавказе Гудович, но в качестве «дядьки» выбран был Цицианов. Есть основания полагать, что Гудович смертельно оскорбился.
Ситуация вообще была довольно двусмысленной — двадцатипятилетний генерал-поручик, получивший генеральский чин исключительно потому, что брат его Платон был фаворитом Екатерины, фактически отбирал Кавказский корпус у пятидесятилетнего генерал-аншефа, прошедшего долгий боевой путь. Это, однако, Гудович, воспитанный в нравах екатерининского царствования, скорее всего перенес бы. Но значительную роль в грандиозном походе играл уступавший ему в чине и в возрасте Цицианов — и это было невыносимо.
Эта история имела свои истоки — Иван Гудович был младшим братом Андрея Гудовича, любимца Петра III, и вместе с ним оказался под арестом после переворота 1762 года. Оба брата учились в Германии — в Кенигсбергском и Лейпцигском университетах, были способными офицерами. Но близость к свергнутому императору стоила старшему карьеры, а младший, очевидно, так никогда и не вошел в число особо доверенных деятелей екатерининского царствования.
Иван Гудович оставил в своей автобиографической «Записке» описание этой щекотливой ситуации:
«В начале 1796 года получил я повеление изготовить войска, на Кавказской линии стоявшие, и послать в Персию, поруча оные в команду присланному из Петербурга генерал-поручику графу Валериану Зубову, снабдив его как наставлением, так и всем нужным для похода. Посему изготовленные войска прибыли в лагерь недалеко от Кизляра, в удобном месте назначенный, 2-го апреля, и сделан был мост на реке Тереке, а по прибытии оного генерал-поручика в Кизляр, где и я тогда находился, назначенные к походу войска с линии перешли через реку Терек во всей исправности. Заготовлено в Астрахани сто тысяч четвертей провианта для доставления оного морем, куда надобность потребует в Персию, и заготовлена эскадра Астраханская под командою одного контр-адмирала, который должен был впредь зависеть от генерал-поручика графа Зубова. Затем отправил я генерал-поручика графа Зубова в апреле месяце с войсками к Дербенту, который еще не был взят, дав ему мое наставление, 1000 верблюдов и 1000 волов, для доставления за ним провианта. По отправлению сей экспедиции, будучи в Кизляре, получил я жестокую болезнь, и коль скоро мог везен быть, отъехал я в квартиру мою в город Георгиевск, а между тем прибавлены были еще войска извнутри России к генерал-поручику графу Зубову, как регулярной конницы, так и казаков под командою тогда бригадира, а ныне донского атамана графа Платова. Прибыв в Георгиевск по представлению генерал-поручика графа Зубова, доставлял я ему еще верблюдов и волов большое число. Генерал-поручик граф Зубов по покорении Дербента пожалован был не по старшинству генерал-аншефом и уже от меня не зависел. (В 25 лет! — Я. Г.) Бака по приближении эскадры сама сдалась без сопротивления, а генерал-аншеф граф Зубов терпел нужду в провианте, которого хотя довольно привезено было в Баку, но по отдалении взятого им лагеря от Баки, доставлением оного оттуда безводною и бесфуражною степью на верблюдах и волах понес великий урон в доставлявших оный верблюдах и волах. Также стоявши долговременно в одном лагере близ гор, он понес знатный урон в лошадях конницы».
Тут ничего не сказано прямо, но все нюансы настроений и отношений ясны.
Мне удалось найти у Гудовича только два упоминания Цицианова, и оба содержат негативную оценку его военных дарований. Особенно выразительна вторая. Подступив в 1808 году к Эривани, которую в свое время не смог взять Цицианов, Гудович в прокламации жителям крепости писал:
«Не берите в пример прежней неудачной блокады Эриванской крепости. Тогда были одни обстоятельства, а теперь совсем другие. Тогда предводительствовал войсками князь Цицианов, из молодых генералов, не столь еще опытный в военном искусстве, а теперь командую я, привыкший уже водить более тридцати лет сильные российские армии».
Вряд ли можно было считать пятидесятилетнего Цицианова «молодым генералом». Но неприязнь Гудовича искала выхода.
Болезнь Гудовича была дипломатического свойства. Оскорбленный всем происшедшим, он попросил отставки и получил ее. Но как только в этом же году умерла Екатерина и воцарился Павел — все перевернулось: Гудович был немедленно — из-под Воронежа — возвращен на Кавказ (и он сразу выздоровел!), а Зубов и Цицианов оказались в отставке. Армию с Каспия вернули на линию.
Схожей ситуации суждено было повториться еще раз. Гудович в 1800 году вышел в отставку. В Грузию послан был генерал Кнорринг. В 1802 году его сменил Цицианов — это был тот «славный период» до 1806 года, о котором поминает непрерывно Ермолов. Затем убитого Цицианова снова сменил Гудович и, по утверждению Ермолова, испортил все, что удалось построить Цицианову. Сюжет этот довольно запутанный и туманный, но мы только попытаемся в нем разобраться.
Но сперва нужно осознать разницу военного, политического и психологического контекста, в котором сформировались кавказские доктрины двух генералов.
Гудович — девяностые годы XVIII века. Грузия только формально под российским протекторатом. Противостояние с горцами идет только со стороны Северного Кавказа. У горцев прочный тыл, свободное сообщение с Турцией через Черное море даже после взятия Гудовичем в 1791 году Анапы, — это глубокий правый фланг Кавказского театра. О том, что делается в глубинах Кавказа — в Дагестане, Чечне, — представление самое отдаленное. В Петербурге — особенно. Гудович вынужден заниматься ликбезом, достаточно поверхностно объясняя Екатерине, кто есть кто.
7 ноября 1791 года он отправляет в Петербург обширное донесение, в котором, в частности, пишет:
«Ближайший из ханов к границам российским — Шемхал Тарковский, которого владение начинается против Кизляра за Тереком, позади народа, называемого кумыки, подданных Вашего Императорского величества, за Тереком против Кизляра обитающих. Сей хан, живущий в городе Тарках и владеющий Дагестаном по берегу Каспийского моря, оказывая всякое усердие свое к Высочайшему Престолу Вашего Императорского Величества, находится со мною в сношении и в последнем ко мне письме, недавно полученном, делает многие уверения о верности и преданности своей к Вашему Императорскому Величеству… Сей хан в большом уважении у многих малых персидских владельцев, его окружающих, — хана шемахинского и других; держит их спокойными, давая перевес своим пособием, и, сколько я мог приметить, сам спокойного расположения. За ним дербентский Ших-Али-хан, находящийся также в сношении со мною…»
Этот идиллический взгляд отнюдь не соответствовал сущности отношений. И дело было не в наивности Гудовича, а в установке, о которой мы ниже поговорим.
С той же степенью глубины Гудович обрисовывает и положение племен.
«Соседние народы, в здешней стороне прилегающие к границам империи Вашего Императорского Величества, начиная от Черного моря: часть большой Абазы, горный народ, прозываемый натухажцы, больше числом всех прочих, которого земли начинаются в 20-ти верстах по Черному морю далее Суджук-Кале в горах и простираются вверх по Кубани до ста верст. Сей народ по взятии Анапы входил в подданство В. И. В. и давал аманатов… Подле сих, на вершине реки Урупа, вытекающей из гор и впадающей в Кубань, к горам, малый закубанский народ, прозываемый Бишильбай, не входящий в подданство. Все сии народы, по большей части, мало упражняясь в хлебопашестве и скотоводстве, имея и хорошие земли и разные другие выгоды, не знающие никакого другого торгу, кроме продажи краденых людей, ни ремесла другого, кроме делания употребляемого ими оружия, живущие в самых дурных хижинах и шалашах, называемых аулами, из которых некоторые переносятся с места на место, не имеют ни чиноначальства и никакого понятия о нравах, почитая и самое воровство людей, так и прочего за удалые поступки и добродетель, а оттого и все в бедном состоянии… Подле карабулаков, вниз по Тереку и по реке Сунже, начиная от Моздока, против Наура и до станиц Гребенских казаков живут чеченцы, народ злой, дикий, к хищничеству и воровству более всех горских народов склонный; оного не много и не более как тысяч до пяти».
Но дело не только и не столько в весьма приблизительном представлении генерала о кавказских народах, а в том, что ему не важны особенности этих народов. Очевидно, образование, полученное в Германии, в сочетании с несколько примитивными просветительскими принципами, бытовавшими в России, и имперским высокомерием — эта смесь заслонила от Гудовича кавказскую реальность и толкнула его к простой системе отношений с горскими владетелями, напоминающей «ордынский стиль», примененный монголами по отношению к русским княжествам, — не вдаваться в сложную жизнь подвластных образований, но ориентироваться на одну или две силы, которые, соблюдая вассальную верность, будут регулировать все пространство. Для Гудовича это шамхал Тарковский, возможности которого он преувеличивал.
Гудович явно не думал об интегрировании — даже в будущем — кавказских территорий в состав империи. Его принцип — вассальные отношения.
Контакты Гудовича с представителями горских племен напоминают беседы адепта просветительской педагогики генерала Бецкого, который был уверен, что правильным воспитанием можно вывести идеальную породу людей, с воспитанниками его интернатов.
«Я старался приезжавшим ко мне вошедшим в подданство внушать о хозяйстве и о добронравии, могущем составить собственное их благосостояние, внушал им при отпуске их аманатов, сколько они чувствовать должны Высочайшую милость В. И. В., не потерпевши в нынешний последний поход ни малейшего в жилищах своих разорения, заслуживая довольно наказание за сделанные ими прежде набеги, подтвердил им письменно и внушил словесно, чтобы они впредь от всякого хищничества и воровства воздержались, дабы не подвергнуть себя гневу В. И. В. и наказанию; со всем тем, по причине беспорядочной их жизни, ветрености и безначалия, нельзя положиться, чтобы они не продолжали хищничества и воровства на правую сторону Кубани в границы Российские».
Можно представить себе, какое впечатление производили эти душеспасительные беседы на поседелых в набегах и междоусобицах воинственных черкесов, о которых Гудович толкует в терминологии проповедника, наставляющего на путь истинный падших женщин, — «беспорядочной их жизни, ветрености…» Это, я полагаю, вполне соответствовало и представлениям императрицы Екатерины, и ее позиции «матери народов». Далее Гудович писал о закубанцах:
«Образ жизни их до сих пор беспорядочный, и хотя по данной им в последний раз В. И. В. подданнической присяге должны они во всем зависеть от начальника, здесь поставленного, но они привыкли к прежним своим обыкновениям, не имея между собой никакого суда, ни чиноначальника, почитают важные пороки и самое убийство за малые поступки, делая за оное только междоусобное мщение и грабеж. Дерзая при сем В. И. В. донести верноподданнейшее мое мнение, что ежели в сем народе не учинить суда и порядка, то оный будет государству В. И. В. бесполезен и самому себе во вред и разорение».
Здесь две вещи очевидны. Во-первых, психоцентризм европейца, воспринимающего поведение горцев не как иную — пускай и враждебную, и порочную — но принципиально иную систему мировидения и соответственно систему регуляции человеческих отношений, а только как ветреность и распущенность, непонимание собственной пользы. Гудович смотрел на горцев как на порочных российских недорослей, которым недостает правильного понимания — что такое хорошо и что такое плохо. Во-вторых, в его послании вовсе не чувствуется воинственности, оно не агрессивно. Он верит, что есть способы «учинить в сем народе суд и порядок». И способы эти он явно связывает с местными владетелями.
III
Цицианов был человек абсолютно иных представлений. Может быть, тут сказалось его восточное происхождение, но, во всяком случае, он проявил биологическую чуткость к сути происходящего на Кавказе, к сути взаимоотношений этих людей, живущих отнюдь не по европейским законам века Просвещения.
В поведении Цицианова по отношению к горцам, да и грузинам нет и следа «просветительской педагогики» Гудовича. Этот стиль он отмел демонстративно и категорически.
Известный историк Кавказской войны Н. Ф. Дубровин точно и просто сформулировал принципы Цицианова:
«В своих административных распоряжениях князь Павел Дмитриевич становился в положение азиатских владетелей. Каждый из ханов, принявших подданство России, был в глазах главнокомандующего лицом, ему подвластным. Относительно тех ханов, которые еще сохраняли свою независимость, князь Цицианов относился как сильный к слабому. Он поступал в этом случае точно так же, как поступали между собой ханы и даже мелкие владельцы».
А перед этим Дубровин писал:
«Вступая по своей обязанности в соприкосновение с различными ханами, хищными по наклонностям, коварными и вероломными по характеру, присущему всем азиатцам, князь Цицианов решился поступать с ними совершенно иначе, чем поступали его предместники. Вместо ласки и уступки в различного рода претензиях, по большей части неосновательных, новый главнокомандующий решился поступать твердо, быть верным в данном слове и исполнять непременно обещание или угрозу даже в том случае, если бы она была произнесена ошибочно»[46].
Эти утверждения Дубровина почти справедливы — с той лишь поправкой, что Цицианов все же не всегда приводил в исполнение свои угрозы. Каковы они были — мы сейчас увидим. Но принцип поведения нового главнокомандующего очерчен совершенно верно. Цицианов решил вести себя соответственно представлениям местных владетелей — то есть как восточный деспот, представляющий при этом цивилизованную европейскую державу. Эта двойственность, очевидно, в известной мере соответствовала особенностям личности князя Павла Дмитриевича — с одной стороны, типичного московского барина, екатерининского вельможи (это явствует из писем к нему его близкого друга графа Ростопчина), русского генерала с соответствующими понятиями, с другой — человека, который легко вживался в образ могучего сатрапа, хана над ханами, не останавливающегося ни перед какими средствами для достижения полного повиновения — себе, а соответственно России. Как увидим, очень схожую модель поведения выбрал и Ермолов, хотя для него это была в гораздо большей степени игра, чем для Цицианова.
Нам нужно все время помнить следующее обстоятельство: в этот первый период «классической» Кавказской войны — 1800–1810-е годы — главным объектом внимания, главным противником или союзником считались ханства. Даже Ермолов уже во второй половине 1810-х годов ориентирован был на борьбу с ханствами прежде всего. Однако довольно скоро он понял свою ошибку, понял, что основная и непримиримая сила, противостоящая русской экспансии, — вольные горские общества. Надо иметь в виду и то, что психология деспотических образований — ханств — существенно отличалась от психологии граждан вольных обществ. Одни привыкли к деспотизму и иерархии, для других подчинение чьей-то посторонней, чуждой власти означало катастрофическое крушение всего миропорядка, потерю органичного мироощущения и самовосприятия. Отсюда и уровень непримиримости.
Для Гудовича подлинным традиционным врагом были Турция и Персия, а ханства — второстепенным фактором. Для Цицианова именно Кавказ и Закавказье были главным пространством деятельности и сферой приложения сил. А Персия виделась ему источником враждебных импульсов, посылаемых в родственные ей этнически и психологически ханства. Поэтому борьба с Персией и победа над ней были непременным условием покорения и устройства Кавказа, а соответственно и устройства Грузии. И наоборот — устройство Грузии давало возможность успешного продвижения в глубь Кавказа.
Гудович смотрел на кавказские дела со стороны. Цицианов вторгался в самую глубину — и материально, военными средствами, и (главное для нас) психологически.
Мы помним весьма приблизительные характеристики кавказских владетелей, отправленные Гудовичем императрице. Сравним их с подобными же описаниями Цицианова:
«Ших-Али-хан Дербентский и Кубинский высокомерен, надменен, предприимчив, властолюбив, интригант, довольно храбр, славолюбив и всем пожертвует для сего последнего свойства, устремляя все старания и направляя все пружины к большим приобретениям; при всем том роскошен и сластолюбив. Цель его — поставить в Ширвани ханом Касима, с тем, чтобы слабостию его воспользовавшись, иметь влияние на его владения, посредством его, так как бакинский всегда был данником ширванского, ныне владеющего Бакою хана сверзить и поставить ему угодного; также по слабости Касима отнять у него Сальян, яко владеемый перед сим Ших-Али-хановым отцом, Фетх-Али-ханом, а ныне от кубинского владения отделенный и присвоенный Мустафою-ханом ширванским. Связи его искренние с Шамхалом Тарковским, потому что сей прост, не может ни препятствовать его предприятиям, ни сильно помогать по местному его отдалению от тех мест, где Ших-Али-хан должен по плану своему вести войну… Связи его не искренние с Сурхай-ханом казикумыхским, ныне восстановленным, потому что Сурхай-хан есть один из храбрейших и сильнейших владельцев лезгинских в Дагестане, и они, ревнуя один другого силе и могуществу, никогда не могут иметь между собой искренней связи.
По свойствам того же Ших-Али-хана, по деятельности его и интригам, полезнее для России унижать и ослабевать его, давая знаки покровительства имеющему претензии на Дербент аге Али-беку, или, буде возможно, под видом помощи ввести гарнизон в Дербент, а со временем и отдалить его Ших-Али-хана, восстановя слабейшего и не столь предприимчивого агу Али-бека…
Мустафа-хан ширванский: храбр, хитер, умерен в расходах и оттого любим чиновниками. Любит охоту, довольно славолюбив, предприимчив и не менее Ших-Али-хана осторожен, а в военном деле искуснее его… Мог бы полезен быть для России, если б в душе своей не носил ненависти к ней… Сурхай-хан казикумыхский: весьма храбр, почетен от всего Дагестана, непримиримый враг христиан, тверд и осторожен. Связи его теснейшие с аварским ханом, сколько по соседству, столько и по взаимному почтению, впечатленному храбростию и силою обоих».
Перед Цициановым вся многосложная картина связей и особенностей всего Дагестана, дающая ему возможность эффективно вмешиваться во внутрикавказские дела. Это уже совершенно иной уровень понимания ситуации, чем у Гудовича. И принципиально иная установка.
В декабре 1802 года, вскоре после приезда на Кавказ, Цицианов писал канцлеру Александру Романовичу Воронцову:
«Ваше сиятельство изволите мне приказывать, чтобы я сказал свой образ мыслей о принимании горцев и персидских ханов в подданство. Во исполнение чего имею честь доложить со всею откровенностию и усердием к службе.
Подданство вообще ханов и горских владельцев есть мнимое; поелику оно не удерживает их от хищничества и притеснения торговли…. Итак, чем менее подданства, тем менее оскорбления достоинству Империи».
В 1804 году главнокомандующий писал Ибрагим-хану Карабахскому:
«Письмо ваше, ни малейшего существа дела в себе не заключающее, но коварной души персидской образ являющее во всей полноте, я получил… и вы за таковую персидскую политику кровью своей заплатите, как и Джевад-хан. Я вашей покорности и подданства не желаю и не желал, поелику я на вашу персидскую верность столько надеюсь, сколько можно надеяться на ветер».
Это вовсе не означало, что Цицианов отказался от расширения российских владений. Наоборот, он намеревался расширять их, постепенно ликвидируя ханскую власть как таковую — сам институт ханской власти на Кавказе. Цицианову нужно не условное подданство, а полное покорение. Для этого он намеревался стимулировать междоусобицы и одновременно занять русскими гарнизонами Баку и Дербент. Александр I был настроен скептически относительно планов бакинского похода, считая, что таким образом Россия восстановит против себя горских владетелей, не имея достаточно сил, чтобы привести их к повиновению оружием. В присылке дополнительных войск он Цицианову отказал. Позиции Петербурга и Цицианова радикально рознились. В Петербурге считали, что нужно идти именно по пути вовлечения ханов в русское подданство и всевозможными мирными способами закреплять их в этом положении, а Цицианов был уверен, что только демонстрация силы и ослабление системы ханств с последующим ее уничтожением может привести к спокойствию в Грузии, укреплению границ и овладению Кавказом. Александр в принципе не исключал продвижения на восток и расширения в этом направлении пространства Грузии и империи вообще. Он только считал это преждевременным. На что Цицианов отвечал очередным программным документом:
«Приемлю смелость всеподданнейше представить мнение мое благоусмотрению В. И. В. по поводу изображенного сомнения, не откроются ли через сие прежде времени настоящие виды наши и не поколеблется ли тем доверенность к нам прочих ханов».
«Настоящие виды» Цицианова не совсем совпадали с намерениями Петербурга и были гораздо радикальнее. В воспоминаниях Тучкова есть такой многозначительный эпизод:
«Он (Цицианов. — Я. Г.) хотел решительным средством пресечь мятеж в Грузии и набеги лезгин. А через войну с Персией, которую непременно искал повода начать, хотел показать молодому императору Александру великие свои способности. Один раз, смотря со мною на карту Азии, указал он на персидский город Дербент и сказал мне:
— Я хотел бы, чтобы вы были там военным губернатором или, — указывая на Имеретию, — здесь были тем, чем я в Грузии.
Я поблагодарил его за добрые обо мне мысли и сказал, что оба сии места еще не у нас в руках».
Конечно, Цицианов был честолюбив, но приведенным Тучковым мотивом его стремление спровоцировать войну с Персией не исчерпывалось.
Персию и персиян он ненавидел и презирал. Возможно, это было генетическое чувство потомка грузинских аристократов, столь много потерпевших от персов. Возможно, эта ненависть базировалась на памяти о чудовищных бесчинствах, которые совершали персы и их союзники-горцы, особенно лезгины, по отношению к грузинскому населению. У Гудовича не было этих личных мотивов.
И, конечно же, у князя Павла Дмитриевича были обширные стратегические планы, соответствующие, по мнению Цицианова, фундаментальным целям России в этом регионе.
В цитированном выше донесении императору князь Павел Дмитриевич так отвечал на сомнения Александра:
«Поелику ни один народ не превосходит персиян в хитрости и в свойственном им коварстве, то смею утвердительно сказать, что никакие предосторожности в поступках не могут удостоверить их в благовидности наших предприятий, когда заметить можно даже в нравах грузинского народа, почерпнувшего из Персии вкупе с владычеством неверных некоторую часть их обычаев, что самые благотворные учреждения правительства нередко приводят оный в сомнения и колеблют умы недоверчивостью… Страх и корысть суть две господствующие пружины, коими управляются дела в Персии, где права народные вкупе с правилами человечества и правосудия не восприняли еще своего начала, и потому я заключаю, что страх, наносимый ханам персидским победоносным оружием В. И. В., яко уже существующий, не может вредить нашим намерениям, поколику почитаю я оный необходимым. (Ясно, что Цицианов считает положение в России соответствующим “правилам человечества и правосудия”, во всяком случае далеко превосходящим по этим параметрам положение в Персии, и потому здесь присутствует явный оттенок осознания цивилизаторской миссии России на Кавказе и в Закавказье, чего у Гудовича при всем его морализаторстве не было. — Я. Г.) Напротив того, причины доверенности к будущим подвигам нашим имеют уже твердое основание у соседственных народов, которые удостоверясь очевидно в благости российского правления, несмотря на злоупотребления, при первом шаге в Грузии вкоренившиеся, по всеобщему разуму милосердных законов В. И. В., ограждающих личность и собственность каждого, единодушно воздыхают о событии того происшествия, когда они сделаются подданными сильной и правосудной державы и чадами единого милосердного отца».
Последний пассаж относится только к христианским народам — армянам и грузинам. Те, кого Цицианов относил к азиатам, заслуживали отношения совершенно иного. Князь Павел Дмитриевич формулировал его так:
«Азиятский народ требует, чтобы ему во всяком случае оказывать особливое пренебрежение».
IV
Цицианов с самого начала выбрал позицию, сутью которой было моральное подавление реальных и потенциальных противников на Кавказе.
Унижение ханов в собственных глазах и в глазах их подданных должно было подготовить их окончательное вытеснение.
Вот образец послания Цицианова к одному из владетелей, султану элисуйскому:
«Бесстыдный и с персидской душою султан! И ты еще ко мне смеешь писать. Дождешься ты меня к себе в гости, за то, что части дани своей шелком не платишь целые два года, что принимаешь беглых агаларов Российской империи и даешь им кровлю и что Баба-хану с джарцами посылал триста человек войска.
В тебе собачья душа и ослиный ум, так можешь ли ты своими коварными отговорками, в письме изъясненными, меня обмануть? Было бы тебе ведомо, что если еще человек твой придет ко мне без шелку, которого на тебя наложено сто литр в год, то быть ему в Сибири, а я, доколе ты не будешь верным данником великого моего Государя Императора, дотоле буду желать кровию твоею сапоги вымыть».
Цивилизаторский оттенок деятельности с ориентацией на Россию как эталон подтверждается и отношением Цицианова к грузинам — а здесь никакой исторической и национальной вражды быть не могло:
«Вникая в нрав грузинского народа, усматриваю я из частных опытов, что всякое образованное правление до времени остается в Грузии без действия. Природа, определившая азиатские народы к неограниченной единоначальной власти, оставила здесь неизгладимую печать свою. Против необузданности и упорства нужны способы сильные и решительные. Кротостью российского правления и разными пронырствами укрываясь от гонения законов, хвастают ненаказанностью порока. Колико препон в судопроизводстве гражданском! колико старинных распрей между князьями грузинскими и капитан-исправниками единственно оттого, что они привыкли размерять важность начальства по важности лица, ими повелевающего; что слово закон не имеет для них никакого смысла и что они стыдятся повиноваться капитан-исправнику, родом и чином незнатному».
Далее следует замечательная по емкости фраза:
«Для них все ново, для нас все странно…»
Тут любопытно, что Цицианов, очевидно, учитывая либеральные взгляды Александра — а это текст донесения императору от 13 февраля 1804 года — обличает «неограниченную единоличную власть», как будто в России был другой тип правления. Понятно, что Цицианов имеет в виду восточный, ничем в моральной и юридической сфере не ограниченный деспотизм в противовес просвещенному абсолютизму европейского типа. «Кротость российского правления», которое кротостью выделялось только на фоне средневековой жестокости восточных владык, казалась и грузинам, и горцам не только слабостью, но и нелепостью, ибо они веками привыкли к судопроизводству неформальному и быстрому. Бюрократический гуманизм новых установлений казался им издевательством. Постепенно Цицианов это понял и подал императору записку, в которой, в частности, писал:
«Сколь ни справедливо и то уважение, что нужно когда-либо сблизить нравы с российскими узаконениями, но дабы совершенно успеть в сем предприятии, я думаю, что законы долженствуют изгибаться по нравам, ибо сии последние едиными веками, а не насильственными способами преломляются».
Но те выводы, к которым он постепенно пришел в отношении единоверцев-грузин, не распространялись на ханства. Они были образцом азиатского деспотизма и потому не имели в глазах Цицианова, а затем и Ермолова, права на существование не только по причинам геополитическим, но и моральным…
Как уже говорилось, Гудович в большей степени, Цицианов в меньшей недооценивали роль горских обществ в военно-политической жизни Кавказа и главное внимание обращали на ханов и ханства. Это понятно — генералы лучше воспринимали иерархическую систему, близкую российской. Военная демократия вольных обществ была им совершенно непонятна. Но с самого начала деятельности Цицианову, тем не менее, пришлось заняться проблемой джаро-белоканских лезгин, являвших собой именно вольное общество. Джары и Белоканы были центрами лезгинских областей, откуда совершались постоянные опустошительные набеги на Кахетию. Лезгины, жившие в Ахалцихском пашалыке, турецком владении, тревожили Картли. Но джаро-белоканские лезгины были подлинным бедствием. Ежегодно сотни семейств захватывались ими и продавались в рабство через турецких посредников.
В марте 1803 года отряд генерала Гулякова, посланный Цициановым, после тяжелого боя взял и сжег Белоканы, истребив до 500 лезгин. Но нас сейчас интересует не военная сторона дела, а стиль отношений Цицианова и полуусмиренных горцев, вполне соответствующий стилю его отношений с ханами. И здесь, в этом первом конфликте с вольным горским обществом князь Павел Дмитриевич сделал ставку на ту же методу — устрашение и моральное подавление оппонента. Главным было — показать противнику его ничтожность по сравнению с Российской властью, его жалкость и смехотворность его претензий на любое волеизъявление. Так он писал карабахскому хану Ибрагиму, не последнему на Кавказе владетелю:
«Слыхано ли на свете, чтоб муха с орлом переговоры делала, сильному свойственно приказывать, а слабый родился, чтоб сильному повиноваться».
Разумеется, умный Цицианов знал, что делал — он сознательно и настойчиво провоцировал своих противников, предоставляя им выбор — или признать свое полное ничтожество и безропотное унижение и отдаться во власть «сильного», или попытаться восстать и тем самым предоставить Цицианову возможность пустить в ход военную силу и подавить таким образом. Это было особенно эффективно по отношению к ханам, которые оказывались в безвыходном положении. Снести оскорбления и угрозы означало потерять достоинство и авторитет, вступить в конфликт с главнокомандующим — дать повод к занятию ханства русскими войсками.
По отношению к обществам этот метод был не столь рационален, но они пока не воспринимались Цициановым как некая самостоятельная проблема, и потому ничего иного он для них не придумывал.
В октябре 1803 года, уже после того, как джаро-белоканские лезгины были разгромлены и обложены данью, от которой они, естественно, пытались уклониться, Цицианов так отнесся к джарцам:
«Я вижу из письма вашего, что один обман суть основанием всех ваших уверений; вижу и то, что кротость моя и милосердие не действуют над вами. Вы бедностью отзываетесь, не будучи бедны; буде ж шелка нет, пришлите за первый срок 11 000 рублей русских серебряных или 4 230 червонцев и 2 рубля серебром; приготовьте к 1 ноября такую же сумму — и тогда я вам отец буду, тогда покажу я, как кротко и милостиво российское правление. Но видно вы не чувствуете моей жалости к пролитию вашей крови реками и лишению вас домов ваших и имения; ждите времени, соберите всех дагестанцев и готовьтесь перемерзнуть в снегу между гор, буде стоять устрашитесь. Не обманите вы меня другой раз, потреблю вас с лица земли и не увидите вы своих селений; пройду с пламенем по вашему обычаю, и хотя российские не привыкли жечь, попалю все то, что не займу войсками, и водворюсь навеки в вашей земле. Увидим, помогут ли вам дагестанцы выгнать меня и будут ли в состоянии оное сделать. Знайте, что писав сие письмо к вам, неблагодарным, кровь моя кипит, как вода в котле, члены все дрожат от ярости, — не генерала я к вам пришлю с войсками, а сам приду, земли вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет; но вы, яко зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи поколеете. Дагестанцы же, коих вы оставили зимовать, будут свидетелями тому и тоже помрут; вы хлеб увезли в ущелья, но со смертью своею есть его будете… Великий мой государь велел мне вас наказать, буде даже не заплатите; он уже изволит ведать о том, что в августе месяце шелк не привезен».
Дело тут, конечно, не в шелке и не в серебряных рублях. Это символы покорности. Здесь надо обратить внимание на упорное возвращение Цицианова к дагестанцам. Цицианов видит намечающийся союз горских обществ против России, и это кажется ему самым опасным в ситуации. Послание явно рассчитано на то, что его содержание узнают и те дагестанские воины, что пришли на помощь лезгинам на случай еще одного столкновения с русскими. Причем, судя по тому, что здесь не упоминается хан, чьими подданными являются дагестанцы, они представляют именно какие-то вольные общества. Цицианов уже понимает, что России рано или поздно придется решать кавказскую проблему в полном объеме, и начинает превентивную психологическую войну с будущими противниками. Этот дагестанский мотив и в следующем послании явно перекрывает мотив невыплаченной подати.
Это послание джарцам от 31 марта 1804 года.
«Неверные мерзавцы! Я вас много раз уговаривал, а вы призвали дагестанцев и теперь хотите, чтоб я вам поверил и помиловал, да и дерзаете писать, что мне неприлично. Вы верно думаете, что я грузинец, и вы смеете так писать? Я родился в России, там вырос и душу русскую имею. Дождетесь вы моего посещения, и тогда не домы я вам сожгу — вас сожгу, из детей ваших и жен утробы выну. Вы думаете до снятия хлеба быть покойными, но я вас Богом уверяю, что не будете есть вы джарского хлеба, доколе не заплатите требуемого. Вот вам, изменники, последнее мое слово».
Вот еще одно послание к джарским лезгинам, особенно важное по прямому противопоставлению джарцев и дагестанцев, союз которых, повторяю, более всего в этой ситуации тревожил Цицианова, ибо означал возможность для лезгин получать неиссякаемые подкрепления из труднодоступного еще Дагестана:
«Вас Бог наградил землею богатою, дающею вам стократный плод. Дагестанцам же Бог судил жизнь свою погублять за кусок хлеба (имеется в виду «набеговая экономика». — Я. Г.) и не наслаждаться в будущей жизни блаженством (тут генерал совершенно не прав — он подходит к вопросу с христианской точки зрения, считая разбой за преступление против Бога, в то время как гибель в набеге считалась у горцев почетной и богоугодной. — Я. Г.). Опомнитесь, говорю я вам, отстаньте от ветреных бунтовщиков, кои минутную корысть предпочитают спокойной жизни; вспомните, что может Россия? Сколько раз и дагестанцы, от россиян падая ниц, зубами своими стискивая землю, испускали дух свой, в ад исходящий? Еще раз повторяю, чтоб опомнились, доколе я меча не вынул и тогда говорю, что вы не возвратитесь более в землю, где родились, где предки ваши погребены, где сродники ваши вас воспитывали; не увидите вы домов своих, которые были спокойной вашей жизни убежищем».
Надо иметь в виду, что Цицианов по природе своей вовсе не был патологически жесток, как может показаться при чтении этих текстов. В донесении Александру после первой карательной акции, которую ему пришлось предпринять, князь Павел Дмитриевич с неподдельным волнением писал, как тяжело ему было решиться зажечь селение, чего никогда в жизни делать не приходилось. Но это была рациональная установка. С этим парадоксом мы еще столкнемся, когда будем говорить о Ермолове, который также жег селения, вешал за ноги мулл, при том, что Грибоедов, отнюдь не исключавший горцев из числа созданий Божьих, писал о ермоловской доброте.
Что до лексики, то, по мнению Цицианова, это был язык привычный для тех, к кому он обращался, единственно им внятный, которым сатрап должен был говорить с «неверными мерзавцами». Другая стилистика, считал он, будет неверно понята и принята за проявление слабости.
Бешеное послание Цицианова было ответом на письмо джарцев:
«Милостивое письмо ваше мы получив, уразумели в нем все ваши приказания подробно и нашли в нем, что вы изволите прибыть сюда, сжечь дома наши и пленить наши семейства. Правда — вы все то можете исполнить, да и в том мы уверены, что вы все то, что захотите и прикажете, можете сделать. Ваша сила известна, коей мы никак сопротивляться не можем; но вашему начальству, вашей силе и вашему званию неприлично наказывать безвинно нас, усмиренных».
Казалось бы, кроме неудачного слова «неприлично», в письме не было ничего, что могло вызвать такую ярость. Но подоплека конфликта была, разумеется, куда глубже и массивнее, чем внешний сюжет. Шла борьба за будущее, борьба, в которой Цицианов занял максимально жесткую, бескомпромиссную позицию, не оставившую ни ему самому, ни его наследникам свободы маневра.
То, что эта позиция эффективна далеко не всегда и не везде, Цицианов понял сам и довольно скоро.
В начале 1804 года, через два года после вступления в должность и через месяц после одного из главных своих воинских достижений — взятия мощного укрепления Ганджа, князь Павел Дмитриевич стал проситься в отставку, хотя обширные планы его отнюдь не были еще реализованы. Отставка не была принята. И Цицианов ответил императору рапортом, в котором прочитываются некоторые существенные вещи.
«Удостоившись счастия получить сего марта 2-го дня Высочайший рескрипт В. И. В. в 9-й день февраля на мое имя состоявшийся, лестными верховное мое блаженство составляющими и никогда мною незаслуживаемыми в нем высочайшими В. И. В. отзывами насчет моего служения, обновлен дух мой новою крепостию, и если б не во изнеможенном болезнями теле ощутил он сию силу, действующую паче всех на свете поощрений, то обратился бы на большую деятельность на службе В. И. В.; но человек, к концу своему сближающийся, не может иметь ни той пылкости, ни той деятельности, которую требует польза службы при совершении столь обширного плана, высочайше мне порученного. Сия мысль о недостатках моих, соединенных с телесными изнеможениями, удручающими осень дней моих, заставляя меня опасаться, чтобы не сделать какого-либо упущения, к пользе службы В. И. В. относящегося, заставила меня всеподданнейше просить об увольнении от оной, дорожа ею паче жизни моей, могущей бы обратиться для меня в действительную тягость, если б В. И. В. к совершенной моей гибели соизволили когда-либо помыслить, что иная какая причина производит во мне желание удалиться от службы, посредством коей, начав ея от 13-летнего моего возраста, достиг до высочайшей степени блаженства моего приобретением неоценимого благоволения В. И. В. и такового же блаженной и вечной памяти государыни императрицы Екатерины Великой».
Цицианов умел писать очень ясно, четко и лапидарно. Сама невнятность и запутанность стиля свидетельствует здесь о мучительной попытке подменить подспудную, тягостную для самого князя мотивацию элементарно-традиционной.
Цицианов, действительно, не мог уже похвастаться в эти годы отменным здоровьем, но, не получив отставки, он еще два года активнейшим образом — до момента гибели в Бакинском походе — выполнял самые разнообразные функции, в том числе и возглавлял физически изнурительные экспедиции. Дело было не в «изнеможенном теле», а в нараставшей неуверенности в возможности выполнить свою задачу теми способами, которые он избрал. И с этой точки зрения психологически понятна попытка уйти в момент триумфа — после взятия Ганджи, с одной стороны, а с другой — постепенное нащупывание иных методов.
Очевидно, князь начал осознавать, что в неизбежном тотальном столкновении с наиболее воинственными горскими народами вроде чеченцев и черкесов, обитающих в труднодоступных горах и лесных районах, ни грозными инвективами, ни эпизодическими карательными ударами не достигнуть желаемого результата. Он видел, что джаро-белоканские лезгины, казалось бы, запуганные его ужасающими угрозами и разгромленные генералом Гуляковым, возвращаются в прежнее опасное состояние. И так будет раз за разом.
Образ Цицианова — железного безжалостного воителя, который одним своим присутствием на Кавказе держал его в повиновении, был в значительной степени созданием Ермолова, которому необходим был именно такой предшественник, и позднейших историков, на ермоловское мнение ориентированных…
В январе 1805 года, после трехлетнего пребывания на Кавказе, князь Павел Дмитриевич наставлял генерала Дель-Поццо, назначенного начальствовать над Большой и Малой Кабардами:
«…Долг звания моего ставит мне в обязанность указать вам главные черты правил поведения, коего держаться надлежит при управлении сим неспокойным и к хищнической жизни приобыкшим народом и тем еще необходимее, что по представлению моему, Высочайше утвержденному, перемениться должна от сего дня система оного управления.
Доныне система состояла в обуздании лютости их: 1) поддерживанием узденей в неповиновении к их князьям. 2) пенсионом, явно производимым. Рассматривая со вниманием сии два способа, нашел я их более ко вреду, нежели к пользе цели служащими; ибо первым, содержа узденей против их князей во вражде, нечувствительно Россия вселяла в них военный дух и заставляла их по необходимости сделаться год от года больше военными людьми, нежели спокойными обывателями. Следовательно, не обещающими оставить свои дикие и пагубные привычки. А второй способ, производя в не получающих к получающим пенсионы зависть неминуемую, возрождал в первых к последним презрение и неуважение, считая предателями собратий.
И для того предположено, оставя сию систему, основать новую, на трех главнейших предметах, а именно: 1) на перемене их воспитания; 2) на введении в Кабарду роскоши и 3) на сближении оной с российскими нравами, покровительствуя наружно их веру и умножая случаи к сообщению с российской.
По разуму сих трех номинальных предметов, по представлению моему Высочайше утверждено: 1) чтобы в Георгиевске и Екатеринограде заведены были училища для обучения детей кабардинских владельцев и узденей, каковые воспитанники после перемещаемы были бы из училищ в кадетские корпуса; 2) чтобы учредить беспошлинный впуск в те места, куда за нужное признано будет, кабардинских домашних произведений и изделий, особливо в торговые дни; 3) чтобы в Георгиевске и Константиногорске построить казенным коштом мечети и иметь горцам муллу для отправления их богослужений, и наконец, 4) чтобы сформировать кабардинский гвардейский эскадрон.
Изложа все милосердия Е. И. В. о благосклонности сего народа, попечения и новые Высочайше дарованные милости оному, предписываю, первоначально вруча мое к ним письмо, здесь в списке прилагаемое, внушить им всю важность оного, потом приступить к выполнению всех вышепрописанных статей, а именно:
1) Выбрать место в Георгиевске за крепостью для построения мечети, около которой желательно бы было, чтоб они, особливо мастеровые, поселились под именем кабардинского форштадта. Начало сие можно сделать переводом тех, кои теперь в Георгиевске находятся, в Екатеринограде, тоже на местах выбранных, снесясь с господином генерал-майором Брюзгиным, меня уведомить.
2) Узнав о муллах и ахундах[47] или их духовных, кои больше против других имеют от народа доверенность и уважение, стараться их привлечь на нашу сторону, обещая ежегодно производить тайно пенсионы, доколе верными пребудут, и из таковых двух выбрать для сих двух мечетей.
3) Защищать их всеми образами от притеснений, чинимых нашими воинскими чинами.
4) Когда построены будут мечети и при них школа, то склонять через мулл для пополнения их учениками. Буде же прежде и до построения школ набралось их до 12 или более охотников отдать своих детей, то меня уведомить, и я временные школы учредить поспешу.
5) Так как главнейшим неудовольствием их служит введение родовых судов, то стараться узнать и разведать мысли сего народа, будут ли они довольны тем, что на первую инстанцию разбирательств их, сверх и всякого рода дел, поручить их муллам, кадиям и ахундам, с тем, чтобы они представляли ежемесячно верховному пограничному суду о числе бывших дел и без спора их судом кончившихся. В важных же случаях решения предоставляли оному же верховному пограничному суду, предоставляя сему и апелляцию на суд ахундов, а через сие не развлекая власти, они могут быть довольны, ибо их цель в том состоит; впрочем главнейше нужно дознать, не будет ли с такою переменою сопряжено что-либо противное предполагаемым видам и не подает ли поводу к отклонению их от русских.
6) Внушить все те же пользы и выгоды, каковые могут приобресть молодые люди из князей и дворян, служа в гвардейском эскадроне, долженствующем быть сформированным, стараться склонить к тому столько, чтобы на первый раз можно было составить один таковой эскадрон.
7) Сверх того для яснейшего понятия о всех обязанностях ваших при вступлении в управление кабардинцами, прилагаю при сем список Высочайше утвержденного верноподданнейшего моего доклада относительно перемены системы правления сего народа.
8) Наконец, предлагаю вашему превосходительству как сей ордер, установления заключающий, так и копию с верноподданнейшего моего доклада хранить в непроницаемой тайне и не вверять их даже при вас находящемуся писцу. Генерал же лейтенанту Глазенапу можно все оное прочесть наедине, в подкрепление могущих случиться у вас требований в его пособии, но списков с оного не давать, дабы нескромностью иногда писца не открылась сия тайна системы и не разрушила бы тем благорасположения».
По сравнению с методой, принятой Цициановым с момента его прибытия, — это, конечно, революция. Надо иметь в виду, что жестокость и бескомпромиссность Цицианова распространялась отнюдь не только на ханов. Он был безжалостен к любым проявлениям недовольства среди рядового населения. Когда осетины, доведенные до отчаяния патологическими издевательствами назначенного к ним русского пристава, подняли мятеж, заявляя, что они верные подданные русского царя, но терпеть издевательства местной власти больше не могут, Цицианов, несмотря на сочувственное по отношению к мятежникам донесение генерала князя Волконского, приказал генералу князю Эристову в случае отказа мятежников безоговорочно подчиниться «жестокостью оружия колоть, рубить, жечь их селения, словом, при вступлении в их жилища и с ними в дело должно истребить мысль о пощаде, как к злодеям и варварам».
Мысль о перемене системы управления Кабардой пришла Цицианову после долгих тяжелых боевых действий против вышедших из повиновения кабардинцев, причем результаты карательных экспедиций отнюдь не гарантировали сколько-нибудь длительного мира. Одной из причин недовольства, как мы видим, была попытка русских властей навязать кабардинцам чуждую им систему судопроизводства. Инициатива в этом деле принадлежала Гудовичу. Мы помним, что он писал о кабардинцах в рапорте Екатерине — «ежели в сем народе не учинить суда и порядка, то оный будет государству В. И. В. бесполезен и самому себе во вред и разорение». Непоследовательные и довольно вялые, хотя и настойчивые попытки ввести в Кабарде «суд и порядок» приводили к перманентному брожению, сопровождаемому регулярными набегами. Суд, организованный Гудовичем, состоявший из восьми родовитых узденей и возглавляемый двумя русскими штаб-офицерами, который мелкие проступки должен был судить по обычаям, а все крупные преступления по русским законам, ни к какому порядку не привел, будучи явлением вне общего контекста, явлением чужеродным и раздражающим. Не говоря уже о том, что кабардинцы испытывали немалые притеснения и несправедливости со стороны русской администрации.
Отчаявшись замирить Кабарду вооруженной рукой и наблюдая явное сближение с соседними племенами — в одной экспедиции русскому отряду пришлось столкнуться с объединенными силами кабардинцев, чеченцев, балкарцев, карачаевцев и осетин, — Цицианов решил провести свой эксперимент. Тем более что психологическое давление, успешное на первом этапе, перестало давать результаты. Князь Павел Дмитриевич, обращаясь к мятежным кабардинцам, почти дословно повторял свои грозные послания лезгинам: «Кровь во мне кипит, как в котле, и члены мои трясутся от жадности напоить земли ваши кровию преступников, я слово мое держать умею и не обещаю того, чего не могу поддержать кровию моею… Ждите, говорю я вам, по моему правилу, штыков, ядер и пролития крови вашей реками; не мутная вода потечет в реках, протекающих ваши земли, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».
V
Доказав несколькими жестокими экзекуциями силу русского оружия и твердость своего слова, Цицианов решил испробовать иную методу.
Почему он выбрал именно Кабарду как поле для эксперимента?
Во-первых, Кабарда была давнее и теснее связана с Россией, чем, скажем, Дагестан. Во-вторых, играло роль ее центральное географическое расположение на Кавказе — Кабарда перекрывала кратчайшую дорогу в Грузию, примыкавшую к ней с юга, с востока она граничила с Чечней. Замирить Кабарду — значило отсечь опасный район Чечни и Дагестана от западного Кавказа с его многочисленными и непокоренными племенами, получить оперативную базу для контроля за левым и правым флангами Кавказского хребта и ненадежными Имеретией и Мингрелией.
Определенную роль этот план сыграл, хотя кабардинская проблема была вполне актуальна, как мы увидим, и для Ермолова.
Разумеется, мы смогли поговорить лишь о небольшой части практической деятельности Цицианова. Он объединил Грузию в ее почти теперешнем пространстве. Он взял сильнейшую крепость Ганджу и нанес ряд серьезных поражений враждебным ханствам и племенам. Он чрезвычайно высоко поднял авторитет русского оружия. Он пытался проводить экономические реформы, стимулировать торговлю и сельское хозяйство — особенно хлебопашество, ибо продовольствование войск привозным хлебом обходилось очень дорого. Для стимулирования сельского хозяйства Цицианов предполагал переселить в Грузию крестьян из Малороссии. Он, что крайне существенно, фактически подготовил почву для ликвидации института ханства. Но при всех его усилиях край был к моменту его смерти в 1806 году так же далек от подлинного замирения, как и в момент его прибытия. В частности, восстали джаро-белоканские лезгины и нанесли тяжелый урон посланному против них отряду генерала Гулякова. Генерал был убит. В этой экспедиции чудом уцелел молодой граф Михаил Воронцов, будущий наместник Кавказа.
Тут уместно вспомнить декабриста Розена, сказавшего о кавказской драме: «Кажется, что самое начало было неправильное». Тот же Розен писал: «Этим людям следовало… оставить пока их суд и расправу, не навязывать им наших судей-исправников».
Роковая неправильность заключалась в жестком наложении европейских представлений в их российском «регулярном» варианте на принципиально иную систему мировидения. И в этой ситуации методы и Гудовича, и Цицианова оказались в конечном счете равно неэффективны для решения главной, еще не осознанной ими задачи. Русские главнокомандующие строили свою тактику на обширном опыте конфликтов с Турцией и Персией, централизованными — в разной степени — и привычно структурированными государствами. В борьбе с ханствами этот опыт был полезен. Но настоящим противником русских на Кавказе была низовая горская стихия, существовавшая по совершенно иным психологическим законам, наблюдавшая печальную судьбу грузинской династии и большинства ханов. Для обуздания этой стихии турецко-персидский опыт был бесполезен. Цицианов начал догадываться об этом только к концу своего правления. Чем и был вызван его секретный план.
Очевидно, вопрос о «суде и расправе» был для горцев одним из самых болезненных, нарушавших всю систему их внутренних регуляций. Но для российских властей он имел первостепенное значение. Именно разница представлений о том, что есть преступление, а что традиция и норма, лежала в основе непримиримых противоречий. Самый яркий пример тому — набеги, совершать которые горцы считали своим неотъемлемым правом и одной из основ своего благосостояния.
Историк И. П. Петрушевский, специально исследовавший этот вопрос и, надо сказать, чрезвычайно лояльно относившийся к горцам и столь же критически к Российской империи, тем не менее утверждал:
«…Военные походы джарцев были с половины XVIII века прежде всего организованной охотой за людьми в целях работорговли или выкупа. Это были в сущности коммерческие предприятия, организуемые феодализированной родовой знатью, составлявшей для этой цели отряды из членов своих обществ и “гулхадаров” из Дагестана; захваченных невольников продавали на джарском рынке. Кавказ был издавна поставщиком живого товара не только для Ближнего Востока, но и для некоторых стран Западной Европы (Италия), при посредстве генуэзцев… Однако насколько значителен был вывоз невольников с Кавказа еще в XVIII веке, общеизвестно. Вплоть до начала XIX века Джар был одним из значительных невольничьих рынков на Кавказе… В набегах джарцы почти всегда участвовали вместе с другими дагестанскими союзниками. Во второй половине XVIII и в начале XIX века от этих набегов больше всего страдало крестьянство Северного Азербайджана и всей Грузии»[48].
По другую сторону Кавказского хребта чеченцы, черкесы, кабардинцы совершали набеги на территории, уже освоенные русскими, равно как и на горские общества, лояльные России. Это явилось одной из основных причин, спровоцировавших в недалеком будущем военно-экономическую блокаду Дагестана и Чечни Ермоловым, что, в свою очередь, вызвало яростную реакцию горцев и окончательно завело ситуацию в кровавый тупик.
Современный исследователь данной проблематики М. М. Блиев утверждает, что Кавказская война «выросла из набеговой системы».
Возвращаясь к началу, повторим вопрос — что же конкретно инкриминировал графу Гудовичу генерал Ермолов, обвиняя его в разрушении всего сделанного Цициановым?
Прежде всего — Ермолов несколько преувеличивает успехи Цицианова (ермоловское правление фактически повторило драму правления цициановского). Кроме того, как уже говорилось, в первые годы командования Кавказским корпусом, когда и были написаны цитированные письма, Ермолов первостепенное значение придавал взаимоотношениям с ханствами. Его позиция совпадала с цициановской — институт ханства подлежал уничтожению.
Гудович придерживался совершенно иной точки зрения. В своей «Записке», рассказывая о первых решениях после вторичного вступления в должность главнокомандующего на Кавказе сразу после Цицианова, он писал:
«В ханство Шехинское, по верноподданническому моему представлению, определен был ханом усердный Джафар-Кулыхан-Хойский, а в ханство Карабахское сын убитого хана Карабахского Мехти-Кули-хан».
Гудович не упоминает еще о том, что ханства Дербентское и Кубинское он отдал под власть шамхала Тарковского, который и посадил туда своих наместников. То есть повернул вспять процесс, столь активно начатый Цициановым, который, взяв столицу Ганджинского ханства, переименовал ее в Елисаветполь и ханство присоединил к России. Гудович же на пустующие престолы сажал новых ханов, сохраняя в неприкосновенности традиционную систему, которую Цицианов и вслед за ним Ермолов считали недопустимо пагубной.
10 января 1817 года, вскоре после прибытия в Грузию, Ермолов, как мы помним, писал графу М. Воронцову:
«Граф Гудович, гордейший из всех скотов, по ненависти к князю Цицианову, вменил себе в долг делать все вопреки его предначертаниям, принял беглеца из Персии и сделал его ханом Шекинским. Хан Карабагский, болезненный и бездетный человек, не оставлял по себе наследника. Ртищев, создание совершенством неспособности отличное, определил ему в наследники Джафар-Кули-агу, который бежал в Персию, нес против нас оружие и, подведя персидские войска, истребил наш один батальон. Ртищев послал к нему в Персию, согласил воротиться, простил его преступления и именем государя наименовал наследником ханства! Вот две прекраснейшие и богатейшие провинции, потерянные надолго для России».
Кроме того, Гудович восстановил отвергнутую Цициановым традицию XVIII века — традицию подкупа горских владетелей, которые охотно брали из рук главнокомандующего ценные подарки и давали всяческие обещания, вовсе не собираясь их выполнять. Здесь была перечеркнута цициановская практика абсолютного диктата.
Воззрения Гудовича не изменились за годы, проведенные им вне Кавказа. В 1807 году он давал своим подчиненным такие указания относительно обращения с дагестанцами:
«Приложите всемерную вашу попечительность на восстановление в народе сем доброго порядка и спокойствия, ласкайте их, елико можно, и по просьбам их делайте по возможности вашей удовлетворение; по таким же их делам, в которых вы сами удовлетворять их не можете, делайте куда следовать будет ваши представления и отношения… внушайте им всемерно о спокойной их жизни, о домостроительствах, скотоводстве и хлебопашестве, как о таких вещах, от которых все их благосостояние зависит; вперите в мысль их, колико гнусно и постыдно воровство и разбой…»
Советский историк, цитируя этот текст, называет указания Гудовича «положительным примером», в то время как это было обычное непонимание реальности. То, что Гудович определял как «воровство и разбой», которого, по его представлениям, горцы должны были стыдиться — европейская точка зрения, — было для них «делом чести, доблести и геройства», многовековой традицией, которую вовсе не надо было оправдывать — она была освящена примером многих поколений. И смешно их за это порицать. Новгородские ушкуйники, творя бесчинства на севере, преступали христианские установления. Горцы действовали в рамках установившейся морали. Набеги — и на соседние племена, и на российские территории — были не только экономической необходимостью, но и нравственным императивом. Набег был главным испытанием личных достоинств горца.
Цицианов это понимал и старался пресечь угрозами и встречным насилием. Консервативное сознание выученика немецких университетов Гудовича терялось перед системой качественно иных представлений, и настойчивые попытки переместить представления горцев в собственную систему свидетельствуют не столько о гуманности, сколько о наивности и растерянности.
Трагизм ситуации заключался в том, что обе методы — и Цицианова, и Гудовича — не приводили к желаемому результату. Горцы не верили России, не понимали ее намерений — кроме явного стремления заставить их жить так, как они не должны были жить, и всеми средствами — от самоубийственной воинской доблести до изощренной хитрости — старались противостоять имперской экспансии.
Гуманистические маневры, которые Гудович практиковал немедленно по вступлении в должность, проводились, конечно же, и в противовес цициановской политике. Ермолов считал это разрушением заложенного князем Павлом Дмитриевичем фундамента и тоже ставил в вину Гудовичу.
В последнем ермоловском тексте возникает, как видим, имя еще одного персонажа — генерала Ртищева, который был последним из трех основных предшественников Ермолова и безусловно значащей фигурой — маркиз Паулуччи и генерал Тормасов были персонажами проходными и сравнительно кратковременными. Недаром в письмах Ермолова с Кавказа, которые по сути являются изложением его собственной программы действий и его видением ситуации во всех аспектах, Паулуччи и Тормасов фактически отсутствуют. Он непрерывно сталкивает Цицианова, Гудовича и Ртищева, в которых воплотились для него противоположные принципы, сила и слабость, мудрость и невежество.
Но Ермолов, как сам признавал, не имел возможности точно восстановить картину управления Цициановым Кавказом и Закавказьем. Он в некотором роде создавал легенду о Цицианове, которую хотел использовать как оправдание собственной системы, только еще намечавшейся. С Цициановым в реальности все было куда сложнее. Жесткая и простая метода покорения и управления, как уже говорилось, чем дальше, тем больше вызывала у князя Павла Дмитриевича чувство безнадежности. Он в последние два года настойчиво искал компромиссный вариант.
В сентябре 1805 года, незадолго до своей гибели, Цицианов послал программное письмо — оно было опубликовано Н. Ф. Дубровиным — князю Чарторийскому, одному из «молодых друзей» императора, занимавшему пост вице-канцлера:
«Сближение новопокоряющихся народов с нравами российскими не может совершаться от позволения ежегодно возить дань в С. -Петербург (Петербургский кабинет министров полагал необходимым для большего к себе расположения и сближения с ханами дозволить посланным их привозить дань в С. -Петербург. — Примеч. Дубровина), потому что нравы и обычаи так легко не приобретаются и не переменяются, и шестимесячное пребывание персиянина в С. -Петербурге недостаточно переменить в нем склонность к неправильному стяжанию имения; не может поселить в него любви к ближнему и истребить в нем самолюбия, коему он приносит в жертву не только пользу общественную или пользу ближнего, но нередко и самою жизнь сего последнего, буде он слабее, ни о чем так не заботясь, как о собственной пользе и прибытке. Разность веры много препятствует магометанину и подражать нашему обычаю и нраву; будучи воспитан в правилах своей веры, он приучен от мягких ногтей презирать все, что идет от христиан, почитая нас врагами своей религии, а у врага непросвещенный человек никогда перенимать не станет. Если же татары края сего влекомы больше собственными побуждениями к нам, нежели к персидским владельцам, то не от чего иного, как от того, что собственность их и личность обеспечена, глаза его, нос и уши могут оставаться до смерти его при нем.
К тому же и силу российских войск видели, и сие последнее есть та единственная пружина, которою можно как содержать их в должных границах благопристойности и благоустройства, так и быть уверену, что здешний житель ищет и искать будет сильного себе в покровители. Доказательством сему послужит следующее: когда предместник мой, приехав в город Сигнах, послал к белоканцам с предложением, чтобы они нам покорились, тогда они ответили: покажи нам свою силу, тогда и покоримся. Ответ известный по всей Грузии.
В азиатце ничто так не действует, как страх, яко естественное последствие силы. Итак, по мнению моему, ожидая при помощи Божией перемены нравов и обычаев азиатских с переменою целых и нескольких поколений, хоть на 30 лет, страх, строгость, справедливость и бескорыстие должны быть свойствами или правилами здешнего народоправления. В течение сего времени стараться вводить кротчайшие нравы и любовь к ближнему, а потому и к общему благу, но не иными какими способами, как щедрыми наградами тех, кои что-нибудь делают к общей пользе. Чиновники магометанской религии как ни жадны к деньгам, но и честолюбивы, а потому их можно награждать серебряным или золотым пером на шапку с надписью по приличию; важные же их услуги награждать можно освобождением от телесного наказания, но первоначально надлежит обвестить с позволения хана и через него те статьи, кои правление желает ввести в большее употребление: например, кто сколько сделает шелку или снимет пшеницы, тому назначить оное награждение».
Это чрезвычайно красноречивый текст — свидетельство драмы цициановской политики. Отчаявшись достичь своих целей только «грозою» и демонстрацией воинской силы, князь Павел Дмитриевич ищет способы мирного «приручения» и нравственного просвещения «азиатцев». Но делать он это предлагает, ни на йоту не отступая от своего фундаментального тезиса — «азиатец» достоин только презрения, а эталоном для подражания должно выставлять российские нравы и христианские понятия.
Правомочность и значимость «туземных» представлений, органичность мусульманской — с поправкой на кавказские условия и историческую реальность — системы нравственных представлений даже не обсуждается. Речь идет только об адаптации горцев к российской системе ценностей. Вопрос стоит только о методах и — главное — темпе этой адаптации. Требовать от «азиатцев» признания и усвоения европейских понятий немедленно или растянуть процесс на несколько десятилетий, стимулируя его страхом и подкупом. Последнее средство совершенно соответствовало «концепции презрения», с коей Цицианов начал свои отношения с кавказскими оппонентами.
VI
Генерал Ртищев, занявший пост главноуправляющего Грузией и главнокомандующего кавказскими войсками в 1812 году, непоследовательно и хаотично попытался реализовать именно систему «пряника». Но безо всякого учета кавказской органики это привело к плачевным результатам.
После Цицианова, убитого в 1806 году бакинским ханом во время переговоров, — полагаясь на свою грозную репутацию, князь Павел Дмитриевич отправился под стены Баку без охраны, — и до Ермолова на Кавказе сменилось четверо главнокомандующих: Гудович, о котором говорено достаточно подробно; храбрый кавалерийский генерал Тормасов, отличившийся в боях с турками и особенно в подавлении польского восстания Костюшко, которого именно Тормасов взял в плен; маркиз Паулуччи, перешедший в 1807 году из французской службы в русскую; генерал Ртищев, о котором скажем несколько подробнее.
Трое первых в силу обстоятельств заняты были войнами с турками и персами, подавлением внутригрузинских мятежей и мало занимались собственно Кавказом.
С Ртищевым дело обстояло иначе, хотя и он был существенно отвлечен от кавказских дел. Военная служба Николая Федоровича Ртищева связана была преимущественно с Балтикой, где он участвовал на суше и на море в войне со Швецией 1789–1790 годов. Не миновала его и Польша. Только с 1808 года он оказывается на юге и воюет с турками. Никакого особенного блеска в боевой карьере Ртищева не наблюдается. Он был добросовестный и умелый генерал — не более того. Но в начале 1812 года, когда было ясно, что войны с Наполеоном не избежать, Кавказ стал глубоко второстепенным театром, а все выдающиеся военачальники стягивались в европейскую Россию.
Человек по природе мягкий, Ртищев слишком буквально понял гуманные декларации молодого императора, призывавшего своих кавказских наместников действовать по возможности мирными средствами. Воевать Ртищеву, разумеется, приходилось, но свои отношения с горскими народами, как с ханствами, так и с вольными обществами, он попытался построить по системе, отличной от цициановской.
Военные успехи Ртищева объяснялись в значительной степени наличием в его команде опытных и решительных генералов цициановской школы — прежде всего знаменитого Котляревского, о котором Пушкин, как мы помним, с молодым восторгом писал в «Кавказском пленнике»:
Тебя я воспою, герой, О Котляревский, бич Кавказа! Куда ни мчался ты грозой — Твой ход, как черная зараза, Губил, ничтожил племена…Котляревский, в лучших традициях Цицианова, был безжалостен и не одобрял медлительности и дипломатичности своего начальника. Но и Котляревский сражался, главным образом, с персами и турками. С горцами велась особая игра.
Ртищев не решался разрушать уже сложившуюся систему власти на Кавказе и ориентировался на ханов, за что его впоследствии жестоко поносил Ермолов как одного из разрушителей цициановского дела.
Помня, как обращался к нелояльным ханам Цицианов, сравним его тексты с посланием, характерным для стиля Ртищева.
23 мая 1816 года, на закате своего пребывания в должности командующего Кавказским корпусом, Ртищев писал свирепому шекинскому хану Измаилу:
«С крайним сокрушением сердца вижу, что кротость, снисхождение и дружеские советы, многократно вам от меня преподанные, не могут на вас действовать, ибо грабительства, насилие и разорение, час от часу умножаясь под вашим управлением, выходят из всякой меры. Народ шекинский, которому вы должны быть отцом попечительным о его благе и защитником от несправедливости, страждет в неимоверном угнетении. Итак, если ваши собственные чувствования и понятия не могли привести вас к той цели, с каковою российское правительство вверило вам управление Шекинским ханством, то священнейший долг звания коего и обязанности, высочайше на меня возложенные, заставляют меня в сем случае обратиться к другим мерам и принять посредство между народом и вами».
Исследование, предпринятое Ртищевым, и его «посредство» окончились ничем, и разбираться с садистом и людоедом пришлось уже Ермолову.
Особенность ситуации заключалась в том, что население Шекинского ханства с самого начала не желало видеть Измаила своим ханом и спокойно приняло бы — в качестве избавления — российское управление, о чем и заявляли. Дело в том, что в Шекинском ханстве жило много армян и горских евреев, а мусульмане принадлежали к течению суннитов, в то время как Измаил был шиитом и оказывался религиозно чуждым и тем, и другим, и третьим.
Ртищев, однако, не только не воспользовался столь удобным случаем, но и обрушил неоправданно жестокие репрессии на депутатов-шекинцев, просившихся под российское управление. И в короткий срок Измаил превратил в ад жизнь своих подданных, особенно евреев и армян. Чем и вызвано было запоздалое увещевание Ртищева.
Нам важна и сама разница эпистолярного стиля Цицианова, Ртищева, а затем и Ермолова, отражающая достаточно точно их восприятие политической реальности.
Разумеется, Ртищев отнюдь не чурался и репрессивных мер. Он вовсе не был безграничным гуманистом, но его действия, как и действия Гудовича, имели определенный вектор.
В соответствующей ситуации Ртищев прибегал и к угрозам, и к конкретным акциям.
«Народ пшавский! Теперь я вижу, что в вас нет ни страха Божия, ни совести, ни чести! Сколько раз вы были прощаемы за изменнические ваши поступки и сколько раз опять делались клятвопреступниками и нарушителями верности к Государю Императору! Недавно еще старшины ваши были у меня, обязались честным словом за весь народ, чтобы с беглым царевичем Александром и другими неприятелями России не иметь никаких связей ни делом, ни помышлением; но едва только меч, висевший над преступными головами вашими для справедливого наказания за участие в прежних бунтах, был от вас удален, по неизреченному человеколюбию Его Величества, даровавшего вам прощение, и тучи, вам грозившие, несколько от вас отклонились, как вы опять, забыв Бога, забыв присягу и данное мне вами честное слово, обратились к прежним своим злодеяниям и мятежному духу… Следуя Божеским и человеческим законам, карающим всегда клятвопреступников, я не мог бы не навлечь на самого себя праведного гнева Божия и моего всемилостивейшего Государя Императора, если бы остановил правосудие и не наказал злодейства».
Любопытна мотивировка, которой Ртищев оправдывает будущие карательные свои действия, — опасение навлечь «на самого себя» Божий и государев гнев, а не собственное побуждение. Цицианов никогда не употребил бы подобного оборота.
Ртищев действительно блокировал пшавов, арестовал их стада, закрыл им доступ к грузинской торговле и добился некоторой лояльности.
Но Ртищев в принципе относился к подопечным народам по-иному, чем Цицианов и Ермолов. Так, докладывая императору о положении в Имеретии, разоренной нашествиями, набегами, внутренними мятежами и их усмирениями, генерал неожиданно обращается к весьма непривычной в таких документах теме:
«Что же касается до нравственности, то взяв от первых классов людей всякого звания до народа, я заметил вообще отличнейшую их преимущественно простоту нравов, чистосердечие и отменную приветливость, со свойственным всем состояниям гостеприимством, и многие добродетельные черты, могущие ручаться, что народ с подобными свойствами и искренне раскаявшийся в ослеплении, объявшем их умы, которое произошло от увлекаемой их привязанности к бывшему законному их царю, просившему их помощи… в скором времени может сделаться в верности и преданности к высочайшему российскому престолу ничем не различаемым с природными российскими подданными».
Ничего подобного ни Цицианов, ни Ермолов никогда не писали.
Тем не менее результаты маневров Ртищева в отношении горских народов были плачевны.
Ермолов, вступив в должность, предъявил ему длинный счет.
«Предместник мой, генерал Ртищев, был к нему (хану Измаилу. — Я. Г.) чрезвычайно снисходительным; никакая на него просьба не получала удовлетворения, жалующиеся обращались (то есть направлялись. — Я. Г.) к нему и оттого подвергались жесточайшим истязаниям, или избегали оных разорительною платою. Окружающие генерала Ртищева, пользующиеся его доверенностью, и, если верить молве, то самые даже ближайшие его получали от хана дорогие подарки и деньги».
Далее:
«Вступивший в командование линиею генерал Ртищев, желая показать правительству, что ему покорствуют кабардинцы, согласил их на отправление в конце 1811 года депутации в С. -Петербург; розданные деньги и подарки (к чему они весьма лакомы) составили шайку, готовую отправиться. Мог бы генерал Ртищев заметить, что ни один из хорошей фамилии или хотя бы мало из порядочных людей не предложил себя, но надобно было похвастать у двора, и шайка, можно сказать, бродяг отправилась. Правительством они были приняты благосклонно, некоторым даны были штаб-офицерские чины, всем вообще награды и богатые подарки. В начале 1812 года они возвратились, но все сие не сделало кабардинцев ни вернейшими подданными, ни спокойнейшими соседями. Набеги, убийства, разбои не менее были частыми».
Ермолов, я полагаю, несправедлив к Ртищеву. Он не хотел никого обманывать. Он просто плохо разбирался в ситуации и был полон благих намерений, реализация которых давала, однако, обратный эффект.
Ермолов писал в мемуарах:
«В 1812 году генерал Ртищев, переходя с Кавказской линии к командованию Грузией, возмечтал приобрести спокойствие и покорность чеченцев подарками и деньгами.
Вызваны были в Моздок главнейшие из старшин и многие другие, по мнению его, важные люди, им немало дано было денег, но сие же самое произвело зависть в других, ничего не получивших, и он лишь только отпустил от себя награжденных, сам же еще оставался в Моздоке, как в ночное время на обоз его, за Терек переправленный, под его глазами сделали они нападение. Мог бы генерал Ртищев, начальником будучи на линии, знать чеченцев лучше».
9 января 1817 года Алексей Петрович сетует в письме Закревскому:
«По несчастию, во время последних возмущений в Грузии, слабый Ртищев, управляем будучи мошенниками, многих из явных бунтовщиков хороших фамилий оставил покойными без наказания и возвратил им имения. Они возмечтали, что прощение им даровано, боясь огорчить дворянство, и почитают себя нам опасными».
По мнению Ермолова, Ртищев «напортил», как он выражается, не только в отношении горцев и грузин, но и персов:
«Ртищев низким уважением истолковал им, что они по крайней мере равные нам».
Ермолов, усвоивший только брутальную сторону цициановской концепции, не осознавший цициановского отчаяния последних лет его владычества, принялся со всей мощью своего честолюбия, военного дарования и жесткостью установок продолжать то, что он считал цициановской идеей.
И противоречивая по своей сути практика Цицианова, и неуклюжее маневрирование Ртищева, и железный натиск Ермолова, основанные на взгляде сверху вниз и принципиальном игнорировании — в плане стратегическом — глубинного мировидения горских народов, их самоощущения, перспективы их религиозно-исторического сознания, — все это вело к неизбежной катастрофе, наступившей в виде тридцатилетнего пожара мюридизма, угли которого тлели затем более столетия и вспыхнули в искаженно-трансформированном виде Чеченской войной 1990-х.
Однако виновницей кавказской трагедии не могла быть только одна сторона. Психологический и военно-политический тупик был предопределен не только нежеланием и невозможностью для русской стороны воспринять горский мир со всей его органикой, насильственное и интенсивное разрушение которой чревато духовной катастрофой и уродливой мутацией, но и нежеланием и невозможностью для горцев отказаться от тех составляющих этой органики, которые были категорически неприемлемы для России и исключали компромиссное решение, — в первую очередь, от набеговой системы.
ЕРМОЛОВ
Но се — восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
ПушкинI
Кавказская война довольно отчетливо делится на три периода. Первый — четвертьвековой — от Цицианова, 1802 год, до отставки Ермолова, 1827 год, затем смутный период с часто меняющимися командующими и бессистемными действиями — с 1829 года, после окончания Персидской и Турецкой войн, — до 1845 года, когда назначен был наместником граф Михаил Семенович Воронцов, и с этого момента до окончания войны — еще 20 лет.
В первом периоде тоже было свое «смутное время» — после гибели Цицианова и до Ермолова за десять лет сменилось четыре командующих: Гудович, Паулуччи, Тормасов и Ртищев. Все — генералы с боевым опытом и несомненными заслугами, но — кроме Гудовича — люди на Кавказе вполне случайные. Для них Кавказ ничем принципиально не отличался от любого другого театра военных действий. Для них назначение в Грузию и на Кавказскую линию было почетным и тяжким, но вполне будничным назначением.
Для Цицианова и Ермолова этот пост означал возможность реализации самых смелых проектов.
Вряд ли пятидесятилетний генерал-лейтенант князь Цицианов, явно считавший, что он подошел к финалу своей карьеры, перед назначением в Грузию лелеял какие-либо грандиозные планы. Не то с тридцатидевятилетним генерал-лейтенантом Ермоловым.
Алексей Петрович Ермолов был человеком неограниченного честолюбия и высочайшей самооценки. Этот уровень самооценки при неблагоприятных внешних обстоятельствах приводил к тому же высокомерию, неуживчивости и саркастичности, что и у Цицианова. Князя Павла Дмитриевича Ермолов наблюдал в походе Зубова 1796 года, в котором он, Ермолов, участвовал девятнадцатилетним капитаном. Так что позднейшие его суждения основывались не только на результатах деятельности Цицианова в качестве главнокомандующего на Кавказе — как они представлялись Ермолову, — но на личных юношеских наблюдениях. Бесстрашный, решительный, стремительный Цицианов должен был произвести на юного Ермолова сильное впечатление именно потому, что во многом совпадали ведущие черты их характеров.
Но если князь Павел Дмитриевич осознал открывшиеся перед ним возможности, уже попав на Кавказ, то Ермолов уверен был в своем праве на великое предназначение куда ранее. Очень любопытно сравнивать два слоя его существования во время заграничного похода 1813–1815 годов. С одной стороны — популярность в армии, несколько громких побед (хотя на первые роли Ермолов не выходил), благосклонность императора, командование гвардией, награды. С другой — частные письма Ермолова 1813–1815 годов — непрерывный вопль уязвленного самолюбия и неудовлетворенного честолюбия: его преследуют «немцы», против него плетутся интриги, он постоянно на грани выхода в отставку. При этом он не только мечтает получить назначение на Кавказ, но и явно ведет на этот счет собственную интригу. В «Записках» он излагает дело так:
«В самом начале 1816 года был я в Орле у престарелых родных моих, среди малого моего семейства, вел жизнь самую спокойную, не хотел разлучаться с нею, намерение имея не возвращаться к корпусу, а потому и просил продолжения отпуска, дабы ехать к минеральным водам на Кавказ».
Ермолов, действительно, болен был ревматизмом и хронической простудой, полученной в конце войны, но лечение в Европе было бы куда эффективнее кавказского. Стремление же именно на Кавказ было символичным и значимым. Слово «Кавказ» должно было постоянно сочетаться с именем Ермолова.
Что до нежелания расстаться со спокойной жизнью, то подобными утверждениями рефлексирующий Ермолов готовил себя — на всякий случай! — к неудаче.
8 января 1816 года он написал из Орла одному из своих близких приятелей-генералов, Арсению Андреевичу Закревскому, назначенному дежурным генералом Главного штаба Его Императорского Величества, — должность, дающая большое бюрократическое влияние и прямой доступ к государю:
«Я заслепил глаза здесь алмазами (имеется в виду недавно полученный Ермоловым орден Св. Александра Невского с алмазами. — Я. Г.); что за прекраснейший народ живет в провинциях! Я как приехавши налепил три свои звезды, так и думают, что я Бог знает, что за человек. Насилу в 10 дней мог уверить, что ничего не значу, и то божиться надобно было и святых подымать…»
Уничижение паче гордости вообще свойственно частной переписке Ермолова и составляет резкий контраст с его официальными документами. Очевидно, по сравнению с наиболее частыми адресатами — приближенным государя Закревским и, тем более, богачом и аристократом Михаилом Воронцовым, командовавшим экспедиционным корпусом во Франции, Алексей Петрович, остановившийся в тот момент в своей карьере и живший исключительно на жалование, чувствовал себя неудачником. И это тягостное для его гордыни ощущение заставляло его строить особенно грандиозные планы, связанные с Кавказом — сферой деятельности с наиболее высокой перспективой самостоятельности и — по представлениям Ермолова — огромной исторической перспективой. А Ермолов в это уже время отнюдь не чувствовал себя верноподданным-исполнителем и вовсе не смотрел — внутренне — на самых высоких лиц снизу вверх. Это прорывалось в его письмах редко, но выразительно. В октябре 1815 года он писал из Франкфурта Воронцову:
«К неудовольствию начальствовать теперешним моим корпусом присоединяется и то, что главная квартира идет за мной вослед, и я на вечном параде. Кроме того, по дороге моей шатаются все цари».
Последняя фраза, попадись она на глаза кому не следует, могла перечеркнуть навсегда карьеру Ермолова. И все-таки он не удержался. Очевидно, столь велико было желание высказать вслух истинное свое отношение…
При таком уровне самовосприятия генерал-лейтенант с александровской звездой в мучительных сомнениях ждал в провинции решения своей судьбы, делая вид, что не слишком рассчитывает на успех своего замысла:
«Я живу теперь покойно, — писал он Закревскому, — но уже в 10 дней праздность мне наскучила. Много впереди времени, не отчаиваюсь привыкнуть к новому роду моей жизни… В Петербург не поеду, боюсь дороговизны! Ожидаю терпеливо весны. Поеду на Кавказ. Болезнь гонит меня в дальний сей путь, но избавиться невозможно. Не забудь, любезнейший Арсений, о сем путешествии…»
Последнее многоточие принадлежит Ермолову. Он не удержался от намека. Скорее всего, одно из направлений «кавказской интриги» шло через Закревского.
В «Записках» — через много лет — Ермолов писал об этих самых днях:
«Из частных известий знал уже, что я назначаюсь начальником в Грузию. Исчезла мысль о спокойной жизни, ибо всегда желал я чрезвычайно сего назначения, и тогда даже, как по чину не мог иметь на то права».
Можно с достаточной уверенностью предположить, что это нескромное желание родилось в эпоху персидского похода. И, стало быть, у него было время обдумать свои планы.
Однако в письмах соответствующего периода такая уверенность отсутствует.
28 февраля 1816 года Ермолов писал Закревскому:
«Письмо твое получил. Одну вещь приятную сказал ты мне, что Ртищев подал в отставку. Это весьма хорошо, но для меня ли судьба сберегает сие счастие.
По истине скажу тебе, что во сне грезится та сторона и все прочие желания умерли. Не хочу скрыть от тебя, что гренадерский корпус меня сокрушает и боюсь я его. Всякий другой вместо его не столько бы страшил меня. Не упускай, любезный Арсений, случая помочь мне и отправить на восток; впрочем, как ты обязан наблюдать пользу, то я ни мало роптать не буду, если определите туда человека способнейшего и полезнейшего, по пословице всякие люди Богу надобны, тогда останусь я там, куда судьба меня бросит. Так и быть! Уведомь, сделай дружбу, если что похожее будет на исполнение желания моего».
15 мая пишет он Воронцову в Париж:
«Я уже две недели в Петербурге, готовлюсь ехать в Грузию, где сделан я командующим. Вот, друг любезнейший, исполнившееся давнее желание мое.
Боялся я остаться в гренадерском корпусе, где б наскучила мне единообразная и недеятельная служба моя. Теперь вступаю я в обширный круг деятельности. Были бы лишь способности, делать есть что!.. Вступаю в управление земли мне не знакомой; займусь рядом дел мне не известных, следовательно, без надежды угодить правительству. Мысль горестная! Одна надежда на труды!»
Ермолов наивно лицемерил. Если он предвкушал неудачу от неопытности, зачем было мечтать о Кавказе и добиваться назначения?
Нет, он рассчитывал на иную перспективу.
Тут необходимо небольшое отступление.
Решающий этап завоевания Кавказа — а ермоловское десятилетие сделало Кавказскую войну процессом необратимым — начался именно в тот момент, когда внутренняя энергия русского дворянства требовала немедленного и масштабного выхода.
Это надо иметь в виду. В драме Кавказской войны этот фактор играл ничуть не меньшую роль, чем все остальные — геополитические, экономические, локально-военные и так далее, — но не оформлялся декларативно. Этот период войны был отмечен духовным напряжением с российской стороны, превосходящим таковое же напряжение со стороны горских народов. (Однако духовная энергия сопротивления горцев росла пропорционально давлению России и достигла своего апогея в мюридизме.)
Соответственно, и вождь российской конкисты должен был концентрировать в себе эту энергию. Назначение Ермолова в этом смысле оказалось удивительно точным. Именно Ермолов с его бедностью, неудачами молодости, арестом и ссылкой в павловское время, тяжким началом военной карьеры, грозившим превратить его в неудачника, при этом с необъятным честолюбием и мощным комплексом обиды, — именно такая личность, наделенная незаурядными дарованиями, могла олицетворять собой попытку мятущегося русского дворянства удержаться на гребне исторического процесса.
Крушение Ермолова после крушения декабристской попытки, этого отчаянного рывка дворянского авангарда из исторического тупика, ознаменовало резкое ускорение деградации дворянства как политической силы.
Запоздалый бонапартизм Ермолова как отражение утопичных исторических претензий русского дворянства, вытесняемого бюрократической формацией, особенно ясен на фоне фигуры его истинного предшественника — Цицианова.
Князь Цицианов — прежде всего генерал, выполняющий важную для империи миссию. Ни о каком противопоставлении себя бюрократическому самодержавию нет и речи. Он старается выполнить свою задачу с размахом, он ощущает свою значимость как посланца империи, но он прежде всего инициативный исполнитель августейшей воли. Он — как впоследствии Ермолов — готов спровоцировать войну с Персией, но с целями исключительно государственными. Предел его карьерных мечтаний — фельдмаршальский жезл.
Ермолову мало обычных почестей и чинов. Он с отвращением и раздражением говорит о том, что его имя «могут обезобразить графским титулом». Он, конечно, печется о величии империи. Но внутренне он отнюдь не до конца с нею слит. Забота о собственном величии — далеко не последняя его забота. И этим, в частности, определяется презрение к тем, кто должен стать постаментом для этого величия. Цицианов презирал горцев с высоты имперских европейских представлений, потому что презрение, как он считал, было именно тем, к чему они привыкли и чего ожидали. Ермолов смотрит на них с высоты собственных достоинств. Он еще и ощущает себя посланцем некой формации недооцененных дворян. В переписке с Закревским — генералом-бюрократом, идеально встроившимся в систему, и с богачом-аристократом Воронцовым, отпрыском «сильных персон» прошлого века, он постоянно подчеркивает свою гонимость, недостаток внимания и доверия со стороны государя и особенно военно-бюрократической элиты. Декабристы рассчитывали на поддержку Ермоловым их планов не из-за его реформаторских, а тем паче революционных настроений — Ермолов не Киселев, с 1815 года бредивший освобождением крестьян, и не Михаил Орлов, готовый на самые радикальные методы борьбы с самодержавием. Декабристские лидеры, отлично понимавшие, что происходит с русским дворянством и к чему это может привести (яснее других формулировал это Пушкин, предрекавший революционизацию нищающего дворянства), не сомневались, что Ермолов — социально и психологически на стороне вытесняемого дворянства, а не новой бюрократической аристократии, ставшей опорой трона.
Упорство, с которым Ермолов добивался заполучить себе в ближайшие помощники двух генерал-майоров, ярких представителей левого и правого крыла дворянской оппозиции — Михаила Фонвизина, своего бывшего адъютанта, по выражению самого Ермолова, «великого карбонария», и знаменитого Дениса Давыдова, свидетельствует о несомненном осознании Алексеем Петровичем этого аспекта ситуации.
И как лидер, сконцентрировавший в себе — помимо всего прочего — энергию целого социального слоя, неудовлетворенного своей реальной ролью, Ермолов чувствовал себя не просто представителем могучего монарха. Он сам мог, как мы увидим, претендовать на трон великой азиатской державы…
Великий князь Константин Павлович недаром употребил в свое время термин «проконсул». Проконсулы республиканского Рима пользовались почти неограниченной властью в порученных им провинциях. Проконсулы времен империи в большей степени зависели от метрополии и лично от императора, но это были уже нюансы…
При этой степени самостоятельности — не столько де юре, сколько де факто, — которой обладал «проконсул Кавказа», от этого самоощущения, от характера личной идеологии в значительной степени зависел характер взаимоотношений империи и Кавказа.
Как и для многих русских военных того периода, для Ермолова центральной исторической фигурой эпохи был Наполеон. Один из первых биографов Ермолова, известный историк М. П. Погодин так описывал житье наместника Кавказа после вынужденной отставки:
«…Читал книги о военном искусстве, и в особенности о любимом своем полководце Наполеоне… А между тем Паскевич прошел вперед, взял Эрзерум, Таврис, Ахалцых, проникнул далеко в Персию. А между тем Дибич вскоре перешел Балканы, занял Адрианополь. Что происходило в то время в душе Ермолова, то знает только он, то знал Суворов, в Кобрине читая итальянские газеты о победах молодого Бонапарте, то знал, разумеется, больше всех этот новый Прометей, прикованный к скале Святой Елены».
В этих трех фразах роковое имя возникает трижды — Наполеон, Бонапарте, Прометей со Святой Елены. Погодин проявил незаурядное чутье — Ермолов субъективно и был одним из немногих реальных кандидатов в российские Наполеоны — при соответствующем стечении обстоятельств. (Например, если бы в случае удачи мятежа 14 декабря Северное и Южное тайные общества призвали его в качестве третейского судьи.)
После шквала наполеоновских войн молодые русские генералы и офицеры, сохранившие мощную инерцию действия, ощущавшие себя спасителями Европы и освободителями народов, искали выхода своей энергии. Она реализовалась по-разному — в резко возросшем количестве дуэлей, в гвардейском лихачестве, в пьянстве и разгуле, но и в организации тайных союзов, создании проектов конституций. Фигура Бонапарта в этой ситуации приобрела новый колорит. Из ненавистного врага он превращался в предмет зависти, в образец того, как можно переломить судьбу.
Михаил Орлов — молодой генерал, натура и военная судьба, сходная с ермоловской, — не удовлетворен постом начальника штаба корпуса, добивается строевого командования, получает дивизию усиленного состава (по сути, небольшую армию), но бушующая энергия и яростное честолюбие человека, недавно принимавшего капитуляцию Парижа, заставляют его строить дерзкие планы и готовиться к рывку на помощь восставшим грекам, который должен перейти в свержение российского самодержавия.
Ермолов с ужасом думает о командовании гренадерским корпусом — одном из ключевых постов в армии. Ему необходимо не просто самостоятельное поле деятельности, но деятельность с гигантской перспективой.
Он ясно формулировал эту перспективу:
«В Европе не дадут нам ни шагу без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам».
Хорошо зная военную биографию Наполеона, Ермолов был, естественно, прекрасно осведомлен о драме Египетского похода. Вне зависимости от того, догадывался ли он о действительных планах молодого завоевателя или не догадывался, но стремление Ермолова на Кавказ, на Восток принципиально рифмуется с мечтаниями Бонапарта. Афоризм относительно азиатских царств был произнесен Ермоловым уже в отставке — на его Святой Елене. На своей настоящей Святой Елене Наполеон так сформулировал истинную цель Египетского похода:
«Если бы Сен-Жан д’Акр была взята французской армией, то это повлекло бы за собой великую революцию на Востоке, командующий армией создал бы там свое государство, и судьбы Франции сложились бы совсем иначе».
Бонапарту не удалось взять крепость, Египетский поход закончился катастрофой, но нам важен замысел, а не результат.
Можно было бы усомниться в знании Ермоловым подробностей Египетского похода, если бы он сам это не подтвердил. В письме Закревскому от 12–17 апреля 1817 года он писал:
«…Прилагаю копию с одного манифеста к кабардинскому народу. Я сам смеюсь, писавши такие вздоры, но раз сказал шутя истину, что здесь такие писать должно и что сим способом скорее успеешь. Ты в сем манифесте узнаешь слог Бонапарте, когда в Египте, будучи болен горячкою, говаривал он речи. Я брежу и без горячки!»
Шутливый тон призван скрыть серьезность сопоставления. Параллель между Египетским походом и персидско-кавказскими планами несомненно не покидала Ермолова. Во всяком случае — первые два-три года. Цитированное письмо Закревскому написано было еще до посольства в Персию, когда «азиатские иллюзии» Алексея Петровича — «В Азии целые царства к нашим услугам» — были в полном расцвете.
Удивительный по опасной откровенности намек, связывающий Ермолова с Наполеоном, находим в письме великого князя Константина Павловича, со зловещим изяществом поздравившего своего старого товарища по оружию с новым назначением 25 июня 1816 года:
«Почтеннейший, любезнейший и храбрейший товарищ, Алексей Петрович!.. Поздравляю вас с новым вашим назначением и с доверенностью, которую оказывает в сем случае вам Всемилостивейший Государь Император к заслугам вашим. Признаюсь, что эта доверенность штука не из последних, и во время оно сам бы Талейран с товарищи задумался».
О какой такой особой доверенности толкует великий князь? Перед Ермоловым на Кавказе командовали три ничем из ряда вон выходящим не прославившихся генерала, включая вполне заурядного Ртищева.
Ключ к подтексту — «Талейран с товарищи». Именно Талейран был одним из главных действующих лиц переворота 18 брюмера, приведшего к власти Наполеона.
Константин и Ермолов хорошо знали болезненно подозрительную натуру императора Александра. И — по мнению великого князя — отдать обширный край и боевой корпус, находящийся фактически вне контроля Петербурга, в руки честолюбцу с неукротимым характером и явным наполеоновским комплексом было со стороны царя знаком величайшего доверия.
В другую эпоху — «во время оно» — эта ситуация выглядела бы слишком схожей с ситуацией Бонапарта в Египте и после Египта и могла навести на соответствующие мысли «Талейрана с товарищи». Но — в России.
Эти намеки можно было бы расшифровать так, как это и делает один из новейших биографов Ермолова, — активность России на Востоке могла бы обеспокоить Францию. Не получается. Планы Ермолова, как их представляет себе Константин, должны были бы обеспокоить в первую очередь Англию.
«Позже можно, не сворачивая ни мало, прогуляться в места расположения всех богатств Англии сухим путем».
Старая петровская идея прорыва к Индии, которую в союзе с Наполеоном, в ермоловские времена пытался реализовать Павел.
Причем Константин всерьез опасается, что Ермолов может намеренно спровоцировать войну с Персией, чтобы раскачать Восток и в возникшем хаосе реализовать свои цезарианские планы.
«Но, избави Боже, отрыжки еt соmmе lеs êхtrеmеs sе tоuсhеnt[49], чтоб по поводу путешествия Вашего не сделалось с нашей стороны всеобщей прогулки по землям чужим. Шпанская муха много перевела народу во Франции. Избави Бог, чтобы Персия тоже не перевела много православных. Впрочем, все зависит от миссионерства наследника общества Грубера».
Французская фраза напоминает нам знаменитое наполеоновское — «от великого до смешного…». А шпанская муха — намек на неудачу Наполеона в Испании.
Константин не только подозревает Ермолова в намерении спровоцировать войну, но и утверждает, что война или мир зависят исключительно от получившего свободу действий генерала. «Патер Грубер» — было прозвище Ермолова. (Грубер был генералом ордена иезуитов и несколько лет жил в Петербурге.) Сам Александр тоже не заблуждался относительно градуса честолюбия и властолюбия своего генерала. Один из современников Ермолова зафиксировал с его слов следующий красноречивый эпизод:
«Он (Ермолов. — Я. Г.) рассказывал, что в 1821 году был назначен главнокомандующим стотысячной армией, долженствующей принять участие в усмирении смут в Италии, волнуемой карбонарами. В Неаполе произошел мятеж, король вынужден был подписать конституцию. Вскоре Ермолов был вызван в Лайбах, в котором находились союзные монархи, для совещаний. Алексей Петрович находился при императоре. Во время обеда государь подавал разные знаки кн. Волконскому, сидевшему против него, показывая на его соседа. Волконский не мог понять пантомим императора и потому на вопрос его по окончании обеда отвечал, что не догадывается, что государь хотел сказать ему, указывая на Ермолова.
— Неужели ты не понял того, что я желал объяснить тебе, что Алексей Петрович, кажется, воображает, что на нем мантия и что он занимает уже первые роли.
Ермолов, стоявший невдалеке, не смущаясь, отвечал:
— Государь, вы нисколько не ошибаетесь, и если бы я был подданным какого-нибудь немецкого принца, то, конечно, предположение ваше было бы совершенно справедливо; но служа такому великому монарху, как вы, с меня достаточно будет и второго места»[50].
Острота этого разговора в том, что Ермолов должен был отправиться с армией в Италию — как некогда молодой Бонапарт, стремительное восхождение которого с этого и началось…
Есть все основания предположить, что назначение Ермолова на край империи объяснялось не только высоким доверием к нему императора. Может быть, как раз наоборот. В годы, последовавшие за возвращением из Европы, Александр фактически не задержал при себе никого из молодых популярных в армии генералов «с идеями». Михаил Семенович Воронцов на три года был оставлен во Франции — командиром оккупационного корпуса, Михаил Федорович Орлов отправлен в Киев, а затем в Кишинев, Павел Дмитриевич Киселев в Бессарабию начальником штаба 2-й армии. В этом ряду назначение Ермолова на Кавказ свидетельствует об определенной логике происходящего. Все четыре генерала были полны честолюбивых мечтаний и с разной степенью радикализма склонялись к либеральным идеям. Первые трое были решительными противниками крепостного права, что являлось в тот момент ярким опознавательным знаком.
О существовании у Ермолова далеко идущих планов свидетельствуют некоторые им самим как бы в шутку рассказанные эпизоды его посольства в Персию в 1817 году. В записках о пребывании в Персии Ермолов рассказывает, как он сообщил персидским вельможам о своем происхождении от Чингисхана:
«Нередко рассуждая с ними о превратностях судьбы, я удивлял их замечаниями, что в той стране, где владычествовали мои предки, где все покорствовало страшному их оружию, я нахожусь послом, утверждающим мир и дружбу. Один из вельможей спросил у меня, сохранил ли я свою родословную; решительный ответ, что она хранится у старшего из фамилии нашей, утвердил навсегда принадлежность мою Чингисхану. Я однажды сказал, что могу отыскивать персидский престол, но заметил, что персияне не любят забавляться подобными шутками. В народе же, столько легковерном и частыми переменами приобыкшем к непостоянству, шутка сия может иметь важные последствия. В случае войны потомок Чингисхана, сам начальствующий непобедимыми Российскими войсками, будет иметь великое на народ влияние».
Род дворян Ермоловых действительно происходил от некоего Мурзы-Аслан-Ермола, выехавшего в 1506 году из Золотой Орды в Москву и крестившегося. Но таких «потомков Чингисхана» в русском дворянстве было предостаточно. Никто, однако, кроме Ермолова не пытался использовать это в видах карьеры — сколь грандиозной, столь и утопической.
Последняя фраза цитированного текста свидетельствует о серьезных раздумьях Ермолова о возможных поворотах ситуации.
Очевидно, молва о том, что неукротимый генерал немедленно развяжет войну с Персией, преследуя свои честолюбивые цели, была столь распространена, что Ермолову приходилось специально оправдываться в письмах.
18 ноября 1817 года он писал из Тифлиса Закревскому:
«Здесь нашел я войска, похожие на персидских сарбазов. (Имеется в виду неуставной внешний вид солдат Кавказского корпуса. — Я. Г.) Но люди прекрасные и молодцы. Народ храбрый, жаль, что мир необходимо нужен. Обманутся неприятели мои, думая, что я заведу драку. Неправда! Вижу, что надобно спокойствие для пользы нашей, и Бог свидетель, что на все средства пущусь, чтобы выторговать несколько лет мира. Употреблю кротость, ласку, лесть и все способы. Но если успею, то ручаюсь, что после не по-прежнему будем оканчивать войну в здешнем краю».
Последняя фраза говорит как о далеко идущих планах, так и об ощущении Ермоловым своей независимости — он явно собирается начинать войну по собственному усмотрению.
Но и несколько лет мира Ермолов не склонен был посвящать только Кавказу. Вскоре по приезде в Персию «послом, утверждающим мир и дружбу», Алексей Петрович разработал и предложил императору несложную, но эффектную интригу — вмешаться во внутреннюю династическую борьбу среди сыновей шаха. Законным наследником, назначенным самим шахом, был энергичный Аббас-Мирза, тесно связанный с англичанами. Ермолов предлагал поддержать старшего брата Аббас-Мирзы, говоря сегодняшним языком — исламского фундаменталиста, о коем Ермолов писал:
«Не терпит он европейских учреждений и к англичанам имеет ненависть».
Началась бы гражданская война, в результате которой Персия, как считал Ермолов,
«долгое время не придет и в теперешнее свое состояние спокойного беспорядка, а начинающее рождаться во многих частях устройство по крайней мере на целое столетие отдалено будет».
Ермолова недаром прозвали в честь генерала ордена иезуитов…
Для Ермолова организация гражданской войны в Персии, разумеется, не была просто кровожадной забавой. В неизбежном при этом хаосе он рассчитывал на первых порах присоединить к России Эриванское ханство, а затем действовать по обстоятельствам.
Александр эту авантюру запретил.
II
Вернувшись из Персии с гарантией длительного мира, Ермолов немедленно принялся решать задачу, которая казалась ему первостепенной и которую уже пытался решить Цицианов, — уничтожение института ханства и введение на Кавказе унифицированной системы управления по российскому образцу. Операцию эту он задумал еще до своего персидского посольства. 24 февраля 1817 года он писал Воронцову из Тифлиса в Париж:
«Терзают меня ханства, стыдящие нас своим бытием. Управление ханами есть изображение первоначального образования обществ. Вот образец всего нелепого, злодейского самовластия и всех распутств, унижающих человечество».
Здесь впервые появляется очень важный мотив, который лежал в основе оправдательной доктрины ермоловского периода, ведущий мотив идеологии ермоловского завоевания. Мотив этот был намечен в цициановскую эпоху, а Ермолов, считавший себя учеником и продолжателем дела Цицианова, провозгласил его в полный голос.
Ермолов и его сподвижники — Вельяминов, Мадатов — пришли на Кавказ не после подавления Польши, как Гудович и Цицианов, а из освободительного с их точки зрения похода против деспотии Наполеона. Они и Россию ощущали как страну-освободительницу —
И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир.Проблему Кавказа можно и должно рассматривать только в контексте проблематики: Россия — Польша, Россия — Греция, Россия — балканские славяне.
С конца 1810-х годов русское общественное сознание готовилось к освободительному походу ради единоверных греков — наследников эллинской свободы. Байрон, погибший за свободу Греции, был кумиром и символом. Пушкин мечтал сражаться в Греции. Падение популярности Александра I не в последнюю очередь было вызвано его нежеланием направить армию на помощь восставшим грекам. Михаил Орлов готовил свою дивизию к броску на Балканы.
Новейший исследователь так характеризует обстановку в начале двадцатых годов:
«Общественное мнение единодушно хотело назначения Ермолова главнокомандующим русской армией в будущей войне с Турцией. Об этом же мечтал и сам Ермолов. Парадокс: чтобы вести активную политику на Востоке и помочь Греции в ее борьбе за независимость, надо было обеспечить себе спокойный тыл — покорить народы Кавказа, лишить их независимости. Целые народы должны были утратить право на свою историческую судьбу и превратиться в средство продвижения империи на Восток»[51].
Парадокс это кажущийся. Еще недавно Османская империя, ставшая лидером мусульманского мира, была неукротимым агрессором, захватывала все новые и новые территории, жестоко расправлялась с народами, пытавшимися отстоять независимость, грозно нависала над европейскими державами — турецкие войска доходили до Вены. Россия в XVIII веке была на передовой линии противостояния с Блистательной Портой, постоянно расширяя буферные территории между собой и историческим противником. И это было совершенно естественно. Потому выбор в дилемме — порабощенная турками единоверная Греция или мусульманский Кавказ, союзник Турции, — был тоже естествен.
Большинство русского офицерства, прошедшего Европу, было настроено принципиально антидеспотически — при политической лояльности по отношению к своему государю, поборнику либеральных идей, от которого ждали соответствующих реформ. И Турция, и Персия, покровительствующие Кавказу, были классическими образцами необузданного деспотизма, и в самом деле намного превосходившего своим произволом российское самодержавие.
И на Кавказе победители Наполеона, освободители Европы чувствовали себя прежде всего носителями гражданской цивилизации, просвещения и правосудия. А воплощением дикости, политической отсталости, свирепости, не подобающей XIX веку, были кавказские ханства.
Если для Цицианова ханы были прежде всего помехой полному включению кавказских областей в состав России и соответствующему устройству управления, то для Ермолова они были и неким идеологическим символом — само их бытие под боком у просвещенной России было позором.
Хуан Ван-Гален, испанский офицер-вольнодумец, зачисленный в Нижегородский драгунский полк и воевавший в 1820 году на Кавказе, оставил любопытные в этом отношении свидетельства.
«…Ермолов принялся за создание второй линии укреплений на дорогах и на подходах к склонам Кавказских гор, обращенных к упомянутой реке, дабы тем самым принудить горцев, которым оставлялась полная свобода внутреннего управления (тут Ван-Гален сильно преувеличивает. — Я. Г.), отступиться от своих разбойничьих привычек и в иных принципах воспитывать своих детей под неусыпным надзором и покровительством русских гарнизонов, размещенных в этих крепостях, и дабы сами эти горцы начали пользоваться благами более цивилизованного состояния»[52].
Эти цели — воспитание горцев в духе цивилизованных представлений и воспитание их потомства в том же духе — Ермолов громогласно декларировал. Тот же Ван-Гален воспроизводит речь проконсула перед персидскими эмиссарами:
«Царствованию варварства приходит конец по всему азиатскому горизонту, который проясняется, начиная от Кавказа, и провидение предназначило России принести всем народам вплоть до самых границ Армении мир, процветание и просвещение».
Не сомневаюсь, что Ермолов и его близкие соратники и в самом деле ощущали себя паладинами «мира, процветания и просвещения», которые они несли в царство варварства и жестокости.
Вскоре после приезда на Кавказ Ермолов писал шекинскому хану:
«Едва я приехал сюда, как уже закидан просьбами на вас. Не хочу я верить им без исследования, ибо в каждой из них описаны действия, одному злонравному и жестокому человеку приличные. Я поручил удостовериться о всем том чиновнику, заслуживающему веры. Если точно откроет он жестокости, которые деланы по вашей воле, что могут доказать оторванные щипцами носы и уши, то я приказал всех таковых несчастных поместить в доме вашем, до тех пор, пока вы их не удовлетворите. Чиновника вашего, который бил одного жителя палкой до того, что он умер, и тело его было брошено в ров, я приказал взять и, по учинению над ним суда, будет лишен жизни. Советую вам, г. генерал-майор хан шекинский, быть осмотрительнее в выборе чиновников, назначаемых для приведения в исполнение вашей воли; паче советую вам, чтобы воля ваша не была противна милосердию и великодушию государя, который управление ханством вверил вам совсем не в том намерении, чтобы народ, его населяющий, страдал в дни славного его царствования, и ручаюсь вам, что если найду жалобы основательными, я научу вас лучше исполнять намерения всемилостивейшего вашего государя. Знайте, что я ни шутить, ни повторять своих приказаний не люблю».
Шекинский хан выбран был для первого урока еще и потому, что считался фаворитом «предместника» Ермолова — генерала Ртищева, доказать бездарность и вредность деятельности коего было для Алексея Петровича делом не личного, но идеологического принципа. В «Записках» он так объяснял ситуацию:
«Предместник мой, генерал Ртищев, был к нему (шекинскому хану. — Я. Г.) чрезвычайно снисходительным; никакая на него просьба не получала удовлетворения, жалующиеся обращались (то есть направлялись. — Я. Г.) к нему, и оттого подвергались жесточайшим истязаниям, или избегали оных разорительною платою. Окружающие генерала Ртищева, пользующиеся его доверенностью, и, если верить молве, то самые даже ближайшие его получали от хана дорогие подарки и деньги.
С негодованием я должен упомянуть об одном постыдном начальства поступке: жители шекинские, в числе более двухсот человек, пришли в Тифлис, не в состоянии будучи сносить злодейской жестокости и утеснений хана. Жалобы их, слезы и отчаяние не тронули начальство, их назвали бунтующими против власти, многих наказали телесно, более двадцати человек, как заговорщиков, сослали в Сибирь».
Ермолов, разумеется, не думал в это время о широко распространенной в России традиции гонять людей сквозь строй, что было изощренной пыткой. Это для него укладывалось в общую цивилизованную систему поддержания порядка. Жестокости ханов порядку не служили.
Ермолов и сам мог быть предельно жесток. Но он был жесток во имя просвещения и процветания, он расстреливал и вешал — случалось, за ноги — во имя прогресса этого края, его населения. Ханы же просто удовлетворяли свои порочные страсти, противополагая их цивилизации и просвещению.
Ермолова, возможно, и волновали судьбы жертв Измаил-хана Шекинского. Но прежде всего это был удобный и весьма благовидный повод лишить его власти.
Когда в 1820 году проконсул задумал поход против сильного владетеля Казикумукского ханства, то мотивация была соответствующая. Ее бесхитростно передает Ван-Гален, участвовавший в походе:
«Хан провинции Казикумук, расположенной на южном склоне восточной оконечности Кавказских гор рядом с Дагестаном, привычный тиранствовать своих подданных, принялся чинить великие зверства над мирными жителями соседних земель, каковые он подчинил своей власти, пользуясь родственными связями с ханом Ширвана и другими бывшими вассалами Персии; тайно подстрекаемый этой державой, он вознамерился нарушить спокойствие в Дагестане…»
Характерно, что первая причина, вызвавшая поход на Казикумук и изгнание хана, по Ван-Галену — «тиранство» над подданными, а уже потом замысел мятежа…
Оправдательная доктрина, которая должна была, по мнению Ермолова, вдохновить его соратников и убедить их в правоте свершаемого, была привезена им с собой, а не родилась в действии. Это было свойственно для деятелей века Просвещения. Доктрина должна была оправдать и прикрыть собственный бонапартизм проконсула и методы, которые он считал неизбежными.
Только-только прибыв в Тифлис — 18 ноября 1816 года, — Ермолов писал Закревскому:
«Здесь мои предместники слабостию своею избаловали всех ханов и подобную им каналью до такой степени, что они себя ставят не менее султанов турецких, и жестокости, которые и турки уже стыдятся делать, они думают по праву им позволительными».
Как видим — мотивация исключительно в пределах морали, а не практической политики.
«Предместники мои вели с ними переписку как с любовницами, такие нежности, сладости и точно как будто мы у них во власти. Я начал вразумлять их, что беспорядков я терпеть не умею, а порядок требует обязанности послушания, и что таковое советую я им иметь к воле моего и их Государя и что берусь научить их сообразоваться с тою волею. Всю прочую мелкую каналью, делающую нам пакости и мелкие измены, начинаю прибирать к рукам. Первоначально стравливаю их между собою, чтобы не вздумалось им быть вместе против нас, и некоторым уже обещал истребление, а другим казнь аманатов. Надобно по необходимости некоторых удостоить отличного возвышения, то есть виселицы. Не уподоблюсь слабостию моим предместникам, но если хотя немного похож буду на князя Цицианова, то ни здешний край, ни верные подданные Государя ничего не потеряют».
Несколько позже, в уже цитированном письме Воронцову от 24 февраля 1817 года Ермолов разворачивает целую теоретическую программу своих действий по первостепенному приведению края к европейским стандартам:
«Я в стране дикой, непросвещенной, которой бытие, кажется, основано на всех родах беспутств и беспорядков. (Обратим внимание на постоянную тезу-антитезу «порядок — беспорядок» — петровская жажда регулярности, мечта о европейской четкой системе, вводимой железной рукой. — Я. Г.) Образование народов принадлежит векам, не жизни человека. Если на месте моем был гений, и тот ничего не мог бы успеть, разве начертать путь и дать законы движению его наследников; и тогда между здешним народом, закоренелым в грубом невежестве, имеющим все гнуснейшие свойства, разве бы поздние потомки увидали плоды. Но где гении и где наследники, объемлющие виды и намерения своих предместников? Редки подобные примеры и между царей, которые дают отчет народам в своих деяниях. И так людям обыкновенным, каков между прочим и я, предстоит один труд — быть немного лучше предместника или так поступать, чтобы не быть чрезвычайно хуже наследника; но если сей последний не гений, то всеконечно немного превосходнее быть может. Итак, все подвиги мои состоят в том, что какому-нибудь князю грузинской крови помешать делать злодейства, которые в понятии его о чести, о правах человека (! — Я. Г.) суть действия, ознаменовывающие высокое его происхождение; воспретить какому-нибудь хану по произволу его резать носы и уши, которые в образе мыслей своих не допускают существование власти, если она не сопровождаема истреблением и кровопролитием. Вот в чем состоят мои главнейшие теперь занятия, и я начинаю думать, что надобен великий героизм, чтобы трудиться о пользах народа, которого отличительное свойство есть неблагодарность, который не знает счастья принадлежать России и изменял ей многократно, и еще изменить готов».
Здесь два момента особо надо отметить. Во-первых, уже через четыре месяца после отбытия Ермолова на Кавказ он отчаянно рефлексирует относительно рутинной работы, ему предстоящей. Не для нее он рвался на Кавказ. Во-вторых, в качестве основного принципа взаимоотношений с доверенным ему населением он — вслед за Цициановым — выбирает презрение. В этом же письме, вскоре после цитированного отрывка, идет замечательный в своем роде текст. Читая его, надо помнить, что речь идет в нем об армянах, грузинах и горской аристократии:
«Помню князя Цицианова название Армяшки. Вот род людей, буде людьми назвать пристойно, самый презрительный, у которого Бог — свои выгоды и никаких в отношении к другим обязанностей. Европа не должна гнушаться Жидами: они удобно покоряются порядку и при строгом наблюдении не более могут делать вред как Армяшки, во всем с худой стороны им подобные».
О том, что подобный взгляд не был следствием минутного раздражения, вызванного конкретной ситуацией, а фундаментальной установкой, свидетельствует неоднократное повторение этих тезисов. Причем проблема рассматривается с разной степенью подробности и в разных аспектах.
9 января 1817 года, в письме к Закревскому, выразив в очередной раз презрение к азиатам и только что не по-матерному отчитав своих «предместников» за попустительство ханам и разрушение цициановской системы, Ермолов подробно анализирует качества новых подданных России всех сословий:
«Теперь обратимся к единоверцам нашим — к народу, Грузию населяющему. Начнем с знатнейших: князья не что иное есть, как в уменьшенном размере копия с царей грузинских. Та же алчность к самовластию, та же жестокость в обращении с подданными. То же «благоразумие», одних в законодательстве, других в совершенном убеждении, что нет законов совершеннейших. Гордость ужасная от древности происхождения. Доказательства о том почти нет, и требование оного приемлют за оскорбление. Духовенство необразованное…, те же меры жестокости, употребляемые в изучении истин закона; житием своим подающее пример разврата и вскоре обещающее надежду, что магометанская вера распространится. Многие из горских народов и земель, принадлежащих Порте Оттоманской, бывшие христиане, перестали быть ими и сделались магометанами, без всякой почти о том заботы. Если наши не так скоро ими сделаются, то разве потому, что по мнению их весьма покойно быть без всякой религии. Народ простой, кроме состояния ремесленников, более глуп, нежели одарен способностию рассудка; свойств более кротких, но чувствует тягость зависимости от своих владельцев. Ленив и празден, а потому чрезвычайно беден. Легковерен, а потому и удобопреклонен ко всякого рода внушениям. Если бы князья менее были невежды, народ был бы предан нашему правительству; но не понимают первые, еще менее могут разуметь последние, что они счастливы принадлежать России; а те и другие чрезвычайно неблагодарны и непризнательны. Словом, народ не заслуживает того попечения, тех забот, которые имеет о них правительство, и дарованные им преимущества есть бисер, брошенный перед свиньями».
Кроме общей оценки подвластного проконсулу населения, тут надо особо обратить внимание на один пассаж, касающийся роли князей:
«Если бы князья были менее невежды, народ был бы предан нашему правительству…»
Здесь очевидна единая формула отношений к закавказским и кавказским владетелям — князьям и ханам. Как и ханы, грузинские князья — невежественные, жестокие, не понимающие, что такое европейского типа законность, — являются препятствием для органичного и прочного включения простого народа в имперскую семью. Отсюда вывод — как и ханы, грузинские князья подлежат замене в качестве управляющего и контролирующего слоя русским военным и статским чиновничеством.
Ермолов таким образом психологически готовит Петербург, — а дежурный генерал при государе Закревский представлялся Ермолову прямым информационным каналом к Александру и его окружению, — к восприятию своей, ермоловско-цициановской, модели переустройства края. Разумеется, Ермолов не мог примириться с тем, что ему предстоит «трудиться о пользах» столь ничтожных людей — и только. Не затем он стремился в этот дикий край. Он посылает в Хиву и Бухару разведчика — офицера Генерального штаба Николая Николаевича Муравьева, будущего знаменитого Муравьева-Карского. Он, по дороге в Тегеран, приказывает квартирмейстерским офицерам незаметно производить топографическую съемку местности. Короче говоря, он подготавливает возможность прорыва в сторону Индии по разным направлениям.
А перед самым отъездом в Персию Алексей Петрович направляет императору рапорт, смысл коего может быть сформулирован так — «О необходимости уничтожения ханской власти». (Так и назвал его первый публикатор.)
«Вникая в способы введения в здешнем краю устройства, хотя вижу я большие затруднения, надеюсь, однако же, со временем и терпением, в свойствах грузин ослабить закоренелую наклонность к беспорядкам; но области, ханами управляемые, долго противостанут всякому устройству; ибо данные им трактаты предоставляют им прежнюю власть без малейшего ограничения, кроме казны, на которую они права не имеют. Управление ханствами даровано им наследственно. Благодетельные российские законы не иначе могут распространиться на богатые и обильные области сии, как в случае прекращения наследственной линии или измены ханов. Покойный генерал князь Цицианов при недостатке средств со стороны нашей, имея внешних и внутри земли сильных неприятелей, присоединил ханства к России. Необходимость вырвала у него в пользу ханов трактаты снисходительные. Впоследствии весьма ощутительно было, сколько они противны пользам нашим, отяготительны для народов, и сколько потому с намерениями Вашего Императорского Величества не согласуются. Никто, однако же, не воспользовался возможностию переменить их. Измена хана Шекинского вручила нам богатое его владение. Главный город взят был нашими войсками, хан бежал в Персию, и введено было российское управление. Генерал-фельдмаршал граф Гудович без всякой нужды вызвал на ханство одного из бежавших ханов из Персии, и ныне сын его, генерал-майор Измаил-Хан, им управляет. Таким же образом изменил и хан Карабагский, но был убит. После него остались дети верные и приверженные, и фельдмаршал граф Гудович должен был возвести сына на ханство, которым доселе владеет, но он бездетен и здоровья весьма слабого. По нем наследник — племянник его, полковник Джафар-Кули-Ага, который в 1812 году изменил нам, бежал в Персию, вводил персидские войска в свое отечество неоднократно, с ними вместе на один батальон наш, слабый числом, напал и истребил его. Предместник мой, генерал Ртищев, призвал его из Персии, Высочайшим манифестом 1814 года простил его преступление, признал его прежним полковником и ввел в прежние права наследника ханства. Оба сии ханства, положением своим важные, произведениями богатейшие, должны временно быть управляемы Российскими законами на том основании, как Елисаветпольский округ, некогда бывший ханство Ганджинское.
Доводя о сем до сведения Вашего Императорского Величества, всеподданнейше прошу полковника Джафар-Кули-Агу не утверждать наследником Карабагского ханства, и хотя генерал Ртищев именем Вашего Величества признал его в сем достоинстве, я найду благовидные причины не допустить его управлять ханством.
Хана Шекинского, озлобившего управлением народ, его ненавидящий, жестокого свойствами и преступающего дарованные ему трактатом права, я начал уже усмирять весьма строгими мерами и даю направление общему мнению, что он ханом быть не достоин».
И дальше идет пассаж, поразительный по откровенности.
«Я не спрашиваю Вашего Императорского Величества на сей предмет повеления: обязанности мои истолкуют попечения Вашего Величества о благе народов, покорствующих высокой Державе Вашей. Правила мои: не призывать власти Государя моего там, где она благотворить не может. Необходимость наказания предоставляю я законам. По возвращении из Персии, согласуясь с обстоятельствами, приступлю я к некоторым необходимым преобразованиям».
То есть командир Кавказского корпуса объявляет, что он будет действовать самостоятельно, сообразуясь только с общим духом августейшей политики. Царская воля остается для благодеяний. Все меры переустройства края, включая карательные, Ермолов собирается осуществлять исключительно по собственному разумению. И Александр молчаливо согласился с этим, а затем стал постепенно под давлением Ермолова расширять его полномочия. И скоро великий князь Константин Павлович в своей двусмысленной манере назовет Ермолова проконсулом Кавказа, а Ермолов охотно примет этот римский титул…
Мысль, что проблема ханств есть ключевая проблема, что ее решение немедленно откроет возможность введения порядка и стройного управления краем, ни на минуту не оставляла Ермолова в эти первые месяцы.
Одновременно с рапортом императору он писал Воронцову:
«Когда ворочусь из Персии, введу перемену в образе их (ханств. — Я. Г.) управления. Хан Карабагский, как добрый, хотя и слабый человек, по счастию, болезненный и бездетный, не будет уже иметь наследника, и, конечно, после него не бывать там ханству. Шекинского владения хан, ужасная и злая тварь, еще молод и недавно женился на прекрасной и молодой женщине. Каналья заведет кучу детей, и множества наследников не переждешь. Я намерен не терять времени в ожиданиях. Богатое и изобильное владение его будет Российским округом, и вскоре по моем из Персии возвращении. Я сделаю опыт, который без сумнения и правительству понравится».
Ханы, как правило, действительно были жестокими деспотами, правившими в соответствии с традициями, на европейский взгляд вполне варварскими. Но, как Цицианов, считавший, что с варварством надо бороться варварскими методами, что на Востоке надо говорить языком Тамерлана — иначе тебя не поймут, так и Ермолов, просвещенный европеец, считает, что не следует ограничивать себя европейскими представлениями XIX века, что цивилизацию надо вколачивать железным кулаком.
«Образование народов принадлежит векам, не жизни человека», — идея осталась благим теоретизированием. Практика иная. Ее суть прекрасно сформулировал Грибоедов перед одной из карательных экспедиций, в которую он собирался вместе с Ермоловым:
«Теперь это меня несколько занимает, борьба горной и лесной свободы с барабанным просвещением, действие конгревов[53]; будем вешать и прощать и плюем на историю».
Навязывая горцам «барабанное просвещение», решая насущную стратегическую задачу, приходится «плевать на историю» — органичный процесс совершенствования духа народа, естественное развитие нравственных представлений.
Шекинский хан Измаил, столь раздражавший Ермолова, вскоре скоропостижно скончался. Персы утверждали, что он был отравлен русским чиновником, при нем состоявшим, по приказу генерала Мадатова. Этот же слух ходил и среди русских офицеров.
Очень успешно применялся и прием, Ермоловым самим декларированный, — «стравливаю их между собою». Стравив Карабахского хана с его племянником, удалось заставить хана бежать в Персию. В ханстве был назначен управляющим русский полковник.
III
Письма Ермолова — неисчерпаемый источник сведений о его взглядах и планах. Однако каждая группа писем, ориентированная на соответствующего адресата, имела свое назначение. Ермолов ничего не делал просто так. Письма Закревскому были способом довести, создать нужное представление о намерениях проконсула Кавказа в окружении императора. Письма Воронцову рассчитаны на либеральные генеральские и офицерские круги. Письма к Петру Алексеевичу Кикину, статс-секретарю, человеку штатскому, покровителю искусств, по тону и содержанию своему предназначались образованному столичному обществу. В этом «эпистолярном протеизме» Ермолов близок к Пушкину, который точно выбирал тон и стилистику письма в зависимости от типа адресата. Он точно знал, с кем он может быть откровенен.
Таково, в частности, замечательное письмо Алексея Петровича от 15 декабря 1818 года своему бывшему начальнику, отставному уже инспектору артиллерии генералу Петру Ивановичу Меллеру-Закомельскому, военному министру на покое.
«Достойный и всеми почитаемый начальник!
Мне кажется, все внимание ваше обращено было на Ахен, и вы страну Кавказа не удостаиваете минутою воспоминаний. Теперь отдохнули вы, ибо судить по-видимому возможно, что судьба позволила царям наслаждаться миром; даже самые немецкие редакторы, все обыкновенно предузнающие, не грозят нам бурею несогласия и вражды. Спокойно стакан пива наливается мирным гражданином, к роскошному дыму кнастера не примешивается дым пороха, и картофель растет не для реквизиций. Один я, отчужденный миролюбивой системы, наполняю Кавказ звуками оружия. С чеченцами употреблял я кротость ангельскую шесть месяцев, пленял их простотой и невинностью лагерной жизни, но никак не мог внушить равнодушия к охранению их жилищ, когда приходил превращать их в бивуак, столь удобно уравнивающий все состояния. Только успел приучить их к некоторой умеренности, отняв лучшую половину хлебородной земли, которую они уже не будут иметь труда возделывать».
Здесь стоит прервать ермоловский текст, поскольку свирепая шутка, содержащаяся в последней фразе, имеет очень серьезный смысл.
Во-первых, в поле зрения главнокомандующего, завершающего первый год активной деятельности на Кавказе, — предшествующий, 1817-й, был в основном посвящен подготовке к посольству в Персию, а затем и самому посольству, — попали, наконец, вытесняя ханов и ханства, вольные горские общества — прежде всего Чечня.
Во-вторых, здесь уже в конце первого года Ермолов ясно формулирует один из главных методов давления на вольные общества, метод, который лег в основу его стратегии, — военно-экономическая блокада.
Несколько позже он писал Закревскому:
«Я не отступаю от предпринятой мною системы стеснять злодеев всеми способами. Главнейший есть голод, и потому добиваюсь я иметь путь к долинам, где могут они обрабатывать земли и спасать стада свои. Досель доберусь для того, чтобы иметь пути сии, потом будут являться войска, когда того совсем не ожидают, тогда приходить станут войска, когда занят каждый работой и собраться многим трудно. Для драки не будет у них довольно сил, следственно и случаи к драке будут редки, а голоду все подвержены, и он поведет к повиновению».
Высокая степень откровенности Ермолова в письмах Закревскому и Воронцову, отношения с которыми были давние и дружеские, но не без подводных камней, подтверждается тем не менее письмами к человеку, которому Алексей Петрович полностью доверял, — его кузену Денису Давыдову.
10 февраля 1819 года:
«Ты не удивишься, когда скажу тебе об употребляемых средствах. В местах, где я был, в первый раз слышен был звук пушек. Такое убедительное доказательство прав наших не могло не оставить выгод на моей стороне. Весьма любопытно видеть первое действие сего невинного средства над сердцем человека, и я уразумел, сколько полезно владеть первым, если не вдруг можно приобрести последнее».
Шутливый тон дружеского письма не скрывает жесткого смысла — лояльность достигается грубым насилием. Сердечное расположение горцев стимулируется картечью.
6 января 1820 года он в письме Давыдову буквально повторяет любимую мысль Цицианова. Он пишет:
«Я многих по необходимости придерживался азиатских обычаев и вижу, что проконсул Кавказа жестокость здешних нравов не может укротить мягкосердечием».
Небезосновательное представление о насилии как главном регуляторе взаимоотношений вольных обществ и ханств на Кавказе привело Цицианова на первом этапе его командования, а затем и Ермолова к выбору в пользу насилия как единственного результативного метода достижения цели. Компромиссные методы представлялись исключительно вынужденными.
Завоеватели не учитывали разницы между внутренними взаимоотношениями горских народов между собой и ситуацией, когда в этот сложный и многообразный мир с широким спектром регуляторов вторгается внешняя и чуждая сила…
Ермолов не был садистом и людоедом. Но его логика категорически не совпадала с логикой горцев. Идея же поисков взаимоприемлемого варианта отношений была чужда обеим сторонам, да и нереалистична в то время психологически.
То, что Ермолов далее пишет Меллеру-Закомельскому о горцах, буквально воспроизводит пассажи Цицианова.
Ермолов в 1820 году:
«Они даже не постигают самого удобопонятного права — права сильного! Они противятся».
Цицианов в 1803 году:
«Сильному свойственно приказывать, а слабый родится, чтоб сильному повиноваться».
Установка на право сильного у просвещенного европейца Ермолова, равно как и у достаточно просвещенного Цицианова, следствие принципиального отрицания миропредставлений горцев. Из этого фундаментального конфликта не было благополучного мирного выхода. Ибо для горцев покориться означало крушение мира. Для Ермолова же введение «барабанной цивилизации» — порядка! — на Кавказе мыслилось благодеянием для горцев и для соседних российских земель. Не говоря уже о престиже империи.
Ермолов пишет:
«С ними (чеченцами. — Я. Г.) определил я систему медления и, как римский император Август, могу сказать: “Я медленно спешу”. Здесь мало истребил я пороху, почтеннейший начальник; но один из верноподданнейших слуг нашего государя вырвал меня из этого бездействия; он мучился совестью, что без всяких заслуг возведен был в достоинство хана, получил чин генерал-майора и 5000 руб. в год жалования. Собрав войска, он напал на один из наших отрядов, успеха не имел, был отражен, но отряд наш не был довольно силен, чтоб его наказать. Я выступил, и когда нельзя было ожидать, чтоб я в глубокую осень появился в горы, я прошел довольно далеко прямо к владениям изменника, разбил, рассеял лезгин и землю важно обработал. Вот что значит отложиться. Сделал честно, и роптать на меня нельзя; ведь я не шел на задор, и даже князь П. М. Волконский придраться не может: неужели потерпеть дерзость лезгин? Однако поговорите с ним, почему я слыву не совсем покойным человеком: по справедливости, надлежало бы спросить предместников моих, почему они, со всею их патриаршею кротостию, не умели внушить горцам благочестия и миролюбия?»
Здесь Алексей Петрович, конечно же, лукаво подмигивает своему адресату. Судя по ироническому тону, он прекрасно понимает, что конфликт с аварским ханом Султан-Ахмедом — именно он имеется в виду — был спровоцирован. И спровоцирован самим направлением ермоловской политики, которое он сформулировал в специальном программном рапорте императору от 20 мая 1818 года. Этот текст столь важен, что надо процитировать большую его часть.
«Высочайшее соизволение вашего императорского величества, испрошенное мною на занятие укреплениями р. Сунжи, было следствием соображения, коему дало повод известное мне прежнее мнение многих; ныне обозревая границы наши, против владений чеченских лежащие, вижу я не одну необходимость оградить себя от нападений и хищничеств, но усматриваю, что от самого Моздока и до Кизляра поселенные казачьи полки Моздокский, Гребенский и семейные, и кочующие караногайцы, богатым скотоводством полезные государству, и перевозкою на весь левый берег линии доставляемого из Астрахани морем провианта приносящие величайшую казне пользу, по худому свойству земли не только не имеют ее для скотоводства избыточно, ниже для хлебопашества достаточно, и что единственное средство доставить им выгоды и с ними совокупить спокойствие и безопасность есть занятие земли, лежащей по правому берегу Терека.
Приведение сего в действие беспрекословно гораздо удобнее было, когда во множестве бывшие на линии войска не развлечены были приобретением Грузии, и тогда до присоединения оной можно было стать твердою на новой черте ногою, но не мое дело рассуждать о том, что упущено, я обязан представить средства, как впредь поступать надлежит.
Против левого фланга живут народы, именуемые: чеченцы, аксаевцы, андреевцы и костековцы.
Чеченцы сильнейший народ и опаснейший, сверх того вспомоществуемы соседями, которые всегда со стороны их не по связям с ними существующим, не по вражде против нас, но по боязни, чтоб они, подпав власти русских, не вовлекли их с собою.
Аксаевцы узами родства и не менее участием в злодеяниях связаны тесно с чеченцами и им как сильнейшим покорствуют.
Андреевцы, обращающиеся в торговле, ознакомясь со многими удобствами в жизни, удерживают с чеченцами связи для выгод торга, но будучи богаты и избыточествуя многих родов изделиями, воинственные свойства свои очевидно переменяют на свойства кроткие.
Костековцы менее сильный прочих народ, не столько склонный к торгу, но излишнее количество земли своей отдавая на пастьбу скота чеченцам, получает от них большие выгоды и потому сохраняет с ними связи.
Все сии народы и часть самих чеченцев, живущие по левому берегу Сунжи и даже по правой стороне Терека против самих селений наших, именуются мирными, и последние из сих, прикрывая себя личиной доброго к нам расположения, суть наиопаснейшие для нас, ибо ближайшими будучи соседями и зная обстоятельно положение наше, пользуются благоприятным временем, приглашают неприязненных на разбои, укрывают у себя всеми средствами, вспомоществуют им и сами бывают участниками. Равнодушие многих из начальников на линии допустило их селиться на Тереке, где земли издавна принадлежали первым основавшимся здесь нашим казачьим войскам, и, ограничив Тереком, удовольствовалось тем, что вменило в ответственность им делаемые на нашей стороне похищения. Беспрестанно изобличаются они в воровствах, нападении и увлечении в плен людей наших, нет спокойствия и безопасности. Они посмеиваются легковерию нашему к ручательствам их и к клятвам, и мы не перестаем верить тем, у кого нет ничего священного в мире. Десятая доля не удовлетворяет потери нашей, и еще ни одного преступника не выдали нам чеченцы.
В нынешнем 1818 году, если чеченцы, час от часу наглеющие, не воспрепятствуют устроить одно укрепление на Сунже в месте самом для нас опаснейшем, или если можно успеть будет учредить два укрепления, то в будущем 1819 году, приведя их к окончанию, тогда живущим между Тереком и Сунжею злодеям, мирными именующимся, предложу я правила для жизни и некоторые повинности, кои истолкуют им, что они подданные Вашего Императорского Величества, а не союзники, как они до сего времени о том мечтают. Если по надлежащему будут они повиноваться, назначу по числу их нужное земли количество, разделив остальную часть между стесненными казаками и караногайцами; если же нет, предложу им удалиться и присоединиться к прочим разбойникам, от которых различествуют они одним только именем, и в сем случае все земли останутся в распоряжении нашем. Я в таковых обстоятельствах прошу Вашего Императорского Величества соизволения, чтобы из полков Моздокского и Гребенского добровольно желающие могли переселиться вперед за Терек.
За сим распоряжением селения наши по Тереку от устья Сунжи и до Кизляра и самый сей город, единственный родом промышленности и знатный казне доход приносящий, останется так же как и теперь подверженным опасностям, которые отвратить одно средство в том состоит, чтобы цепь укреплений, расположенных по Сунже, продолжить через Аксаевские, Андреевские и Костековские селения до р. Сулака, где для учреждения оных несравненно менее предстоит затруднений, нежели против чеченцев.
Таким образом, со стороны Кавказской приблизимся к Дагестану, и учредится сообщение с богатейшею Кубинскою провинцией и оттуда в Грузию, к которой доселе лежит один путь, чрез горы, каждый год несколько времени, а иногда и весьма долго пресекаемый.
Мимоходом в Дагестан чрез владения шамхала Тарковского овладеем мы соляными богатыми озерами, довольствующими все вообще горские народы и чеченцев не исключая. До сего времени шамхал не помышлял отдать их в пользу нашу и уклонялся принять войска наши в свою землю, теперь предлагает взять соль, а войска расположу я у него как особенную милость Вашего Императорского Величества за его верность, которые нужны нам для обеспечения нашей в Дагестан дороги <…>
Обеспечив таким образом безопасность левого фланга линии, надобно обратить внимание на центр оной, лежащий против кабардинцев, народа некогда весьма сильного, храброго и вообще воинственного, нынче не требующего чрезвычайных мер к усмирению. Моровая язва народ сей истребила почти до четвертой оного части и среди его создала почти всегдашнее свое пребывание по связи его с закубанскими народами. Для прекращения или по крайней мере уменьшения сих бедствий, Кавказской линии грозящих, надобно, сближаясь к вершинам р. Кубани, при урочище, известном под именем Каменный Мост, сделать укрепление на один батальон пехоты и, вступая в сношение с некоторыми горскими народами, от кабардинцев утесненными, содержать сих последних в совершенной зависимости<…>
Если благоугоден будет Вашему Императорскому Величеству план сей, то нужен на имя мое высочайший указ в руководство и непременную цель преемникам моим. В предложении моем нет собственной моей пользы; не могу я иметь в предмете составлять военную репутацию мою насчет разбойников… Не всякого однако же на моем месте могут быть одинаковые выгоды».
Здесь уже ясно видны и стратегические, и тактические принципы будущих действий Ермолова и его взгляд на противника.
«Мы не перестаем верить тем, у кого нет ничего священного в мире».
Убежденность в том, что поскольку горцы не исповедуют мораль и этику европейского образца, то у них «нет ничего священного в мире», и была роковым препятствием к компромиссу со стороны России. При этом убежденность горцев в своем праве нарушать любую клятву, данную неверным — то есть существам вне закона божеского и, соответственно, человеческого, — являлась непреодолимым препятствием с их стороны.
Цельное сознание горца принимало компромисс лишь как тактический ход, как допустимую хитрость.
И с той и с другой стороны мы видим отрицание противником права на оправданную идеологию и признание силы в качестве реального аргумента.
Понадобились катастрофические для Кавказского корпуса события 1840-х годов, а для горцев более чем двадцатилетняя жестокая диктатура Шамиля, чтобы те и другие пришли к осознанию возможности иного варианта. Который, однако, тоже оказался далеко не оптимальным. Но все это будет через десятилетия после того момента, в котором мы находимся сейчас.
В 1818 году командующий Кавказским корпусом, проконсул Кавказа, выдвинул более чем простой и определенный план — полное подчинение, безоговорочное включение в государственную структуру России или же вытеснение и истребление. За те полгода, что прошли между рапортом императору, принятым благосклонно, и письмом бывшему военному министру, Ермолов начал энергично свой план осуществлять — «отняв у них лучшую половину хлебородной земли» и приступив к устройству новой линии крепостей, оттеснявшей чеченцев к бесплодным горам. Естественной реакцией на эти действия было яростное вооруженное сопротивление.
Аварский хан, видя, что русские укрепления приближаются к его границам, и по опыту цициановской эпохи прекрасно понимавший, что это означает, поддержал чеченцев, был разбит и изгнан. Что вполне соответствовало административному стратегическому замыслу командующего.
В цитированном письме Меллеру-Закомельскому есть откровенно программный пассаж, смысловые нити от которого тянутся и назад, и вперед. Это — продолжение предшествующей цитаты:
«…Надлежало бы спросить предместников моих, почему они, со всею их патриархальною кротостию, не умели внушить горцам благочестия и миролюбия? Меня, по крайней мере, упрекнуть нельзя, чтоб я метал бисер перед свиньями; я уже не берусь действовать на них силою Евангелия, да и самой Библии жаль для сих омраченных невежеством…. Но должно ли спросить, чего добиваюсь я такими мучениями? Станешь в пень с ответом. Я думаю, что лучшая причина тому та, что я терпеть не могу беспорядков, а паче не люблю, что и самая каналья, каковы здешние горские народы, смеют противиться власти государя. Здесь нет такого общества разбойников, которое не думало бы быть союзником России. Я того и смотрю, что отправят депутации в Петербург с мирными трактатами! Никто не поверит, что многие подобные депутации были принимаемы».
Из этого откровенного текста можно сделать несколько фундаментальных выводов.
Во-первых, Ермолов категорически не верит в миссионерскую деятельность, в распространение христианства и сближение таким образом горских народов с Россией.
Пассаж о метании бисера перед свиньями — раздаче Библии и пропаганде Священного Писания на Кавказе — не был абстрактным сарказмом.
Ван-Гален, описывая участие кюринского хана и его младшего брата Гассан-аги в экспедиции против хана казикумухского, рассказывает:
«Несмотря на свои религиозные верования, каждый из них с гордостью носил на груди крест Святого Владимира, второй по значению русский военный орден, полученный за многочисленные услуги, оказанные в различных обстоятельствах Российской империи. Как неоднократно имел возможность убедиться Ван-Гален, оба не были излишне фанатическими приверженцами пророка, и когда генерал барон Вреде, управлявший всем Дагестаном, приглашал их к столу, ни пост, падающий на ту пору года, ни предписания Корана не препятствовали им отведать все яства и воздать должное разнообразным и изысканным винам».
На первый взгляд, влиятельные горские аристократы были многообещающим объектом для обращения в христианство или, во всяком случае, для сближения религиозных представлений, что, соответственно, вело и к политической лояльности. Но, как ни странно, трудами этими занимались не православные проповедники.
Ван-Гален свидетельствует:
«В то время специальные миссионеры, присылаемые в Черкесию и Дагестан Лондонским Библейским Обществом, подчиненным английской масонской ложе “Великий Восток”, уже предпринимали усиленные попытки умерить фанатизм мусульман или их веру. Эти проповедники, равно как и члены их семейств, отличавшиеся примерной и праведной жизнью, пользовались особым покровительством русского правительства. Пусть даже их цели и намерения были чужды русскому кабинету, но они постепенно цивилизовали все эти племена. От того барон Вреде, следуя в этом смысле желаниям петербургского кабинета, со всей благожелательностью и рвением способствовал им в распространении Библии, переведенной с английского на все живые языки Азии и снабженной в Тифлисе роскошными литографиями.
Аслан-хан уже возил с собой роскошный экземпляр Библии, подаренный бароном Вреде; благодаря этому начальному шагу к обращению, то ли искреннему, то ли притворному, русские власти относились к нему с удвоенной благосклонностью»[54].
Ермолов был по-своему прав. Аслан-хан, сражавшийся на стороне русских против своего давнего недруга Сурхай-хана Казикумухского, в благодарность получивший после победы обширное Казикумухское ханство, — вопреки обычным ермоловским принципам, — со временем оказался отнюдь не таким лояльным, как хотелось думать русскому командованию. Демонстрация Библии была чистейшей игрой.
А тот факт, что проповедью христианства в Дагестане занимались англичане, заслуживает отдельного анализа. Можно предположить, исходя из британской политики на Востоке, что миссия адептов «Великого Востока» была не только религиозной…
Во-вторых, из приведенного ермоловского письма ясно, что Алексей Петрович вообще не верил в возможность мирного сосуществования с горцами и даже попытки такого рода считал ошибочными. Он категорически отрицал путь постепенного интегрирования горских обществ и ханств — через союзные отношения и соответствующие договоры — в состав империи. И хотя кавказская реальность заставляла его чем дальше, тем чаще отступать от своих принципов, сформированных еще в России, но по существу они оставались незыблемы.
Одним из главных тактических приемов в политической игре с горскими владетелями, а затем и вольными обществами он считал уже известное нам «стравливание». Его мечтой было заставить горцев воевать друг против друга, привязывая таким образом к себе хотя бы часть из них.
В апреле 1817 года, в самом начале своей кавказской эпопеи, еще полный наступательных иллюзий, Ермолов писал Закревскому:
«Имею уже известие о чеченцах. Ожидают казни и гнева моего, и боязнь проложила путь к их сердцу. Они видят, что я ловко принимаюсь за них. Теперешнею весною устраивается на Сунже редут новый, и выселяются из гор к нему народы злодеи чеченцев».
То есть племена, ненавидевшие чеченцев. Командующий был уверен, что насильно согнанные со своих родовых мест и поселенные там, где выгодно русским, эти племена станут надежным орудием против чеченцев благодаря внутренней их вражде.
13 мая 1818 года — тому же Закревскому, изложив план вытеснения чеченцев в горы:
«Удалиться в горы значит на пищу св. Антония. Не надобно нам употреблять оружия, от стеснения они лучше нас друг друга истреблять станут».
В этот период мысль о раздоре между горцами Ермолов лелеет с упорством и энергией. 9 июля того же года, рассказывая Закревскому о планах вторжения в Дагестан, он рассчитывает, что «тотчас между ними родится ссора, явятся предатели, и ничего не будет сокровенного».
Причем ставка делается именно на активные действия одних владетелей и вольных обществ против других. Простой лояльности проконсулу категорически недостаточно. 1 августа 1819 года он предписывает генерал-майору князю Мадатову:
«Уцмей Каракайдагский не упустит вступить с вами в сношение, ибо он всеми пользуется случаями оказать нам преданность, когда то не стоит ему ни труда, ни малейших пожертвований, и иногда надеется он, ничего более в нашу пользу не делая, сохранить к себе доверенность неприятелей наших. Ему вы, как человек посторонний, откровенно будете говорить, что не таким, как его, поведением доказывается верность государю, и что того не довольно, чтоб явно не участвовать в намерениях неприятелей, но должно верноподданному быть явно против оных».
То есть кто не с нами, тот против нас.
В этом был свой резон — уже через месяц уцмий Каракайдахский открыто перешел на сторону противников России.
К концу своего проконсульства Ермолов в значительной степени достиг одной из поставленных им перед собой целей — ханства как институт, мощно влиявший на расстановку сил в Дагестане, были фактически нейтрализованы.
В краткой истории наступления на Кавказ, предпосланной «Запискам» Ермолова, составленной скорее всего в его канцелярии, говорилось:
«В 1819 году изгнан уцмей Каракайдацкий и заняты владения его… В 1820 году покорено ханство Казикумыцкое, и владетелем оного назначен полковник Аслан-Хан Кюринский… Взято в казенное управление Нухинское ханство в 1822 году… В 1823 году изгнан хан Ширванский в Персию без сопротивления, и ханство взято в казенное управление».
Если вспомнить судьбу ханов Шекинского и Карабахского, то картина ясна. Ермолов мог торжествовать…
Но оказалось, что эта победа чревата тяжелейшими последствиями — русские власти потеряли пускай ненадежную и «позорную», но все же единственную опору в Дагестане. Была взорвана традиционная система баланса сил, и на первый план вышли вольные горские общества. Разрушив сеть покрывавших Дагестан самодержавных квазигосударств, по своей психологической сути родственных самодержавной России и потому в соответствующих обстоятельствах — при военном поражении Персии, например, — готовых ориентироваться на северного исполина, Ермолов поставил Россию лицом к лицу с военной демократией (разного уровня) вольных обществ, представления которых категорически не совпадали с имперскими. Подавив властную волю ханов, убрав их с политической арены как ведущую силу, Ермолов — помимо всего прочего — расчистил поле для куда более грозной силы, бескомпромиссно враждебной России.
Известно, что первый имам, наставник Шамиля, Кази-мулла, возродивший через полвека после шейха Мансура сокрушительное движение мюридов, столь же энергично, как против русских, боролся и против ханов, пытаясь объединить Кавказ для противостояния экспансии с севера.
Разрозненные, неустойчиво сбалансированные действия ханов сменила централизующая, единонаправленная воля имамов. Свирепые и корыстные ханы, несмотря на их тяготение к Персии, были естественными союзниками России в борьбе с имамами, ибо построение единого теократического государства на Кавказе означало их фактическую ликвидацию.
Цицианов и Ермолов проделали для Шамиля огромную подготовительную работу.
В борьбе против ханства парадоксально совпали — при противоположности конечных целей — устремления Цицианова, Ермолова и трех имамов: Кази-муллы, Гамзат-бека и — прежде всего — Шамиля.
Просветительская, цивилизаторская, гуманизаторская — с его точки зрения — доктрина Ермолова решительно сработала в этом случае против интересов России, создав идеальные предпосылки для объединения вольных обществ и освободившихся от локальной деспотии жителей ханств под властью теократического лидера.
Впереди был самый тяжкий период войны…
КАВКАЗ И ЦАРЬ Петербургская утопия
Страны не знали в Петербурге…
ПастернакГоршком отравленного блюда
Внутри дымился Дагестан.
ПастернакИзвестный историк Закавказья и Кавказа А. Берже писал в одной из своих работ:
«В летописях русского владычества на Кавказе есть события, которые прошли будто не замеченными несмотря на несомненную историческую их важность и значение. К таким событиям относится, между прочим, поездка императора Николая на Кавказ, предпринятая ровно 115 лет спустя после похода Петра Великого в Дагестан»[55].
Однако показать историческую важность августейшего вояжа А. Берже не удалось. Свой очерк он закончил так:
«Путевые издержки по переездам императора Николая Павловича в пределах Кавказского края составили сумму в 143 438 руб. 59 коп. серебром. Лошадей было загнано до 170.
Так завершилось путешествие государя по Кавказу, заранее известное в Европе, несколько ближе познакомившее его величество с этой отдаленной окраиной его империи и имевшее ближайшим последствием отозвание барона Розена и назначение на его место генерал-адъютанта Евгения Александровича Головина».
Истраченные весьма значительные суммы, несчастные загнанные лошади, которых хватило бы на два кавалерийских эскадрона, опытный генерал Розен, смещенный с поста командующего Кавказским корпусом за провинности своего зятя князя Дадиани, командира Эриванского карабинерного полка, и замененный не имевшим ни малейшего представления о Кавказе генералом Головиным, отнюдь не стяжавшим себе в этом качестве лавров, — все это были последствия, так сказать, негативные. Что до последствий позитивных, то осведомленному и кропотливому Берже обнаружить их не удалось.
Между тем путешествие на Кавказ затевалось отнюдь не для развлечения. Как и все путешествия российских самодержцев по своей империи, оно преследовало прежде всего крупные политические цели.
Берже недаром сопоставил поездку Николая с походом Петра в 1722 году. Так называемый Персидский поход, предпринятый сразу же после окончания двадцатилетней Северной войны, мыслился прологом грандиозного наступления на Восток — вплоть до Индии. Персидский поход — движение сильного экспедиционного корпуса вдоль Каспия с заходом в Дагестан — стал не только первым мощным рывком России в этом направлении (затем последовал поход Валериана Зубова в 1796 году, знаменитый рейд донских казаков в направлении Индии в 1801 году, завоевание Средней Азии в 1860–1870-х годах с сопутствующими стратегическими разработками прорыва через Афганистан к северным границам Индии), но и фактическим началом драматического процесса, который мы называем Кавказской войной…
По результату, который Николай ожидал от своего появления на Кавказе, эта акция была — в некотором роде — сопоставима с появлением на Каспийском побережье первого императора. Но для того, чтобы понять эти упования, нужно представить себе военно-политическую ситуацию на Кавказе весной 1837 года.
1836 год был годом крупных успехов Шамиля. К концу года ему удалось подчинить себе все горские общества в Дагестане, значительную часть Аварии. Не без успеха он вел агитацию в Чечне. Русское командование с сильным опозданием осознало, что перед ним вырастают очертания единой мощной системы сопротивления, системы, разрозненные части которой скреплены стройным религиозным учением.
С еще большим опозданием осознали это и в Петербурге. Но важности происходящего до конца не поняли.
Что, впрочем, немудрено. Приходится только изумляться фантастичности представлений императора и правительства относительно происходящего на Кавказе.
В 1835 году, когда мюридизм уверенно набирал силу, Николай отклонил одно из предложений генерала Вельяминова «потому, что это помешает окончательному покорению горцев в сем году». Неважно в данном случае, насколько были реалистичны идеи ермоловского сподвижника. Важно то, что император всерьез ожидал «окончательного покорения горцев» за три десятилетия до конца Кавказской войны.
Генерал Григорий Филипсон, большую часть своей боевой службы проведший на Кавказе, умный человек и проницательный мемуарист, писал по этому поводу:
«В 1835 же году Вельяминову сообщена высочайшая собственноручная резолюция на одном его рапорте: “дать горцам хороший урок, чтобы они на первых порах обожглись”. Этот урок, вероятно, предполагалось дать достройкой Николаевского укрепления, над которым горцы не могли не смеяться. Наконец, когда решено было построить ряд укреплений по восточному берегу Черного моря, Вельяминову высочайше повелено было послать из Геленджика один батальон по берегу навстречу другого батальона, который будет послан из Гагр. Эти батальоны должны были пройти по всему берегу и возвратиться к своим отрядам, “дабы получить ясное понятие о топографии этого края”. Вельяминов, конечно, этого не исполнил, потому что посланный им батальон был бы истреблен никак не далее следующего дня по выходе. Я уже не говорю о том, что Министерство финансов предлагало устроить по всему берегу таможенные посты для воспрепятствования ввоза контрабанды в наши пределы. В Петербурге и не подозревали, что мы имеем здесь дело с полумиллионным горным населением, никогда не знавшим над собою власти, храбрым, воинственным и которое в своих горных заросших лесом трущобах на каждом шагу имеет сильные природные крепости. Там еще думали, что черкесы не более как возмутившиеся русские подданные, уступленные России их законным повелителем султаном по Адрианопольскому трактату!»[56]
Это невежество распространялось на все государственные слои. Тот же Филипсон, обучавшийся в Военной академии, признается:
«О Кавказе и Кавказской войне я имел смутное понятие, хотя профессор Языков на лекциях по военной географии проповедовал нам о том и другом; но по его словам выходило как-то, что самое храброе и враждебное нам племя были кумыки. Зато оказывались на Кавказе стратегические линии и пути»[57].
Кумыки были на самом деле вполне замиренным народом, жившим под контролем русской администрации…
В начале 1837 года из Петербурга был отдан очередной приказ об активизации военных действий и командующий Кавказским корпусом барон Розен начал энергичное давление на непокорные горские общества.
Генерал-майор Фези, швейцарец на русской службе (кто только не воевал в рядах Кавказского корпуса — немцы, испанцы, португальцы, французы), переведенный недавно на Кавказ из Литовского корпуса, где он служил под началом Розена, несколько раз пересек со своим отрядом Чечню, совершал рейды в Дагестан, ломая сопротивление аулов, лежавших на его маршрутах.
Это входило в стратегию русского командования, но с начала 1837 года военные действия приобрели особый оттенок — они стали подготовкой к реализации плана, задуманного императором.
Чтобы читатель понял, как это выглядело на практике, стоит привести свидетельства о карательных экспедициях 1836 года двух свидетелей — генерала-артиллериста Бриммера, бывшего в том году еще молодым офицером, и унтер-офицера пехотного Апшеронского полка Самойлы Рябова.
Бриммер вспоминал:
«Сделав еще версты 3–4, мы подошли к аулу, который приказано сжечь… Весь аул пылал; отдельные сакли, разбросанные в ущелье между огромными деревьями, все занялись; дым из ущелья валил к нам. Подъехав ко мне на холмик, генерал Фезе сказал:
— Тут никого нет; я прошу вас, примите команду над ариергардом, и когда я пришлю вам сказать, то отведите роты отсюда. Я поеду к войскам.
— Очень хорошо, ваше превосходительство; прошу вас послать адъютанта, чтобы пехота слушалась моих приказаний. Вам кажется, что здесь нет никого, между тем как все овраги полны горцами, их тысячи, и только что мы тронемся — будут крепкие проводы.
Генерал Фезе недоверчиво улыбнулся и уехал.
Орудия были заряжены картечью. Желая, чтоб два орудия отступали к линии застрельщиков, я приказал взять от других двух орудий запасные сумы и все сумы наполнить картечными снарядами. Два орудия и четыре ящика (по одному на орудие) должны были следовать первыми через аул. Пехотным ротным командирам я сказал, чтобы, отделив по 15-ти человек к каждому из двух орудий, которые будут в ариергардной цепи, остальных людей выслали бы вперед в цепь, связывая в боковые цепи, стоявшие на отлогостях горы, и чтобы застрельщики равнялись по орудиям или по моей белой фуражке — все равно. Получив приказание отходить, я послал фейерверкера посмотреть, как пожар около дороги? Он принес известие, что несколько домов еще горят, но почти вся деревня уже сгорела. Я приказал быстро отходить ящикам, и когда пехота стала, как приказано было, орудия спустили с холма; два другие стояли отдельно впереди пехоты шагов на 50. Только что начали спускать с холма орудия, вдруг из всех оврагов выскочили горцы, но увидя, что мы стоим, начали стрелять. Картечь с одного орудия… и, живо наложив назад на передок, отъехало. Тут горцы с диким криком и визгом бросились вперед, но были встречены сильною ружейною пальбою и картечью из двух других орудий. Толпы их рассеялись, как бы ошеломленные. Тут их много повалило, многих оттаскивали, много валялось. Мы стали отходить… Толпы горцев, вбежав в горящий аул, из-за оград, из-за деревьев стреляли в наших, иногда с диким криком, шашки обнажив, бросались на цепь; цепь отстреливалась, картечь гуляла, резервы подбегали с криком “ура!”. Горцы оттаскивали своих раненых, прятались за деревья; мы тихо отходили к сзади стоявшему орудию и опять останавливались, покуда орудие не занимало позади места. К середине ущелья деревья были чаще; горцы подбегали на 5–10 шагов к цепи и из-за толстых деревьев стреляли наверняка… Половина аула была уже пройдена. Только что выстрелившее орудие зарядили, и я приказал ему отходить, как артиллерист № 1, обернув банник, упал к моим ногам. Орудие уже двигалось назад. Я взял артиллериста за плечо, чтобы оттащить, но горец с кинжалом в руке бросился ко мне. Офицер ударил его шашкой, два штыка покончили с ним»[58].
Бриммер был человек насквозь военный — недаром его любил и ценил Ермолов, — любая самая кровавая схватка воспринималась им как естественное профессиональное занятие. Он был романтик Кавказской войны. Унтер-офицер Рябов смотрел на дело проще, и в его глазах те же ситуации выглядели куда прозаичнее:
«В 1836 году, под командою генерала Фези, полк наш направился в Чечню, где и занят был всю зиму усмирением взбунтовавшихся аулов. Я не буду распространяться о трудности этого похода, скажу только, что поход этот был зимою, по горам, где то снег по колено вверху, то дождь и слякоть в долинах, то двадцатиградусный мороз на высоте, то жар и духота в оврагах и ущельях по очереди менялись. Не столько погибло народу от сабель и пуль вражеских, сколько от холода и других невзгод. Выбьется человек из сил в походе, за ним ухаживать и заботиться некому: ружье, сумку и пуговицы долой — и оставайся как знаешь. Обозов с нами никаких не было: кое-что на вьюках, кое-что на себе — вот и все; <… > Многие отстававшие отдыхали и опять успевали нагонять свой отряд на ночевках и дневках, но большинство, конечно, совсем пропадало, погибая холодною и голодною смертью, или доставалось в руки неприятелю.
Едва успели мы отдохнуть от чеченского похода, как через два месяца полк наш направлен был в Аварию»[59].
Именно органичное сочетание в Кавказском корпусе психологического типа офицера-романтика, рыцаря долга и имперской идеи, с преобладающим типом солдатского сознания, который можно определить как тип служилого стоицизма, и делало кавказские полки в конечном счете непобедимыми.
Отряд генерала Фези в 1836–1837 годах производил кровавую и тяжелую боевую работу. Но непокорное пространство смыкалось за ним, как вода за судном. Сколько-нибудь существенного значения для конечного результата войны рейды Фези не имели. Напротив — они убеждали чеченцев в необходимости союза с Шамилем, объединителем и защитником.
Отсутствие общей системы в действиях завоевателей, неумение прочно закрепить завоеванное — мстило за себя.
Шамиль на активизацию русских войск ответил регулярными нападениями на лояльную в тот момент России Аварию, вынуждая ее отложиться от русских. Было очевидно, что Шамиль в очередной раз готовит тотальное наступление и что близится новое генеральное столкновение с весьма гадательным результатом.
Практика карательных экспедиций — кинжальных ударов в разных направлениях — настойчиво поощрялась Петербургом в противовес ермоловской стратегии постепенного освоения территорий, вырубки лесов, вытеснения непокорных и переселения на контролируемые территории покорных горских обществ, жесткой военно-экономической блокады, приводившей горцев к голоду и вымиранию. При несомненных прагматических достоинствах этой стратегии у нее, с точки зрения Петербурга, был один фундаментальный недостаток — ее растянутость во времени. Быстрого результата эта стратегия дать не могла — она была рассчитана на многие годы.
Солдат своих Петербург не жалел. Солдат в России было много. Мало было денег. Кавказская война поглощала огромное количество финансовых ресурсов при общем тяжелейшем бюджетном дефиците.
У Николая было двойственное отношение к войне на Кавказе. С одной стороны, Кавказ был полигоном, на котором проходили боевое обучение или совершенствовали свое искусство генералы и офицеры. Кроме «коренных кавказцев», для которых Кавказ был постоянным местом службы, через войну с горцами прошло множество русских военачальников. Это была своеобразная, но весьма полезная школа. И вообще, как глава военной империи Николай понимал психологическую значимость этого фактора — постоянного театра военных действий в пределах государства. Этот фактор мощно поддерживал моральный тонус офицерства, делая русскую армию непрерывно воюющей армией. Ведь в любой момент офицер — по собственному ли желанию, по разнарядке или в виде наказания — мог оказаться в боевой обстановке, лицом к лицу со смертельной опасностью, а вместе с тем это была надежда на быстрое продвижение в чинах, получение наград и в случае ранения — выход на приличный пенсион.
Оставаясь «неизвестной войной» для большей части российского общества, Кавказская война принципиально влияла на сознание русского офицерства. И для поддержания постоянного мобилизационного состояния военной империи это было чрезвычайно важно.
Но, с другой стороны, война ложилась губительным бременем на государственный бюджет. Александр I не внимал настоятельным просьбам Ермолова об увеличении численности Кавказского корпуса — Ермолов располагал менее чем 30 тысячами штыков и сабель, что при растянутости линий возможного соприкосновения с противником и чрезвычайно тяжелом рельефе было мало сказать недостаточно, — не потому, что не понимал резонности этих настояний, а потому, что наращивание численности корпуса требовало соответственного наращивания ассигнований на его содержание. Наполеоновские войны фактически разорили Россию, содержание гигантской армии и в пределах ближних к центру губерний было непосильно для страны, — отсюда идея военных поселений, самоокупаемой армии, — а уж содержание войск за тысячи верст от столиц тем более.
Чтобы ясно представить себе соотношение чисто военной мощи с общим положением и реальными экономическими возможностями России, стоит обратиться к свидетельствам тонкого и расположенного к империи наблюдателя — сардинского посла при русском дворе Жозефа де Местра, обладавшего не только сильным государственным умом, но и широкими источниками информации. Его свидетельства — не просто сухие выкладки, воспроизводящие сомнительную статистику, но концентрация живым и страстным аналитиком русского общественного мнения, воспроизведение взгляда той части общества, чье критическое отношение к происходящему имело своим фундаментом трезвый патриотизм.
В 1816 году, когда русская армия уже полностью вернулась из заграничного похода (разумеется, за исключением оккупационного корпуса, стоявшего во Франции) и в государстве стала налаживаться послевоенная жизнь, когда стало ясно, что именно эта форма государственного существования мыслится Александру I нормой, де Местр отправил своему коллеге, сардинскому послу в Вене графу де Валезу серию писем, в которых проблема «армия и финансы» возникает с маниакальной настойчивостью. Совершенно очевидно, что де Местра открывшаяся ему ситуация приводила в ужас своими последствиями — при том, что де Местр был кровно заинтересован в устойчивости России как гаранта равновесия в Европе и прав своего монарха.
31 декабря 1815 года де Местр писал:
«Никогда еще не бывало ничего подобного теперешней русской армии. В ней под ружьем 560 000 человек; одни только резервные войска состоят из 180 000 пехоты и более 80 000 кавалерии; это лучшая молодежь в свете, которую ничуть не беспокоит миллион уже погубленных жизней. Вот наилучшее представительство на Конгрессе. (Имеется в виду Венский конгресс 1815 года. — Я. Г.) Если вспомнить, что у Петра I было только 30 000 солдат во всей Империи (де Местр сильно преуменьшает численность петровской армии. — Я. Г.), а Император Август повелевал всем известным миром с 400 000, невольно задаешься вопросом, куда приведет нас сие непрерывное увеличение военной силы…»[60]
Через две с половиной недели — 18 января 1816 года, существенно уточнив свои данные, — де Местр писал:
«По правде говоря, у Императора вообще нет ни одного настоящего министра, а сам он не занимается никакими другими делами, кроме военных. Сейчас у него миллион и сто с чем-то тысяч солдат. Один человек представил ему о неизбежной необходимости уменьшить сие число, на что он ответил: “Не говорите мне этого, я, напротив, буду увеличивать их каждый год”. Все-таки, я думаю, Императору придется остановиться…
Весьма затруднительно описать положение сей страны: это огромная армия, крестьяне и коронованный генерал! Нет ни дворянства, ни гражданского сословия. Внутри полная анархия. Рассказывают о совершенно невообразимых делах. Как-то, оказавшись за столом рядом с одной важной особой, я сказал: “Весьма затруднительно понять, к чему приведет сия чрезмерная армия”, — на что он ответил мне: “Увы, милостивый государь, все очень просто: государственные доходы составляют 400 миллионов, столько же стоит армия”. Все крупные собственники разорены. У каждой страны свой Бог, но для русского Бога очень много дел»[61].
Нужно помнить, что де Местр жил в России уже тринадцать лет, имел обширные знакомства в правительствующей среде, и осведомленность его вне сомнений.
10 февраля де Местр возвращается к той же теме:
«Более чем миллионная армия обходится дороже 200 миллионов рублей в год, то есть на нее уходит почти две трети государственных доходов. Гражданская часть практически не существует. К чему все это приведет? Сие известно одному Богу. Что произошло в средние века, когда мы все были солдатами? Образовался феодальный строй, который перегрыз горло монархии. И теперь может случиться нечто подобное вследствие безмерного увеличения военного сословия…»[62]
3 июля де Местр писал:
«Российский император стал спасителем всей Европы, а нас в особенности, благодаря тому, что он освободил Францию и тем самым восстановил всеобщее равновесие. Горе нам и многим другим, ежели Император не сможет удержать нынешнее свое положение! Воистину лук теперь туго натянут. У него 1 200 000 солдат, при этом он производит еще рекрутские наборы. Армия стоит ему более миллиона в день, а доходы не превысят 400 миллионов».
И далее идет новый и чрезвычайно важный мотив:
«Войско сильно ропщет; оно изнурено и голодает. Многие дворяне разорились и крайне раздражены законом об ипотеках…»[63]
(Закон об ипотеках давал возможность дворянству получать ссуды под залог имений, но при существовавшей системе хозяйствования вел к неоплатным долгам, чреватым потерей имений и деклассированием дворян.)
Де Местр писал все это в то самое время, когда Ермолов, назначенный командующим Кавказским корпусом, отправлялся к новому месту службы — на театр военных действий, который будет еще много десятилетий поглощать миллионы рублей, подрывая и без того катастрофически истощенные российские финансы… (В 1850-х годах на Кавказскую войну уходила 1/6 всего государственного бюджета России!)
К концу 1830-х годов положение в России, с горечью очерченное де Местром, отнюдь не улучшилось.
Финансовый фактор оказался весомее психологического. Николай стремился закончить покорение края как можно скорее.
И когда в начале 1829 года опьяненный успехами двух победоносных кампаний против персов и турок фельдмаршал Паскевич представил императору план завоевания, отметавший ермоловскую постепенность, Николай отреагировал на это повелением реализовать план в течение ближайшего лета.
Однако Паскевич, несколько осмотревшись, понял абсолютную фантастичность этого приказа.
8 мая 1830 года он отправил в Петербург верноподданнейшее донесение, в котором характеризовал обстановку на Кавказе, осторожно охлаждал пыл императора, который сам же легкомысленно разжег, и предлагал два варианта действий, сочетавших любезную ему еще недавно практику карательных экспедиций, призванных устрашить горцев и подавить в них волю к сопротивлению, с несколько видоизмененными ермоловскими методами.
Он писал:
«К исполнению Высочайшей Вашего Императорского Величества воли я не упущу употребить все представленные мне способы. Но между тем, соображая известную воинственность горцев, местность, удобную к упорнейшей обороне, и прочие войны обстоятельства, я не могу не признать выполнение сего предположения весьма трудным в столь короткое время… Одна мысль лишиться дикой вольности и быть под властью русского коменданта приводит их (горцев. — Я. Г.) в отчаяние; с другой стороны, пятидесятилетняя борьба без успеха проникнуть в горные их убежища дает им уверенность, что горы их для нас недоступны; обе сии причины достаточны побудить их к упорнейшему сопротивлению»[64].
Затем следовали два варианта действий:
«Первый заключается в том, чтобы войдя стремительно в горы, пройти оные во всех направлениях. В сем случае неприятель, пользуясь ущельями, чащами леса, горными протоками и другими местными препятствиями, противопоставит на каждом шагу оборону, хотя недостаточную для удержания войск, но весьма способную утомить их. Горцы, не имея ни богатых селений, которые стоили бы того, чтобы защищать их, ни даже прочных жилищ, будут оставлять одно место за другим, угоняя свой скот вместе с семействами в отдаленнейшие горные ущелья; а по мере приближения к ним войск наших займут высоты или разбегутся во все стороны, предавая сами огню (как это неоднократно уже случалось) разбросанные свои хижины, которые по местной удобности не трудно для них вновь выстроить; сами же, выжидая удобного случая в местах закрытых, не перестанут наносить вред войскам… Могут войска утомиться и, не имея твердых пунктов соединения, ни коммуникаций верных, должны будут наконец возвратиться без успеха»[65].
Паскевич, по сути дела, выносил приговор всей послеермоловской стратегии. И далее предлагал уже отвергнутый Николаем принцип постепенного освоения кавказских территорий:
«Второй план. Войдя в горы, занять господствующие над окрестными странами пункты; сделать в оных укрепления для защиты гарнизона и, устроив безопасные коммуникации, приготовить для будущих кампаний сборные места войскам. Таким образом подаваясь вперед с осмотрительностью и покоряя одну область за другой, завоевание горцев будет хотя медленнее, но вернее и благонадежнее. При сем способе в нынешнюю кампанию также невозможно ожидать значительных успехов…»[66]
Император, скрепя сердце, согласился на это «смешение стилей». Паскевич вскоре был отозван для подавления польского мятежа, и выполнение его предначертаний досталось генералу Розену.
Стратегического благоразумия Паскевичу хватило, однако, ненадолго. Боевой кавказский генерал Филипсон рассказывал:
«В 1832 г. Паскевич составил в Варшаве целый план покорения горцев в западной части Кавказа. Он предлагал проложить путь от Кубани прямо на Геленджик, построить на этой дороге несколько укреплений и сделать их основаниями для действий отдельных отрядов; когда все это будет готово, то направить около десяти малых отрядов из разных пунктов этой линии, названной Геленджикскою кордонною, одновременно на Запад, с тем, чтобы гнать перед собою горцев к Анапе и морю и там им угрожать истреблением, если не покорятся. После этого прорезать Кавказ другою линиею, параллельно первой, но более к Востоку, и так далее до верхней Кубани, очищая или покоряя пространство между линиями. Едва ли можно выдумать что-нибудь более нелепого и показывающего совершенное незнание края и неприятеля, не говоря уже о том, что едва ли кто в наше время отважится, вообще, предлагать кордонную систему войны в таком педантическом, безусловном виде. Однако же проект Паскевича был принят за чистое золото в Петербурге, где незнание Кавказа доходило до смешного»[67].
Однако события первой половины 1830-х годов пошли совсем не так, как предполагали русские генералы. Несмотря на поражение и гибель в 1832 году первого имама Кази-муллы, движение мюридизма, придавшее Кавказской войне особенно яростный характер, не только не угасло, но становилось все интенсивнее. Когда после смерти в 1834 году второго имама Гамзат-бека, убитого в результате внутриаварских распрей, во главе движения встал Шамиль, начался заключительный двадцатипятилетний период войны, особенно тяжкий для России.
После поражений 1836 года даже Петербургу, с его утопическими представлениями о кавказской ситуации, стало ясно, что нужно или резко наращивать военную мощь на Кавказе, или искать некие компромиссные пути — иначе война будет длиться вечно, поглощая все больше и больше средств.
Именно в это время и был, очевидно задуман вояж императора. Но перед этим было решено провести некую акцию, которая и раскрывала стратегическую суть замысла. Без нее поездка становилась бессмысленной.
Первым документальным свидетельством этого замысла было письмо военного министра графа Чернышева барону Розену в Тифлис от 18 марта 1837 года, официально извещающее о будущем визите императора. Но практические действия начались 24 мая того же года, когда Максим Максимович Брискорн направил отношение дежурному генералу Главного штаба Его Императорского Величества Петру Андреевичу Клейнмихелю:
«Директор канцелярии военного министерства, свидетельствуя совершенное почтение Его Превосходительству Петру Андреевичу, по приказанию министра покорнейше просит доставить к нему сколь возможно в непродолжительном времени два бланка подорожных»[68].
Документ датирован 24 мая 1837 года.
25 мая Клейнмихель ответил:
«Дежурный генерал Главного Штаба Его Императорского Величества, свидетельствуя совершенное почтение Его Превосходительству Максиму Максимовичу, имеет честь препроводить при сем в следствие записки № 3287й два бланка подорожных за №№ 449 и 450, прося покорнейше о том, кому они будут выданы, почтить уведомлением».
Подорожные предназначались командиру Кавказского лейб-гвардии полуэскадрона гвардии полковнику и флигель-адъютанту Хан-Гирею и сопровождающему его офицеру его же полуэскадрона.
Именно полковнику Хан-Гирею была отведена главная роль в подготовке высочайшего визита на Кавказ. Почему был избран именно он — понятно: по крови и представлениям он был близок тем, к кому его направляли: он происходил из черкесского племени бжедухов.
Но было и еще одно обстоятельство. Есть основания предположить, что полковник и сам был заинтересован в этом назначении, несмотря на весь риск, с ним связанный.
20 мая 1837 года флигель-адъютант Хан-Гирей подал военному министру записку, в которой излагал весьма любопытные соображения.
Полный текст записки можно прочитать в приложении, а здесь стоит сформулировать осторожно высказанную, но явно основополагающую для Хан-Гирея идею. На примере различных черкесских племен гвардии полковник показывает, что русским властям гораздо проще иметь дело с теми племенами, где сохранилась феодальная структура — где во главе стоят князья, поддержанные местным дворянством. (Разумеется, дворянство здесь термин несколько условный.) В этих сообществах с подобием государственного управления существует хотя бы приблизительный порядок, а потому составляющие их горцы психологически готовы с большей легкостью воспринять требования России по введению у них регулярного правления европейского типа. Кроме того, князья и дворянство — ответственные группы — дают гарантию выполнения соглашений. Племена же, «имеющие правление, похожее на демократическое», находятся или в состоянии крайне неустойчивого спокойствия, которое может в любой момент взорваться, или же в них царит анархия, и заключать с ними какие-либо соглашения бессмысленно и бесполезно. Мягко, но внятно Хан-Гирей дает понять военному министру, а через него императору, что в интересах России способствовать укреплению горской аристократии и дворянства, что именно союз с горской аристократией есть путь к замирению Кавказа — во всяком случае его западной части, населенной черкесскими племенами.
Петербург и так придерживался схожей тактики — примером тому судьба самого Хан-Гирея, но полковник русской гвардии и черкесский аристократ знал, что влияние социальной элиты на Кавказе стремительно слабело, и он призвал Россию вмешаться в этот сугубо внутренний для черкесских племен процесс с тем, чтобы получить прочную опору, получить влиятельный горский слой, обязанный России своим положением.
Таким образом, Хан-Гирей пытался повлиять на русскую политику в интересах своего социального слоя.
Однако никаких следов этой идеи мы не находим в программной инструкции, данной полковнику военным министром графом Чернышевым…
Судя по стремительности и напору, с которыми готовилась в Петербурге миссия Хан-Гирея, надежды на нее возлагались большие.
В тот же день, что готова была подорожная — 25 мая, — Хан-Гирей получил от военного министра подробное предписание, из которого ясно — какой именно подвиг должен был совершить гвардии полковник с мусульманским именем.
«Государь Император, предположив обозреть в течение наступающей осени Кавказскую и Закавказскую области, между прочими видами, решившими Его Императорское Величество предпринятие столь дальнего путешествия, изволил иметь целию присутствием Своим в тех местах положить прочное основание к успокоению Кавказских Горских племен и к устройству будущего их благосостояния наравне с прочими народами, под благотворным скипетром Его Величества благоденствующими».
Вот в чем была суть — Николай, абсолютно не представляя себе кавказской реальности, решил положить своим присутствием конец этой непосильной уже для империи войне.
«Со времени заключения Адрианопольского мирного договора, коим торжественно признаны права России над Кавказскими Горскими народами, Государь Император, объемля равною отеческою любовию всех своих подданных, изволил усугубить попечения Свои и о них, повелев между тем местному начальству склонять их мерами кротости и убеждения к добровольному признанию над собою законной власти России. Некоторые только племена Кавказа исполнили это требование, многие другие напротив того, увлеченные влиянием людей неблагонамеренных или обольщаемые несбыточною надеждою противустоять оружию Российскому, или наконец предпочитающие дикую свободу свою выгодам благоустроенного управления, упорно отвергли мирные предложения, им сделанные, и вынудили Правительство действовать противу них силою оружия. К ним принадлежат преимущественно племена Черкесские, и из них более прочих общества Натухайцев, Шапсугов и Абадзехов. Другие общества сего племени, хотя и считаются мирными, но по внутреннему расстройству их обществ и по существующему в них безначалию в прочном спокойствии их нет никакого ручательства.
Но если, с одной стороны, усилия Правительства, устремленные к положительному устройству племени Черкесского, как самого воинственного и многочисленного, досель имели столь мало успеха, то с другой, собственное положение сего племени, отчасти раздираемого междуусобиями и непрерывными внутренними распрями, подает надежду, что оно охотно воспользуется пребыванием Государя Императора на Кавказе, дабы принести Его Императорскому Величеству изъявление своей покорности, как единственного, верного и надежного средства к прекращению всех его настоящих бедствий и страданий и к прочному основанию будущего его благоденствия. Для достижения этой благой цели, по мнению Государя Императора, надлежало бы убедить сии общества в необходимости этой меры, в прямой ее пользе для них и в благодетельных ее последствиях, как в частности для каждого племени, так вообще для всех народов Горских, которые таким образом уничтожили бы преграду, поставленную ими самими между собой и благодетельным Правительством, между их нуждами и потребностями и благотворительностью и милосердием Его Императорского Величества. Им следовало бы внушить положительные понятия о силе и могуществе России, о невозможности противустоять ей и о неизбежности раннего или позднего покорения всех противящихся воле Правительства Горских обществ, ясно показать разницу между последствиями насильственного покорения и добровольного признания над собою законной власти Государя Императора, и наконец убедить их в том, что повиновение и покорность их маловажны для могущественной России, но необходимы для собственной их пользы и выгод, и что они требуются единственно по милосердию к ним Государя Императора, радеющего о их благосостоянии, как о подданных, Проведением Божиим попечению Его вверенных».
Далее следовал пассаж, знаменующий степень понимания Петербургом истинного состояния умов и душ в горских обществах:
«Нельзя предположить, чтобы сила сих убеждений, искусно представленных, не произвела над Горскими племенами ожидаемого действия и чтобы они в прибытии Его Императорского Величества в Кавказский край не увидели особенно счастливого для себя события, представляющего им возможность к самому благоприятному решению всех вопросов о будущем их устройстве».
Конечно же, Чернышев не сам выстроил в воображении эту оптимистическую картину, суть которой в том, что буйным и диким горцам просто не объяснили с достаточной убедительностью их же собственной пользы и выгоды от покорения российской короне. Он наверняка повторял идеи Николая. И полковник Хан-Гирей был избран орудием этого великого замысла.
«Его Императорское Величество, избирая Ваше Высокоблагородие для сего поручения по известному Его Величеству отличному усердию вашему и благоразумию, изволит оставаться в совершенной уверенности, что оно Вами исполнено будет с полным успехом и удовлетворительностью, к чему близкое познание края и всех местных обстоятельств послужит Вам верным пособием, а любовь ваша и приверженность к вашим единоземцам новым благородным побеждением.
Из вышеизложенного достаточно явствует существо возлагаемого на Вас поручения. В подробностях исполнения оно заключается в следующем:
1) В объявлении Горским обществам Черкесского племени о предстоящем прибытии Государя Императора на Кавказ и в склонении сих обществ, начиная с преданных и менее враждебных Правительству, к избранию из среды своей депутатов для отправления Государю Императору. Объявление сие не ограничивается впрочем одними обществами Черкесского племени, но должно быть сделано Вами, смотря по обстоятельствам и возможности и другим соседним племенам, наблюдая в сем случае такую последовательность в порядке объявлений Ваших, которая для успеха дела окажется необходимейшею и полезнейшею.
2) В направлении суждений сих обществ к тому, чтобы депутаты их имели главнейшею целию испрошение у Государя Императора постоянного управления, которое бы, состоя под непосредственным ведением Российского Начальства, обеспечило внутреннее их благосостояние.
Для избежания всяких недоразумений и сбивчивости по сей важной статье, Вы озаботитесь предварительным составлением общей программы обязательств, которые Горские племена с изъявлением Его Императорскому Величеству покорности, необходимо принять на себя должны. Обязательства сии в главных чертах должны быть применены к условиям, которые доселе были предлагаемы местным Начальством мирным Горным обществам, и с которых для сведения Вашего прилагается список».
Список этот заключал следующий текст:
«Высочайше утвержденные условия для требования от горцев покорности.
1) Прекратить все враждебные противу нас действия.
2) Выдать аманатов по нашему назначению. Дозволяется через четыре месяца переменять их другими, но не иначе как по назначению Русского Начальника.
3) Выдать всех находящихся у них наших беглых и пленников.
4) Не принимать непокорных на жительство в свои аулы без ведома Русского Начальника и не давать пристанища абрекам.
5) Лошадей, скота и баранов, принадлежащих непокорным жителям, в свои стада не принимать, и если таковые где-либо окажутся, то все стада будут взяты нашими войсками и сверх того покорные жители подвергнутся за то взысканию.
6) Ответствовать за пропуск чрез их земли хищников, учинивших злодеяния в наших границах, возвращением наших пленных и заплатою за угнанный скот и лошадей.
7) Повиноваться поставленному от нашего Правительства Начальнику; и
8) Ежегодно при наступлении нового года должны они переменять выданные им охранные листы. Не исполнившие сего будут почитаться непокорными и не будут пощажены нашими войсками».
Если три первых пункта этого ультимативного документа мирные горцы еще как-то могли выполнить, то остальные требования были вполне нереальны. Выполнив их, горцы оказывались в состоянии смертельной вражды со своими соседями, родственниками, друзьями. Не говоря уже о том, что по двум последним пунктам они добровольно отдавались во власть любого самодура, поставленного в качестве пристава. При том, что поведение приставов и других местных начальников достаточно часто становилось поводом для мятежей.
Правда, в инструкции Чернышева сказано было относительно вышеприведенного документа:
«Вам предоставляется в сих условиях сделать такие отступления или дополнения, какие, по местным обстоятельствам и по особому положению каждого племени, Вы признаете нужным и соответствующим пользе правительства и выгодам общества».
Но смягчить пять последних пунктов было невозможно — они в этом случае теряли смысл.
Фактически Петербург требовал от горских обществ безоговорочной капитуляции, в то время как речь могла идти только лишь о тонко разработанном компромиссе. Как мы еще увидим, представления Петербурга и горцев о возможном характере взаимоотношений оказались взаимоисключающими.
Утопичность самого стратегического замысла соответственно диктовала и утопическую тактику. Исполнители проекта — полковник Хан-Гирей и те, кто должен был способствовать ему на Кавказе, — попали в ловушку. Перечить высочайшей воле было невозможно, выполнить ее — тем более.
Достаточно вспомнить уже цитированное нами и совершенно справедливое соображение Паскевича относительно фанатического вольнолюбия горцев:
«Одна мысль лишиться дикой вольности и быть под властью русского коменданта приводит их в отчаяние».
Это несомненное положение подтверждали все, кто знал и понимал суть происходящего на Кавказе. Так, опытнейший «кавказец» адмирал Серебряков писал в сороковые годы:
«Совершеннейшее невежество кавказских горцев препятствует видеть несоразмерность сил их с могуществом России. Они думают, что могут иметь против нас успехи и что могут отстоять свою независимость… Как сии причины, так и вообще образ их понятия, происходящий от воспитания, обычаев и большого недостатка нравственности, заставляют их думать, что гостеприимство, щедрость, ласки, выгодные для них торговые сношения — суть дань бессилия. Они приносят тогда только пользу, если сопряжены с успехом оружия».
С одной стороны, Серебряков противоречит себе — то, что в первой фразе он определяет как «совершенное невежество», то впоследствии он разумно возводит к воспитанию и обычаям, то есть традиции и особому психологическому складу, принципиально отличному от европейского. Но с другой, адмирал трезво смотрит на положение вещей — убедить горцев в бесполезности сопротивления и необходимости хотя бы частичного подчинения русским властям могла только сила оружия. А это было именно то, от чего императору в силу обстоятельств хотелось бы отказаться.
Обе стороны оказались в тупике.
Однако задание, данное Хан-Гирею, было еще обширнее. Заключалось оно и в следующем:
«3) В начертании проэкта положения об управлении, которое в покоряющихся Горских обществах установлено быть может. Положение сие будет тем совершеннее, чем менее оно будет заключать отступлений от коренных обычаев Горцев (само собою разумеется не противных общественному порядку и благоустройству) и чем более оно представит ручательств в постепенном развитии образованности народа, в смягчении его нравов и в сближении его с российским населением края».
Последняя фраза — квинтэссенция противоречивости петербургских представлений о миссии Хан-Гирея. Ориентация на «коренные обычаи горцев» неизбежно подразумевала сохранение явлений, для русской власти абсолютно неприемлемых — таких, в частности, как кровная месть и тем более фундаментальная традиция набегов — набеговая система, набеговая экономика, — отказаться от которой горцам было чрезвычайно сложно не только экономически, но главным образом психологически, ибо героика набегов входила важнейшим компонентом в систему воспитания многих поколений. Признать набеги — хищничество, по русской терминологии, — преступной практикой означало для горцев сокрушить и опозорить память предков, оскорбить, перечеркнуть славные исторические предания, отказаться от самих основ своего мировидения.
Ответственность за реализацию петербургской утопии возложена была не только на гвардии полковника:
«Ограничиваясь сим изложением основных начал предлежащих Вам действий и распоряжений, Его Императорское Величество соизволяет, дабы Ваше Высокоблагородие отправились немедленно в предлежащий Вам путь.
По прибытии Вашем на Кавказ Вы имеете явиться к г. генерал-лейтенанту Вельяминову, как к главному местному начальнику, буде ко времени приезда Вашего он будет находиться в Екатеринограде или Тамани. Испросив от него подробного сообщения нужных Вам сведений о настоящем положении Черкесских и других горских племен, с которыми Вы должны будете пойти в сношения, и представив ему составленную Вами программу обязательств для покоряющихся горских племен, Вы воспользуетесь его советами и наставлениями к успешному выполнению возложенного на Вас дела. О цели командировки Вашей на Кавказ я вместе с сим извещаю г. Вельяминова, во всей подробности предписав и поручая ему по Высочайшей воле облегчить всеми зависящими от него мерами сношения Ваши с горскими племенами, которые между прочим должны быть предварены со стороны его о прибытии Вашем к ним по особому Высочайшему Государя Императора благосоизволению. Если Вы на пути Вашего следования не встретите г. Вельяминова, то само собой разумеется, Вы имеете следовать далее по Вашему назначению, известив его только для верности Ваших сношений о месте Вашего пребывания, куда именно должны быть доставляемы те сведения и известия, которые он найдет нужным сообщить Вам».
Все эти наставления о сношениях с «покоряющимися горскими племенами» ложились в Петербурге на бумагу в то самое время, когда на Кавказе нарастало напряжение — как на левом фланге, в Чечне и Дагестане, так и в местах проживания черкесских обществ. В том же мае 1837 года Серебряков доносил морскому министру князю А. С. Меншикову:
«Несколько дней назад явились в наш отряд послами три черкеса от шапсухского и натухайского поколения сказать от имени народа, что они, видя построение укреплений в землях, им принадлежащих, приносили на это жалобу аглицкому королю и просили его покровительства, на что король будто бы сказал им, что так как горцы сами нападают на русские селения и купеческие суда и потому навлекают на себя месть русского правительства, и приказал им дать слово нашему начальству в будущее время быть смирными и нападений не делать и что они согласны дать такие слова.
Генерал (Вельяминов. — Я. Г.) сказал на это несколько приличных выражений, вручил им прокламацию, присланную от корпусного командира, по которой требуется от них безусловной покорности. Через два дня сии же посланники опять возвратились к нам с ответом от народа на татарском языке, кои не принимают таковые условия и делают некоторым образом укоризны на наше желание при всем пространстве нашего государства завладеть ихним собственным лоскутком и объявляют свое желание, чтобы войска наши были выведены, и что не страх заставляет их миролюбия просить, но выполняют приказание аглицкого короля»[69].
Этот текст только кажется анекдотическим. Английское влияние в прибрежных горных районах было достаточно ощутимо. Мнение «аглицкого короля», на которое ссылались шапсуги и натухайцы, было, очевидно, мнением английских офицеров, обосновавшихся в труднодоступных селениях. Но главное другое — черкесы предлагают свои условия мира: нейтралитет, взаимное ненападение. Условия российской стороны, которые Серебряков характеризует как требование полного подчинения, известны нам из документа, полученного Хан-Гиреем от военного министра. На полное подчинение, на жесткое включение в административную систему империи со всеми последствиями, на отказ от многовекового мироустройства горцы были категорически не согласны. Отсутствовала сама основа компромисса: горцы вряд ли способны были выполнить свои обещания, а российская сторона не собиралась этими обещаниями довольствоваться.
Ужас ситуации заключался в том, что Западный Кавказ — пространство, в котором пересекались стратегические интересы России, Турции и Англии, не мог быть пространством нейтральным. Причины геополитические заставляли Россию закреплять за собой Кавказ, обеспечивая коммуникации с Грузией, вошедшей в состав империи, и обеспечивая тыл и фланг в противостоянии с историческим противником — Турцией. Не менее фундаментальные психологические причины заставляли горцев яростно сопротивляться подчинению…
В этом же мае Серебряков описывал в донесении Меншикову вполне рядовой переход вдоль Черноморского побережья:
«Апреля 16 дня отряд под начальством генерал-лейтенанта Вельяминова со всеми тяжестями, обозом из 200 повозок конно-провиантского транспорта отправился из Геленджика… В продолжение сего похода во всякий день имели перестрелку с горцами, которые малыми партиями, выбирая заблаговременно позиции в лесу над обрывами, засады делали. С нашей стороны ранен обер-офицер, нижних чинов убито и ранено до 50 человек. Неприятель имел с своей стороны значительные потери, так как при всем их всегдашнем старании не оставлять тела в руках неприятеля осталось таковых два».
И несколько позже:
«Из слов присланных за телами убитых черкесов при занятии устья реки Тугапсе просителей и разным соображениям, горцы намерены защищать по-прежнему единодушно земли свои. Находящиеся между ними англичане продолжают возмущать их обещанием покровительства Англии. Черкесы, хотя видят двухлетний явный обман, но не менее того находят пользу пребывания сих беглецов в горах. Сии англичане через своих корреспондентов доставляют горцам беспрерывно из Анатолии порох и прочие снаряды»[70].
Так виделась ситуация на Кавказе. Петербург смотрел иначе.
Но происходивший из племени бжедухов полковник Хан-Гирей был послан именно сюда, на Западный Кавказ, отнюдь не только по своим кровным связям с черкесами. При всей напряженности в этих местах они представлялись более доступными для мирных методов, чем неоднократно залитые кровью Чечня и Дагестан, где в это время начиналась очередная смертельная сшибка отрядов Шамиля и русских батальонов.
Через три года те же самые шапсуги и натухайцы, собрав многотысячное ополчение, штурмом возьмут большинство русских укреплений на Черноморском побережье, разрушат их и вырежут гарнизоны…
Однако в мае 1837 года тешивший себя иллюзиями Петербург считал, что ежели удастся замирить, нейтрализовать черкесские племена, занимавшие Западный Кавказ от Черного моря до Кубани, то тем самым будет обеспечен правый фланг русской армии, пресечено всякое сношение Шамиля с турками и англичанами и оказано решающее психологическое давление на дагестанские и чеченские общества.
Пока же военный министр наставлял полковника Хан-Гирея:
«Приступая к предстоящим Вам действиям, вы об успехах их должны будете извещать генерал-лейтенанта Вельяминова сколь можно чаще, дабы он мог сообразовать и согласовать с ними действия Закубанского отряда. Столь же часто и подробно Вы должны доносить и мне для доклада Государю Императору. Начиная с августа месяца донесения Ваши должны быть посылаемы прямо на Высочайшее Имя через генерал-лейтенанта Вельяминова, который не оставит переслать их в место пребывания Его Величества.
Проэкт составленного Вами положения для управления горскими народами должен быть представлен Вами на Высочайшее Имя усмотрение через генерал-лейтенанта Вельяминова. Составлением сего проэкта Вы не оставьте заняться благовременно, так чтобы оный к прибытию Государя Императора на Кавказ мог быть подробно рассмотрен г. Вельяминовым и представлен им на утверждение Его Величества тотчас после Высочайшего приезда в вверенный ему край».
Большая часть территории «вверенного» императору края могла быть пройдена русскими войсками только с боями и тяжелыми потерями, но Чернышев, явно под нажимом Николая, торопит Хан-Гирея с составлением положения по управлению этим краем…
Сама технология замирения края присутствием императора представлялась в Петербурге достаточно ясной:
«Отправление депутатов, которые горскими племенами избраны будут, Государь Император полагать изволит распорядить таким образом, чтобы хотя часть их была выслана в Вознесенск для представления Его Величеству во время имеющего быть при сем городе смотра. Депутатов сих Вы не оставите выслать в Екатеринодар, откуда по распоряжению генерал-лейтенанта Вельяминова, предварительно сделанному, они получат дальнейшее отправление до Вознесенска. Депутаты, которые по расчету времени прибыть в Вознесенск не успеют, могут быть представлены Его Величеству, смотря по удобству, в Екатеринодаре, Анапе или Геленджике, на что Вы в свое время испросите разрешение генерал-лейтенанта Вельяминова. — Вместе с сими последними могут быть вторично представлены Его Величеству и депутаты в Вознесенске бывшие, если они к этому времени успеют возвратиться».
Чернышев столь уверенно планировал церемонии представления гипотетических депутатов — хотя совершенно неизвестно, насколько успешной окажется миссия Хан-Гирея, — потому что знал: какие-нибудь депутаты неизбежно будут представлены императору, вне зависимости от реальности их полномочий. Не выполнить высочайшую волю было невозможно.
Декоративный вариант был подготовлен и финансово.
В деле о командировании гвардии полковника Хан-Гирея имеется весьма красноречивый документ от того же 25 мая:
«Для исполнения возложенного на флигель-адъютанта Его Императорского Величества полковника Хана Гирея поручения относительно собрания депутатов-горцев предвидятся неминуемые расходы, как-то:
1) На воспомоществование депутатам для приобретения приличной одежды к представлению их Государю Императору, ибо многие из них в столь короткий срок не будут в состоянии приготовиться из собственности, без чего они часто отзываются от общественных поручений.
2) На подарки лицам, которые будут употреблены для рассылок по горским обществам разведывать и склонять других к вступлению в переговоры.
3) На угощение и содержание депутатов и почтеннейших лиц до отправления их к сборному пункту, на содержание их в сем последнем.
Полагая, что число депутатов будет простираться до 50-ти человек, на воспомоществование которых потребуется по 300 р. на каждого, что составит — 15 000 р.
Расходы по второй статье по совершенной неизвестности лиц, которых по обстоятельствам употребить будет нужно, определить с некоторою точностию нет возможности, считая однакож достаточным иметь собственно на этот предмет до — 6 000 р.
Расходы на содержание 50-ти человек депутатов, считая кругом в продолжении 6-ти недель и полагая по примерам средним числом на каждого горца по 4 рубли в сутки, потребуется примерно до — 9 000 р.
Всего — 30 000 р.
Сумму сию желательно бы иметь ассигнациями по удобству транспортировки и обращению, где горцы приобретают все свои потребности.
Расходы сии определить в точности совершенно невозможно».
На документе резолюция:
«Высочайше повелено исполнить, истребовав сию сумму на известное Его Величеству употребление».
Первый пункт этого документа наводит на размышления — либо в Петербурге не имели ни малейшего представления о быте и жизненном стиле черкесов, искренне считая их скопом «стадом нищих дикарей» (как раздраженно выразился в донесении Н. Н. Раевскому-младшему адмирал Серебряков), что маловероятно, либо Чернышев, не надеясь на высокое представительство со стороны горцев, готовил откровенный спектакль.
Дело в том, что, в отличие от военной демократии вольных обществ Чечни и Дагестана, устройство черкесских племен носило четкий феодальный характер. Достаточно мощный слой «благородных» черкесов мог безо всякого воспомоществования обеспечить своим представителям достойную одежду, оружие, коней — чтобы не стыдно было предстать пред очи северного царя. Приобретать за счет России «приличную одежду» нужно было в том случае, если бы депутатами оказались лица, к влиятельным группам не принадлежащие. Но тогда вся затея с депутатами получала бы «потемкинский» оттенок.
Однако, представляя себе ограниченное, но цельное и лишенное цинизма сознание Николая, его исполненное высочайшей серьезности отношение к каждому своему действию, можно уверенно сказать, что сам император отнюдь не рассчитывал на подобный вариант. Он искренне верил в свою миссию, совершенно не отдавая себе при этом отчета о кавказской реальности.
Окружение императора вынуждено было готовиться к любому повороту событий. Это косвенно подтверждается и тем, что Хан-Гирею отнюдь не давался карт-бланш. Кроме Вельяминова — что понятно — его действия должен был контролировать специальный представитель военного министерства:
«В помощь Вашему Высокоблагородию по возлагаемому на Вас поручению Государю Императору благоугодно было назначить адъютанта моего гвардии ротмистра барона Вревского. Офицер сей, употребленный с большою пользою к действиям Закубанского отряда в 1835 и 1836 годах, хорошо ознакомился с местными обстоятельствами края и с его обитателями, и он в особенности будет Вам необходим для облегчения всех Ваших сношений с местными властями…
В заключение нужным считаю присовокупить, что о поручении на Вас возложенном по Высочайшей воле с сим вместе предварен от меня г. командир Отдельного Кавказского корпуса генерал-адъютант барон Розен, с тем, чтобы он со своей стороны оказывал Вам всевозможное содействие к успешному и видам Его Величества вполне соответствующему исполнению оной».
При обеспеченном содействии командующего войсками Кавказской линии генерала Вельяминова, пользовавшегося безоговорочным авторитетом и влиянием, при покровительстве командующего Отдельным Кавказским корпусом, при высоких личных полномочиях Хан-Гирей вполне мог обойтись без помощи барона Вревского. Но Чернышеву, очевидно, нужен был доверенный человек, через которого можно было бы получать оперативную информацию и контролировать действия Хан-Гирея. Можно с уверенностью предположить, что кандидатура Вревского была предложена им.
Линия Вревского, однако, это особый сюжет.
Подготовка к вояжу Хан-Гирея велась сколь основательно, столь и стремительно. Того же 25 мая Чернышев пишет инструкцию генералу Вельяминову.
«Секретно.
Государь Император, предпринимая известное Вашему Превосходительству путешествие в Кавказский край, между прочим предположить соизволил воспользоваться пребыванием своим в сем крае для приглашения горских племен, в особенности многочисленного и воинственного племени Черкесского, к добровольному изъявлению покорности Его Императорскому Величеству, дабы посредством сего положить первое твердое основание к успокоению горских народов и водворить между ими желаемое устройство.
Соображая способы, удобнейшие к достижению сей цели, Его Величество за благо признать изволил отправить непосредственно от лица своего доверенного чиновника для извещения горских племен о предстоящем Высочайшем прибытии в Кавказский край для приглашения их воспользоваться сим неожиданным и счастливейшим для них событием, которое не легко возобновиться сможет, дабы принести Его Величеству чрез особых депутатов изъявление покорности и для внушения им необходимости испросить себе при сем случае постоянного управления непосредственно от Российского начальства зависящего».
То есть горцам предлагалось просить как милость то, против чего они сражались с оружием в руках уже не одно десятилетие. Можно себе представить, что думал, читая эти строки, генерал Вельяминов, человек ледяной трезвости и рациональной жестокости, двадцать лет проливавший кровь своих солдат и горцев ради целей более ограниченных…
«Считая вполне способным к успешному исполнению сего поручения флигель-адъютанта лейб-гвардии Кавказского полуэскадрона полковника Хан-Гирея, Государь Император возложить оное на него соизволил, придав ему в помощь адъютанта моего, гвардии ротмистра барона Вревского…
По важнейшим последствиям, которые Его Императорское Величество изволит ожидать от успешного исполнения сего дела, и по невозвратимости предоставляющегося ныне случая действовать на умы и расположение горцев личным присутствием Его Величества, непременная воля и желание Государя Императора в том состоят, чтобы все местные власти всеми зависящими от них способами и мерами содействовали флигель-адъютанту Хану Гирею в исполнении возложенного на него поручения. Лично от Вашего Превосходительства Его Величество изволит ожидать самого деятельного участия в усилиях Хана Гирея и самой полезной ему помощи, как советами и наставлениями, так сообщением ему всех необходимых сведений о настоящем положении горских племен, с коими он должен будет войти в сношения, указанием благонадежных между горцами лиц, которых он без опасения может употреблять для рассылок и разведываний или к которым по влиянию их в горах и по приверженности к правительству он преимущественно обратиться должен; соответственным предварением горских племен о его присылке к ним и, наконец, принятием возможных мер к сохранению личной его безопасности в продолжении пребывания его в сих обществах.
На сей конец Хану Гирею предписано явиться лично к Вашему Превосходительству, буде он найдет Вас в Екатеринодаре или в Тамани, в противном случае донести Вам оттоль о местопребывании своем и способе для верного сношения с Вашим Превосходительством.
Предстоящие собственно Вашему Превосходительству распоряжения относительно отправления части горских депутатов в Вознесенск, представления потом как сих депутатов, так и прочих, которые впоследствии избраны будут, Его Величеству в Екатеринодаре, Анапе или Геленджике и пересылке донесений флигель-адъютанта Хана Гирея в место пребывания Его Величества во время высочайшего путешествия Вы, милостивый государь, изволите усмотреть из препровождаемой инструкции, а потому считаю излишним повторять оные здесь.
Мне остается упомянуть лишь о двух предметах, поручаемых Государем Императором особенному Вашему вниманию.
Сношения Хана Гирея с черкесскими племенами должны начаться с тех из них, которые более привержены к правительству или по крайней мере менее к нему враждебны. В этом порядке, указываемом самою необходимостью, с вероятностию заключить можно, что он гораздо позже успеет войти в сношения с враждебными нам племенами абадзехов, шапсугов и натухайцев и что вообще, судя по внутреннему общественному устройству сих поколений, между ними не везде достигнет ожидаемого успеха. При всем том случиться может, что пример других черкесских обществ подействует на сих последних, особенно на натухайцев, которые, как известно, более прочих привержены к мирной и оседлой жизни, к сельским и торговым занятиям. Если бы по ходу переговоров представились верные надежды к столь благоприятному изменению в образе мыслей и расположении этих обществ, в таком случае Государь Император считал бы полезным прекратить предположенные противу них во втором периоде Закубанской экспедиции военные действия, заняв однако ж земли их отрядами нашими, если эта мера по соображениям Вашим может иметь влияние на достижение цели переговоров или на ускорение собственной их решимости.
Что принадлежит до действий первого периода экспедиций, то они во всяком случае должны быть продолжаемы со всею настойчивостью и быстротою, так как занятие морского берега не только имеет целию будущее усмирение прибрежных горцев, но особенно важно для пресечения всех противных пользам нашим внешних сношений».
Здесь Чернышев, очевидно, хорошо знакомый с донесениями боевых кавказских генералов, предлагает Вельяминову мысль, прекрасно тому внятную, — любые миролюбивые жесты в сторону горцев могли иметь хоть какое-то значение, только будучи подкрепленными вооруженным давлением. Но то, что было дальше, вряд ли привело умного, опытного и чрезвычайно реалистичного Вельяминова в восторг:
«Флигель-адъютанту Хану Гирею, как из данной ему инструкции явствует, поручено между прочем составить проэкт положения об управлении, которое может быть дано покоряющимся горским племенам, с тем, чтобы он проэкт сей представил к Высочайшему усмотрению чрез Ваше Превосходительство. Государь Император желать изволит рассмотреть проэкт сей тотчас по прибытии в край Вам вверенный, с тем, чтобы не отлагая времени объявить покорившимся горцам о будущем их устройстве и ввести между ними самое управление.
На сей конец Его Величеству благоугодно, дабы Ваше Превосходительство сообразили этот труд Хана Гирея с особенным вниманием и исправили и дополнили оный сообразно с прямою пользою правительства и с нуждами племен, управлению подчиняемых, так, чтобы в ведении оного не встретилось ни затруднения, ни неудобств».
Можно себе представить, что думал, когда он читал этот текст, генерал Вельяминов, соратник Ермолова, человек, который уже двадцать лет вел безжалостную войну — он платил солдатам и казакам по червонцу за отрубленную горскую голову, — для того, чтобы установить хотя бы относительный контроль над Кавказом.
Петербург же заботил проект управления черкесскими племенами, которые отнюдь не думали покоряться и предоставить русским властям возможность управлять собой. Территории «мирных горцев» были невелики и ненадежны. Пушкин в «Путешествии в Арзрум», суммируя сведения, полученные от «коренных кавказцев», таких, например, как его лицейский друг генерал Вольховский, писал:
«Дружба мирных черкесов ненадежна; они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам».
А декабрист Розен, некоторое время служивший на Кавказе и собиравший сведения по истории войны, свидетельствовал:
«В ермоловское время офицеры на Кавказе терпеть не могли мирных черкесов; они ненавидели их хуже враждебных, потому что они переходили и изменяли непрестанно, смотря по обстоятельствам…»[71]
«Мирные» горцы — категория трагическая. Добровольно никто за них — за очень небольшим исключением — не подчинялся русским властям. Будучи вынуждены к этому карательными акциями, голодом в результате блокады, страхом за аманатов, находящихся у русских, «мирные» горцы оказывались между двух смертельно враждующих сил. Если они не помогали своим немирным соплеменникам, то становились жертвами набегов. Поэтому — как по искреннему чувству, так и из страха перед местью, от которой русские штыки их защитить не могли, — они в критических ситуациях принимали сторону немирных.
Территорий, которыми можно было бы спокойно и рационально управлять, на Кавказе в тот момент почти не было. И уж Вельяминов это знал лучше, чем кто бы то ни было. И вот теперь ему в достаточно категоричной форме предлагалось отредактировать проект мало ему известного флигель-адъютанта таким образом, чтобы в проекте этом гармонично сочетались «польза правительства и нужды племен» — что было невозможно в принципе, — и создать на основе проекта модель управления незавоеванными или покоренными весьма условно территориями, при реализации которой «не встретилось ни затруднения, ни неудобств»…
Совершенно очевидно, что весь этот план принадлежал императору, возражать которому не приходилось.
Отношение военного министра, сидящего в Петербурге, к командующему войсками Кавказской линии, находящемуся в это время в боевой экспедиции, заканчивалось так:
«Сообщая Вашему Превосходительству Высочайшее повеления сии, к зависящему от Вас неукоснительному исполнению оных, я буду ожидать уведомления Вашего, милостивый государь, о принятых Вами по всем сим предметам мерах для доклада Его Величеству».
Было ясно, что император решил сделать свой визит на Кавказ воистину историческим событием и ответственность за успех возложена на Чернышева. Отсюда и его столь жесткий тон по отношению к заслуженному генералу, не дававшему повода подозревать себя в нерадивости.
Гвардии полковник Хан-Гирей благополучно прибыл на Кавказ. Встретиться с Вельяминовым ему не удалось, но генерал переслал ему наставление, датированное 14 июня 1837 года.
«Г. военный министр, уведомляя меня о сделанном вам от Государя Императора поручении, предписывает мне содействовать вам всеми зависящими от меня способами; дать нужные вам советы и наставления; сообщить необходимые сведения о настоящем положении горских племен, с которыми вы должны будете войти в сношения; указать благонадежных между горцами людей, которых вы без опасения можете употребить для рассылок и разведований или к которым по влиянию их в горах и по приверженности к правительству должны вы преимущественно обратиться.
Для успеха в этом поручении некоторая ловкость в действиях ваших необходима. Если бы объявили вы прямо, что приехали от Государя Императора для внушения горцам изъявить покорность и просить о введении между ними управления под непосредственною зависимостию местного начальства, то вы наверное не имели бы ни малейшего успеха».
Проще говоря, Вельяминов объяснял Хан-Гирею и — косвенно — пославшим его, что сам замысел — вздорен и обречен на провал. В рапорте Чернышеву он, как увидим, скажет об этом прямо. Но при этом он как человек государственный и исполненный чувства долга пытается найти варианты действий, могущих принести хотя бы относительную пользу делу покорения и замирения Кавказа:
«Поэтому за лучшее полагаю, чтобы вы объявили, что Государь Император, предполагая в нынешнюю осень быть на Кавказе и желая, чтобы посещение Его Величества принесло возможную пользу населяющим Кавказские горы народам, послал вас предуведомить их о том заблаговременно для того, чтобы они имели время избрать доверенных от себя людей, которые представились бы Государю Императору во время поездки Его через разные места Кавказа и объяснили бы Его Величеству нужды и желания народов, от которых будут посланы».
В инструкции Чернышева, повторяющей идеи императора, горцам предлагалось «принести Его Величеству чрез особых депутатов изъявление покорности и… испросить себе при сем случае постоянного управления непосредственно от Российского начальства зависящего», то есть добровольно отдаться в полное и безоговорочное подчинение.
По версии Вельяминова, горцы должны будут вступить с императором в переговоры через доверенных лиц, у которых есть только одна задача — «объяснить» Николаю «нужды и желания народов». Слово «желания» здесь далеко не случайное. Вельяминов был выученик французских просветителей, он возил с собой в походы их сочинения и обладал полной определенностью в мыслях и в их выражении. Горские депутаты, по его мнению, должны были предъявить царю «желания» племен, то есть сформулировать условия, на которых возможен был мир на Кавказе. Вельяминов предлагал это вовсе не потому, что признавал горцев равной договаривающейся стороной, но, ясно представлявший себе неистовость сопротивления и кровавые тяготы предстоящего завоевания, он считал подобный вариант единственно приемлемым для черкесов началом гипотетического процесса замирения и постепенного подчинения. Скорее всего, он догадывался, что Николай на это не пойдет, — как представлял сам император свои взаимоотношения с горцами, мы еще увидим, — но Вельяминов хотел оттянуть, смягчить неизбежный провал миссии Хан-Гирея, не допустить этого провала в самом начале, поскольку в этом случае гнев мог толкнуть императора на резкое вмешательство в кавказские дела, а это всегда вело к тяжелым последствиям.
Вельяминов продолжал:
«Это естественным образом сблизит вас со многими лицами, имеющими наибольшее влияние между различными горскими племенами. Не трудно будет вам под разными предлогами проехать по многим за Кубанью местам, останавливаясь более или менее там, где по обстоятельствам найдете полезнейшим. В приятельских отношениях ваших вы встретите много случаев говорить о могуществе Российского Императора; о невозможности долго сопротивляться оружию Его; о необходимости покориться добровольно и выгодах, какие можно получить от того, равно как о бедствиях, которым неминуемо подвергнутся упорствующие в непокорности. Вы можете указать многие тому примеры. При подобных суждениях вы объясните самым приличным образом, что прибытие Государя Императора на Кавказ есть самый удобнейший случай к изъявлению покорности и что те, которые захотят воспользоваться этим случаем, без сомнения будут облагодетельствованы могущественным Монархом. Внушения эти должны вы представлять как собственные свои суждения, не подавая ни малейшего виду, что имеете какие-нибудь по этому предмету поручения от правительства. Таким образом можете вы достигнуть желаемой цели».
Как видим, Вельяминов предлагает принципиально иной метод по сравнению с петербургским. Если по замыслу Николая полковник Хан-Гирей должен был выступить посланцем великого государя, от его имени призывающим мятежных, не понимающих своей пользы горцев покаяться и покориться, то многоопытный генерал, прекрасно представляющий себе психологию горцев, предлагает Хан-Гирею действовать в качестве частного лица, «под разными предлогами» навещающего горские аулы и в частных беседах, между прочим, подающего доброжелательные советы и предостерегающего от опасной опрометчивости.
Но, как мы увидим, и в этот вариант Вельяминов не верил.
«Действия ваши должны начаться с племен покорных или по крайней мере более склонных к покорности. Прежде всего вам нужно быть в Кабарде; но как народ этот находится в покорности и даже имеет управление под непосредственною зависимостию местного начальства, то и нет никакой надобности ни в новом изъявлении покорности, ни в том, чтобы кабардинцы просили введения между ними управления. Но народ этот подобно всем прочим может иметь свои нужды, и потому объявите им, что они могут чрез депутатов своих повергнуть их всемилостивейшему воззрению Государя Императора. В Кабарде могут вам способствовать князь Мисост Атахиухин и уздень Авахиуха Джамбеков; через них можете вы сделать и другие знакомства, равно как приобрести нужные для вас сведения.
Из Кабарды полезно вам переехать в Тахтамышский аул, находящийся на правой стороне Кубани верстах в семи от этой реки. Тут найдете вы полковника Султана Азамат-Гирея и майора князя Мусу Таганова. Оба они известны вам по службе их в Кавказском Горском полуэскадроне, и вы без сомнения знаете, что они пользуются большим между закубанскими народами уважением. Султан Азамат-Гирей по происхождению его от Крымских ханов известен между всеми племенами от верхней части Кубани до Анапы, имеет обширное родство и много приятельских связей. Он укажет вам людей, которые между закубанскими народами могут наиболее быть полезными для успеха возложенного на вас дела. Чрез него можете вы познакомиться с Султаном Казы-Гиреем, с ногайским Мурзою Кала-Гиреем Сатиевым и с Беслеканским узденем Адимеем Хазартоковым. Люди эти имеют большое уважение в народах, живущих между верхнею частию Кубани и нижнею частию Шагуаша. Чрез них делаете вы дальнейшее знакомство и легко найдете людей, которые будут вам полезны для рассылок и разведываний».
Подробность и конкретность этих практических указаний подтверждает характеристику, данную Вельяминову генералом Филипсоном:
«Я думаю, не было и нет другого, кто бы так хорошо знал Кавказ, как А. А. Вельяминов; я говорю Кавказ, чтобы одним словом выразить и местность, и племена, и главные лица с их отношениями и, наконец, род войны, которая возможна в этом крае. Громадная память помогала Вельяминову удерживать множество имен и фактов, а методический ум давал возможность одинаково осветить всю эту крайне разнообразную картину»[72].
«Прежде нежели переедете вы из Тахтамышского аула за Кубань, — наставлял кавказский ветеран петербургского черкеса, — вам нужно явиться к начальнику Кубанской линии генерал-майору Зассу или к командующему этою линиею подполковнику Васмунду, если первый не возвратился еще из отпуску. Вы доставите которому-то из них препровождаемое при сем предписание, в котором начальник Кубанской линии извещается мною о том, что Государь Император изволил возложить на вас предуведомить горские народы о прибытии Его Императорского Величества в Кавказский край и о желании Его знать нужды этих народов, чтобы принять меры к прочному устройству благосостояния их».
Здесь опять-таки Вельяминов избегает слов о покорении, подчинении. Он предлагает куда более тонкий ход — желание императора не властвовать над горцами, но устроить их благосостояние.
«Такие же предписания, при сем препровождаемые, доставите вы начальникам линий Кабардинской и Черноморской. Не думаю, чтобы вам нужны были какие-нибудь особенные пособия со стороны начальника Кубанской линии. Но если бы это случилось, если бы, например, Султан Азамат-Гирей не возвратился еще из Петербурга, что впрочем не полагаю; если бы паче чаяния князь Муса Таганов не нашел возможности познакомить вас с Султаном Казы-Гиреем, с Кала-Гиреем Сатиевым, с Адимеем Хазартоковым, что также совсем невероятно, то начальник Кубанской линии может доставить вам знакомство как этих людей, так и других, хотя менее значительных, но могущих быть весьма полезными. От вас зависит объяснить начальнику Кубанской линии, какие пособия могут быть вам нужны. Устроивши таким образом все нужное для пребывания вашего между народами, живущими от верхней части Кубани до нижней части Шагуаша, вы переедете за Кубань сначала к ногайцам, абазинцам и башильбаевцам, а потом к босленеевцам и к другим народам, обитающим между Лабою и Шагуашем, исключая небольшого числа абадзехов, живущих на правой стороне Шагуаша.
Между народами, обитающими на означенном выше пространстве, с пособием указанных выше людей, вы не будете подвержены опасности, соображаясь впрочем во всеми известными вам обычаями горцев. Но сомневаюсь, чтобы без особенных мер осторожности могли бы вы быть безопасны между абадзехами, шапсугами и натухайцами. До сих пор эти народы упорствуют в непокорности и между ними не имеем мы еще людей, на которых в подобном случае положиться было можно. Вы имеете, однако же, возможность сблизиться более или менее с некоторыми людьми, пользующимися уважением между этими народами. Будучи родом из бжедух, вы имеете между ними приятелей и родных. Через них можете вы сделать знакомство с людьми, которых для успеха возложенного на вас дела признаете более полезными. Между бжедухами найдете вы также князей Магомет-Гирея и Ейдара Ханчухоровых и первостепенных дворян Хатучуха и Беберду Батоновых. Люди эти склонны к миролюбию и усердны к правительству; они могут более или менее вам соответствовать.
Бжедухам как народу покорному можете вы также объявить, что присланы от Государя Императора предварить их о скором прибытии Его Императорского Величества на Кавказ и о желании его знать нужды народа. Но не думаю, чтобы прилично было объявить это абадзехам, шапсугам и натухайцам, как народам совершенно непокорным и непризнающим власти Государя Императора».
Вельяминов мягко указывал здесь на абсурдность самого замысла — проповедовать покорность уже покорившимся равнинным племенам было бессмысленно, а непокорные никакой проповеди слушать бы не стали, и генерал снова рекомендует полковнику выступать в качестве частного лица, путешественника-доброхота, ибо хорошо понимает, что может ждать русского офицера (даже если он родом черкес!), вздумавшего явиться к непокорным горцам с предложением отдаться под власть императорского начальства.
Через два года после описываемых событий генерал граф Анреп-Эльмпт, назначенный начальником Лезгинской кордонной линии и будучи чрезвычайно храбрым и романтичным человеком, произвел опыт, схожий с тем, на который император толкал полковника Хан-Гирея. По свидетельству «коренного кавказца» генерала Филипсона, граф решил произвести «покорение враждебных обществ» «силою своего красноречия»:
«С ним были переводчик и человек десять мирных горцев, конвойных. Они проехали в неприятельском крае десятка два верст. Один пеший лезгин за плетнем выстрелил в Анрепа почти в упор. Пуля пробила сюртук, панталоны и белье, но не сделала даже контузии. Конвойные схватили лезгина, который, конечно, ожидал смерти; но Анреп, заставив его убедиться в том, что он невредим, приказал его отпустить. Весть об этом разнеслась по окрестности. Какой-то старик, вероятно важный между туземцами человек, подъехал к нему и вступил в разговор, чтобы узнать, чего он хочет? “Хочу сделать вас людьми, чтоб вы верили в Бога и не жили подобно волкам”. — “Что же, ты хочешь сделать нас христианами?” — “Нет, оставайтесь магометанами, но только не по имени, а исполняйте учение вашей веры”. После довольно продолжительной беседы горец встал с бурки и сказал очень спокойно: “Ну, генерал, ты сумасшедший; с тобою бесполезно говорить”.
Я догадываюсь, что это-то убеждение и спасло Анрепа и всех его спутников от верной погибели; горцы, как все дикари, имеют религиозное уважение к сумасшедшим. Они возвратились благополучно, хотя конечно без всякого успеха»[73].
Анреп действовал на свой страх и риск, и его провал принципиального значения не имел. Провал миссии Хан-Гирея, официально представлявшего императора, имел бы совершенно иной смысл — сам факт обращения императора к непокорным горцам делал их высокой договаривающейся стороной, русский император, таким образом, признавал их равными себе. Переговоры русского генерала с попавшим в ловушку Шамилем, о чем у нас пойдет речь, были истолкованы горцами диаметрально тому, как их воспринимали российские власти, и только подняли престиж имама. Потому умудренный кавказским опытом Вельяминов так настаивал, чтобы Хан-Гирей вел переговоры с племенами от собственного имени:
«На них (непокорных горцев. — Я. Г.) должно действовать единственно внушениями от собственного лица вашего, как объяснил я выше. Сношение, в которое шапсуги и натухайцы недавно вступили со мной, представляет возможность достигнуть желаемой цели. Они решительно отвергли требования, объявленные им в посланной мною прокламации. Вы можете воспользоваться этим. В дружеских ваших сношениях с ними вы можете ловким образом заставить самих их пересказать вам, в чем состоят объявленные им требования, показывая вид, что они совершенно вам неизвестны. Вы без сомнения услышите от них, что народ никогда на них не согласится. Это будет вам поводом изъявить некоторое удивление относительно объявленных требований. Под видом откровенности можете показывать, что вы находите их слишком тяжкими. С этим вместе старайтесь внушить им, что в означенных требованиях есть какая-нибудь ошибка со стороны здешнего начальства, которое, вероятно, нехорошо поняло приказ Государя Императора. Вы можете уверять, что, живучи несколько лет в Петербурге, вы неоднократно имели случай говорить с людьми, пользующимися милостями и доверенностию Государя Императора; что всегда слышали вы от них самые снисходительные требования относительно покорности горских народов. При этом можете самым естественным образом внушать им, что если бы они воспользовались предстоящим прибытием Государя Императора на Кавказ и послали к нему депутатов в Екатеринодар или в Анапу с изъявлениями покорности, то без сомнения были бы приняты в подданство Его Императорского Величества на условиях гораздо более снисходительных. Весьма вероятно, что надежда на эту снисходительность побудит их избрать доверенных людей и послать их со своими предложениями».
Вышеприведенный текст поразителен по своему хитроумному цинизму, который, очевидно, вообще был свойствен вольтерьянцу в генеральских эполетах. Злобный, но неглупый и осведомленный В. С. Толстой в заметках о кавказском генералитете писал:
«С Петербургом, не имеющим понятия об особенности края и всех затруднений Горной войны, он (Вельяминов. — Я. Г.) не лукавил, и правдиво выставлял всю нелепость его теоретических узких воззрений и тем внушал боязнь самому тогдашнему Военному Министру Чернышеву, в сущности наглому шарлатану»[74].
Вообще, для того чтобы понять особенность обширного документа, который мы цитируем, нужно представить себе личность автора.
Тот же генерал Филипсон, который служил на Кавказе много лет и на глазах которого разворачивались описываемые события, выразительно и ясно охарактеризовал Вельяминова, близко ему знакомого:
«Он принадлежал к кружку, из которого вышло несколько заметных деятелей, как Ермолов, князь Меншиков, граф Бенкендорф и другие, с которыми он сохранил дружеские отношения. На Кавказе он сделался известен как начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса во время командования А. П. Ермолова, которого он был верным другом и помощником. Они были на ты и называли друг друга Алешей… А. А. Вельяминов получил хорошее образование, а от природы был одарен замечательными умственными способностями. Склад его ума был оригинальный. Воображение играло у него очень невидную роль; все его мысли и заключения носили на себе видимый характер математических выводов. Поэтому, вероятно, и в отношениях к людям ему чужды были чувствительность и сострадание, там, где он думал, что долг или польза службы требовали жертвы.
Строгость его доходила до холодной жестокости, в которой была некоторая доля цинизма… Вельяминов хорошо, основательно учился и много читал; но это было в молодости. Его нравственные и религиозные убеждения построились на творениях энциклопедистов и вообще писателей конца XVIII века. За новейшей литературой он мало следил, хотя у него была большая библиотека, которую он постоянно пополнял. Он считался православным, но, кажется, был деистом, по крайней мере никогда не бывал в церкви и не исполнял обрядов. Настольными его книгами были Жильблаз и Дон-Кихот на французском языке… Вельяминов был честный и верный слуга государя, но с властями держал себя самостоятельно»[75].
Как видим, и Толстой, и Филипсон толкуют о независимости Вельяминова от петербургского невежества и доктринерства. Но в данном случае генерал занял вполне компромиссную позицию, официально поддерживая и одобряя проект императора, а на практике пытаясь подменить его чем-то более удобоисполнимым.
Третий мемуарист, генерал Эдуард Бриммер, служивший под началом Вельяминова и высоко его ценивший, описывая жанровую сцену, дает многозначительный штрих к внешности командующего Кавказской линией, штрих, имеющий отнюдь не только внешний смысл:
«Холодный, молчаливый Вельяминов упрет свои стеклянные глаза вверх кибитки и молчит…»[76]
Именно в руках этого выученика энциклопедистов, героя наполеоновских войн — с Аустерлица начиная, — однокашника влиятельнейших генералов эпохи, до тонкости знавшего особенности Кавказа, холодного человека со стеклянными глазами и математическим складом ума, в соответствии с рационалистической философией не стеснявшего себя строгими нравственными нормами — на войне как на войне, — оказалась, по сути, судьба всей акции. Понимая, что противиться ясно выраженной воле императора и объяснять несбыточность и нелепость его замысла — бессмысленно и опасно, Вельяминов попытался подменить «рыцарскую прямоту» проекта, свойственную Николаю, изощренным обманом. Собственно, он предлагает Хан-Гирею обмануть не только горцев, но и императора. Он предлагает Хан-Гирею дезавуировать требование капитуляции, одобренное, как мы знаем, Николаем, уже предъявленное горцам и отвергнутое ими. Тот же Филипсон был свидетелем сцены переговоров, состоявшихся в середине мая 1837 года, когда в Петербурге уже готовились к отправке на Кавказ полковника Хан-Гирея:
«На другой день по нашем приходе в Геленджик нам дали знать, что пятеро горских старшин приехали к аванпостам для переговоров с г. Вельяминовым. Это были пять стариков очень почтенной наружности, хорошо вооруженные и без всякой свиты. (Как видим, этим депутатам не понадобилась материальная помощь русского правительства, чтобы предстать пред противоположной стороной в виде вполне внушительном. — Я. Г.) Они назвались уполномоченными от натухайцев и шапсугов. Вельяминов принял их с некоторой торжественностью, окруженный всем своим штабом. В этот только раз я видел на нем кроме шашки кинжал: предосторожность далеко не лишняя после примеров фанатизма, жертвами которого сделались князь Цицианов, Греков, Лисаневич, князь Гагарин и многие другие.
Эта сцена была для меня новостью. Мне казалось, что тут решается судьба народа, который тысячи лет прожил в дикой и неограниченной свободе. В сущности, это была не более как пустая болтовня. Депутаты горцев начали с того, что отвергли право султана уступать их земли России, так как султан никогда их землею не владел; потом объявили, что весь народ единодушно положил драться с русскими на жизнь и на смерть, пока не выгонит русских из своей земли; хвалились своим могуществом, искусством в горной войне, меткой стрельбой и кончили предложением возвратиться без боя за Кубань и жить в добром соседстве… Старик Вельяминов на длинную речь депутатов отвечал коротко и просто, что идет туда, куда велел Государь, что, если они будут сопротивляться, то сами на себя должны пенять за бедствия войны, и что если наши солдаты стреляют вдесятеро хуже горцев, то зато мы на каждый их выстрел будем отвечать сотней выстрелов. Тем конференция и кончилась.
Ночью лазутчики дали знать, что вблизи находится огромное сборище, которого силу они вероятно увеличили, говоря, что в нем не менее 10 т. конных и пеших от всех народов племени Адехе, и что все приняли торжественную присягу драться с русскими до последней крайности и за тайные сношения с нами назначили смертную казнь»[77].
Представление о настроениях черкесских племен дает их переписка этого времени с русскими генералами.
Генерал Симборский, командовавший одним из отрядов на Черноморской линии, послал известные нам условия, утвержденные императором, племени убыхов. Убыхи, немногочисленный, но воинственный, сплоченный народ, были наряду со своими родичами абадзехами наиболее влиятельной и аристократичной группой среди черкесских племен.
Симборский писал:
«Добровольное признание над собою власти Государя Императора сопрягается с неисчислимыми для вас выгодами и пользами, которые по милосердию и великодушию Его Императорского Величества польются на вас в той же степени, как на все благоденствующие под Его Державою народы. В жилищах ваших водворится мир и спокойствие, взаимные ссоры и распри ваши прекратятся и благосостояние каждого будет умножаться произведениями труда его. Свободная торговля с Россиею нужными для вас товарами учредится по всему протяжению земли вашей и в службе Государя Императора откроется обширное для вас поприще к приобретению богатства, почестей и славы.
Между тем в домах своих вы будете управляемы по собственным нравам и обычаям, а вера ваша останется неприкосновенною святыней для всех русских властей… Собранные по воле Государя Императора войска прибыли сюда для продолжения занятия берегов Черного моря; я назначен начальником этого отряда.
Но великодушный Монарх наш, считая вас заблудшими своими подданными, обманутыми злыми людьми (имеются в виду английские офицеры, базировавшиеся в горах. — Я. Г.), приказал еще раз испытать средства миролюбивые, для склонения вас к добровольной покорности. Если, вняв внушениям благоразумия, воспользуетесь вы милосердием Его Величества и признаете над собою законную и благотворную власть Его, то я буду поступать с вами не как враг, а как друг ваш. Жизнь и имущество останутся неприкосновенными, все преимущества, о которых уже говорено здесь, будут вам дарованы, свободная торговля с нами тотчас будет открыта и произведения ваши мы будем покупать по тем ценам, которые вы сами назначите. Наконец, владельцы той земли, на которой будет построено наше укрепление, щедро будут за нее вознаграждены».
И дальше шли те самые восемь пунктов условий добровольной покорности, среди которых было и требование безоговорочно «повиноваться поставленному от нашего правительства начальнику».
Обращение Симборского кончалось так:
«Горцы! повторяю еще раз: внемлите предложениям, которые Могущественный Государь наш повелел вам сделать по беспримерному Своему милосердию, а не потому, чтобы это был единственный путь для приведения вас в покорность.
Жду вашего ответа»[78].
Старейшины убыхов вернули Симборскому прокламацию со следующей надписью на ней:
«О неверные русские, враги истинной религии! Если вы говорите, что наш падишах дал вам эти горы, то он нас не уведомил, что отдал вам нас лично; и если бы мы знали, что эти земли вам отданы, то не остались бы на них жить. Мы имеем посланных от султана Махмуда, Мегмет-Али-паши, королей английского и французского. Если вы сему не верите, то отправим в Константинополь по одному доверенному лицу с вашей и с нашей стороны для узнания истины; и если вы в том удостоверитесь, то должны оставить эти места и Гагры и перейти за реку Чорчу-Абазасу; тогда мы будем жить с вами и абхазцами в мире до тех пор, пока наш падишах не объявит вам войны… Мы поклялись нашею верою и уведомляем вас о том, что мы не исполним того, что в вашей бумаге написано. Бог будет за нас или за вас!»[79]
Через некоторое время Симборский получил от убыхов обширное послание, написанное наверняка с помощью англичан, поскольку в нем излагается взгляд на сложную картину международных отношений, о которых убыхи вряд ли были осведомлены.
Заканчивалось послание категорически:
«Решительный наш ответ таков: мы не станем вам ни на волос повиноваться. Вы пишете, что подвластные вам мусульмане живут в благоденствии; но что они терпят — мы знаем, слышим и видим; видим и теперь, как вы собираете войска из областей с вами помирившихся и заставляете их воевать с нами. Если вы так сильны, то зачем берете их с собою? Ныне, пока нами не овладели, вы их еще не столь стесняете. О, хранитель наш! если достанемся мы в ваши руки, то знаем, что с нами и с единоверцами нашими будет. Упаси Боже, что терпят от вас и ваших дел правоверные; что мы терпим, это Бог знает. Мы знаем, сколь угнетены казанские, крымские татары и прочие в Империи вашей живущие. Из ваших крепостей бегут к нам те из них, которых вы берете в солдаты, и мы своими глазами видим, что бегущие от вас наслаждаются у нас только покоем.
Если желаете ответа, то вот он: оставьте крепости, находящиеся в черкесской земле, перейдите за Кубань, и мы туда ходить не станем, вы же сюда не ходите. Тогда, если захотим, то будем жить с вами в дружбе. В письме вашем вы просили выдачи от нас аманатов и хотите поставить начальника над нами. Вы написали к нам довольно надменное и заносчивое письмо; кто над нами начальник и кто может давать нам приказания? Тем ли вы возгордились, что овладели на берегу моря клочком земли величиною в рогожу? Более мы к вам переговорщиков посылать не будем, и вы не посылайте; не пишите к нам более писем; а если это сделаете, то посланного убьем, письмо же разорвем в клочки»[80].
Столь радикальные настроения одного из наиболее влиятельных черкесских племен Вельяминову были известны, а императору и военному министру — нет. И, как мы увидим, он не сообщил об этом ни Чернышеву, ни самому Хан-Гирею. Убыхи вообще не упоминаются в его инструкциях Хан-Гирею и рапорте Чернышеву.
Очевидно, Вельяминов не счел возможным сообщать в Петербург о реальном положении вещей в том, что касалось немирных горцев. Это было бы равносильно обвинению петербургских стратегов в полном непонимании обстановки на Кавказе, — что было сущей правдой, — и могло чрезвычайно раздосадовать Николая, постоянно дававшего кавказским генералам различные указания.
Многочисленные племена натухайцев, абадзехов, шапсугов не склонны были к столь зловещим формулировкам, но и принимать условия, которые русские власти пытались им продиктовать, они отнюдь не были склонны. На прокламацию Вельяминова, предлагавшую черкесам те же условия, что и прокламация Симборского, — оба генерала повторяли присланный из столицы текст, — натухайцы ответили:
«Присланную вами прокламацию мы получили и содержание оной узнали. Воссылая хвалу Всевышнему Богу, мы мусульмане, довольны всегда Его предопределением. Более десяти лет уже находясь в беспрерывной войне, с надеждою, по разным между народом носящимся слухам, быть ни от кого не зависимыми, мы теперь от высокого короля английского получили бумагу, относящуюся ко всем горским племенам от Чечни до самого Бугаза Кызыл-Таша, содержание которой известно и вам; в оной говорится, чтобы черкесы с намерением убийства и грабежа не вступали никогда в российские пределы, россияне же удалились от черкес и более не вступали с войсками в наши земли; на сих условиях следует утвердить договор и возобновить мир и согласие. Объявляя о сем и вам, мы уверены совершенно в том, что дружба и согласие между нами водворятся лишь тогда, когда все войска ваши и крепости будут переведены за Кубань; торговлю же со всеми племенами как водою, так и сухопутьем продолжали бы. Если изъявите на сие ваше согласие, то не оставьте почтить нас ответом, а что мы все единодушно согласны покориться, в том нет сомнения и подозрения. Силу могущества своего вы показали, ибо во власти вашей находятся земли более чем в семи королевствах; но не для вас одних Всемогущий Бог создал все земли; на объявленное же в прокламации предложение, одному Предвечному Творцу известно, что мы никогда не согласимся и теперь ведем переговоры не из боязни вас, но единственно вследствие наставления и совета, данных нам английским двором. То же, что вы, с гордостью заявляя о своем могуществе и храбрости, грозите уничтожить нас одним словом, присуще только Всемогущему Творцу, и хотя вы имеете силу, но мы тоже надеемся на милосердие Его. В случае же признания нас, подобно прочим правительствам и королевствам, без сомнения все черкесы, без изъятия, будут согласны относительно покорности. На подлинном подписались: абадзехского, шапсугского и натухайского обществ муллы, все духовенство и почтенные люди»[81].
Несмотря на дипломатическую мягкость тона, три наиболее многочисленных племени совершенно ясно выразили свою позицию — они остаются полностью независимыми, русские уходят с их земель, тогда они готовы соблюдать мир, и это состояние мира они называют покорностью.
В такой ситуации Вельяминов, сознававший невозможность договориться с горцами на условиях Петербурга, но и не имевший возможности отказаться от выполнения высочайшего поручения совместно с Хан-Гиреем, избрал третий путь — предложить трем непокорным черкесским племенам столь мягкие условия сотрудничества с Россией, чтобы они сочли выгодным прислать депутатов для встречи с императором. Вельяминов резонно рассудил, что уважающие этикет горские старейшины не станут ввязываться в полемику с северным властелином, но отвезут в племена его условия, которые приняты не будут, Это, однако, произойдет уже после отбытия августейшего гостя. А там будет видно… Умный и циничный Вельяминов понимал, что главное в этом случае — соблюсти церемонию.
Продолжая свои наставления Хан-Гирею, Вельяминов создал подробнейший документ, который демонстрировал его готовность всячески поддерживать усилия полковника, равно как и его скрупулезную осведомленность в кавказских делах. Этот документ при любом повороте событий должен был стать индульгенцией для него, как и его рапорт Чернышеву.
Он писал:
«В этой части Кавказа прилично начать внушения ваши с натухайцев, как с народа более склонного к жизни покойной и потерпевшего уже довольно значительные опустошения. Шапсуги, живущие между Атакумом и Абином, также почти совсем разорены; прочие мало еще от войны потерпели, равно как и абадзехи. Между натухайцами наиболее имеют доверия в народе дворяне Супахо-Ендархо-Магмет, Супахо-Хау-тохо-Мамзырь и из простого народа Тлечась-зех-охо-Сехейх, Айхез-Хасдемор и Хушт-Хосейн; между шапсугами пользуются особенною доверенностию дворяне Шеретлух-Тугузохо-Казбек, Немиро-Хатлабехо-Шагангирий и из простого народа Шиблагохо-Незюс, Инохо-Ахебиохо-Кетагаш и Кобле-Хурай; у абадзехов более других имеют влияние на народ дворяне Едихе-Семигериохо-Магмет, Едихе-Инемухо-Кягемохо-Хатух, Нейгохо-Схашлохо-Шангерий и из простых Хоаз-Баймюрза и Ций-Битатохо-Нашго. Старайтесь сблизиться с этими людьми и распространяйте чрез них внушение ваше. Частые угощения и кстати сделанные подарки могут много тому способствовать, и вам даны на то средства достаточные».
Но Вельяминова все-таки беспокоило, чтобы Хан-Гирей не вздумал следовать петербургской инструкции:
«Повторяю сказанное выше: никому не должны вы открывать настоящей цели, для которой вы посланы. Тем, кого найдете вы более заслуживающими доверенности, можете говорить, что кроме объявления покорным горцам о прибытии Государя Императора на Кавказ вам поручено еще разведать тайным образом, не имеют ли они основательных причин жаловаться на утеснения или на несправедливости местных начальников. Это единственное средство исполнить возложенное на вас поручение с успехом».
Миссия Хан-Гирея, по версии Вельяминова, как видим, принципиально трансформировалась.
«Мне остается дать вам некоторое понятие о настоящем положении горских племен, с которыми вы должны будете войти в сношения. Натухайцы, шапсуги и абадзехи до сих пор упорствуют в непокорности. Самая большая половина натухайцев и значительная часть шапсугов потерпели большие разорения в последние три года. Многие остались на прежних местах жительства, и как дома их сожжены, то живут в скудных шалашах.
Другие переселились к абадзехам, к шапсугам, обитающим между Абином и Афипсом, и к народам, живущим вдоль берега Черного моря между Геленджиком и Гагрою. Натухайцы, потерпев в прошедшую осень большую потерю в сене, как от того, что сами зажгли его, и от того, что весьма много взято было нашими войсками, продавали в течение зимы рогатый скот и баранов за бесценок. Бжедухи, темиргойцы, махошевцы, баговцы, бесленеевцы, башильбаевцы, абазинцы, ногайцы и кабардинцы покорны правительству. В продолжении последних четырех лет абазинцы, бесленеевцы, махоши, баговцы более или менее потерпели от набегов генерал-майора Засса. Несмотря на это, означенные народы находятся в хорошем положении и не терпят бедности. У них бывают междуусобные ссоры, хотя скоро однако не прекращаются. Между кабардинцами, жившими в Большой и Малой Кабарде, хлебопашество приметно распространяется, чего нельзя до сих пор сказать о других горских народах.
Кроме предписаний начальникам линий Черноморской, Кубанской и Кабардинской препровождаю при сем также предписания полковнику Султану Азамат-Гирею, майору князю Мусе-Таганову относительно доставления вам возможных со стороны их пособий. Со всех этих бумаг для сведения вашего прилагаются здесь копии.
Донесения ваши, которые должны быть доставлены через меня Государю Императору, равно как и те, которые найдете нужным послать собственно мне, извольте отправлять через начальников линий, ближайших к тем местам, откуда будете писать. Извещайте как можно чаще и по крайней мере один раз в неделю начальника штаба Кавказской линии генерал-майора Петрова о месте вашего пребывания. Это необходимо для того, чтобы доставлять к вам предписания, которые могут быть присланы от г. военного министра, равно как и для переписки со мною.
Уверен будучи в усердии и способностях ваших, я остаюсь в полной надежде, что порученное вам дело будет иметь желаемый успех».
Снабдив инструкциями полковника Хан-Гирея, Вельяминов в тот же день, 14 июня, отправил рапорт военному министру.
«Секретно. Рапорт.
Из представляемых в копии:
1. Наставления, данного мною флигель-адъютанту Его Императорского Величества полковнику Хан-Гирею, по предмету возложенного на него Государем Императором поручения;
2. Предписаний моих начальникам различных частей Кавказской линии, равно как полковнику Султану Азамат-Гирею и майору князю Мусе-Таганову;
3. Объявления моего горским народам о прибытии Его Императорского Величества на Кавказ.
Ваше Сиятельство усмотреть изволит меры, которые нашел я возможными употребить для содействия полковнику Хан-Гирею в данном ему поручении.
В конце посылаемого ему от меня наставления Вы изволите увидеть, что я изъявляю большую надежду на успех; но Вашему Сиятельству обязан я сказать откровенно, что успех этот более нежели сомнителен. Можно бы иметь некоторую надежду склонить к покорности натухайцев, которые, испытав значительные разорения в прошедшую осень, начинали приметным образом колебаться, но лживые обещания английских агентов снова возмутили этот народ, который, не имея понятия о политических сношениях европейских держав, сильно верит большим пособиям со стороны Англии».
Существенно, что и в инструкции Хан-Гирею, и в рапорте Чернышеву Вельяминов объясняет состоявшееся или возможное согласие того или иного горского племени на подчинение России — только страхом, разорением, грозящим или уже наступившим голодом. Генерал трезво сознавал, что добровольно ни одно горское общество не признает над собой власть северной империи. В иллюзорную помощь Англии горцы готовы были поверить не от наивности, а от отчаяния. Они ощущали возрастающий напор русских войск. Кроме торговой блокады, уничтожения посевов и запасов корма для скота, угона скота командование Кавказского корпуса стало применять методы войны, практикуемые самими горцами. Кроме широкомасштабных экспедиций в горы, которые, как правило, не приносили успеха, поскольку подготовку к ним невозможно было держать в тайне, а пройденные территории не было средств закрепить за собой и контролировать, в ход пошли короткие стремительные набеги. Вельяминов недаром упомянул в послании Хан-Гирею генерала Засса. Это был один из самых своеобразных персонажей кавказской эпопеи. Злобный В. Толстой охарактеризовал Засса чрезвычайно просто:
«Курляндец без признака образования и убеждений, имевший особые способности на вооруженные разбои на широкую ногу, которому в случаях надобности наказать вероломство какого-либо туземного племени Вельяминовым поручался набег, остальное же время этот славный генерал держал Засса, как говорится, на цепи»[82].
Верно определив главную функцию Засса, Толстой ошибся в последнем утверждении — особенность положения генерала Засса, командовавшего правым флангом Кавказской линии, в том и заключалась, что ему предоставлено было право самому выбирать время и цели набегов, чтобы избежать огласки. Одетые по-черкесски кавалеристы Засса во главе со своим безжалостным и отчаянным генералом терроризировали непокорные общества, грабя и сжигая аулы.
Декабрист Розен писал:
«Генерал Засс, страшилище черкесов, оставил по себе продолжительное воспоминание на Кавказе. Экспедиции были для него забавою, как травля для охотника, как вода для рыбы… Он своею личностью наводил величайший страх на неустрашимых черкесов»[83].
Разумеется, горцы понимали, что вечно такая жизнь продолжаться не может. Именно надежда одним яростным натиском сокрушить русских и убедить их в невозможности покорения племен подвигла горцев, к тому же доведенных до тяжкого голода блокадой, ринуться в 1840 году на прибрежные русские укрепления. В результате на несколько месяцев Кавказским корпусом было потеряно почти все, что завоевывалось годами.
Именно надежда заполучить хоть какого-нибудь союзника, после ухода турок, заставила горцев поверить обещаниям англичан.
Объяснив упорство черкесов простейшим образом — хотя он, разумеется, знал, что причины куда сложнее и глубже, чем расчет на английские «пособия», — Вельяминов продолжал:
«Обещавшие их агенты уверили в этом народ тем, что сами остались среди его как залог всего обещанного. Имея в руках своих жизнь этих людей, натухайцы никак не могут понять, чтобы данные им обещания не были в точности исполнены. Теперь нет никакой возможности переуверить их в этом; одни только события могут показать им, до какой степени они обмануты».
Наверняка Вельяминов не верил в то, что писал. Он был для этого слишком тонким знатоком Кавказа. Прошли годы. Англичане не оказали черкесам никакой сколько-нибудь существенной помощи, а горцы тем не менее продолжали ожесточенно отстаивать свою «дикую свободу», поскольку отказ от нее означал для них не просто изменение условий жизни, но крушение традиционного самоощущения, и, стало быть, самоуважения, без которого жизнь горца теряла свою ценность. Свидетели, наблюдавшие черкесов после 1864 года, когда был покорен Западный Кавказ, лишенных права носить оружие, унижаемых казаками, говорят о резком падении их жизненного тонуса, о массовой социальной депрессии… Но до этого было еще очень далеко.
Вельяминов, посылая в Петербург копию наставлений Хан-Гирею, должен был как-то объяснить те принципиальные коррективы, которые он внес в предписания военного министра, продиктованные самим императором. Он мягко внушает Чернышеву, что буквальное выполнение Хан-Гиреем данных ему инструкций может поставить императора и империю в довольно неловкое положение.
«Вот причина, побудившая меня поставить на вид полковнику Хан-Гирею, чтобы от имени Государя Императора объявил он только, что прислан предуведомить покорных горцев о скором прибытии Его Императорского Величества и о желании узнать короче нужды народов от избранных депутатов; внушения же об изъявлении добровольной покорности теми народами, которые до сих пор упорствовали в сохранении дикой свободы своей, делать ловким образом от собственного только лица. Если внушения эти останутся безуспешными, то нет кажется ничего в том особенно неприятного; но я никак не могу помириться с мыслью, чтобы положительные требования от лица Императора, повелевающего таким государством, как Россия, могли быть отвергнуты народом полудиким, упорствующим в привычке своей к безначалию оттого только, что не имел еще случая видеть ничтожность сил своих в сравнении с армиями Императора, который единственно из человеколюбия желает обратить непокорных к повиновению без излишнего кровопролития».
Этот пассаж интересен с точки зрения психологии отношений между Петербургом и «коренными кавказцами». Воюющий на Кавказе с 1816 года — с небольшим перерывом, — прекрасно представляющий себе скромность результатов, достигнутых завоевателями за без малого сорок лет непрерывных боевых действий, наблюдавший консолидацию горцев под напором русских штыков в подобие единого государства — имамат Шамиля, знающий всю неимоверную сложность войны против черкесских племен в горных районах, Вельяминов разговаривает с петербургскими стратегами как с малыми детьми, предлагая им те элементарные объяснения длительности и мучительности кавказской конкисты, которые наиболее доступны их сознанию и соответствуют уровню их понимания ситуации.
Горцы действительно не могли оценить всю мощь Российской империи, но это не играло решающей роли в происходящем, ибо империя реально могла использовать на Кавказе лишь малую часть этой мощи и то — с огромным напряжением сил и средств. Как позднее в Крыму, во время войны с Англией, Францией и Турцией. Николай, заявлявший незадолго до Крымской войны в ответ на робкие разговоры генералов о необходимости модернизировать вооружение, не менявшееся с наполеоновских времен, что его миллион солдат раздавит любого противника, имел вполне абстрактные представления о современной войне. Недаром крымские поражения сломили и погубили его.
Холодный рационалист, воспитанник энциклопедистов с их культом логического разума, Вельяминов не сомневался в превосходстве европейской модели государственного устройства над руссоистской органикой горского быта. Но знал он и другое: осознают горцы чисто военное превосходство России или не осознают — они будут драться до последней крайности и победа над ними обойдется неимоверно дорого. Но необходимость выйти из безвыходной ситуации, в которую его поставило поручение Чернышева, заставила Вельяминова прибегнуть к такого рода маневрам.
Он осторожно готовит Чернышева к неминуемому поражению по существу, которое должно быть закамуфлировано видимостью исполнения формальной стороны императорского желания — появлением депутатов от горских обществ.
«Чтобы можно было иметь хотя бы небольшую надежду на успех внушений полковника Хан-Гирея, я полагаю полезным, чтобы он польстил их надеждой на смягчение объявленных им требований. Обстоятельства дают возможность не обмануть их в этой надежде. Г. корпусной командир уведомил меня, что Государю Императору благоугодно было, согласно с представлением моим, требования относительно покорности горцев переменить другими, более снисходительными; он предписал объявить об этом натухайцам, шапсугам и абадзехам, которые отвергли требования условий покорности, объявленные им в посланной прокламации. Я не имел еще ни времени, ни возможности исполнить это, когда получил предписание Вашего Сиятельства относительно поручения, данного флигель-адъютанту полковнику Хан-Гирею. Если внушения его убедят который-нибудь из непокорных народов на правом фланге Кавказской линии послать депутатов к Государю Императору, то Его Величество найдет возможность даровать прибегающим к нему с покорностию значительные облегчения, ничего не изменяя в требованиях, Высочайше утвержденных в последний раз».
Все это было чистым лицемерием. Какими были требования, утвержденные императором, мы уже знаем — это были условия капитуляции. Если это Вельяминов считал более мягким вариантом, то каков же был вариант Вельяминова?
Вельяминов знал, что горцы без тотального принуждения оружием не согласятся принять русскую администрацию, не откажутся от сотрудничества со своими непокорными единоплеменниками, более того — без крайней необходимости не откажутся и от практики набегов и работорговли. Ибо набеги были не только существенной составляющей их экономики, но и фундаментальной традицией, основой их психологического самостояния.
Вельяминов знал, что требования, утвержденные Николаем, могут быть навязаны горцам отнюдь не уговорами полковника Хан-Гирея и даже не августейшим увещеванием, а только штыками и картечью.
Почвы для компромисса не было. Вельяминов и это знал.
Но он вынужден был вести свою хитроумную и циничную игру с Петербургом.
«Что касается до небольшого замедления, которое произойдет в объявлении этих требований, в коих ничего уже не остается убавить, то оно не может иметь влияния на ход здешних дел. Доколе непокорствующие народы не потеряют надежду на пособие англичан, до тех пор не только будут они упорствовать в непокорности, но даже не перестанут требовать уничтожения укреплений за Кубанью и по берегу Черного моря.
По соображениям моим построение в нынешнем году укреплений не может быть окончено прежде половины сентября месяца. До тех пор второй период действий начаться не может; переговоры же полковника Хан-Гирея к тому времени чем-нибудь решатся. Нельзя надеяться, чтобы пребывание отрядов наших способствовало успеху этих переговоров. Поэтому не думаю, чтобы нужны были какие-нибудь изменения в предположенных на нынешний год военных действиях».
Наконец, после длительного лавирования, Вельяминов вынужден был высказаться ясно и прямо — переговоры есть нечто сомнительное и ненадежное, а полагаться надо исключительно на военную силу. Боевые операции должны идти своим чередом. Эта позиция Вельяминова была хорошо известна в войсках.
Мемуарист М. Ф. Федоров, воевавший в это время в отряде Вельяминова, писал о днях пребывания императора на Черноморской линии:
«…Разнесся слух и пошли толки, будто бы Его Величество думает изменить план наших экспедиций в горах, с целью прежде всего окончательно занять северо-восточные берега моря, для скорейшего прекращения торга невольниками и подвоза контрабандистами соли, кременей и пороха; что по этому-то случаю велел генералу Вельяминову закончить экспедицию и самому поспешить приездом в Ставрополь, где Его Величество желал лично решить этот вопрос, так как генерал Вельяминов настойчиво защищал свой проект покорения Черкесии, составленный им в 1834 году. Известно, что главная мысль проекта состояла в том, чтобы, усилив при берегах крейсерство, занимать постепенно сухим путем примыкающие к морю ущелья — обыкновенные приюты турецких и горских контрабандистов и места их торга пленными; устроить там укрепления, в окрестности от них на 25 верст уничтожив все аулы. Но первоначально отделить всю дельту между левым берегом Кубани и северо-восточным берегом Черного моря большою операционною линиею укреплений с сильными гарнизонами, дабы можно было постоянно, несмиряющимся аулам, угрожать набегами из-за Кубани посредством летучих отрядов, могущих при нужде найти в этих укреплениях необходимые пособия; сами же укрепления снабдить в достаточном количестве запасами провианта и всеми предметами военных потребностей; при том, соединить их между собою удобными дорогами для движения транспортов и артиллерии…»[84]
Ни о каких переговорах, компромиссных вариантах, добровольной покорности речи нет. Кавказский генералитет в лице своего безусловного лидера предлагал императору длительный, дорогостоящий, но единственно реальный способ покорения края…
В проекте же Николая — Чернышева — Хан-Гирея у трезвого Вельяминова не вызывает сомнений только прибытие депутатов от уже замиренных — постоянно или на тот момент — горских обществ: чисто ритуальная акция, не имеющая никакого практического значения.
«Народы покорные без сомнения воспользуются позволением послать депутатов своих к Государю Императору. Но между ними дела подобного рода требуют довольно много времени. Сомневаюсь, чтобы депутаты могли поспеть в Вознесенск, тем более, что от Николаева до Вознесенска едва ли есть достаточно для проезда их почтовых лошадей; сверх того довольно дальняя поездка эта будет затруднять их. Принимая это в соображение, не угодно ли будет Государю Императору принять депутатов:
Во Владикавказе от кумык, чеченцев, карабулак, ингуший, осетин и кабардинцев.
В Ставрополе от ногайцов, абазинцов, башильбаевцов, бесленеевцов, баговцов, махоший и темиргойцов.
В Екатеринодаре от бжедухов, и если будут от абадзехов, шапсуг и натухайцов. От последних депутаты также могут быть приняты в Геленджике. В Анапу было бы еще ближе для них приехать; но как в последних числах сентября нельзя ожидать тихой погоды, то весьма быть может, что при сильном ветре с моря Государю Императору нельзя будет выйти на берег. Напротив того в Геленджикской бухте никогда не бывает слишком сильного волнения».
Упоминание депутатов от чеченцев не должно вводить в заблуждение. В тот момент замирена была лишь небольшая часть равнинных чеченских обществ. На большей же части Чечни шли ожесточенные военные действия.
Деловая часть рапорта Вельяминова принципиально отличается от идеологической, так сказать, части, полной уклончивых формулировок и мягких увещеваний. Вельяминов уверенно и четко корректирует весьма приблизительные представления Петербурга о географии и служебном быте Кавказа.
«Ваше Сиятельство изволили предписать полковнику Хан-Гирею, чтобы с августа месяца донесения свои Его Императорскому Величеству об успехах данного ему поручения посылал он через меня. На это нужным нахожу представить Вашему Сиятельству, что сношения полковника Хан-Гирея со мною неминуемо будут медленны. Я не имею прямых сообщений с Кавказскою линиею (Вельяминов в это время руководил военными действиями на Черноморском побережье, а Кавказская линия, на которой должен был базироваться Хан-Гирей, проходила по другую сторону Кавказского хребта. — Я. Г.), и вся переписка моя идет морем через Фанагорию. Чтобы избежать этой медленности в доставлении означенных донесений, не угодно ли приказать полковнику Хан-Гирею посылать их через ближайших начальников линий к воинскому начальнику в Фанагории майору Посыпкину, который может немедленно отправлять их через пролив к Керченскому градоначальнику; а сему последнему приказать, чтобы он посылал их по эстафете до места пребывания Его Императорского Величества. Если донесения полковника Хан-Гирея должны идти непременно через меня, то я могу посылать их только морем до Керчи или до Одессы, откуда нужно отправлять их непременно по эстафете, потому что курьеры подвергаются как в том, так и в другом месте четырнадцатидневному карантину, и оттого бы произошло излишнее замедление в доставлении бумаг. Если же угодно будет одобрить объясненное мною направление для пересылки донесений полковника Хан-Гирея, то покорнейше прошу Ваше Сиятельство предписать о том начальнику штаба на Кавказской линии генерал-майору Петрову, который сделает нужные распоряжения. Чрез него же и все предписания Вашего Сиятельства полковнику Хан-Гирею могут быть доставлены гораздо скорее, нежели через меня».
Надо полагать, дело было не только в рациональности пути, которым должны были идти донесения Хан-Гирея, но и в том, что таким образом Вельяминов решительно отсекал свое участие в утопическом проекте. Он высказал свои сомнения, он снабдил Хан-Гирея всей необходимой информацией и — умыл руки. Его пути и пути Хан-Гирея теперь никак не пересекались…
В те дни, когда Вельяминов составлял инструкцию Хан-Гирею и рапорт Чернышеву, пытаясь превратить в нечто более или менее реальное петербургские утопии, и руководил методичными военными операциями на Черноморской линии, в Дагестане разворачивались сражения, редкие даже для Кавказа по ожесточенности и кровавости.
Через три дня после того, как в Петербурге появились первые официальные бумаги, касающиеся поездки Хан-Гирея, — 28 мая 1837 года генерал Фези занял столицу Аварии Хунзах и двинулся на резиденцию Шамиля — горную крепость Ахульго, расположенную близ селения Ашильта.
9 июня, когда Вельяминов уже занимался составлением известных нам документов, пытаясь развеять надежды Петербурга на капитуляцию черкесских племен под магическим воздействием августейшего явления, русские войска штурмовали Ашильту, защищаемую двумя тысячами отборных мюридов. Большая часть их погибла, нанеся отряду Фези значительные потери, ибо ожесточенный бой шел за каждую саклю.
12 июня был взят штурмом казавшийся неприступным утес Ахульго.
После небольшой передышки — если не считать постоянных нападений мюридов Шамиля на русские части, — Фези двинулся на селение Тилитль, где укрепился Шамиль. 5 июля после многочасовой отчаянной резни имам оказался окружен и выслал к Фези парламентеров. Он заявил, что готов заключить с русскими мир, не очень определенно пообещал присягнуть на верность и согласился выдать аманатов — в том числе своего малолетнего племянника.
Фези пошел на переговоры по двум причинам: во-первых, его отряд был изнурен тяжелыми боями и ослаблен потерями, а в окрестностях Тилитля концентрировались свежие силы горцев, во-вторых, непоследовательный Петербург постоянно требовал действовать при всякой возможности уговорами и демонстрацией миролюбия.
Шамиль, однако, покоряться вовсе не собирался. Ему нужен был сиюминутный выход из катастрофического положения. Согласно горской этике, обмануть неверных не являлось грехом. Но Шамиль, надо сказать, поступил достойно. Он не на словах, а письменно — то есть официально — обещал то, что его устраивало, а русские власти устроить не могло.
Сохранились оба письма Шамиля генералу Фези, в которых кратко сформулирована позиция, более развернуто декларированная позже, как мы увидим, в ответах черкесских племен на прокламации русских генералов.
Сразу после первых переговоров имам писал:
«От Шамиля, Ташов-Хаджи, Кибит-Магомы, Абдуррахмана карахского, Магомет-Омар-оглы и других почетных ученых дагестанцев. Выдавая аманатов Магомет-Мирзе-хану (аварский аристократ, сторонник России, исполнявший функции парламентера. — Я. Г.), мы заключили с Российским Государем мир, которого никто из нас не нарушит, с тем однако условием, чтобы ни с какой стороны не было оказано ни малейшей обиды против другой. Если же какая-либо сторона нарушит данные ею обещания, то она будет считаться изменницею, а изменник почитается проклятым перед Богом и перед народом. Сие наше письмо объяснит всю точность и справедливость наших намерений».
Как видим, речь идет о мире между равными договаривающимися сторонами, а вовсе не о присяге на верность российскому императору. Шамиль получал желанную передышку, и — более того — сам факт переговоров с ним посланцев северного царя как с равным еще выше поднял его престиж в глазах горских воинов.
Но Шамиль вслед за первым письмом прислал второе, еще более сухое и подчеркивающее равенство сторон:
«Сие письмо объясняет заключение мира между Российским Государем и Шамилем. Сей мир заключается выдачею в аманаты Магомет-Мирзе-хану со стороны Шамиля двоюродного брата, пока прибудет его племянник; со стороны Кибит-Магомы — двоюродного его брата и со стороны Абдуррахмана карахского — сына его для прочности сего мира, с тем, чтобы ни с какой стороны не было никакой обиды и измены против другой; ибо изменник считается проклятым перед Богом и народом».
Здесь Шамиль выступает уже от собственного имени — «как некий равный государь». Далеко не случайно и то, что аманаты выдаются не русским — в этих письмах нет ничего случайного! — но аварцу, который таким образом берет на себя ответственность за них. Впрочем, дагестанских вождей судьба заложников, скорее всего, не очень беспокоила. Русские не убивали аманатов, а со временем их можно выменять на значительных пленников. Так, в 1855 году Шамиль выменял своего сына, находившегося в заложниках в Петербурге, на плененные за год перед тем семейства грузинских аристократов и русских офицеров, генерал-майора князя Орбелиани и подполковника князя Чавчавадзе.
Генерал Фези был человеком на Кавказе новым, неопытным, и он, очевидно, не понимал истинного смысла поведения Шамиля и последствий своих действий.
В Петербурге маневры Шамиля и всю сложившуюся ситуацию восприняли с обычным невежеством и оптимизмом. В результате появился документ, яснее чем что бы то ни было характеризующий уровень правительственных представлений о том, что возможно, а что невозможно на Кавказе во второй половине 1830-х годов.
Когда император получил рапорт командующего Кавказским корпусом о взятии Тилитля и сопутствующих событиях, уверенность в магическом воздействии его личного появления на Кавказе укрепилась. По его инициативе начальник военно-походной канцелярии Его Императорского Величества отправил 14 августа депешу генералу Розену.
«Секретно.
Государь Император по всеподданнейшему докладу отношения Вашего Высокопревосходительства от 22 минувшего июля № 732 о взятии отрядом под начальством генерал-майора Фези состоящим, укрепленного селения Тилитли, после чего дагестанский изувер Шамиль сдался, приняв присягу на подданство России и выдав аманатов, — Высочайше поручить мне соизволил уведомить Ваше Высокопревосходительство, что Его Величеству благоугодно, дабы сделаны были Шамилю и главным его сообщникам: Ташеву Гаджи, Кибиту Магомету и Караханскому кадию Абдуррахману внушения воспользоваться прибытием Его Величества в Закавказский край и испросить милости предстать пред лице Самого Монарха, дабы лично молить о Всемилостивейшем прощении, и принеся со всею искренностию раскаяние в прежних поступках, изъявить чувства верноподданической преданности. Его Величеству угодно, дабы в сем случае генерал-майор Фези действовал от имени Вашего Высокопревосходительства или от своего собственного, лично или через агентов, но отнюдь не от имени Государя Императора… Хотя генерал-майору Фези поручается употребить в сем деле меры умственного убеждения, но как Государю Императору благоугодно, дабы Шамиль непременно был представлен лично Его Величеству, то и представляется ему, в случае неуспеха в убеждениях, требовать от Шамиля как залог верности и доказательств чистосердечия в принесенной им присяге, дабы он согласился на отправление его к Государю Императору.
Что же касается до места представления Его Величеству Шамиля, когда он испросит себе сию милость, то выбор оного представляется усмотрению Вашего Высокопревосходительства, смотря по удобности, или во время проезда Государя Императора через горы, по военно-грузинской дороге, или в Тифлисе. Его Величество изволит однако полагать, что сие последнее место, куда Государь Император прибудет около 6 октября, — представляет к тому более удобности и приличия.
Его Величеству также угодно, чтобы вместе с Шамилем и его главными сообщниками были представлены и аманаты, выданные им при покорении селения Тилитль. Присовокупляю к сему, что Его Величество изволит ожидать от Вашего Высокопревосходительства подробного донесения о тех мерах и способах, которые вы, милостивый государь, употребите к исполнению высочайшей воли».
Сравнив письма Шамиля — высокой договаривающейся стороны — и лексику данного послания: «молить о Всемилостивейшем прощении», «принеся раскаяние в прежних поступках», «испросит себе… милость» представиться Николаю, мы ясно поймем абсурдность ситуации.
Максимум, на что соглашался Шамиль, выскользнув из ловушки, — прекратить военные действия в обмен на такое же прекращение со стороны русских. Он отнюдь не считал себя преступником и не собирался молить о прощении. Он был посланец Аллаха, уверенный в своем предназначении, и расчетливый, коварный, жестокий политик.
Мир и невмешательство в дела друг друга теоретически устроили бы Шамиля. Но, во-первых, это не устраивало Россию, а во-вторых, Шамиль, чьей задачей и миссией было объединение всего Кавказа в единое теократическое государство, неизбежно вошел бы в конфликт с Россией из-за неизбежных попыток взять под свою власть лояльные к русским области — как, например, Аварское ханство.
Ни император, ни Чернышев всего этого не понимали, считали Шамиля поверженным противником, которого нужно только подавить психологически, поставив пред лицо монарха. И соответственно действовали.
Получив столь категорическое указание, командующий Кавказским корпусом генерал Розен оказался в еще более сложном положении, чем Вельяминов. У Вельяминова — при обширности задачи, которую ему предстояло решить совместно с полковником Хан-Гиреем, — была значительная свобода маневра, чем он и воспользовался. Задача Розена была предельно конкретна — так или иначе заставить Шамиля явиться к императору с повинной.
Розен сделал то, что только и мог сделать, — приказал генералу Фези немедленно снестись с Шамилем. Но Фези должен был вот-вот выступить на подавление очередного восстания в бывшее Кубинское ханство, — а ныне Кубинскую провинцию, — находившееся на дальней юго-восточной оконечности Дагестана, далеко от тех мест, где находился в тот момент Шамиль. Поэтому Фези перепоручил тяжкую миссию генерал-майору Клюки-фон-Клугенау, старому кавказцу, воевавшему еще в ермоловские времена — с 1818 года. Клугенау, уроженец Богемии, рано вступивший в русскую службу, отличался решительностью и храбростью — современник назвал его «храбрым как шпага», то есть не испытывавшим чувства опасности. Это качество, доставившее ему многочисленные награды и высокие чины, прервало в 1845 году его кавказскую карьеру, когда, командуя специальным отрядом во время кровавой Даргинской экспедиции, он, действуя напролом, положил двух генералов и несколько сотен солдат. Пренебрежение опасностью едва не погубило его и его спутников и во время переговоров с Шамилем.
В середине сентября, получив предписание Фези, своего непосредственного начальника, Клугенау отправил с несколькими лояльными к России, но уважаемыми среди горцев людьми письмо Шамилю:
«Хотя я и не сомневаюсь в доверии твоем к человеку, с которым я посылаю это письмо, однако ж не могу поручить ему всего того, о чем мне нужно переговорить с тобою. Ты знаешь, Шамиль, что я всегда советовал тебе доброе для тебя самого и для всех горцев; знаешь, что все мои старания клонились к тому, чтобы водворить среди вас спокойствие и тем сделать вас счастливыми»[85].
Во-первых, читая этот трогательный текст, написанный совершенно искренне, — Клугенау был человек прямой и бесхитростный, — надо иметь в виду, что генерал последние шесть лет руководил карательными экспедициями в Дагестане и Чечне, а в 1837 году своими решительными действиями способствовал успеху Фези. На этом фоне его декламации о спокойствии и счастье горцев могут показаться пародийными, если не издевательскими. Но это — не так. Это — парадокс цивилизаторского сознания, характерного для многих русских генералов и офицеров, начиная с первого великого конкистадора — генерала князя Цицианова, которого Ермолов считал эталонной фигурой в завоевании Кавказа и который за какие-нибудь четыре года его командования на Кавказе — с 1802-го по 1806-й — заложил принципиальные основы военной и административной политики России в крае. Цивилизаторская идея как идея оправдания кавказской конкисты была окончательно сформулирована при Ермолове — непреклонном европоцентристе по своим культурным и государственным представлениям.
Вольтерьянец Вельяминов покупал у казаков и солдат отрубленные головы горцев не по изуверству, а из научных соображений — он отсылал черепа в Петербург, в Академию наук для антропологических исследований. Для него, выученика энциклопедистов, Монтескье в частности, способ существования горцев и само их миропредставление были принципиально незаконны, алогичны. Их следовало уничтожить или заставить жить правильно.
Органичное сопряжение цивилизаторской идеи с идеей государственной необходимости — а геополитические интересы России, безопасность ее южных границ и прилегающих к ним областей, устроение Закавказья, новых императорских территорий, действительно требовали захвата, замирения или по крайней мере блокирования бушующего Кавказа, — породило тот психологический тип кавказского солдата — в широком смысле, — который и вынес всю неимоверную тяжесть этой безжалостной, не знающей правил, изнурительной войны.
Богемец Клюки-фон-Клугенау, слушатель Винер-Нейштадтской военной академии, австрийский офицер, воевавший против Наполеона, перешедший в 1818 году поручиком в русскую армию, сразу же угодивший на Кавказ и ставший русским патриотом, твердо усвоил эту идеологию, подразумевавшую рациональную жестокость, осознание своей особой европейской миссии и неколебимого воинского долга. Стремление сделать жизнь горцев спокойной и счастливой — добрыми советами, а в случае необходимости огнем и железом — было естественным и искренним чувством для Клугенау.
Если учесть, что Шамиль осознавал свою миссию тоже как железное упорядочение горской жизни, но на совершенно противоположных основаниях, то можно без труда предсказать исход переговоров русского генерала и непреклонного выученика изощренных дагестанских богословов, куда более тонкого и прагматичного дипломата, чем его оппонент.
«Теперь мне хочется навсегда упрочить благосостояние твое, — писал генерал Клугенау Шамилю, — а как этого достигнуть, я могу только лично сказать тебе. Поэтому ты должен непременно увидеться со мной где хочешь — в Каранае, на вершине или у родника. То, о чем я хочу поговорить с тобой, относится также к Ташов-хаджи, Кибит-Магомету, брату его Абдуррахману и карахскому Абдуррахман-кадию; а потому, если ты согласен на свидание со мною, то как можно скорее пошли за всеми этими людьми и прикажи им ожидать тебя в Чиркате, или где сочтешь за лучшее, для того, чтоб, возвратившись, ты мог рассказать им все, что от меня услышишь. Ты знаешь, что я никогда не изменял своему слову, а потому должен быть уверен в своей безопасности, когда я ручаюсь тебе в том моею честью. Знай, Шамиль, что от теперешнего твоего поведения и от послушания зависит счастие всей твоей жизни и твоих детей. Одно только скажу тебе: если хочешь для твоего благополучия следовать моим советам, то надобно исполнить мои требования насколько можно поспешнее. Если ты полагаешь, что для свободного пропуска к тебе Кибит-Магомета с братом и Абдуррахман-кадия карахского нужно позволение правителя Аварии полковника Ахмет-хана, то прилагаю при сем на имя его письмо, которое отправишь с надежным человеком. Поспешай делать то, что я требую, и верь, что от послушания твоего зависит все твое счастье»[86].
Катастрофическое внутреннее противоречие ситуации, обрекавшее на провал старания Клугенау, заключалось в противоположности самопредставлений, самооценок главных персонажей. Клугенау явно воспринимает себя как наставника, знающего, как должен Шамиль строить свою жизнь, и уговаривает его как неразумного дикаря, который по неведению сам не понимает, что творит, в то время как он, генерал Клугенау, искренне желает спасти его, Шамиля, его детей и все горские народы.
Шамиля, третьего имама, продолжателя дела неистового Кази-муллы, знатока и толкователя мусульманской премудрости, его знание и фанатичная вера привели к идее неизбежной миссии — объединить народы Кавказа, очистить их бытие от скверны многочисленных заблуждений и повести этот единый и чистый народ к победе над северными завоевателями. Ему, ученику мудрецов, унаследовавших знания всего исламского мира, за спиной которого стояла еще и многовековая воинская традиция, был смешон наставнический тон Клугенау. Но, будучи расчетливым политиком, он в том нелегком положении, в котором оказался после недавних поражений, не счел возможным просто отказать генералу в свидании, лишив себя возможности понять планы и настроения противника.
Не считая себя обязанным выполнять любые договоренности, Шамиль разумно не упускал случая вступить в переговоры, используя их как своего рода разведку.
Клугенау получил ответ через день:
«От бедного писателя сего письма, Шамиля, генерал-майору Клюки-фон-Клугенау. Докладываю вашему превосходительству, что свидание в пятницу по нашему закону не позволено, почему я отложил его на другой день и прошу вас прибыть к известному роднику в субботу для свидания»[87].
Шамиль и в более благополучные для него периоды отнюдь не чурался дипломатических контактов с русским командованием. Так, он пытался — по собственной инициативе — вступить в переговоры с Розеном в апреле 1837 года. Результат переговоров не имел для него особого значения.
Простодушный Клугенау, очевидно, был очень обнадежен и всерьез рассчитывал выполнить пожелание императора.
Одна деталь — судя по тому, что русскому генералу и имаму не нужны были сколько-нибудь подробные договоренности относительно места встречи, ясно, что такого рода контакты между русскими и горцами были делом обычным, — «прошу вас прибыть к известному роднику».
18 сентября — император уже находился на Кавказе — Клугенау встретился с Шамилем в условленном месте. При генерале было 25 человек — 15 донских казаков и 10 мирных горцев, Шамиль привел с собой 200 всадников-мюридов, распевавших суры Корана.
Настороженность Шамиля будет понятна, если вспомнить, что за год до этой встречи генерал Клугенау приказал арестовать по подозрению в сношениях с Шамилем лояльного к русским правителя Аварии — знаменитого впоследствии Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат был одним из участников убийства второго имама — Гамзат-бека, который расплатился за истребление семьи аварских ханов, родственной Хаджи-Мурату. Но убийство второго имама, соратника Кази-мулы и Шамиля, поставило Хаджи-Мурата в сложные отношения с третьим имамом, и вполне возможно, что Клугенау поторопился и популярного в народе аварского аристократа можно было привязать к России. Клугенау, однако, как это с ним случалось, действовал прямолинейно и решительно, не желая учитывать нюансы ситуации. Хаджи-Мурат бежал из-под стражи, едва не погибнув при этом, и стал одним из самых грозных наибов Шамиля.
То, что произошло дальше, лапидарно, но достаточно подробно описал один из историков Кавказской войны:
«Переговоры начались. Клугенау истощил все советы и убеждения, доказывая, что принятие Шамилем нашего предложения составит счастье и его и приближенных; на все сомнения и недоразумения делал ему самые ясные опровержения и не упустил из виду ничего, что хотя сколько-нибудь могло относиться к делу. Слова Клугенау произвели заметно благоприятное впечатление на имама; он выразил генералу, что вполне сознает справедливость и основательность его слов и не может теперь же дать положительного ответа лишь потому, что между ним, Кибит-Магамой, Ташов-Хаджи и кадием карахским Абдуррахманом существует скрепленное клятвою соглашение не предпринимать ничего важного без общего на то согласия. Около трех часов пополудни переговоры прекратились. Клугенау и Шамиль поднялись со своих мест, и генерал протянул имаму на прощание руку. Когда тот хотел принять ее и ответить пожатием, то один из трех присутствующих мюридов — Сухрай (чрезвычайно почитаемый в горах за слепой фанатизм и выдающуюся храбрость) схватил Шамиля за руку, сказав, что имаму правоверных неприлично подавать руку гяуру. Самолюбивый и вспыльчивый Клугенау вспыхнул, не долго думая поднял свой костыль (генерал был ранен в ногу и всегда ходил с костылем) и замахнулся на Сухрай-кадия. Еще секунда, и удар свалил бы с мюрида чалму — самое страшное оскорбление для горца — а вслед за тем произошло бы поголовное истребление горстки русских, но Шамиль в этот день явился рыцарем: схватив одной рукой за костыль, другою удержав Сухрая, уже до половины обнажившего кинжал, и крикнув своим мюридам, уже окружившим непроницаемою стеною место переговоров, грозное: “Прочь!” — имам начал просить генерала скорее удалиться. Но страшно взбешенный Клугенау, не внимая ни просьбам, ни убеждениям и не обращая внимания на крайнюю опасность своего положения, продолжал осыпать всех горцев огулом самыми лестными для них эпитетами. Тогда поручик Евдокимов, испугавшись за жизнь Клугенау, подбежал к нему, оттащил за полу сюртука в сторону и, обменявшись с Шамилем несколькими фразами, упросил, наконец, генерала ехать назад. Клугенау сел на коня и молча, в раздумье, поехал шагом в Шуру, не обращая более никакого внимания на горцев.
По возвращении домой генерал все-таки не терял надежд на успех, так как во время переговоров на лице Шамиля ясно читалось желание воспользоваться русским предложением»[88].
Вся эта сцена крайне красноречива и характерна. Характерно бешенство Клугенау — и дело тут далеко не только в интенсивном характере генерала, а в его отношении к горцам как к нижестоящим, к буйным и неразумным детям, которых надо наказывать за злые шалости. Характерна его уверенность, что если Шамилю все толком объяснить, то он охотно пойдет на поклон к русскому царю. Генерал поразительным образом не понимал, что обаяние личности Шамиля для горцев заключалось прежде всего в его непримиримости, стойкости, верности традиции и вере. Шамиль, преклонившийся перед царем-гяуром, мгновенно потерял бы свое влияние, и его место занял бы другой вождь, типа Сухрай-кадия.
Принятие Шамилем предложения Клугенау, а по существу, императора Николая, стало бы концом его миссии, а возможно, и жизни. Соратники не простили бы его.
Как известно, перешедший к русским прославленный Хаджи-Мурат не смог увлечь за собой даже вчерашних своих воинов. Он оказался в изоляции. И погиб.
То желание покориться русским, которое Клугенау прочитал на лице Шамиля, было проявлением незаурядного актерского дарования имама, восточного умения выграться в предлагаемые обстоятельства.
Шамиль спас генерала потому, что смерть Клугенау на переговорах противоречила горскому кодексу — хотя выполнялся этот кодекс далеко не всегда, — а главное, привела бы к неминуемой вспышке боевых действий, к чему Шамиль был еще не готов.
На следующий день сбитый с толку Клугенау послал имаму еще одно письмо:
«Знаю, Шамиль, что сам ты желал бы от всего сердца воспользоваться счастьем, которое корпусной командир так милостиво тебе предлагает, но есть люди, которые будут отвлекать тебя от этого; не верь им; они не друзья, а враги твои. Все советы их основываются на личной их пользе: они знают, что если ты удостоишься Всемилостивейшего прощения от милосердного нашего Монарха, то уже не будешь зависеть от них, а через то они лишатся случая, под предлогом распространения шариата, заниматься грабежами и разбоями.
Если Кибит-Магома, Ташов-хаджи и другие не склонятся на твои убеждения — ты не смотри на них и приезжай ко мне один. Если не можешь сделать это явно, так сделай секретно, но только непременно приезжай в Каранай, оттуда Али-Халоу проводит тебя ко мне»[89].
Клугенау, очевидно, не сознавал, что уговаривает Шамиля покончить в лучшем случае политическим самоубийством.
На Шамиля работало время — после летних поражений 1837 года ему нужно было восстановить свою военную структуру, заручиться поддержкой новых союзников, выработать план следующей кампании. Сам факт длительных переговоров с Шамилем русских генералов, высокопоставленных представителей императора с лихвой компенсировал урон от неудач военных. По горским представлениям, в переговоры вступает тот, кто ощущает свою слабость и неуверенность в победе. То, что это недавно пришлось сделать Шамилю, было перекрыто стараниями Клугенау.
Шамиль вел свою игру спокойно и искусно. Он отвечал Клугенау, что должен основательно посоветоваться с соратниками. Он делал вид, что колеблется и взвешивает в беседах с приближенными все выгоды русских предложений. Он не допускал резких заявлений и не лишал Клугенау надежды. 24 сентября он прислал генералу письмо:
«Я советовался со всеми учеными и старшинами, которые находятся в моем ведении, и говорил все вами мне сказанное и даже более — сколь бы мне полезно отправиться с вами в Тифлис, но они на то не согласились, высказали мне неудовольствие и, наконец, клялись, что если я действительно намерен отправиться в Тифлис, то они непременно убьют меня… почему мне и невозможно выполнить вашего предложения прибыть к вам. Уведомляю вас, что кроме этого дела, я исполню все, что вами будет мне приказано, по доверию, которое мы один к другому имеем. Не упрекайте меня, потому что мне невозможно было исполнить вашего предложения, почему прошу его отложить, а приказать исполнить что-либо другое, касающееся моей пользы».
Последний пассаж выглядит явным издевательством над простодушным генералом, но Клугенау не оставлял своих попыток и стал грозить Шамилю немилостью и карой.
Шамиль решил прекратить игру. Он ответил Клугенау:
«От бедного писателя сего письма, предоставляющего все свои дела на волю Божию, Шамиля. Сентября 28-го дня 1837-го года. Докладываю вам, что, наконец, решился не отправляться в Тифлис, если и изрежут меня по кускам, потому, что я многократно видел от вас измены, которые всем известны»[90].
Попытка кавказского генералитета выполнить желание императора провалилась. Как, впрочем, провалился и весь замысел замирения горцев воздействием августейшего присутствия.
Полковник Хан-Гирей добросовестно выполнил данное ему поручение. Ему и Вельяминову удалось собрать несколько десятков депутатов от мирных племен, которые и представились императору. В основном это были люди, уже давно сотрудничавшие с русскими властями. Некоторые из них носили русские воинские звания. Определенный практический смысл в этой процедуре был. Сам император продемонстрировал свое благоволение тем, кто готов сотрудничать с Россией, что должно было оказать влияние на колеблющихся. Для общественного мнения России и Европы это должно было стать подтверждением успехов России на Кавказе, поскольку не только в Европе, но и в России, как мы знаем, имелось весьма смутное представление о том, где обитают горские племена, какую часть населения представляют депутаты.
Но император не мог не понимать, что главный его замысел не осуществлен теми, кому он был поручен. Этим, надо полагать, не в последнюю очередь объясняется та жесткость, с которой Николай отнесся к кавказскому начальству. «Погром был всеобщий», — определил происшедшее Филипсон.
Высоко оценены были лишь будущие заслуги тяжело больного Вельяминова — он умер через несколько месяцев.
Филипсон, наблюдавший пребывание Николая в Геленджике, где планировалась встреча императора с депутатами непокорных черкесов, писал:
«По окрестным горам видны были горцы, смотревшие с любопытством на невиданное для них зрелище… Надо отдать им справедливость: во все это время они нас не тревожили, а во время пребывания Государя ни один из них не приходил в лагерь. Народные старшины не прислали даже никакой депутации, хотя могли быть уверены, что если переговоры и не приведут ни к какому результату, то депутаты во всяком случае возвратятся с богатыми подарками»[91].
Миссия Хан-Гирея полностью провалилась. Сам командир лейб-гвардии Кавказского полуэскадрона, не оправдавший возлагавшихся на него надежд, еще длительное время оставался на Кавказе, тщетно вопрошая военное министерство о своей дальнейшей судьбе. Его проект управления горскими народами постигла не менее печальная судьба. Получивший экземпляр проекта Вельяминов назвал его «пусто-болтанием» и даже в него не заглянул. Экземпляр, отправленный в Петербург, несколько лет блуждал по различным инстанциям. Серьезно к нему отнесся, пожалуй, только Розен, но он очень скоро был заменен генералом Головиным, плохо представлявшим себе, с чем ему придется иметь дело на новом месте службы.
Головин, начальники флангов Кавказской линии генералы Граббе и Засс, подгоняемые противоречивыми приказами из Петербурга, продолжали бескомпромиссное военное противоборство с горскими обществами, пока кровавые катастрофы 1840 года на Черноморском побережье и 1843 года в Дагестане и Чечне, подтвержденные страшными потерями и стратегическим провалом Даргинской экспедиции 1845 года, на которой настаивал император, не убедили Петербург в необходимости смены кавказской политики.
Записка гвардии-полковника флигель-адъютанта Хан-Гирея
Господину Военному Министру
Его Сиятельству
Графу Александру Ивановичу Чернышеву[92]
Ваше Сиятельство объявить изволили, что Государю Императору благоугодно отправить меня на Кавказ для склонения Горских племен к присылке депутатов.
Таковое Высочайшее внимание поставляя для себя совершенным счастием, я считаю обязанностию донести Вашему Сиятельству следующее:
Из Горских народов, против которых ныне войска наши действуют, как известно Вашему Сиятельству, Черкесы занимают важнейшее место как по числу населенности, равно по важности занимаемой ими страны. С одной стороны это обстоятельство, с другой и то, что сей народ и занимаемый им край более других мне известны, заставляют меня исключительно говорить сначала об нем:
Черкесский народ разделить можно, в отношении его правления, на две главные отрасли, а именно:
а) Племена, состоящие под управлением князей и подвластных им дворян и обитающие на Северных равнинах, и
б) Племена, не признающие над собою никакой власти, имеющие правление похожее на демократическое, или народное, и живущие отчасти у подножия гор, а большею частию в самых горах.
Племена первых суть:
1) Кабардинское, состоящее из пяти обществ и расположенное на разных реках и речках, впадающих в Малку и Терек, с южной и юго-восточной стороны. Это племя Черкесского народа состоит ныне, если не в совершенном, то более других удовлетворительном распоряжении Кавказского Начальства. Я говорю не в совершенном, потому, что ныне в нем господствующее спокойствие легко может быть нарушено при требовании от его жителей прочнейшего условия покорности. Населенность этого племени полагаю, основываясь на сведениях, некогда мною собранных, простирается примерно до 25 тысяч душ.
2) Бейсленейское, расположенное за речкою Кубанью, на реках Лабе, Федзе и в них впадающих речках. Это племя более всех Черкесских племен, состоящих под управлением князей и подвластных им дворян, непрязненно к нам, и самое временное замирение при нынешнем его устройстве не надежно, по причине отдаленности расположения его аулов от нашей Границы, соседства враждебного к нам сильного Абадзахского племени и всегдашнего почти пребывания в его аулах беглых абреков, волнующих умы народа. Населенность этого племени примерно можно полагать до 7 тысяч душ.
Между Бейсленейцами и соседними с ними племенами живут рассеянные пришедшие за Кубань Кабардинцы, которых число, при переселении их туда, примерно полагать можно до 12 тысяч душ.
3) Мохсхошское, расположенное на реках: Фарзе, Псуф и Ккель. Небольшое это племя как по тем причинам, которые предыдущее делает неприязненным к нам, так по слабости своей будучи принуждено следовать примеру соседей — Бейсленейцев и Абадзахов, оказывало всегда вражду к нашей границе; и его замирение так же ненадежно, как и Бейсленейцев. Его населенность простирается примерно до 2 тысяч душ.
4) Тчемргойское, расположенное преимущественно на реках Лабе и Шхакоаше; это довольно сильное племя более или менее привержено к нам, когда междоусобие его князей не нарушает эту приверженность, которая впрочем удовлетворительно непрочна. Сильное волнение его соседей — Абадзахов и, в особенности, Бейсленейцев может увлечь его часть, в особенности ту, которая всегда в связи с первыми. Его населенность можно полагать около 6 тысяч душ.
5) Ххатикоайское, расположенное на реках Шхакоаше, Пшише и Лабе и Кубани. Менее сильное предыдущего, но довольно значительное между другими, это племя почти всегда было и есть в отношении к нам, в одном положении с Тчемргойцами. Его населенность простирается, полагаю, примерно до 3 тысяч душ.
6) Черченейское, расположенное на реках, впадающих в Кубань, между рекою Шхакоашем и речкою Псакупсой, противу границы Черноморских Казаков. Значительнейшее после Кабардинского, это племя, подобно Тчемргойскому, большею частию оказывало к нам приверженность, а частию согласовалось с Абадзахами, но теперь его князья и дворяне более или менее вообще преданы к нам, но народ им подвластный, еще неуспокоенный после мятежа, произведенного Хасан Пашою, более на стороне нам неприязненных Абадзахов и Шапсугов, с которыми он в родственных связях, хотя явными действиями такое нерасположение не показывает. Населенность его можно полагать до 7 тысяч душ.
7) Хашшейское, расположено западнее предыдущего против границы Черноморского Казачьего войска. В отношении простого народа, в этом колене можно сказать все, что сказано в рассуждении предыдущего; но что касается до высшего сословия, то оно вполне предано к нам, чему лучшим примером служить может кровавая ненависть этого сословия к неприязненным к России своим соседям — Абадзахам. Населенность его можно примерно полагать до 4 тысяч душ.
Все эти племена, за исключением Кабардинского, как изволите Ваше Сиятельство усмотреть, в нынешнем их положении, не состоят под благодетельной зависимостью нашего правительства, и самое их замирение или прекращение неприязненных действий противу нашей границы непрочно, следовательно, таковое положение не может быть удовлетворительным; несмотря на то, однакож эти племена одни сильнее других, но все вообще находятся более в мирных и приязненных сношениях с нами, в сравнении с тремя следующими племенами Черкесского народа, имеющими правление вроде демократического или народного.
Племена их суть:
1. Абадзахское, обитающее в горах по вершинам рек Псуф, большой и малой Лабы, Шхакоаши, Пшиши, Псакупсы и других. Судя по местоположению им занимаемому и населенности, простирающейся, полагаю, примерно до 10 тысяч дворов, весьма важное в этом крае и было всегда в неприязненных действиях противу наших границ, и теперь более нежели когда-нибудь в вражде с нами.
2. Шапсугское обитает в горах пониже предыдущего. Ни одно Горское племя не причиняло границе нашей столько вреда, и его неприязненные действия противу нас, и теперешняя вражда известны. Оно сильнее всех колен, имея населенность, простирающуюся примерно до 12 тысяч дворов.
3. Натхокоадское[93], занимающее на запад от Шапсугов горы до берегов Черного моря, хотя населенностью, которую можно полагать примерно до 8 тысяч дворов, уступает двум предыдущим, но не менее их важно, занимая прибережье Черного моря. Это племя в прежние времена оказывало более миролюбивое расположение, что впрочем происходило от склонности его к мирным и сельским занятиям, как-то, хлебопашеству, скотоводству и отчасти торговле, которые следствием мирных сношений с Турками были, так сказать, привиты к образу жизни его жителей; к тому же на такое их расположение нельзя сказать, чтобы не имело отчасти влияние и действие бывшего попечителя над керченскою торговлею. В настоящее же время и это племя находится в таком же положении к нам относительно неприязненности и вражды, в каком Шапсуги.
Из этого краткого обзора очевидно, что всякого рода сношения с первыми, т. е. с коленами, состоящими под управлением князей и подвластных им дворян, будут несравненно успешнее, нежели с последними, т. е. с племенами, имеющими правление, похожее на демократическое, или народное. Почему полагал бы я, для исполнения Высочайшего соизволения Его Императорского Величества в рассуждении приглашения депутатов, как Ваше Сиятельство изволили мне объявить, за лучшее действовать таким образом.
Сообразно с Высочайшей волею, которую Ваше Сиятельство изложить изволите в Инструкции тому, кому будет поручено исполнение этого дела, вначале обратиться к Кабардинскому племени созвать в Нальчике старшин князей и старшин дворянства и народа, объявить им то, что Вы изволите поручить, и взять от них депутатов, стараясь, чтобы назначены были такие люди, которые более всех имеют вес в независимых горных племенах, соседственных с Кабардинцами. Кабардинское племя ныне состоит под полным влиянием местного нашего начальства, следственно тут не может встретиться никаких препятствий, их депутаты явятся с покорностию; а таковое успешное начало послужит надежным орудием к исполнению дальнейших предположений. Я сказал, что Кабардинцы состоят ныне под полным влиянием местного начальства, но это не значит, что власть нашего Правительства над ними непоколебима: ибо в таком случае не было бы нужды в их депутатах; напротив того, я полагаю, что прочное устройство Кабардинцев необходимо тем более, что они как одно из сильнейших племен неминуемо послужат спасительным примером для прочих.
По приведении в исполнение предположения относительно Кабардинских депутатов обратиться к тем из упомянутых семи племен, на которых пограничное начальство, по близости их жительства, имеет более влияния, дабы успехи в сношениях с первыми могли иметь влияние на других; и действовать так же, как предположено в Кабарде, т. е. созвать старших, князей и старшин дворянства, и наконец, окончив в одном племени, обратиться к другому и так далее до последнего.
В продолжение же переговора с одним племенем должно для вернейшего успеха посылать к другим почетных людей из племен, изъявивших согласие, для предварительного склонения там значительнейших лиц к принятию предлагаемого им отправления депутатов.
Готовность, с которою Кабардинцы назначат своих депутатов, и содействия местного пограничного начальства при умении действовать на умы туземцев обеспечат успех достижению желания и в отношении прочих племен Черкесского народа, состоящих под управлением князей и подвластных им дворян.
Но такого успеха нельзя ожидать в сношениях с тремя упомянутыми племенами, имеющими правление народное, или, так сказать, демократическое. Эти племена, как известно Вашему Сиятельству, ныне не признают власти дворянства в них обитающего, повинуются, или лучше сказать, соглашаются лишь со своими старшинами, следовательно, не с дворянством преимущественно должно иметь дело, но с народом. При всем том однакож дворянство это хотя после многих потрясений народа лишилось прежней власти над ним, но сохранило некоторое влияние на его умы и дела; следовательно, чтобы вызов депутатов из этих племен имел полезные следствия, должно, чтобы оные были от обоих классов, т. е. от дворянства и народа. Действуя же для достижения этой цели, должно остерегаться, чтобы между им и народом не возбудить ссоры и междоусобия.
Местные обстоятельства яснее укажут предосторожности, какие необходимы в сношениях вообще с горцами, но здесь замечу, что для избежания последнего случая, т. е. ссоры между дворянами и народом в племенах, в особенности имеющих Демократическое Правление, посланный с Инструкциями от Вашего Сиятельства для вызова депутатов, кажется мне, должен внушить народным старшинам, что приглашение депутатов от их дворянства имеет единственной целью — общее их спокойствие, а отнюдь не выгоды исключительно или преимущественно какому-либо классу, ибо, как известно, дворянство этих племен неоднократно обращалось к Турецкому Правительству с просьбою о содействии к возвращению утраченной власти над народом и неоднократные обещания в помощи вселяли в народ недоверчивость, и можно сказать, ненависть к Дивану.
Все, что я говорил до этого, относится исключительно до Черкесского народа; что же касается до прочих Кавказских независимых горских народов, то я, по недостаточной известности мне образа их правления, местностей их жительства и настоящего их расположения к правительству, не могу делать относительно сношения с ними здесь предположений, ибо в верности оных не могу быть убежден; однакож полагал бы я действовать и с ними так же, начиная с тех из них, на которых ближайшее пограничное начальство имеет более влияния, так, чтобы соглашение одних внушало другим благоприятные для предположенного дела влияния. Действуя таким образом, можно надеяться иметь успех и в сношениях с этими племенами; в особенности с Осетинскими коленами, соседственными с Кабардинцами. Но здесь заметить должно, что для сношений со всеми этими народами, в особенности обитающими ближе к восточной части Кавказа, к Дагестану, два с половиною или три месяца времени совершенно недостаточно, и потому не благоугодно ли будет Вашему Сиятельству предположить так, чтобы депутаты от племен Черкесского народа и соседственных с ним Горских племен были отправлены в Вознесенск, а депутаты от прочих Горских народов в Тифлис или Владикавказ. Такое распоряжение, мне кажется, не будет неуместно, тем более, что Черкесский народ, занимающий прекраснейшую часть Кавказа, простирающуюся вдоль нашей границы около 700 верст, т. е. почти две трети длины всего Кавказа, заключающий в себе до трехсот тысяч народонаселения доселе непокорного, не говоря об упомянутых его соседних горных коленах и о том, что сильнейшие действия наших войск ныне происходят противу него, заслуживает особенного внимания, ибо пример его успокоения непременно должен иметь действительно спасительные следствия для независимых Горских народов.
Также было бы желательно, чтобы депутаты были и от самых отдаленных внутри гор обитающих племен, которые почти вовсе не имели и не имеют никаких сношений с нами: ибо они, возвратясь на родину, распространили бы по своим горам слух о благодетельном к Кавказским народам внимании Всемилостивейшего Государя.
Изложив таким образом покорнейшее мнение мое, как действовать должно для исполнения Высочайшего Его Императорского Величества повеления о вызове депутатов, я долгом поставляю сказать несколько слов относительно условий покорности и требований нашего Правительства.
В тех из племен, которые состоят под управлением князей, хотя еще признаваема власть и права высшего сословия народом, а у других, имеющих правление похожее на демократическое, хотя и соглашаются они на распоряжения старшин, но несмотря на то, ни у тех, ни у других, как известно Вашему Сиятельству, нет ни единодушия в общественных делах, ни положительного порядка в управлении: ибо в противном случае нельзя было и предвидеть никакого затруднения в приглашении депутатов в деле, прямо клонящемся к собственному их благу. Напротив того, как у одних, равно и у других предано все, более или менее, безначалию, междоусобиям и раздорам: следовательно, требуя от такого народа условий покорности, очевидно нельзя ожидать удовлетворительного исполнения оных: ибо условия, которые примут сего дня хотя бы и действительно с общего согласия старшин и владельцев и с готовностью исполнить, завтра могут быть нарушены несколькими неблагонадежными людьми; результат тот же: после замирения разрыв, и опять кровопролития; и это может только быть отвращено единственно устроением у них внутреннего положительного порядка; следовательно, первое необходимое условие, по моему мнению, есть доведение их до того, чтобы они могли исполнять условия, которых правительство от них потребует и на которые владельцы и старшины согласятся; а для этого необходимо учреждение положительного управления там, где это возможно сделать; ибо этим только можно достигнуть, чтобы условия, требуемые Правительством и принимаемые с готовностью туземцами, исполнялись; а требования условий, которые примут, но не исполнят, есть только вредное отлагательство.
Такое учреждение есть дело возможное у Черкесских племен, состоящих под управлением князей, имеющих и ту выгоду, что неприязненные племена увидят спокойствие, которое водворится у покорных нам, следствием учрежденного у них правительством порядка согласно с их верою и обычаем; ибо досель положение мирных племен не в пример бедственнее состояния неприязненных, что последние приписывают влиянию на первых нашего начальника, хотя это ложно: ибо оно происходит от их междоусобиц и безначалия; однакож это обстоятельство замечательно тем, что в самом деле Горские племена, состоящие во вражде с нами, доселе не видят выгоду быть нам преданными, покорными, говоря это о целых племенах, хотя начинающее ныне благосостояние покорных нам Кабардинцев, по-видимому, могло бы такое их мнение искоренить.
Здесь можно заметить, что уже несколько лет продолжаются военные действия наших войск противу Шапсугов и, преимущественно, Натхокоадцев; на их земле устроены укрепления, проложены дороги; их селения сожжены, им причинен значительный вред; они уверились, что противу их предпринимаются решительные меры, и нельзя сказать, чтобы между ними не были люди, постигающие невозможность им устоять противу наших сил, однакож из них почти ни одно семейство не перешло к мирным племенам. Это доказывает незавидное состояние последних, которое если бы было упрочено благодетельным устройством, то естественным образом имело бы существенно полезные для нас следствия; между тем как люди несемейные, одинокие, оставивши в неприязненных нам племенах ближних, переходят к нам и служат в наших войсках: ибо они видят милости, Правительством осыпаемые на частных лиц, их соотечественников: но чтобы целые семейства или аулы переходили к нам, надо, чтоб они видели, где могут обрести спокойствие и благоденствие. В самом деле нельзя же ожидать перехода к нам наших врагов, когда они ничего не видят у нас для себя утешительного: мы от них требуем покорности, подвод, вспоможения и многого подобного; обещаем старания о их благосостоянии, требования наши в настоящем, а обещания в будущем, тогда как Горские народы, как известно Вашему Сиятельству, вообще живут можно сказать сегодняшним, не заботясь нисколько о завтрашнем, и поэтому я, не смея утверждать моего мнения, полагаю однакож необходимым для верного, очевидного обеспечения благосостояния тех племен, которые окажут готовность нам покориться, учреждения у них положительного порядка, которое одно только может упрочить благодетельную цель Правительства в отношении спокойствия этого края, тем более, что это дело если не везде, то во многих местах возможно вполне исполнить.
Г. Командир Отдельного Кавказского Корпуса предписал следующие условия:
“1) Прекращение всех враждебных против нас действий.
2) Выдача всех наших пленных и беглых.
3) Немедленное содействие нам против других непокорных племен.
4) Ответственность за безопасное пребывание и проезд чрез их земли всякого русского подданного, имеющего на то приказание или дозволение начальства.
5) Содействие людьми и подводами к разработке дорог и устройству укреплений, кои признаны будут нужными начальством.
6) Вспоможение воинским командирам, следующим чрез их земли.
7) Полное повиновение тому начальству, которое Правительством над ними установлено будет.
8) Правительство со своей стороны обязывается употреблять все возможные средства к обеспечению безопасности, спокойствия и благоденствия покоряющихся нам племен”.
Если и согласятся горцы на эти условия без исключения, будучи доведенные до совершенной крайности, то немногие из означенных племен исполнят оные, кроме первого и третьего пунктов сих условий, и то едва ли надолго и удовлетворительным образом.
В отмену сих условий, предвидя невозможность склонить на оные Горцев, Г. Командующий войсками на Кавказской линии предполагает следующие, которые были предписаны Чеченцам в 1832 году:
“1) Прекратить все враждебные противу нас действия.
2) Выдать Аманат по нашему назначению. Дозволяется чрез четыре месяца переменять их другими, но не иначе как по назначению Русского Начальства.
3) Выдать всех находящихся у них наших беглых и пленных.
4) Не принимать непокорных на жительство в свои аулы без ведома Русского Начальника и не давать пристанища абрекам.
5) Лошадей, скота и баранов, принадлежащих непокорным жителям, в свои стада не принимать, и если таковые где-либо окажутся, то все стада будут взяты нашими войсками и сверх того, покорные жители подвергнутся за то взысканию.
6) Ответственность за пропуск чрез их земли хищников, учинивших злодеяния в наших Границах: возвращением наших пленных и платою за угнанный скот и лошадей.
7) Повиноваться поставленному от нашего Правительства Начальнику, и
8) Ежегодно при наступлении нового года должны они переменять выданные им охранные листы.
Не исполнившие сего будут почитаться непокорными и не будут пощажены нашими войсками”.
Эти условия действительно, как полагает Г. Командующий войсками на Кавказской линии, довольно снисходительны и почти непротивны обычаям горцев, за исключением 7-го пункта, и потому самому могут быть более или менее применены вообще ко всем Горским непокорным народам. Однакож верование в подобные условия, кажущиеся обещающими открыть с течением неопределенного времени возможность облегчить достижение прочнейшего устройства края, охлаждается опытностию минувших лет: ибо сколько раз ни были предписываемы подобные условия, результат тот же, что спустя немного времени начальство находит себя снова в необходимости действовать вооруженною рукою. И теперь тоже можно ожидать, если ближайших и преданнейших к нам из Горских племен не доведем до того, чтобы они могли содержать условия, даваемые ими, учреждением у них положительного внутреннего порядка. О подробностях мер, для сего нужных, и несомненных выгодах для нас от такового действия я не смею здесь более распространяться, не имея на то приказания Вашего Сиятельства. Впрочем, с прибытием к Его Императорскому Величеству депутатов от упомянутых племен удобнее и очевиднее можно будет видеть все обстоятельства, касающиеся до них.
В заключение я приемлю смелость просить Ваше Сиятельство довести до сведения Государя Императора, что вполне чувствуя благодетельные следствия Высокой мысли Его Императорского Величества для блага моей родины, чувствуя и цену Высочайшего ко мне внимания, я готов всеми мерами стараться исполнять на меня возлагаемые поручения для достижения Высочайшей воли Его Императорского Величества.
Флигель-адъютант полковник Хан-Гирей
Мая 19 дня 1837 года
ГОД 1843 — ЦЕНА СОМНЕНИЙ
1843 год был особым годом в истории завоевания Кавказа. В январе генерала от инфантерии Головина на посту командующего Отдельным Кавказским корпусом сменил генерал-адъютант Нейдгарт. Оба генерала хорошо знакомы историкам по событиям 14 декабря 1825 года. Головин, командовавший тогда бригадой легкой гвардейской пехоты, проявил напористость и жесткую решительность, немало способствовав подавлению мятежа, а Нейдгарт, занимавший важный пост начальника штаба гвардии, вел себя на удивление вяло. В этой смене персон был, как мы увидим, принципиальный смысл…
Кавказская война, длившаяся уже четыре десятилетия, стоила дорого. Финансы империи были давно расстроены, и у императора Николая возникало постоянное искушение закончить войну одним стремительным ударом в сердце противника. Из Петербурга это казалось вполне возможным.
Командующие Кавказским корпусом, которые после отставки Ермолова и недолгого наместничества графа Паскевича сменялись каждые несколько лет, понимали военную целесообразность стратегии, разработанной при Ермолове его ближайшим помощником генералом Вельяминовым. Она предусматривала медленное планомерное продвижение, вырубку в горных лесах широких просек, открывающих войскам доступ к аулам, вытеснение непокорных — особенно чеченцев — с тех земель, которые могли их кормить, угон скота, разрушение в случае сопротивления аулов и уничтожение населения без разбора пола и возраста. Одновременно возводилась на отбитых пространствах система крепостей, прикрывающих эти пространства от контрнаступления.
Но нетерпеливый Петербург настойчиво побуждал кавказский генералитет к кинжальным ударам — экспедициям в глубь страны для захвата главных опорных пунктов противника, пленения вождей, подавления воли горцев к сопротивлению.
Другие стратегические программы вообще не рассматривались. Это придет позднее.
В начале сороковых годов, после великого мятежа, охватившего всю Чечню, в войне, до того времени сравнительно удачной для русских войск, наступил перелом. Экспедиции одна за другой кончались провалами. Чтобы исправить положение, опытнейший генерал Граббе летом 1842 года попытался осуществить мощный бросок на резиденцию Шамиля — аул Дарго. Но уже на четвертый день похода отряд завяз в чеченских лесах и вынужден был повернуть обратно.
Отступление русских экспедиционных отрядов на Кавказе всегда было самой тяжкой частью операций и сопровождалось огромными потерями. Даже не приблизившись к цели, Граббе потерял 60 офицеров и около 1700 нижних чинов… Случилось так, что в момент возвращения разгромленного отряда инспекционную поездку по Кавказу совершал военный министр Чернышев. То, что он увидел, потрясло его и убедило в обреченности стратегии карательных экспедиций. После его доклада Николай приказал прекратить наступательные действия и ограничиться на неопределенное время удержанием завоеванного. Это, конечно, свидетельствовало о растерянности Петербурга. И следующий 1843 год имперское правительство попыталось сделать «экспериментальным годом» — годом-паузой, неким вариантом системы «ни мира ни войны», чтобы за это время найти выход из тупика.
Этот особый год, этот промежуток между масштабными, военными действиями дает возможность рассмотреть психологическое состояние воюющих сторон, увидеть процесс обыденной военной жизни — вне чрезвычайных ситуаций — и понять ужас и безнадежность этого процесса…
В фондах военного министерства за начало 1843 года сохранилась «Записка из дела по рапорту командира Отдельного Кавказского корпуса об отправлении от войск, расположенных на правом фланге Кавказской линии, экспедиции в землю башильбаевцев»[94]. С этой «Записки» и начинается сюжет, развивавшийся с января по август и закончившийся трагедией, похоронившей надежды Петербурга на передышку и возможность менее обременительного и более эффективного варианта завоевательной стратегии.
«Записка» гласила:
«По представлению начальника Черноморской береговой линии, бывший командир отдельного Кавказского корпуса генерал от инфантерии Головин предписал генерал-лейтенанту Гурко, от 18 декабря (1842 года. — Я. Г.), разузнать о месте нахождения Цебельдинских абреков, поселившихся в вершинах р. Теберды, и при вероятности успеха захватить их или, по крайней мере, истребить пристанище разбойников, нарушающих спокойствие в Цебельде.
Между тем генерал-адъютант Анреп, донося от 22 декабря минувшего года об удачном нападении сих абреков на транспорт, следовавший из Сухуми в Марамбу, повторил о необходимости скорого и быстрого поиска со стороны Кавказской линии против беглых князей Маршаниев.
Вследствие сего сообщено командиру Отдельного Кавказского корпуса от 8 генваря текущего года, что Государь Император поручает ему сообразить этот предмет с настоящим положением дел на Лабинской линии и предположенными на оной предприятиями с тем, чтобы генерал-адъютант Нейдгарт дал по своему усмотрению надлежащее наставление генерал-лейтенанту Гурко.
Во исполнение сей Высочайшей воли генерал-адъютант Нейдгарт требовал от 27 генваря отзыва от генерал-лейтенанта Гурко о мерах, которые он принял на основании предписания генерала от инфантерии Головина. Вместе с тем генерал-адъютант Нейдгарт, находя полезным истребить притон Цебельдинских князей и полагая, что успешный зимний поиск против них произведет выгодное для нас впечатление во всем крае, предложил генерал-лейтенанту Гурко приступить немедленно к окончательным соображениям по этому делу и распорядиться в точное время исполнением оного, если по обсуждению местных обстоятельств признано будет возможным совершить это предприятие с полною надеждою на успех.
Прилагаемым при сем рапортом генерал-адъютант Нейдгарт доносит об окончательных решениях, данных генерал-лейтенанту Гурко на счет производства зимней экспедиции в землю башильбаевцев».
Этот чисто служебный, на первый взгляд, текст на самом деле полон скрытого смысла.
Во-первых, он показывает невозможность для кавказского генералитета отказаться от практики карательных, хотя бы частных, имеющих лишь тактический смысл, экспедиций, которые они аккуратно называют «поисками».
Во-вторых, демонстрирует мелочную зависимость от Петербурга: для того чтобы провести полицейскую, собственно, операцию против грабящих транспорты абреков, нужно согласовывать ее со столицей, находящейся в тысячах верст.
В-третьих, за бесстрастным служебным текстом просматриваются сложные и нервные человеческие отношения.
Хотя Головин при увольнении от командования Кавказским корпусом получил золотую шпагу с алмазами «за храбрость» и Высочайший рескрипт, превозносивший его заслуги в деле «прочного утверждения спокойствия и порядка в тамошнем крае», было очевидно, что он не только не справился со своей задачей, но и крупно наломал дров, пытаясь следовать петербургским указаниям. Непомерно велики были потери — только на левом фланге Кавказской линии за четыре года потеряно было 3 генерала, 40 штаб-офицеров, 393 обер-офицера и 7 960 нижних чинов. Сократились территории, контролируемые русскими войсками. Ни о каком порядке и спокойствии речи быть не могло. И хотя в специальной обширной записке о годах своей кавказской службы, изданной в Риге без дозволения цензуры (!) в 1847 году, в бытность Головина Рижским, Эстляндским, Курляндским и Лифляндским генерал-губернатором, он пытается переложить вину на других, в частности на Граббе, но и сам он, и все вокруг понимали — к чему пришла Россия на Кавказе к 1843 году с его, Головина, помощью.
Цебельдинский поиск был первой операцией, ответственность за которую ложилась на нового командующего, и характерна степень почти истерической перестраховки, с которой он приступил к реализации замысла своего предшественника, требуя от генерала Гурко гарантии «полной надежды на успех».
То, что произошло дальше, характерно для Кавказской войны вообще и особенно для переходного 1843 года.
«Военному министру господину генерал-адъютанту и кавалеру князю Чернышеву
Командира Отдельного Кавказского корпуса генерал-адъютанта Нейдгарта
Рапорт
Представляя Вашему Сиятельству при рапорте от 15 февраля № 609 копии с донесения командующего на Кавказской линии и в Черномории № 201 и с последующего по оному предписания моего № 589, я имею честь довести до сведения Вашего о причинах, побудивших меня разрешить генерал-лейтенанту Гурко составить отряд под начальством генерал-майора Безобразова для поиска в землю башильбаевцев.
После этого генерал-лейтенант Гурко донес мне от 23 февраля № 269, что предполагаемое начальником правого фланга Кавказской линии скрытное и внезапное движение к верховьям р. Зеленчука не состоялось, потому что по несохранению в тайне сбора войск, цель этого предприятия не могла быть достигнута и что генерал-майор Безобразов, не имея надежды сделать поиск с успехом, решился предпринять вместо скрытого набега открытое движение с 11-ю ротами, 8-ю орудиями и 1 000 казаками вверх по Большому Зеленчуку, как для осмотра места, где предположено строить укрепление, и выбора пунктов для промежуточных постов, так и для того, чтобы принудить башильбаевцев выдать бежавших аманатов и в случае отказа нанести им возможный по обстоятельствам вред».
Стало быть, несмотря на общестратегическую установку Николая на оборону, генералы планировали и набеги, и строительство новых укреплений на землях немирных горских племен. А в качестве принуждения к миру и подчинению планировались все те же методы — что такое «принести возможный вред», рассказывали в мемуарах боевые офицеры:
«Отряд двинулся в горы по едва проложенным лесным тропинкам, чтобы жечь аулы. Это была самая видная, самая “поэтическая” часть Кавказской войны. Мы старались подойти к аулу по возможности внезапно и тотчас зажечь его. Жителям представлялось спасаться, как они знали».
Но в этот период само событийное пространство приобрело какое-то новое, чрезвычайно неблагоприятное для русских качество. Потерянная инициатива породила психологическую растерянность, а оба эти обстоятельства предопределяли неуспех любого активного начинания. Пожалуй, никогда за все годы войны кризис имперского наступления не выявлялся так явственно и не выдавал столь очевидно свою принципиальную порочность, как в этом промежуточном году. Казалось бы, ничего катастрофического не происходило, но все действия русских генералов вязли в паутине мелких — в сравнении с общими масштабами войны — обстоятельств. Это воплощалась, материализовалась внутренняя неуверенность Петербурга и Тифлиса, их сомнения в возможности успеха…
«Донесение к Вашему Сиятельству об изменении, происшедшем в наступательном движении войск наших за Кубань, было уже изготовлено, — продолжал Нейдгарт, — когда я получил через нарочного курьера рапорт командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории от 2-го марта № 327, и при оном копии с донесений к нему начальника правого фланга от 27-го февраля и 1-го марта №№ 126, 127 и 128 с многими приложениями, из которых видно нижеследующее.
По приходе генерал-майора Безобразова с вышеозначенным числом войск к р. Кубани он двинулся вверх по ущелию Большого Зеленчука и, находясь уже в 30 верстах выше бывшего укрепления Ярсаканского, получил достоверные известия о сборе горцев в больших силах между длинным лесом и р. Белою и о намерении их сделать набег на станицы Лабинского полка или на Юсть-Лабинский участок. Дабы находиться ближе к угрожаемым пунктам, он отложил движение к башильбаевцам до более удобного времени и перешел с отрядом в долину Урупа, почитав это тем более необходимым, что соединением войск командуемого им отряда большая часть Кубанской линии оставалась почти без обороны и что современные обстоятельства непременно требовали заградить ту часть этой линии, из которой выдвинуты были войска.
Во время движения вниз по Урупу получено было известие, что горцы намерены выступить из сборного пункта своего 25-го февраля, но как этого не последовало, то не имея возможности без изнурения войск выжидать нападение, генерал-майор Безобразов решился для защиты Кубани от Прочного окопа до Баталпошинского направить туда пехоту, при отряде находящуюся, и с кавалерией перейти на Лабу, собрать роты, находившиеся в ближайших станицах, и двинуться навстречу неприятеля. Но 26-го числа во время перехода от нижнего Султановского аула к Урупской станице он упал с лошади и сломал плечевую кость. Не будучи больше в состоянии следовать с отрядом и не имея при себе кому можно было поручить охранение наших границ при небезопасных этих обстоятельствах, он переменил прежнее свое намерение и для надлежащей, по мнению его, обороны как Лабинской, так и верхней Кубанской линии, отправил 4-е сотни линейных казаков при двух конных орудиях в станицу Вознесенскую, а 6-ть сотен при двух же орудиях в станицу Чашлыкскую, остальными за тем войсками, составлявшими отряд, усилил Надкубанские станицы и их резервы, за исключением трех рот, оставленных в станице Урупской для подания помощи в случае надобности войскам, расположенным на Лабинской линии. Прибывший по требованию генерал-майора Безобразова полковник Вильде принял начальство над собранными за Кубанью войсками.
Штаб-офицер этот донес начальнику правого фланга в двух рапортах от 1-го марта №№ 273 и 275, что 28 февраля горцы числом до 7 тыс. спустились с гор против Махошевского укрепления и, расположившись в 5 верстах от оного на бивуаках, подослали к самой Лабе партию в 150 человек с требованием прислать к ним переводчика для переговоров. Отправленных вследствие этого полковником Вильде переводчика и лазутчика повели к предводителям сборища, которые объявили, что не имеют никаких неприязненных намерений, но пришли с тем, чтобы просить дозволения генерал-майора Безобразова увести с собой ногайцев, живущих по Кубани. По показаниям лазутчика в сборище этом находятся убыхи и абадзехи под предводительством князя Берзака и также Каплан Гирей Айтек и беглый сотник Парщиков. (Любопытная деталь — участие в набегах русских дезертиров, тем более что сотник в казачьих войсках соответствовал рангу армейского поручика. — Я. Г.)
Во всех станицах и укреплениях Лабинской линии, извещенных о появлении неприятеля, тотчас приняты были все меры предосторожности. Горцы же, переночевав близ Махошевского укрепления, на другой день 1-го марта двинулись вверх по Лабе и по полученным потом сведениям направились к станице Вознесенской.
Донесение это было доставлено в Ставрополь 2-го марта. Генерал-лейтенант Гурко тотчас направил в станицы Невинномысскую и Борсуковскую 2-й и 3-й батальоны Волынского пехотного полка при двух орудиях и всех служащих казаков внутренних станиц Ставропольского полка, а для ближайшего наблюдения за ходом дел отправился сам на Кубань. Перед самым выездом своим из Ставрополя он получил донесение генерал-майора Безобразова от 2-го марта о том, что скопище переправилось 1-го числа на правый берег Лабы с явным намерением сделать нападение на одну из станиц Лабинского полка, но, узнав о прибытии на угрожающие пункты значительного числа войск, не решилось на это предприятие. Горцы отступили обратно за Лабу и, как доносят лазутчики, разошлись по домам за исключением малого числа всадников, взявших направление к верховьям Кубани, вероятно, для прорыва в Баталпошинский участок. Вследствие этого генерал-лейтенант Гурко приостановил следование подкрепления к Кубанской линии, а сам поехал в Урупскую станицу, чтобы лично удостовериться: может ли генерал-майор Безобразов при настоящей болезни своей продолжать командование вверенным ему флангом.
В одно время с бумагами, заключающими донесение о всем вышеизложенном, получена копия с рапорта командующего Усть-Лабинским участком подполковника Васмунда от 22-го февраля, из которой видно, что штаб-офицер сей, отвлеченный ложными известиями о намерении неприятеля увести аулы, поселенные между станицами Ладожской и Казанской, отправился 19-го февраля с резервом на правый берег Кубани и вниз до станицы Казанской, между тем как 20-го числа случилось происшествие близ Воронежской станицы, известное Вашему сиятельству из представленного Вам командующим войсками на Кавказской линии и в Черномории при рапорте 2-го марта № 314 журнала военным происшествиям на Черноморской кордонной линии.
Находя, что происшествие это не могло бы иметь столь несчастный исход, если бы со стороны старших начальников на Кубанских линиях были предприняты все надлежащие меры к предупреждению и отражению неприятеля, я предписал генерал-лейтенанту Гурко произвести строжайшее исследование, дабы виновные в нераспорядительности были подвергнуты заслуженному взысканию <… >
№ 8538 марта 1843-го Тифлис».
В этом донесении самое важное не то, что в нем описано, — постоянное напряжение, необходимость реагировать на возможные нападения с любой стороны при постоянной же нехватке войск, искусная война нервов, которую вели горцы против русских генералов, — самое важное оказалось вскользь упомянуто в самом конце — «происшествие близ Воронежской станицы»…
Кавказская война имела свою логику — как только ослабевал нажим русских войск, немедленно активизировались горцы. Пауза, которой жаждали в Петербурге, существовала только в воображении столичных стратегов. То, что началось на театре военных действий, повторило известную ситуацию из «Сказки о золотом петушке», в которой царь Дадон «под старость захотел Отдохнуть от ратных дел И покой себе устроить. Тут соседи беспокоить Стали старого царя, Страшный вред ему творя».
В представлении горцев пассивность русских могла означать только слабость, а стало быть, открывалась возможность реванша и очищения своих земель. И немедленной реакцией на ослабление натиска стала серия набегов, которые оказались прологом катастрофических для русских войск событий.
Глухая фраза Нейдгарта о «происшествии близ Воронежской станицы» была — хотя и сквозь зубы — расшифрована в донесении генерал-майора Безобразова:
«20 февраля хищническая партия более 600 человек сделала нападение на станицу Воронежскую, но была отражена казаками и обратилась к хуторам на речку Кочеты, но будучи преследуема сотником Бирюковым с 70 казаками, возвратилась к Кубани. В это время неприятель разделился на две партии; отодвинул сотника Бирюкова с казаками к станице и нанес большой урон Черноморским и Донским казакам».
Рисунок операции, проведенной горцами, понятен: обманным маневром и ложными слухами они отвлекли регулярные части подполковника Васмунда от подлинной точки прорыва и, воспользовавшись почти десятикратным перевесом над казаками, разгромили казачьи хутора. Поскольку — как сообщается в донесении — боевые потери составили одного казака убитым и двоих ранеными, то очевидно, что «большой урон» пришелся на мирное население… Это была типичная ситуация. И дело было не в «нераспорядительности», а в растянутости линии возможного соприкосновения с нападающими и в изнурительной необходимости постоянно перебрасывать малочисленные войска с места на место, пытаясь угадать замысел противника.
Командование Кавказского корпуса постоянно просило у Петербурга подкреплений и, как правило, получало отказ. Петербург хотел замирить и присоединить Кавказ, но — минимальными средствами. Это была не жадность, а финансовый кризис, резкое обострение которого началось во время Второй турецкой войны 1787–1791 годов, когда на покрытие бюджетного дефицита было выпущено несколько десятков миллионов ничем не обеспеченных ассигнаций, кризис, взвинченный огромными затратами на участие в наполеоновских войнах, содержанием непосильной для страны армии, в сороковых годах начал ощутимо давить на правительство. (Царствование Николая I закончится фактически финансовой катастрофой, которая не в последнюю очередь будет стимулировать реформы.) Наращивать до необходимого предела численность войск на Кавказском театре было поэтому крайне затруднительно…
Напряжение росло на всех направлениях. В то время как генерал Безобразов тщетно пытался обезвредить «абреков Теберды», а закубанцы громили казачьи хутора, из Северного Дагестана доносили:
«Вследствие полученного от командующего войсками в Кумыкском владении известия о намерении Шуаиб Муллы и Чулубей Муллы сделать нападение, первый на кочующих по Тереку ногайцев, последний на Темир Аул или Гендже Аул, начальник нижней Сулакской линии перешел 9-го февраля при Султан Янгиюрте на левый берег Сулака с собранными им 4-ми ротами пехоты, 135 уральскими казаками и 80-ю Дагестанскими всадниками при двух орудиях и расположился между Темир Аулом и Ницам Аулом для прикрытия Кумыкских деревень в случае нападения со стороны Дылыма. Простояв на этом пункте до полудня 10-го числа, подполковник Евдокимов получил уведомление, что Шуаиб Мулла возвратился, а Чулубей распустил свою партию. Вследствие чего он перешел обратно на правый берег Сулака, но едва пришел в селение Султан Янгиюрт, как был извещен двумя сигнальными пушечными выстрелами, сделанными из Миатминского блокгауза, о появлении неприятеля в значительном числе на этом пункте. Направив тотчас две роты при одном орудии в Чир Юрт, подполковник Евдокимов поспешил со всею конницею к Миатмин, куда приказал выступить расположенной в Чир Юрте роте. Между тем воинский начальник в Миатлах переправился с одною ротою и вооруженными жителями через Сулак и остановился против Зурмакента для наблюдения за неприятельскою партиею, спускавшеюся с гор в числе около 400 человек со стороны Дылыма. Скорое прибытие по сигнальным выстрелам конницы и движение роты из Чир Юрта заставили его отказаться от своих намерений и удалиться опять в горы».
Я перегружаю внимание читателя всеми этими подробностями для того, чтобы он почувствовал атмосферу, в которой жили русские солдаты и их командиры — не говоря уже о жителях приграничных станиц — в первые месяцы 1843 года. Дагестан, Чечня, Черкесия находились в постоянном вулканическом кипении, выбрасывая во все стороны огненные языки конных отрядов.
Командование Кавказским корпусом знало, что в этом видимом хаосе больших и малых набегов, нанесенных и обозначенных ударов была своя система и свой смысл — была стратегия.
В том же донесении от 5 марта, где сообщалось о метаниях отряда Евдокимова (который, кстати говоря, через десяток лет станет одним из главных действующих лиц покорения Кавказа), говорилось:
«Во всех обществах по Андийскому Койсу по приказанию Шамиля учреждается порядок в разделении жителей на десятки и сотни. Около 15-го числа истекшего февраля месяца разнеслись слухи о намерении Шамиля сделать нападение на Аварию с двух сторон. Кибит Магома со всеми им собранными силами должен был вторгнуться в Аварию через Карадахский мост, а Хаджи Мурат со стороны Андийского Койсу…»
В ситуации «ни мира, ни большой войны» у каждой из сторон были свои первоочередные задачи — до неизбежного прямого столкновения.
Шамиль старался сплотить горцев, жестоко карая тех, кто выказывал лояльность к русским:
«Слухи о распоряжении Шамиля к приготовлению многочисленной конницы ежедневно подтверждаются. Сверх того, получены известия, что по приказанию его убит Хидайминский старшина Махо с сыном своим».
Второй задачей имама было закрепить в сознании горцев, что за ним стоит великая Турецкая империя, которая поддержит их в решающем натиске на русских.
15 марта Нейдгарт отправил военному министру необычно короткий рапорт, в коем говорилось:
«Во всем Дагестане носится слух, в справедливости которого никто из горцев не сомневается, что у Шамиля находится присланный из Турции мастер, который выливает пушки из красной меди, для этого во всех деревнях собираются старые посуды этого металла и отправляются к Шамилю».
Создание Шамилем регулярного артиллерийского парка могло существенно изменить боевую ситуацию — до сих пор картечь была одним из главных русских козырей при столкновениях с постоянно превосходящим по численности и маневренности противником.
О том, что это не пустой слух, свидетельствовал не только сбор старой медной посуды по аулам. 25 апреля Нейдгарт писал поенному министру:
«Ваше сиятельство из рапорта моего от 1-го и 15-го апреля за №№ 949 и 984 усмотреть изволили, что как генерал-майор Клюки фон Клюгенау, так и генерал-майор Шварц получили оба уведомление, что у Шамиля в Даргах делаются опыты для литья орудий и что опыты эти проводятся с некоторым успехом.
В рапорте моем за № 984 имел я кроме того честь доносить Вашему сиятельству, что вследствие этих известий вменено было мною в обязанность командующему войсками в Северном и Нагорном Дагестане и начальнику левого фланга Кавказской линии, удостоверившись в справедливости оных, употребить все возможные средства к овладению людьми, занимающимися в Даргах литьем орудий. Подобное поручение дал я также генерал-майору князю Аргутинскому-Долгорукому <…>
Все почти сведения, полученные о литье орудий у горцев, утверждают, что оно производится людьми, обучившимися этому искусству в Турции и прибывшими к Шамилю осенью прошлого года. Кроме того, исправляющий должность начальника 4-го отделения Черноморской береговой линии получил от известного своею к нам преданностью турецкого армянина Мерина Турк Оглы уведомление, что в последнее время турки перевозили секретным образом на кочермах порох из Трабезонда в Кобулеты; что везде распространяются слухи о несогласии между Россиею и Турциею, что там собирают до 12 т. войска и тому подобное».
Любопытно, что переброска пушечного дела мастеров к Шамилю началась вскоре после принципиального изменения Россией стратегии — прекращения активного давления на горцев. Турция, разумеется, не собиралась ни начинать войну с Россией, ни вмешиваться непосредственно в Кавказскую войну. Но наращивать постоянное напряжение на Кавказе, безусловно, входило в планы Стамбула.
Донесение Нейдгарта было доложено Николаю. Николай приказал Нессельроде принять меры. Нессельроде «предписал нашему посланнику в Константинополе усугубить наблюдение, дабы воспрещенные Портою сношения с Восточным берегом Черного моря не были возобновляемы впредь». Сношения, тем не менее, продолжались.
Одновременно шло психологическое наступление Шамиля. Поддерживать единство и боевой дух в Чечне и Дагестане имам мог, только гарантировав своим сторонникам неизбежную конечную победу. Тут фундаментальными были два фактора — религиозный: Аллах не допустит победы неверных! И фактор турецкий: султан, слуга Аллаха, идет к нам на помощь!
18 мая Нейдгарт отправил в Петербург русский перевод обращения к горцам от имени турецкого вельможи Ибрагим-паши, которое специальные гонцы разносили по аулам. Ибрагим-паша сообщал о повелении султана Абдул Меджит Хана
«заготовить морские и сухопутные войска из Египта и Мансурии: каковые войска непременно в 1259 году 1-го Реби-аль-авала (то есть 20 марта 1843 года)[95] под личным начальством моим будут выступать сперва на Анапу, потом на Крымские и Нехинские острова и прочие обладаемые неверными места. Я же писал вам это письмо, которое для праведных есть весть радостная, а для неверных и для грешников есть горестное известие».
Если учесть скорость передвижения войск и огромные расстояния, которые они должны были покрыть, то гипотетическая армия Ибрагим-паши должна была явиться на Северный Кавказ приблизительно к тому времени, когда там произошли роковые события… И появление воззвания, которое, разумеется, было сфабриковано людьми Шамиля, и названные в нем сроки — все это было хорошо продумано.
Заканчивалось послание прямым обращением к горцам:
«О вы! праведные жители, обитающие в означенных краях, избегайте от свидания неверных, не обращайте внимания на богатство света суетного и избегайте от учения дьявола, приближайтесь к Богу посредством молитвы, верности и познания Бога. С 17 до 40-летнего возраста люди вооружайтесь, приготовляйтесь к бою в таких святых и важных днях и до прибытия моего слушайтесь Шейх-Шамиль Эфендия и повинуйтесь воле его».
Для Петербурга и Тифлиса главным было в этой ситуации расколоть горцев, перетянуть на свою сторону часть сообществ и создать вооруженный противовес Шамилю, переведя таким образом «войну освободительную в войну гражданскую». Это было единственной альтернативой изнурительной борьбе на истребление между Кавказским корпусом и отрядами имама. Именно весной-летом 1843 года схватка за влияние на горские сообщества стала особенно упорной.
В донесении коменданта Владикавказа говорилось:
«В продолжение весны Шамиль четыре раза собирал значительные скопища с намерением вторгнуться в наши пределы со стороны плоскости (то есть равнинной Чечни. — Я. Г.), но видя, что к отражению его всякий раз были приняты сильные меры, он нашел, что вторжение с этой стороны не может быть производимо с успехом и без большой потери, почему он обратил свое внимание на горские племена, надеясь без труда и потери покорить их, рассчитывая, что по отдаленности и затруднительному пути нам трудно поддержать их. Вследствие таковых соображений Шамиль приказал Ахверды-Магомету с скопищем в несколько тысяч человек выступить против покорных нам галгаевцев и кистов. Скопища Ахверды-Магомета заняли село Цори близ границы Галгаевского общества с целию, чтобы общество это увещаниями, угрозами или силою оружия заставить отказаться от нас и покориться мюридам.
Чтобы благонамеренных из галгаевцев не оставить без всякой надежды на помощь, полковник Нестеров сделал распоряжение об отправлении 3-х рот пехоты при двух горных единорогах и около 1000 человек милиции в Кистинское ущелье с тем, чтобы в случае отложения Галгая предупредить покушение неприятеля на Кистинское ущелье и на Военно-Грузинскую дорогу. <…> Полковник Золотарев по соединении с войсками, отправленными из Владикавказского округа в Кистинское ущелье, перешел с 8-ю ротами пехоты при 2-х горных единорогах из села Обина к самой границе Галгая, занятой уже прежде милициями, и расположился при сел [ении] Хули. Приближение наших войск имело скорые и благоприятные последствия. Галгаевцы после кратковременных переговоров выдали полковнику Золотареву 12 аманатов и неприятельские скопища рассеялись».
Часть горских обществ уже устала от разрушений и кровопролития, но держать нейтралитет им не давала ни та, ни другая сторона. Лояльность этих обществ зависела от соотношения сил в данный момент в данном месте. Аманатов — заложников — брали и те, и другие.
Однако простая лояльность русское командование отнюдь не устраивала. Ему нужна была военная активность «мирных горцев».
17 мая Нейдгарт писал военному министру:
«Генерал-майор князь Аргутинский-Долгорукий получил донесение от Калухского воинского начальника и капитана Абдул Рахман Бека, что 9-го мая многочисленное скопище под предводительством Кибит Магомета и Абдурахмана Карахского сделало нападение на селение Чох, с целию, как понимать должно, истребить почтеннейших жителей этого селения, а с прочих забрать аманатов. Нападение Кибит Магомета имело первоначально полный успех. Жители селения Чох, неприготовившиеся еще совершенно к отражению оного, в начале не оказали сильного сопротивления, и мюридам быстрым движением удалось завладеть половиною селения, пока первые успели вооружиться и под начальством Кадия своего мужественно начали оспаривать остальную часть. В это время подоспел в Чох Агалар Бек, брат Абдул Рахман Бека, с частью кордонной стражи, расположенной по границе Казикумыкского ханства, и быстро кинулся с тремястами нукеров в селение. Жители, ободренные прибывшею помощью под начальством известного им своею храбростью Бека, с мужеством бросились на мюридов и вытеснили их совершенно из селения. Потеря мюридов в этом деле, полагают, значительная. В руках чохцев осталось 16 тел, последние же потеряли только 4-е человека».
Русским солдатам и казакам едва ли не ежедневно приходилось отбрасывать «хищников» от станиц и «мирных» аулов. Это было в порядке вещей и никакого ажиотажа не вызывало. То, что началось после боя в селе Чох, свидетельствует, какое огромное значение в Петербурге и Тифлисе придавали вовлечению лояльных России горских сообществ в военные действия против Шамиля.
«Донося об удачном отражении нападения мюридов на селение Чох, — продолжает Нейдгарт, — генерал-майор князь Аргутинский-Долгорукий, приписывая полный успех этого дела благоразумной распорядительности Кадия Магомета и отличной храбрости Агалар Бека, ходатайствует о награждении первого чином, с присвоением следующего по оному жалования, а последнего переводом в один из гвардейских кавалерийских полков, для поощрения же чохских жителей и казикумыкских нукеров просит для раздачи отличившимся 9-го мая знаков отличия военного ордена.
О всем вышеизложенном имея честь донести Вашему Сиятельству <…> почтительнейше присовокуплю, что я по представленной мне власти именем Его Величества отправил к генерал-майору князю Аргутинскому-Долгорукому три знака отличия военного ордена и три серебряные медали на георгиевских лентах с прибавлением на покупку лент к первым по четыре червонца и последним по два».
Николай собственноручно начертал на рапорте командующего Кавказским корпусом:
«Очень хорошее начало, и хорошо подобные дела отличать, для соревнования».
Из резолюции ясно, что ситуация у селения Чох оказалась первой в своем роде и Нейдгарт пытался извлечь из нее максимум пользы. 27 мая он рапортовал Чернышеву:
«Почитая полезным показать всему Чохскому обществу внимание правительства за оказанные в сем деле преданность и услугу, я сделал распоряжение, чтобы чохцам во всех наших владениях Закавказских, куда они во множестве приходят для торговли и по другим промыслам, оказываемо было по всем их делам особое покровительство, и о том объявил чохцам в особой грамоте».
Очевидно, что «политические меры» (как вполне по-сегодняшнему выражается в рапорте Нейдгарт) вместо мер военных, силовых, говоря сегодняшним же языком, являлись сутью той установки, что была дана Нейдгарту императором. Неимоверная сложность северокавказского узла проблем — религия, традиция, которой придавалось горцами сакральное значение, сущностно отличные от христианского представления об этике, набеги как основа экономического выживания, наконец, смертельные обиды, накопившиеся особенно за годы правления свирепых Цицианова и Ермолова, — все это слабо осознавалось Николаем. Он рассчитывал, что с горцами можно договориться и это дешевле, чем бесконечная война. Это была иллюзия. Россия и Кавказ оказались в трагическом тупике. Империя по самой логике своего существования не могла оставить между собой и христианским, уже освоенным Закавказьем кипящий ненавистью и презрением к неверным Кавказ. Горцы же не представляли себе иной жизни, кроме той, которую они вели столетиями, — для них это было бы крушением миропорядка. Речь шла не просто о вассальной зависимости от чуждой — религиозно, культурно, экономически — империи. Речь для горца шла о принципиальном изменении самоощущения, о возможной потере самоуважения, о ломке ценностной иерархии.
Сопротивление Кавказа снизилось и закончилось, когда ушло поколение, начинавшее великую войну с неверными, сражавшееся с Ермоловым. В сороковые годы еще не наступила адаптация к самой идее подчинения. Трагедия Хаджи-Мурата, известная из толстовской повести, заключалась не только в том, что русские генералы не выполняли своих обещаний и обрекали на гибель семью беглеца, Он не мог пережить психологический прыжок из одного мира в другой. Хаджи-Мурат мог затевать— и неоднократно затевал — хитроумную игру с гяурами, поскольку Шамиль его не устраивал, но укорениться в чужом мире он не мог.
Нужны были долгие годы мощного военного давления, разочарование в возможности действенной турецкой поддержки, сомнения в богоизбранности имама Шамиля, чтобы Чечня и Дагестан осознали неизбежность неизбежного…
В 1843 году ни русское правительство, ни командование Кавказского корпуса не понимали сути процесса и жили опасными иллюзиями.
30 июня Нейдгарт рапортовал военному министру:
«Аварский уроженец Гаджи-Мурат, один из наибов Шамиля в Дагестане, происходит из самой почетной Аварской фамилии, тем более уважаемой аварцами, что последний хан их, убитый в 1834 году предшественником Шамиля Гамзат-Беком, был вскормлен матерью Гаджи-Мурата, что, как известно, между горцами производит столь же тесные связи, как и кровное родство, и что Гаджи-Мурат с братом своим убили Гамзат-Бека в отмщение за истребление ханской фамилии. При том же мужество и личный характер Гаджи-Мурата не менее, как и происхождение его, содействовали к утверждению аварцев в том уважении и преданности, коими он у них пользуется.
Может быть, таковое расположение народа и было причиною вражды к нему и преследования его Ахмет-ханом Мехтулинским, которые вынудили Гаджи-Мурата к бегству.
Командующий войсками в Северном Дагестане генерал-майор фон Клугенау, принимая в соображения эти обстоятельства и что Гаджи-Мурат до бегства своего служил нам с примерным усердием, и руководствуясь наставлениями моими об употреблении политических мер к ослаблению силы Шамиля, поручил правителю Аварии майору князю Орбельяну войти в сношения с Гаджи-Муратом с целию склонить его перейти на нашу сторону. Сношения эти, как доносит генерал фон Клугенау, сначала не имели успеха, но теперь Гаджи-Мурат, кажется, действительно намерен оставить Шамиля и только просит в удостоверение, что он будет прощен, прислать ему печать его, генерала фон Клугенау.
Не решаясь без моего согласия удовлетворить таковой просьбы Гаджи-Мурата, генерал фон Клугенау испрашивает на то моего распоряжения, присовокупляя при том, что с переходом к нам Гаджи-Мурата, к которому, вероятно, присоединятся многие из его приверженцев, Авария и Койсубу не будут подвергаться столь частым набегам, как ныне, ибо Шамилю трудно будет найти человека, который мог бы заменить Гаджи-Мурата.
Приняв во внимание важные последствия для нагорного Дагестана, которые могут произойти от перехода к нам Гаджи-Мурата, я немедленно по получении донесения генерал-майора фон Клугенау, предписал ему отправить к сему горцу печать свою в знак полного прощения Правительством его прежней вины, как его, так и приверженцев его, которые с ним возвратятся».
Николай начертал на рапорте:
«Важное дело, но много верить ему не должно; надо прежде, чтоб доказал на деле это желание загладить свою вину».
Император был совершенно прав. Хаджи-Мурат вовсе не собирался в то время переходить к русским. (Это произойдет через десять лет.) Он играл с генералом фон Клюгенау, с которым у него были давние счеты.
Нейдгарт и Клюгенау умалчивают о весьма существенной детали, о которой Николай, очевидно, помнил, — после убийства Гамзат-бека в 1834 году Хаджи-Мурат доминировал в Аварии, балансируя между русскими и горцами, но в 1836 году он был заподозрен — наверняка не без оснований — в сношениях с Шамилем, набиравшим силу, арестован генералом фон Клюгенау, бежал, едва избегнув при этом гибели, и стал одним из главных наибов имама.
В той тяжелейшей и достаточно нелепой ситуации, в которой оказался Кавказский корпус и вся русская администрация на Кавказе в 1843 году, Нейдгарт готов был закрыть глаза на прошлое наиба, поверить ему несмотря ни на что, найти оправдание его поступкам 1836 года, лишь бы получить хоть какой-то рычаг воздействия на события.
Пока Хаджи-Мурат водил за нос растерянного Нейдгарта, Шамиль тренировал свою конницу, прощупывал частными операциями слабые места в обороне противника, накапливал оружие, идущее из Турции через Черноморское побережье, и в конце августа нанес удар.
За первые три недели сентября Кавказский корпус потерял 55 офицеров и полторы тысячи нижних чинов, целый ряд крепостей. Были разорваны коммуникации, а замиренные в предшествующий период горские общества немедленно восстали и присоединились к имаму.
Одним из главных героев наступления был Хаджи-Мурат.
Стратегия пассивной обороны, сопряженная с попытками расколоть горцев и подвинуть их на борьбу с Шамилем, закончилась катастрофой.
Восстановить хотя бы приблизительное равновесие удалось только к весне 1844 года. На восстановление же военной репутации русских войск ушли годы.
Непосредственным результатом событий было смещение Нейдгарта и возвращение к практике мощных карательных экспедиций.
В июне 1845 года наместником Кавказа стал граф Михаил Семенович Воронцов, опытнейший генерал и администратор. Под давлением Петербурга он пошел с крупными силами на резиденцию Шамиля — укрепленный аул Дарго. Даргинская экспедиция осталась одним из самых страшных воспоминаний русских офицеров и солдат…
Начался новый десятилетний период — сколь кровавый, столь и бесплодный. И только после конца Крымской войны наступил неожиданный перелом — то была другая эпоха и для России, и для Кавказа.
Разумеется, читая архивные документы, перечитывая воспоминания участников Кавказской войны, мы неизбежно примеряем это знание к сегодняшним событиям. И становится очевидным, что Российской империи не удалось тогда, несмотря на гигантские усилия и тяжкие жертвы, развязать Кавказский узел. Мы видим уникальную историческую ситуацию — законсервированный на полторы сотни лет трагический для обеих сторон конфликт. Многолетняя пауза, прерываемая иногда мятежами, не изменила сути ситуации.
Петербург не понимал и не стремился понять внутреннюю логику поведения горцев. Такую попытку сделал, пожалуй, только князь Барятинский, что и помогло ему в начале 1860-х годов завершить войну.
Советская власть, располагая более мощными средствами подавления и более изощренной демагогией, пошла путем Российской империи, уверенно загоняя проблему вглубь.
Сталин, выходец с Кавказа, очевидно, многое понимал, но в его практику не входило развязывание узлов с учетом многосторонних интересов. Интерес у него был один — свой собственный, — и узлы он рубил. Его понимание — напротив того! — резко усугубляло меру жестокости.
В послесталинском СССР не нашлось никого, кто попытался бы понять, что же происходит на Кавказе под раскрашенной гуттаперчевой маской тривиального советского общественного быта — с обкомами, райкомами, исполкомами… А если и нашлось бы — власть запретила бы заниматься этим.
Конечно, генерал стратегической авиации СССР, окончивший советское военное училище и Академию, многолетний член КПСС Джохар Дудаев отнюдь не был идентичен истовому мусульманину имаму Шамилю. И, в отличие от века прошлого, перед Чечней не стоял нынче выбор — пасть на колени или погибнуть, и психология горца за прошедшие 130 лет в составе России достаточно адаптировалась к состоянию вассалитета — тем более условного, предлагавшегося Дудаеву. И, стало быть, пагубное для Чечни упрямство Дудаева и его наследников несоотносимо с неколебимостью Шамиля.
Но есть фундаментальные психологические пласты на глубине, хранящие взрывоопасные сгустки законсервированных конфликтов, которые детонируют от удара звуковых волн, идущих с поверхности. И тогда эти пласты — как при тектоническом разломе — внезапно выходят на поверхность…
Грехи и ошибки прадедов падают на потомков. Новая Россия оказалась сегодня лицом к лицу с кавказским кентавром образца 1843–2000 годов.
ОТ «СТАДА НИЩИХ ДИКАРЕЙ» К «ГАРНИЗОНУ ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ»
Силою самих обстоятельств
мы увлечены за Кавказ.
Адмирал Л. СеребряковЗа многие десятилетия Кавказской войны XIX века, изнурительной для обеих противоборствующих сторон, государственными деятелями России, военными и статскими, было создано множество проектов покорения и устройства Кавказа и Закавказья. В них запечатлены представления российских государственных мужей — разных периодов и направлений — о характере возможных взаимоотношений между Россией и Кавказом, о самих горцах с их принципиально отличным от русского мировосприятием и самосознанием, запечатлены этические нормы, которыми считают возможным руководствоваться генералы и сановники.
В этих проектах ясно вырисовывается стратегическая неразрешимость проблемы. Без исследования этого пласта исторического материала куда менее понятен драматизм событий, происходивших на временном пространстве Кавказской войны. Особенно сейчас, в конце XX века, когда напряжение отношений России и Чечни, безусловного лидера кавказских земель, достигло вулканического градуса, а тактические компромиссы не решают главных проблем[96].
Публикуемый проект адмирала Серебрякова любопытен и еще в одном отношении. Кровавая тяжба России и горских народов была процессом, так сказать, полинациональным. Со стороны России в ней принимали самое энергичное участие не только представители коренных народов империи — русские и украинцы, но и те, у кого были свои исторические счеты с мусульманским миром: грузины и армяне, не раз оказывавшиеся на грани фактического уничтожения и насильственной ассимиляции под давлением Турции, Персии и их кавказских вассалов. Историческая и психологическая подоплека этого аспекта Кавказской войны нуждается в особом изучении, я же в данном случае хочу только обратить внимание читателя на этот оттенок ситуации.
Лазарь Маркович Серебряков (1793–1862) происходил из дворянской семьи крымских армян. Это был особый слой дворянского сословия со своим экономическим бытом, хозяйствовавший на землях, только что включенных в состав империи. Родовое имение Серебряковых, расположенное в молодой Таврической губернии, насчитывало всего 18 душ крепостных. Но зато он унаследовал от матери в Симферопольском уезде 1500 десятин земли с каменным домом и фруктовым садом. А позже взял за женой — крымской армянкой — каменную мельницу с садом.
Над этой категорией новых для империи дворян отнюдь не тяготела имперская психологическая традиция, которая безусловно играла направляющую роль в выборе жизненного пути русского дворянина. Однако интеграция этой сословной группы в психологический и профессиональный контекст исконно русского дворянства происходила стремительно и органично.
Вместо того чтобы наслаждаться мирной жизнью в кущах своих крымских владений, семнадцатилетний Серебряков поступает волонтером в Черноморский флот, проходит тяжкую морскую школу на боевых судах (находясь, разумеется, на положении, отличном от положения рядовых матросов), параллельно изучает специальные морские науки, французский язык, историю, географию, русскую словесность и рисование. В 1815 году — двадцати двух лет от роду — Серебряков сдал соответствующие экзамены и был произведен в первый офицерский чин — мичмана.
Нам важно понимать, что Серебряков был фигурой одновременно необычной и характерной для офицера-кавказца. С одной стороны — крымский армянин, сомнительный дворянин, официально зачисленный в «дворянское достоинство» только в 1829 году, уже будучи капитан-лейтенантом, проживший почти всю жизнь на черноморских берегах и впервые побывавший в Петербурге, да и вообще в собственно России, уже в весьма зрелом возрасте. С другой стороны — военный профессионал, многие десятилетия самоотверженно отдавший установлению господства России в Причерноморье, храбро сражавшийся на море с турками, а на суше с горцами и дослужившийся до полного адмирала и члена Адмиралтейств-совета; военачальник, чьей заветной целью было создание и укрепление Черноморской береговой линии, отсекавшей горцев от моря и, соответственно, от турецкой помощи и дававшей возможность продвижения в глубь Кавказа со стороны Черноморского берега.
При этом надо иметь в виду, что служба на Кавказе — особенно на Черноморском побережье с убийственным для непривычного человека климатом, с весьма относительными преимуществами по службе, — была тяжелой и неблагодарной для истинных «кавказцев». Как писал знающий дело Лермонтов в замечательном, но малоизвестном очерке «Кавказец», запрещенном в то время цензурой и опубликованном только в 1928 году: «Между тем, хотя грудь его увешена крестами, а чины нейдут».
Серебряков заплатил за свои высокие чины не только долгими годами изнурительной службы и постоянным смертельным риском, но и мучительными болезнями. В сентябре 1840 года он писал своему морскому министру князю А. С. Меншикову:
«Простите, ваша светлость, что давно не имел чести к Вам писать по следующим причинам: в начале мая месяца я занемог горячкою, впоследствии превратившейся в лихорадку с открытием в руках и ногах сильного ревматизма, приобретенного много в продолжении службы на Кавказе, который особенно усилился в несчастные события нонешней весны, неоднократно подвергаясь с ног до головы быть измоченным при посещении укреплений и приставая в бурунах к берегу. Корпусной командир, обозревая восточный берег и видя меня в таком положении, предложил выехать для поправки здоровья в Феодосию; в половине июля только был я в состоянии воспользоваться дозволением и отправился прямо к Кезловским грязям, в августе возвратился обратно в Новороссийск, хотя от ревматизма не совершенно излечившись, но по крайней мере получил настолько облегчение, что могу с помощью палки ходить и в состоянии писать, тогда как едва мог подписывать бумаги»[97].
Это достаточно типичная история. Многие кавказские военачальники несли службу до инвалидного состояния, а иногда и перемогаясь в смертельной болезни — как один из наиболее выдающихся кавказских генералов Вельяминов.
Серебряков служил на Кавказе еще много лет, командуя в том числе и труднейшими экспедициями в горы.
Специальному исследованию подлежат мотивы, которые двигали этими людьми, мотивы, отнюдь не исчерпывающиеся соображениями карьеры или сознанием воинского долга. Но это — особая и долгая работа…
Фигура Серебрякова важна еще и потому, что адмирал ни по какому поводу не строил успокоительных иллюзий. Он совершенно трезво оценивал обе сражающиеся стороны.
Он писал:
«Горцы по воспитанию своему, понятиям и обычаям даже и среди своих обществ не признают никакой власти, кроме силы оружия, никаких обязанностей, кроме тех, к исполнению коих можно принудить оружием…»
При излишней категоричности этих формулировок — внутри горских обществ, конечно же, существовали свои традиционные регуляторы, — по сути дела Серебряков прав: Кавказ до образования в его восточной части имамата Шамиля, постепенно выраставшего в достаточно отлаженное теократическое государство, являл собою буйную картину войны всех против всех.
С утверждением Серебрякова вполне совпадают представления Пушкина, вынесенные им из поездки через Кавказ в 1829 году и зафиксированные в «Путешествии в Арзрум»:
«Почти нет никакого способа их (горцев. — Я. Г.) усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщения крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение… Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом?»
При весьма высокой оценке качеств русского солдата Серебряков достаточно трезво относился и к тому, что происходило во вверенных ему частях Кавказского корпуса. Кавказский генералитет и штаб-офицеров с доермоловских времен мучило одно обстоятельство — корпус был местом ссылки отнюдь не только гвардейских дуэлянтов или политически неблагонадежных. Командование корпусов, расположенных в России, старалось сбыть на Кавказ всех, кого не хотело видеть у себя под началом. Ермолов в свое время пытался положить конец такой практике засорения корпуса пьяницами, нечистыми на руку людьми, нерадивыми по службе офицерами и солдатами. Ему это удалось только отчасти.
В июле 1839 года Серебряков жаловался Меншикову:
«Еще 25 апреля я прибыл в Новороссийск и застал вновь сформированный черноморский № 3 батальон накануне высаженным с кораблей на берег. Батальон этот сформирован, как вижу я, кое-как. Люди безнравственные поступили с разных команд. С гарнизонов назначено много таких, которые недавно были переведены в сии последние из кавалерийских полков; из прилагаемой при сем ведомости ваша светлость изволит усмотреть, сколько штрафованных, большая часть за побеги, и вообще весь батальон не только не знаком с военным делом, но даже мало знают ружья».
Естественно, что как только батальон вышел на линию соприкосновения с горцами, начались побеги — иногда из пикетов, со всей амуницией… Нравственное состояние офицеров, томившихся в укреплениях по Черноморскому побережью, часто отобранных по тому же принципу, приводило адмирала в уныние.
Серебряков с острым вниманием относился и к другой проблеме, которая тоже была с обычной проницательностью очерчена Пушкиным:
«Черкесы очень недавно приняли магометанскуго веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов Корана…»
В январе 1842 года Серебряков писал начальнику Черноморской береговой линии графу Анрепу:
«Настоящее состояние исламизма между племенами, обитающими на северо-восточном побережье Черного моря, составляет вопрос, тесно связанный с будущей их покорностью, а потому вполне заслуживает внимательного наблюдения.
По самым достоверным сведениям, мною собранным в течение пятилетнего служения в здешнем крае, я совершенно убедился, что веры у натухайцев и шапсухов собственно нет никакой; потому что хотя одни признают себя последователями корана, однако это ограничивается одним почти названием: эти мнимые мусульмане большею частию не исполняют даже и наружных обрядов обрезания, венчания и тому подобных; о сущности же догматов не имеют никакого понятия; другие же просто язычники, сохранившие по преданиям соблюдение некоторых обычаев, самые явные признаки некогда господствовавшего здесь христианства…. Еще в начале текущего столетия между натухайцами и шапсухами магометан было очень мало и тем более из узденей, имевших тесные сношения и даже родственные связи с турками и татарами. Магометанство особенно усилилось не более двадцати лет тому назад распространением между натухайцами и приморскими жителями, чему с необыкновенным успехом содействовал бывший в 1826 году пашею в Анапе Хаджи Гасан Чечен-Оглу, который разослал в горы до двадцати пяти мулл для проповедования исламизма, впоследствии муллы выезжали сюда из Кабарды и Дагестана… При всем том, и теперь еще можно полагать с достоверностью статистических данных, что все прибрежное народонаселение от Анапы до Гагр почти поровну делится на приверженцев старинных обрядов, или язычников, и последователей ислама. Но надобно заметить, что равенство это только численное, нравственный же перевес находится на стороне почитателей корана, потому что к общим чувствам дикой вольности и любви к родине, подвигающим прочих горцев на защиту края, к ним присоединяется другое чувство, — еще сильнейшее на всем Востоке, — чувство защиты веры: поэтому они напитаны более возвышенным религиозным восторгом, который служит основанием постепенным успехам исламизма…
Впрочем, борьба этих двух различных духовных направлений еще продолжается: почитатели старины утверждают, что война, голод, все бедствия начали тяготеть над краем с того самого времени, как легкомыслие народа стало предпочитать учение Магомета почтенным преданиям древней веры, — они даже в последнее время старались пробудить в сердцах привязанность к прежним обрядам общественными жертвоприношениями и богослужениями, при коих присутствовало без всякого отвращения и множество называющих себя мусульманами…
Вообще теперешнее положение умов есть грубое равнодушие к мнениям духовным, свойственное людям, постигающим одни лишь потребности естественные; доказательством этого равнодушия может служить и донесение вашему превосходительству исправляющего должность анапского коменданта полковника Рота, что горцы приняли объявленную им великую милость о сооружении в Анапе мечети с большим хладнокровием.
Нет сомнения, что если ислам укоренится, то он со временем, по свойству своему, воспламенит фанатизм, который почитает неверными и врагами всех, кто не признает его законов, поставляет своим последователям в священную обязанность непримиримую с ними войну и указывает им в защите своей и распространении мученический венец и рай Магометов…
Наконец, надобно согласиться, что, к умножению всех встречаемых нами препятствий, недостает еще того, чтобы соединить горцев под общими знаменами, которых теперь не имеют, под знаменами веры, подчинить их отдельные усилия влиянию единодушного фанатизма и дать им предприимчивого вождя, который непременно явится в лице первого вдохновенного изувера, каковыми, например, на левом фланге были Кази Мулла, Шамиль».
Серебряков очень точно определил роковую ошибку российской власти, которая, во-первых, слишком поздно осознала значение черноморского театра военных действий, его стратегическое значение, а во-вторых, не сделала ни малейшей попытки оказать духовное воздействие на умы и души еще колеблющихся в вопросах веры горцев Западного Кавказа. Цивилизаторское высокомерие первых завоевателей Цицианова и Ермолова сыграло здесь пагубную роль.
За тринадцать лет до цитированного письма Пушкин в «Путешествии в Арзрум» после приведенных выше слов о недавнем магометанстве черкесов утверждал:
«Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия… Кавказ ожидает христианских миссионеров».
В 1842 году Серебряков догадывался, что христианские миссионеры уже опоздали. В марте 1843 года, вторая половина которого стала катастрофичной для русской армии на Кавказе, адмирал писал Меншикову:
«Я, кажется, до сего времени еще не упоминал вашей светлости о пришествии на правый фланг Кавказской линии в землю абадзехов с прошлого лета соумышленника Шамиля, чеченца Хаджи Мугамеда, который, скрывая себя, кто он таков, объявляет им только, что прислан от могущественной особы для спасения правоверных от ига неверных… Он еще с начала появления предвещал им, что не успеет осенью спасть лист с деревьев, как не останется ни одного русского от Кубани до Черного моря».
Серебряков еще мог только предполагать, каким печальным пророчеством звучат эти слова в марте 1843 года — в августе началось тотальное наступление отрядов Шамиля и Кавказский корпус потерял почти все, что было завоевано в Дагестане и Чечне за предшествующие четверть века. И влияние религиозного фанатизма, сплачивающего мюридов имама, было фактором гигантской важности.
«Этот пришелец, — продолжает Серебряков, — может быть нам очень вреден тогда только, если успеет, как он домогается религиозным фанатизмом, которого у здешних горцев еще нет, вселить дух народности, понятия общих усилий всех племен правого фланга, подобно Чечне…»
Агитация Шамиля, турок и англичан имела на правом фланге Кавказской линии полный успех. Русским предстояла здесь более чем двадцатилетняя война. Попытки войти с горцами в доверительные отношения воспринимались ими в лучшем случае скептически.
Уже неоднократно цитированный автор редкого по насыщенности источника, генерал Григорий Филипсон не без иронии рассказал о том, как генерал Анреп, начальник и адресат Серебрякова, попытался осуществить «покорение враждебных обществ» «силою своего красноречия»:
«С ним были переводчик и человек десять мирных горцев, конвойных. Они проехали в неприятельском крае десятка два верст. Один пеший лезгин за плетнем выстрелил в Анрепа почти в упор. Пуля пробила сюртук, панталоны и белье, но не сделала даже контузии. Конвойные схватили лезгина, который, конечно, ожидал смерти; но Анреп, заставив его убедиться в том, что он невредим, приказал его отпустить. Весть об этом разнеслась по окрестности. Какой-то старик, вероятно, важный между туземцами человек, подъехал к нему и вступил в разговор, чтобы узнать, чего он хочет? “Хочу сделать вас людьми, чтобы вы веровали в Бога и не жили подобно волкам”. — “Что же, ты хочешь сделать нас христианами?” — “Нет, оставайтесь магометанами, но только не по имени, а исполняйте учение вашей веры”. После довольно продолжительной беседы горец встал с бурки и сказал очень спокойно: “Ну, генерал, ты сумасшедший; с тобою бесполезно говорить”.
Я догадываюсь, что это-то убеждение и спасло Анрепа и всех его спутников от верной погибели: горцы, как и все дикари, имеют религиозное уважение к сумасшедшим. Они возвратились благополучно, хотя, конечно, без всякого успеха»[98].
Генерал Анреп был романтиком завоевания. Плохо знающий Кавказ и горцев, он исходил из общих схем, которые при всем их благородстве приносили результат, противоположный ожидаемому. Серебряков же понимал, что вражда горцев к завоевателям укоренилась так глубоко, что любой дружественный жест со стороны русских воспринимается как проявление слабости. Адмирал не раз писал об этом.
Другим обстоятельством, его чрезвычайно раздражавшим, были некомпетентные указания «сверху», которые приводили к ненужным жертвам и подрыву боевой репутации корпуса. В ноябре 1841 года Серебряков доносил Меншикову:
«Подробности перехода нашего отряда из Адлера на Сочу вашей светлости вероятно давно уже известны от лейтенанта Веригина. Предсказание мое, что результат может кончиться огромною потерею без существенной пользы, к несчастью, сбылось; предсказание это не было основано на одних догадках, но собственно от тонкого познания всех обстоятельств здешнего края, и это я не скрывал от моего здешнего начальства и, конечно, этим не мог сим угодить.
Потеря до 600 человек убитыми и ранеными, отправление в госпиталь до 3 000, издержки на 600 тыс. рублей могут ли заменить перехода трехдневного 20 верст расстояния от одного укрепления до другого вдоль морского берега, где не существует ни одного жилья, и можно ли повторять подобные пожертвования?
Конечно, и со стороны неприятеля не без потери, но не может сравниться с нашей, потому что горцы всегда ведут перестрелку врассыпную и имели возможность бить наших в густой колонне, идущей у самого берега… Этою экспедициею, сборы которой продолжались несколько месяцев, предварительные угрозы распространились по всем горам, мы лишь только показали ничтожность наших действий, и я опасаюсь, чтобы не могло иметь дурного влияния даже на народы, которых мы считаем давно покорными…»
Подобные катастрофы происходили с удручающей регулярностью, и после одной из них — самой ужасающей — Серебряков напишет свой подробнейший план покорения Кавказа, который публикуется ниже.
Для нас адмирал Серебряков, автор проекта покорения Кавказа, важен именно как классический «кавказец», не знавший, судя по всему, иной жизненной цели, кроме усмирения горских народов и присоединения Кавказа к империи. Но он отнюдь не был ограниченным солдафоном. Человек достаточно образованный, обладавший явными задатками государственного деятеля, Серебряков в сороковые-пятидесятые годы посреди напряженных забот крупного военачальника на театре боевых действий находил время для составления разнообразных проектов, касающихся как частных военных предприятий, так и предметов стратегического масштаба.
В Кавказской войне была одна особенность — Петербург, главным образом в лице государей Александра I и Николая I, — постоянно призывал воюющий генералитет к возможной гуманности. Если большинство генералов смотрело на горцев как на непримиримых врагов, то для императоров они были завтрашними подданными. Это противоречие усугублялось и тем, что в Петербурге очень плохо представляли себе положение на Кавказе. Разумеется, подобная позиция верхов не могла не влиять на поведение генералитета. И представления о допустимости тех или иных методов завоевания колебались довольно существенно. Описанная Филипсоном эскапада Анрепа была осуществлена лишь после того, как главнокомандующий Кавказским корпусом генерал Головин испросил соответствующего разрешения у Николая. И царь согласился. Умудренный многолетним кавказским опытом Филипсон на всю жизнь остался в изумлении:
«Совершенно для меня непонятно то, что ему предоставили ехать с этой проповедью к немирным горцам…»
И Александр, и Николай всерьез думали, что горцев можно уговорить, снисхождением и лаской склонить к реальному подданству.
Трезвый прагматик Серебряков готов был пользоваться проверенной всей историей колониальных завоеваний тактикой, но — как увидим — с постоянным учетом этих противоречий.
Рассказывая в очередном донесении Меншикову (июль 1839) о своих попытках поймать английского эмиссара Биля, скрывающегося в горах и подстрекающего черкесов, он добавляет:
«Сверх того (не знаю, ваша светлость одобрит ли мою политику против черкесов) я стараюсь вселять сколь возможно более раздор и ненависть между узденями и простыми, так как те и другие лазутчиками под разными предлогами, несмотря на свою присягу (турецкому султану. — Я. Г.), часто начали посещать мой лагерь; полагаю, чем более между ими несогласие, тем более для нас выгодно, рано или поздно, когда одна сторона должна будет прибегнуть к нашему покровительству».
Любопытно, что, используя столь привычный метод — «разделяй и властвуй», — адмирал с тревогой оглядывается на Петербург: одобрят ли? Тем больший интерес представляет для нас ситуация вокруг промежуточного проекта Серебрякова, предшествовавшего его основному грандиозному проекту.
Главное, что подлежит сегодня вниманию историка, желающего понять закономерности драмы, условно называемой «покорение Кавказа», — это нравственно-психологическое отношение русского общества к происходящему на южных границах империи. Анализ воззрений адмирала Серебрякова дает возможность определить, до какой черты готовы были идти люди, осуществлявшие завоевание, какая мера жестокости представлялась им приемлемой, кем являлись для них противники.
В Кавказском корпусе попадались генералы и офицеры, отличавшиеся патологической свирепостью, настолько оголтелой, что центральной власти приходилось их резко одергивать. Они выделялись даже на фоне обычной тогда практики тотального уничтожения непокорных аулов, иногда вместе с населением. Серебряков отнюдь к таковым не принадлежал. Он представлял наиболее распространенный в русской армии и флоте тип экспансионистского сознания, лишенного крайностей. Потому так существенны для нас приводимые ниже тексты.
Одним из способов давления на горцев, способов, которые постоянно тасовались и в Петербурге, и в Кавказском корпусе, было давление экономическое. Конкретнее — продовольственная блокада. Эта идея возникла не в XIX веке. Еще в 1730-х годах, в период кровавых мятежей башкир, недавно вошедших в российское подданство, но не вынесших поборов и измывательств новых властей и массового отчуждения пастбищных земель, — мятежей, которые не менее кроваво подавлялись, один из наиболее жестоких карателей — полковник Тевкелев, «крещеный азиатец», проповедовал продовольственную блокаду как эффективное средство, ибо «в большую покорность приводит их голод».
В 1841 году человек совершенно иной формации и культуры контр-адмирал Серебряков подал начальству донесение[99], которое, по сути, представляет собой разработку идеи полковника Тевкелева[100].
Серебряков писал:
«Крайность, до которой горцы доведены теперь голодом, поставляет мне в непременную обязанность возобновить вашему превосходительству все прежние представления о столь важном предмете и выгодах, которые можно извлечь из бедственного положения их для ускорения покорности, тщетно до сего времени достигаемой одними мерами кротости и великодушия, которого ценить они по дикости своей не могут».
Стало быть, это было не первое предложение адмирала использовать голод в качестве сильного средства для приведения горцев к покорности. Причем Серебряковым двигал честный государственный расчет:
«Цель, правительством предполагаемая, есть покорение хищных племен и прекращение их разбоев, а потому долг каждого местного начальника требует изложения тех средств, которые почитает ведущими к цели».
Нужно помнить — и помнить постоянно! — что сама цель, сама задача — включение Кавказа в состав империи и замирение горцев — не ставилась под сомнение ни на миг. Она входила как непременная составляющая в сознание русского человека всех сословий, а тем более человека военного. (Армянское происхождение Серебрякова положения не меняет. Он осознавал себя прежде всего русским офицером. Совершенно так же, как грузины — князь Цицианов, предшественник Ермолова по методам и напору, князь Багратион, тоже воевавший на Кавказе, карабахский аристократ князь Мадатов, суровый сподвижник Ермолова, и многие другие.)
А поскольку цель была несомненна, то яростное сопротивление горцев казалось злой бессмыслицей и попыткой задержать естественный ход истории. И этот вызов самой истории подлежал наказанию для конечной пользы самих «хищников».
«Еще 21 марта 1841 г. представлял я вашему превосходительству, что никакие обстоятельства не были благоприятнее, чтобы довести натухайцев до крайности; что после неурожая 1839 г. в горах повсеместный недостаток; что если наступающим летом истребим все их жатвы, то следующею зимою они будут жертвою голода» (курсив мой. — Я. Г.).
Тут невольно вспоминается не только прошлое по отношению к сороковым годам XIX века, но и будущее. В начале тридцатых годов XX века этим методом воспользовался Сталин, организовавший массовый голод в южной России и на Украине и миллионами голодных смертей задушивший в тех местах протест против коллективизации.
«Без всякого содействия оружия нашего неожиданный бич поставил горцев в положение еще затруднительнее прежнего; прошлогодние засухи и неурожай довершили их бедствие; голод со всеми ужасами своими приближался к их ущельям, и наступающая зима грозила гибелью враждебным соседям нашим, не имевшим никаких запасов».
Далее произошла вещь, характеризующая состояние умов русского генералитета и разность этических подходов. Тем начальником, которому контр-адмирал Серебряков направлял раз за разом свои предложения о продовольственной блокаде, был генерал-лейтенант Николай Николаевич Раевский-младший, сын знаменитого героя 1812 года, близкий приятель Пушкина, человек продекабристских настроений. Генерал Раевский был талантливый и решительный военачальник, непреклонно выполнявший свой долг русского генерала, так же как и Серебряков, не сомневавшийся в необходимости, целесообразности и неизбежности завоевания Кавказа, но душить голодом все население поголовно он готов не был. Из дальнейшего текста виден подспудный конфликт между генерал-лейтенантом, командовавшим Черноморской береговой линией, и подчиненным ему контр-адмиралом. В сороковом году, когда перед лицом неминуемой голодной смерти горцы сперва пошли на некоторые уступки и заявили о своей готовности покориться, Раевский приказал Серебрякову начать переговоры, разрешив при этом покупать продовольствие в русских укреплениях. Серебряков был против, считая — с полным основанием, как выяснилось позже — поведение горцев хитростью.
«Исполняя волю вашего превосходительства, я терпеливо продолжал вести с так называемыми представителями натухайскими прения, всю бесполезность коих очень хорошо понимал; я доносил вам, что предложения их так далеки от умеренных, снисходительных требований правительства, что явно изобличали совершенное ослепление на счет положения дел или намерение продлить время одними пустыми толками.
Иначе нельзя было понять просьбы их: отложить окончательное заключение переговоров до будущей весны, оставаясь до того времени с обеих сторон в неопределенном перемирии, и требования, чтобы в противном случае, если на отсрочку не соглашаемся, то взамен даваемых ими присяги и аманатов очистить укрепления и все занимаемые нами пункты от Абина до Анапы, и других дерзких и нелепых предложений, коих едва ли случалось русскому генералу слышать от стада нищих дикарей».
Как удивительно все это знакомо: и тактика горцев, и неосознание умным и опытным адмиралом принципиальной неразрешимости ситуации. В отличие от генерала Лебедя, ни Серебряков, ни Раевский, ни командующий Кавказским корпусом генерал-адъютант Головин не могли — если бы хотели — и заикнуться об удовлетворении требований противника, ибо за ними не стояло ни общественного мнения, ни благоразумия правительства. Они были солдатами строящейся империи и двигаться могли только вперед.
Но граница, за которую можно было заходить в выборе средств, представлялась им по-разному.
Правительство и командование не поддержали Серебрякова. Им был хорошо памятен прошлый, 1840 год, когда голод не вынудил горцев к покорности, но толкнул их на отчаянное наступление. В результате несколько укреплений Черноморской линии были ими взяты и разрушены, а гарнизоны вырезаны. Наоборот, меновая торговля поощрялась высшим командованием как средство сближения (которого, впрочем, не произошло).
Серебряков прекрасно понимал и страдания горцев, и неприглядность предлагаемых им методов борьбы:
«Запретительная мера на выпуск (из русских укреплений. — Я. Г.) продовольственных припасов при крайнем ежедневно возрастающем недостатке средств у горцев ведет прямо к оголоданию края; мера эта, без сомнения, несколько жестока, но требования военных предприятий не всегда совместимы с чистою филантропиею… Недостаток между горцами достигает высшей степени; беднейшие продают своих детей зажиточным по ценам столь низким, как никогда еще не бывало, и берут плату большею частию продовольственными припасами…
7 числа я доносил вашему превосходительству, что с некоторого времени свирепствуют между горцами преимущественно в местах, пораженных прошлогодними неурожаями, гнилые горячки и сильные поносы, сопровождаемые значительной смертностию; что болезни эти происходят от всякой скудной, негодной и даже зловредной пищи, которую вынуждает их употреблять голод».
Серебряков явно не был от природы жесток. Горцы представлялись ему самоубийцами, которые, вместо того чтобы подчиниться «снисходительным требованиям правительства» об искреннем и бесповоротном принятии российского подданства со всеми вытекающими последствиями и спасти себя и своих детей и от голода, и от русских штыков и картечи, по дикости своей вынуждают его, Серебрякова, к несвойственным его натуре поступкам.
У человека незаурядного (а Серебряков, безусловно, был таковым) стиль неизбежно говорит больше, чем собственно содержание. То, как описывал адмирал бедствия упрямцев, свидетельствует о многом:
«…Доказательством всех ужасов, коим подвергнуты соседние племена, служить может много обстоятельств, достоверно известных; так, например, в недальнем от Цемеса расстоянии, во время ненастий, несколько дней сряду свирепствовавших, в исходе прошлого месяца два семейства найдены погибшими в запертых и занесенных вьюгами саклях своих; не было следа чего-либо съестного; холодный пепел очага обнаруживал давнее отсутствие огня; несчастные, распростершись на голом полу в кухне, обессиленные голодом, не могли даже по-видимому защититься от стужи, которой сделались жертвами».
Здесь нет ни малейшего оттенка злорадства или торжества по поводу гибели врагов. Скорее наоборот — искреннее сострадание. Иначе Серебряков не стал бы так подробно, такими словами и с такой интонацией описывать гибель «несчастных». Но следом он настаивает на карательных экспедициях для уничтожения посевов и запасов хлеба[101]. Душераздирающие картины, им так выразительно описанные, оказываются аргументом в пользу окончательного решения. И в этом есть своя логика. Он видит — непоследовательность политики Петербурга ведет к еще большим страданиям обеих борющихся сторон:
«С каждым годом бездействие наше удаляет достижение цели; горцы приобретают более и более смелости, опытности и единодушия; прежде племена их вечно обуревались междуусобиями и распрями; с появлением нашим у них возникли дух народности, небывалое согласие, понятие общих усилий; война с нами прекратила их раздоры, союз их с каждым годом становится все теснее, и если не предупредить их покорением, то нельзя ручаться, чтобы не появился наконец между ними человек с диким гением и сильным характером, который воспламенит всегда тлеющие угли в сердцах азиатцев, страсти фанатические и, став на челе народа, вступит с нами за его разбойничью независимость в борьбу правильную, упорную и кровопролитную; таковая развязка нашего теперешнего образа действий основана на неопровержимом опыте прошедшего, потому что одинакие причины везде во все времена производят одинакие последствия».
Предсказания Серебрякова кажутся несколько странными, если учесть, что Дагестан и Чечня уже выдвинули такого вождя. Но Серебряков действовал по другую сторону гор — на побережье, и значение Шамиля было ему не столь очевидно, как генералам, сражавшимся на Северном Кавказе. Однако сам анализ ситуации и оценка характера процесса оказались абсолютно точными. Очень скоро произошла катастрофа 1843 года — триумфальное наступление Шамиля на русские укрепления, в результате чего было потеряно почти все завоеванное за предыдущие четверть века. И главной причиной была непоследовательность и неопределенность политики Петербурга.
У России был выбор — оставить Кавказ, отказаться от самой идеи безопасных коммуникаций с Грузией, катастрофически подорвать свой военный престиж, провоцируя Персию и Турцию на реванш, или же радикально усилить давление на горцев, форсируя покорение края.
Поскольку первый вариант лежал вне представлений как императора, так и генералитета (хотя во второй половине сороковых годов в Петербурге рассматривался проект компромисса с Шамилем, не получивший, впрочем, развития), то мысль практиков искала выход в пределах второго варианта.
Это и заставило контр-адмирала Серебрякова от предложений тактического характера перейти к стратегическим проектам. Обширная записка «Мысли о делах наших на Кавказе»[102], хранящаяся в Российском государственном архиве военно-морского флота, не датирована. Но по упоминаемым в ней датам и по смысловым акцентам она относится скорее всего в 1844 году.
Лето 1845 года ознаменовано было знаменитой Даргинской экспедицией. Как уже говорилось, по прямому приказу Николая I новый командующий Кавказским корпусом генерал от инфантерии граф Михаил Семенович Воронцов повел сильный отряд в «логово Шамиля» — укрепленный аул Дарго, взял его с огромным трудом, но на обратном пути, несмотря на героическое поведение войск, подвергся фактическому разгрому. Даргинский поход потряс русское офицерство своей кровавой бессмысленностью: сопряженный с огромными потерями захват резиденции имама, которую тут же пришлось оставить, если и повлиял на ситуацию, то в худшую для России сторону. Было ясно, что стоящая перед Кавказским корпусом, да и перед всей империей задача куда сложнее, чем казалось. Титанические военные усилия, приложенные за тридцать лет, начиная с ермоловских времен, привели именно к тому, чего так опасался Серебряков, — к сплочению горских племен и взрыву религиозного фанатизма. В своей записке Серебряков не говорит уже о дерзости «стада нищих дикарей» (как четыре года назад), но толкует о нравственном состоянии горцев как о фундаментальном факторе ситуации и уважительно называет их «гарнизоном осажденной крепости». А в самом начале записки встречаем удивительный пассаж:
«По неспособности некоторых из военных начальников, ошибочным их понятиям о роде войны и о способах, долженствующих употребляться для покорения Кавказа, — конечно, порождаются неудачные и бесполезные экспедиции».
Скорее всего, так ветеран Кавказской конкисты оценил разгром отряда Граббе и предсказал Даргинскую трагедию, предлагая свой всеобъемлющий план решения сколь великой, столь и мучительной имперской задачи. И надо сказать, что некоторые существенные положения этого плана были впоследствии использованы на заключительном этапе войны покорителем Кавказа князем Барятинским.
Проект Серебрякова отличался от многих других проектов трезвостью взгляда на происходящее. Об этом свидетельствуют оценки угнетенного физического и морального состояния войск на Черноморской линии, анализ проблемы управления уже покоренными областями — проблемы российских приставов. Относительно организации новой власти на местах у Серебрякова нет ни малейших иллюзий:
«От этого проистекают отягощения той части народа, которая находятся под рукой, лихоимство, притеснения всякого рода, несправедливости и, наконец, неуважение к власти, над ними установленной, являющейся в глазах горцев со всеми своими недостатками и слабостию».
Читая страницы, написанные полтора века назад, еще яснее понимаешь и трагедию горцев, и неимоверную сложность положения России, «силою самих обстоятельств» обреченной штурмовать Кавказ — «сильную крепость, чрезвычайно твердую по местоположению, искусно ограждаемую укреплениями и обороняемую многочисленным гарнизоном».
Проект Серебрякова еще раз подтверждает невеселую мысль, что иногда жестокая логика исторического процесса создает ситуации, из которых нет благополучного исхода… Во всяком случае — на протяжении длительного периода.
«МЫСЛИ О ДЕЛАХ НАШИХ НА КАВКАЗЕ»
ВСТУПЛЕНИЕ
Рассматривая настоящее положение дел на Кавказе, мы находим разительную перемену с положением к нам горских племен в 1826 году, но, обращая внимание на события, с тех пор на Кавказе случившиеся, на причины, изменившие нравственное состояние горцев, на средства, для усмирения их доселе в разное время употреблявшиеся, и на род самой войны, — нельзя отнести эту перемену, как многие полагают, единственно к частным причинам, к ничтожным событиям и некоторым неудачам, неразлучным во всякой войне, где должна быть принята кордонная система.
По неспособности некоторых из военных начальников, ошибочным их понятиям о роде войны и о способах, долженствующих употребляться для покорения Кавказа, — конечно, порождаются неудачные и бесполезные экспедиции, сопряженные с потерями иногда значительными. Бесспорно, что случаи эти отдаляют время покорения Кавказа, но смею думать, что главные причины, изменившие наши отношения к горцам, гораздо важнее и что мы их искать должны: в перемене нравственного состояния горцев, в мерах и средствах вообще, для усмирения их в разное время употреблявшихся, и наконец только в самом исполнении этих мер.
Мысли мои по этому предмету я основываю на существе событий, совершившихся на Кавказе в течение почти трехсотлетней борьбы нашей с кавказскими племенами, и полагаю, что вековая эта опытность должна нам служить руководством для определения мер и средств, к покорению Кавказа необходимых.
На сей конец я опишу главные события, образовавшие эпохи, которые доставили нам существенный и неоспоримый перевес над горцами; постараюсь рассмотреть последствия, происшедшие от разных мер; изыскать причины теперешнего нравственного их напряжения; и, наконец, руководствуясь как тем, так и другим, изложу мысли мои о мерах, для покорения Кавказа необходимых.
Полное историческое обозрение постепенных успехов наших противу горцев с тою подробностию, как бы это требовала важность предмета, я предпринять не могу, по недостатку материалов, и потому нахожусь в необходимости прибегнуть к памяти и к тем ничтожным запискам, которые я составил для себя.
I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВОЙНЫ РОССИИ НА КАВКАЗЕ, С САМОГО ЕЕ НАЧАЛА ДО НАШИХ ВРЕМЕН ЭПОХА I В царствование царя Иоанна Васильевича IV до императора Петра Великого, с 1559 до 1711 года (152 года)
Покорение Тюмени.
Начало борьбы нашей с кавказскими народами мы можем считать с XVI столетия, ибо в 1559 году покорен город Терки (Тюмень), находившийся на одном из рукавов Терека при впадении оного в Каспийское море. Город этот тогда же был заселен присланными из Москвы стрельцами, казаками донскими, гребенскими и уральскими, получившими после название Терских, и обнесен деревянною стеною с башнями.
Подданство пятигорских черкес.
В 1582 году Бештауские[103] (пятигорские) черкесы, стесненные частыми набегами соседственных к ним астраханских татар и калмыков, наслышавшие о могуществе царей русских, находившихся тогда в родственных связях с Кабардою, по женитьбе царя Иоанна Васильевича в 1561 году с кабардинскою княжною Мариею Темрюковною, добровольно предались покровительству России.
Первые дела с горцами и первое подданство Грузии.
Царь Федор Иоаннович посылал войско на Терек для усмирения горцев, беспокоивших наших подданных. Вследствие этого похода многие племена поддались России, и в это же время (в 1586 году) Кахетия, утесняемая сильным в то время дагестанским владетелем Шамхалом Тарковским, предала себя покровительству и подданству России.
Влияние России на Кавказ.
Влияние России в это время на дела Кавказа мы также видим из просьбы Шаха-Аббаса персидского, в которой он домогается, дабы с нашей стороны приняты были меры к воспрещению горцам чинить набеги на персидские области.
Между тем для вящего утверждения владычества России выстроен город Койсу на одном из дальних рукавов Терека.
В 1594 году царь Федор Иоаннович послал князя Андрея Хворостинина с войском для укрепления г. Терки, но в этом ему попрепятствовали дагестанцы и кумыки, сделавши на него сильное нападение.
Поражение русских войск за Тереком.
В 1604 году при царе Борисе Федоровиче русские войска действовали довольно удачно на реках Сулаке и Сунже и двинулись далее для овладения столицею Тамхали; но экспедиция эта не удалась; войска должны были отступить и при обратном следовании совершенно истреблены горцами; город Койсу потерян, и пограничным местом остался по-прежнему город Тюмень, или Терки.
Россия отклоняется от дел Кавказа и теряет влияние.
Потом смуты и политические перевороты, внутри России случившиеся, отклонили внимание правительства от Кавказа, и в продолжение целого столетия с нашей стороны не было предпринимаемо никаких действий, кроме похода в 1625 году Терковского воеводы Головина в Кабарду, для усмирения вспыхнувшего там возмущения, произведенного Заруцким с Мариною, и возобновления укрепления г. Тюмени при царе Михаиле Федоровиче в 1619 году голландским инженером Клаусеном, а второй раз при царе Алексее Михайловиче в 1670 году шотландским полковником Томасом Бехли. Только со времени императора Петра наступательные действия возобновились.
Несмотря, однако, на это бездействие, цари грузинские и кахетинские и владетели мингрельские, утесненные персиянами и турками, прибегали к покровительству и подданству России, как к державе единоверной.
Заключение.
Итак, мы видим, что в XVI столетии связи наши с Кавказом были дружественные, родственные и единоверные; что впоследствии Россия связи эти не поддержала, а между тем Персия с одной стороны, а Турция с другой, покорив Кавказ и распространив мусульманство, подавили существовавшие там остатки древнего христианства и тем уничтожили влияние России; что в царствование царя Иоанна Васильевича IV мы занимали только оконечность нынешнего левого фланга Кавказской линии и оставались в этом положении до времен Петра Великого, т. е. в течение 152 лет.
ЭПОХА II От времен императора Петра Великого до Екатерины II, с 1711 до 1763 года (52 года)
Первое русское поселение на Тереке.
В 1711 году образовалось на Тереке первое русское поселение. Потомки гребенских казаков, бежавших за реку Сулак, по причине участия в Донском бунте, произведенном Мариною Мнишек и Заруцким, стесненные чеченцами и другими горскими племенами, прибегнули к милосердию императора Петра Великого. По высочайшему его повелению они выселены были на северный берег Терека и основали станицы: Новогладковскую, Щедринскую, Старогладковскую, Курдюковскую и Червленую.
Начало Кавказской линии.
Таким случайным образом основалось начало Кавказской линии, которая уже потом по силе самих обстоятельств привлекала внимание правительства и обратила на себя первоначально, так сказать, избыток государственных средств, а наконец немаловажные усилия и пожертвования.
Поход в Дагестан и покорение прибрежных провинций Каспия.
В 1722 году император Петр Великий предпринял поход в Дагестан. Войско этого отряда состояло из 22 т. пехоты, 9 т. драгун и, кроме того, из малороссийских казаков, астраханских татар и кабардинцев.
По прибытии императора к Сулаку явились послы от многих горских владетелей, в том числе от Шамхала Тарковского, с изъявлением покорности. Войска вступили дружелюбно во владения Шамхала; но далее на пути к Дербенту были атакованы каракайдахцами, которые в этом деле были наголову разбиты. Дербент отворил ворота, и император, поставив в нем русский гарнизон, возвратился в Астрахань[104]. При обратном своем следовании Его Величество заложил на реке Сулаке кр [епость] Святого Креста, в 20 верстах выше устья оного, куда перевел почти весь гарнизон из крепости Терки, оставив там ретраншамент с 150 человеками. Между тем в бытность свою в кр [епости] Св. Креста, получив подкрепление, состоявшее из 40 т. калмыков, и присоединив к ним 1 т. донцов, поручил походному атаману Краснощекову идти с ними для наказания Уцмия Каракайдахского[105] и других горских владетелей, участвовавших в нападении при следовании к Дербенту. Краснощеков удачно совершил экспедицию, проник в горные вертепы Кавказа и поселил повсюду ужас и трепет.
На следующий год успехи нашего оружия были самые блестящие. Генерал Матюшкин покорил весь Дагестан[106], Апшеронский полуостров, ханство Ширванское, Баку, области: Гилян, Мазандеран и Астрабад.
Потеря Каспийских областей.
Казалось, что Россия в последние 12 лет царствования Петра Великого стала твердою ногою у подошвы Кавказа и что покорение приморских областей Каспии, упрочивая завоевания, подавало возможность продолжать покорение? Но завоевания эти в сущности были рановременны и отяготительны. Россия не имела возможности их удержать; вынуждена была вследствие Ганжинского мирного договора между Турциею с Тахмис[107] Кулиханом (шахом Надиром) уступить Персии все каспийские провинции, покоренные Петром, в том числе Дербент и кр [епость] Св. Креста; а границею обеих держав остался северо-восточный рукав Терека, именуемый Старый Терек.
Распространение Кавказской линии.
Но дабы прочно утвердиться на этой границе, в 1736 году построена на Тереке крепость Кизляр и из-за Терека переведены семейные и терские казаки, основавшие станицы: Каргалинскую, Дубовскую и Борозднинскую, которые с гребенскими казаками составили Кизлярскую линию, простиравшуюся до границ нынешнего Моздоцкого уезда, на протяжении 150 верст от Каспийского моря.
Трактатом 1739 года, заключенным между Россиею и Портою Оттоманскою, кабардинцы признаны независимыми и барьерою между обоих держав.
Потеря влияния России на Кавказе.
Таким образом, с одной стороны Персия, а с другой Турция вытеснили нас из-за Терека и от берегов Кубани; бездействие же наше и прозелитизм мусульман, развивавшийся в продолжение нескольких веков, совершенно отдалили нас от горцев.
ЭПОХА III От времени императрицы Екатерины II до царствования Павла Петровича, с 1763 до 1800 года (37 лет)
Возобновление влияния России на Кавказ и распространение Кавказской линии.
Только в царствование Екатерины II возобновилось влияние России на дела Кавказские, и с тех пор мы начали там утверждаться постоянно.
В 1763 году построена Моздокская крепость; гарнизон ее составлен из горцев[108], принявших св. крещение, и усилен, вслед за сим, 50-ю семействами переселенных с Дона.
Семь лет после сего между гребенскими казаками и крепостью Моздоком поселена часть воясских казаков, образовавших станицы: Калиховскую, Мекенскую, Наурскую, Ищорскую и Гамогаевскую и получивших название Моздоцкого полка. Таким образом образовался левый фланг нынешней Кавказской линии, 52 года после первого ее основания, т. е. после переселения в 1711 году гребенских казаков из-за Терека.
В 1769 году по повелению императрицы Екатерины II генерал-майор Медем с 10 т. калмыков удачно наказал кабардинцев за вероломство в бывшую тогда войну с Турцией; а генерал Тотлебен выгнал турок из Грузии, Имеретии и Мингрелии.
В 1774 году Кучук-Кайнарджийским миром представлена была власть над кабардинцами крымскому хану, а сей последний особым актом признал их зависимость от России. Но прежнее наше влияние и дружественные отношения с Кабардою были утеряны, и кабардинцы, сделавшись уже ревностными магометанами, не только зависимости своей от России не признавали, но мужественно защищали свою независимость.
Удержание этого народа в повиновении и желание усилить наши способы на Кавказе подали мысль князю Потемкину-Таврическому продолжить Кавказскую линию на запад до Кубани и водворить русские поселения на степях между реками Кумою и Калаусом.
В таких видах Кавказская линия продолжена по Тереку и Малке на запад, а потом на северо-запад, диагональною чертою до самого Черека. В 1777 году выстроены города: Екатериноград, Георгиевск, Александровск и Ставрополь, и в том же году, от Моздока до Георгиевска, поселен Волжский казачий полк, переселенный с реки Волги.
В 1779 году Кавказская линия продолжена до реки Кубани, которая и признана Портою границею между обеими империями, первоначально особым актом, заключенным в Константинополе в 1783 году, потом в 1791 году подтвержденным Ясским трактатом.
Устройство Кавказской линии от Каспийского до Черного моря.
В 1783 году занята Тамань и низовья Кубани.
В 1791 году сооружена Усть-Лабинская крепость, а в следующем 1792 основана крепость Константиногорская.
Для усиления правого фланга Кавказской линии построен в 1794 году на Кубани редут Недрематый, и в том же году переселены на Кубань казаки с Дона, составившие Кубанский полк и образовавшие станицы: Кавказскую, Темисбекскую, Григориполесскую, Прочноокопскую, Воровсколесскую и Темнолесскую, и при первых четырех воздвигнуты укрепления.
Влияние России за Кавказом возобновляется.
Между тем влияние России на Закавказский край также быстро начало развиваться.
В 1783 году царь Карталинский и Кахетинский Ираклий актом, заключенным в г. Гори, признал над собою власть Российской империи.
Поход на Кавказ для освобождения Грузии.
Впоследствии этой покорности, Россия была вынуждена в 1796 году объявить войну персидскому шаху Али-Магомет-хану, который в 1795 году вконец разорил Грузию.
Российские войска в числе 35 т. человек под начальством графа Валериана Зубова в короткое время покорили: Дербент, Кубу и Ганджу (Елисаветполь).
Кратковременная потеря сделанных завоеваний и возобновление владычества России за Кавказом.
Хотя завоевания эти в следующем году опять были оставлены, но в 1798 российские войска снова выступили за Кавказ для поддержания прав утесненного персиянами грузинского царя Георгия (сына Ираклия) и для усмирения горцев.
Два года спустя (в 1800 году) царь Георгий, предвидя погибель своего государства, последнего в Азии остатка христианства, на смертном одре завещал Грузию на вечные времена державе Российской.
Устройство Кавказской линии.
В то же время мы усиливались на линии водворением русского народонаселения. Вслед за поселением Кубанского полка переселены в нынешний Ставропольский и Пятигорский округи великороссийские и малороссийские крестьяне. А как кордонная линия между Тереком, Малкою и Кубанью имела длинную сухую границу, проходившую через Константиногорск и станицы: Воровсколесскую и Темнолесскую, то в 1798 году она проведена по Малке к Константиногорску, а оттуда к верхней части Кубани, к Баталпашинску; на этом пространстве сооружены восемь новых укреплений: Соленобридское, Беломечетское, Золковское, Этокское, Новоучрежденное, Касаевское, Абазинское и Калмыцкое.
Первоначальное устройство Военно-Грузинской дороги.
Поездки генерал-поручика Павла Потемкина в Грузию и беспрерывные сношения России с этим царством побудили основать в 1784 году по дороге от Моздока до Кавказских гор небольшие ретраншаменты и крепость Владикавказ, с тою целью, чтобы сообщение с Закавказом обезопасить от нападения горцев, которые чрезвычайно затрудняли наши сношения, производившиеся не иначе, как посредством сильного отряда с орудиями. Хотя сии сношения и дорога были оставлены в течение 16 лет, но в 1800 году, когда Грузия поступила в совершенное подданство России, она опять возобновлена и на протяжении между Моздоком и Владикавказом построены редуты: Константиновский и Елизаветинский, а крепость Владикавказская возобновлена и увеличена. Таким только ненадежным путем Закавказские владения соединялись с Кавказскою линиею.
Заключение.
Итак, царствование Екатерины II ознаменовано постоянными успехами на Кавказе. В 93-м году образовалась Кавказская линия от Кизляра до Азовского моря, на протяжении 900 верст; на ней построено шесть крепостей и множество укреплений; поселено 8 казачьих полков и многочисленное русское народонаселение. Весь кубанский край до Тамани покорен; караногайцы, едишкульцы, джамбулуки, наврузы и кубанские ногаи смирились и приняли подданство.
Таким образом, твердо утвердившись у предгория Кавказа, мы стали к нему грудью, и, обеспечив спокойствие границ империи, нам оставалось бы укрепить эту линию еще сильнее; покровительствовать горцев от чужеземного порабощения; вступить с ними, как с соседями, в мирные и торговые сношения и иметь Кавказ с его многочисленным и воинственным народонаселением барьером против Азии. Но силою самих обстоятельств мы увлечены за Кавказ; покоряем Дербент, Кубу, Баку, Ганжу и спасаем Грузию, порабощенную игу изуверов, а с этим вместе последнее, слабое христианство в Азии, доблестно боровшееся несколько веков с могуществом мусульманским.
С этой минуты мы начинаем войну уже собственно с кавказскими народами, ибо покорение их для спокойного и надежного обладания Закавказским краем соделывается существенною необходимостью. До этой же эпохи мы на Кавказе боролись не собственно с горцами, но с могущественною в то время Турциею и Персиею, вытесняя магометанство за пределы Европы.
ЭПОХА IV От царствования императора Павла Петровича до наших времен, с 1800 до 1841 года (41 год)
Обращение всех способов на Закавказский край в продолжение первых 14 лет 19-го столетия.
С присоединением Грузии, как мы видели, покорение Закавказского края для упрочения нашего там владычества сделалось первостепенною надобностью. А потому на это употреблены были все способы Кавказского корпуса; на Кавказской же линии наступательные действия приостановлены, и она по малочисленности своего народонаселения, не имея возможности противустоять горцам без постороннего пособия, — поддерживалась только регулярными войсками в такой степени, сколько для обороны ее, по крайней необходимости, нужно было. Усилить же эти способы правительство, вероятно, не находилось в возможности, имея в них более надобности в других местах, куда привлекалось все его внимание важными политическими переворотами, в то время в Европе происходившими[109].
Первые 14 лет 19-го столетия ознаменованы за Кавказом блестящими успехами и знаменитыми победами.
С 1800 по 1814 год покорены: Елисуйское владение, Джарская область, Шурагель, ханства: Ганжинское, Нухинское, Карабахское, Ширванское, Дербентское, Кубинское и Талышинское; княжества: Мингрелия, Имеретия, Гурия и Абхазия.
Состояние Кавказской линии в 1815 году.
В это время Кавказская линия оставалась почти в том же положении, как она была в 1794 году, только между Тереком и Кубанью она немного подвинута, а в некоторых местах построены незначительные укрепления для вящего охранения границ, и между станциями Кубанского полка и Черноморскими казаками поселен в 1805 году Кавказский казачий полк, составившийся из Екатеринославского войска. Но вообще все укрепления на линии пришли в расстройство.
Последствия от устройства Кавказской линии.
Не менее того Кавказская линия со всеми своими недостатками, происходящими частию от обстоятельств, частию от неспособности тех, кои устраивали оную, и более от неспособности частных начальников, что с кордонною системою неразлучно, несмотря на все сие, устройство этой линии много уже послужило к обузданию кавказских народов. Хищничества их не так часто повторялись; набеги не простирались так далеко, как прежде, и ограничивались по большей части крайней полосою. Это дало возможность поселить в Кавказской области значительное число русских крестьян, обращенных впоследствии в казаков. Караногайцы, эджанские и джамбулуковские ногайцы, кочующие от Кизляра до Ставрополя и оставшиеся таким образом внутри линии, были прежде столько же хищны, как чеченцы, кабардинцы и другие кавказские народы. Теперь они сделались совершенно мирными жителями, занимаются особенно скотоводством и несут значительную повинность, развозя для войск провиант с Серебряковской пристани на Каспийском море. Теперь из них редко можно увидеть вооруженного. Ногайцы, живущие по Колаусу и около Бештовых гор, хотя носят оружие, но в хищничествах не бывают; даже один из их аулов обращен в казаков и причислен к Волжскому полку.
Положение кавказских народов в 1815 году.
Осетины, кабардинцы, чеченцы, дагестанцы и закубанцы в продолжение этого периода производили набеги многочисленными партиями и тревожили наши границы. Чеченцы были самые беспокойные из всех соседей. Не только в наших границах по Тереку и по Военно-Грузинской дороге производили свои хищничества, но распространяли их между соседними им кавказскими племенами, особливо между кумыками, так что кумыкские князья в собственных своих владеньях уже не осмеливались ездить без чеченского проводника.
Все многочисленные лезгинские племена были вовсе непокорны и грабили в наших пределах.
Шамхал хотя признавал власть России, но был уже слишком слаб, чтобы противиться горцам, и его подвластные занимались хищничеством вместе с лезгинами, кумыками и чеченцами.
В остальной части Дагестана только были покорны Дербент и Куба, но ханства: Кюринское, Казакумыкское, Аварское, Мехтулинское; владения Уцмия, Майсуми и многочисленные вольные общества не признавали нашей власти.
На берегу Черного моря турки занимали: Поти, Анаклию, Сухум-Кале, Пицунду, Суджуп и Анапу. Горские племена, обитающие на южном скате Кавказа, были непокорны, исключая некоторых незначительных грузинских горных обществ, принадлежавших издавна грузинскому царству.
Абхазские владетели хотя в 1811 году признавали зависимость свою от России, но беспрерывные смуты и междуусобия, шаткое положение самих владетелей и сильное влияние на этот край Турции, занимавшей в то время, как выше упомянуто, Сухум-Кале, соделывали в этом углу навсегда влияние наше совершенно ничтожным.
Грузия разорялась с одной стороны лезгинами и джарцами, с другой набегами эриванских татар и ахалцихских турок в совокупности с тамошними лезгинами.
Военно-Грузинская дорога подвергалась беспрерывным нападениям хищников, и сообщение по ней производилось не иначе, как под сильным пехотным конвоем при орудиях.
Положение России на Кавказе и дальнейшие меры к покорению до 1826 года.
Таким образом, Кавказ был, так сказать, блокирован: с севера — Кавказскою линиею, с юга и востока — Закавказскими нашими владениями; оставалось бы стеснить его с запада, но там владычествовала еще Турция. Между тем Дагестан, Чечня и Кабарда находились в средине наших владений и сильно тревожили границы наши. По этим уважениям с 1817 года открыты противу этих племен наступательные действия.
С 1817 по 1821 год устроена Сунженская линия, которая через землю кумыков продолжена в шамхальские владения до Каспийского моря, состоявшая из нижеследующих укреплений:
1) Преградный стан. 2) Злобный окоп. 3) Кр [епость] Грозная. 4) Неотступный стан (впоследствии укрепление Горячеводское). 5) Амир-Аджи-Юрт. 6) Аксой, или Герзель-Аул (впоследствии переименованный в Таш-Кичу). 7) Кр [епость] Внезапная. 8) Кр [епость] Бурная.
В 1822 году устроена Кабардинская линия от Ардона до Каменного моста на Малке, состоявшая из 7 укреплений, в один год возведенных:
1) Каменный мост. 2) Баксанское. 3) Мечетское. 4) Нальчикское. 5) Чегемское. 6) Урванское. 7) Черекское.
В 1822 году устроена Кисловодская линия между Каменным мостом на Малке и Кубанью, состоявшая из укреплений:
1) Бургусант. 2) Хахандуковское. 3) Тахтамышевское.
В 1822 году приступлено к устройству Лезгинской линии построением укреплений:
1) Бежанъялы. 2) Натлис-Мцанела. 3) Кварель.
В 1825 и 1826 годах учреждалась и открыта Военно-Грузинская дорога чрез Большую Кабарду, на которой в это время построены укрепления:
1) Пришибское. 2) Урухское. 3) Верхнеджулатское (Миноретское). 4) Дурдурское. 5) Ардонское. 6) Архонское.
В продолжение же этого времени, т. е. с 1817 года до 1826, предпринимались сильные экспедиции за Кубань, в Чечню, Кабарду, Дагестан и Осетию.
Последствия от принятых мер.
Меры эти произвели следующие последствия:
1) Чеченцы, жившие на правом берегу Терека, несмотря на название мирных, служили до того времени пристанищем хищнических партий, в коих они всегда участвовали. Со времени построения Грозной не только не скрывали у себя хищников, но вместе с нашими войсками ходили против непокорных нам горцев, своих соплеменников и единоверцев; давали подводы; возили лес; по призыву государя императора с полною готовностию и усердием являлись на службу и исполняли все требования начальства беспрекословно.
2) В земле кумыков город Ендери, который мы называем Андреевым, искони был главным местом на Кавказе, куда съезжались торгующие пленными, для продажи и покупки оных, откуда увозили сих несчастных по большей части в Турцию, чрез Анапу. С тех пор, как построена крепость Внезапная и постоянно находятся там войска, в Андрееве торг пленными совершенно прекратился и ни лезгины, ни чеченцы не имели более связи с черкесами.
3) Укрепления, построенные в земле кумыков и в Чечне, дали кумыкам и мирным чеченцам опору против непокорных чеченцев и лезгин; нам доставили возможность надзирать за самими кумыками и мирными чеченцами, так что ни сами они не находили прежних удобностей к хищничествам, ни чеченских хищников укрывать у себя не могли. Сверх того, водворение наше между кумыками и чеченцами их с нами сблизило, а вследствие всего этого Кавказская линия по всему протяжению участка Терека успокоилась.
4) По тем самым причинам такое же точно влияние имели Кабардинская и Кисловодская линии на все пространство от Екатеринограда до Георгиевска и далее к Ставрополю[110]. По тем же самым причинам прекратилось пленнопродавство и хищничество кабардинцев и соседних к ним горцев.
5) Теперь кабардинцы служат охотно в наших войсках; отдают детей своих в кадетские корпуса; начали с нами сближаться и связи свои с непокорными возобновили только впоследствии возмущения Чечни в [1]840 и волнения, в то же время происшедшего в землях черкесских.
6) Устройство укреплений и линий в земле кумыков и в Кабарде дало возможность поставить между ними начальников из русских офицеров и туземцев, нам преданных; учредили у них суды под председательством русских чиновников, которые управляют народом и разбирают тяжбы и ссоры. Кумыки и кабардинцы, увидев, что они управляют хорошо и скоро оканчивают дела, что раскладка повинностей делается со всею справедливостию, — остались судами этими довольны. Только духовенство на это учреждение ропщет, домогаясь суда по шарияту (так в тексте. — Ред.), ибо разбирательство дел существующим теперь порядком лишает их влияния и власти, которую они всемерно стараются приобрести нам во вред.
7) Акуша, Кубачи, Сюрги, Нижний Каракайдах и Табасарань, ханство Ксаринское и Каза-Кумыкское, составляющие весь Центральный Дагестан и главную часть Южного, покорились, платив исправно значительную дань хлебом и деньгами; давали по требованию русского начальства милицию против единоплеменников своих и только в [1]843 году изменили впоследствии всеобщего возмущения.
Действия на Кавказе хотя приостанавливаются во время персидской и турецкой войны, но сугубо вознаграждаются.
В 1826 году открывшаяся персидская война и потом вслед за нею турецкая, продолжавшиеся до 1830 года, хотя на это время приостановили действия на Кавказе, но достославными своими подвигами имели благодетельнейшее влияние на успокоение Кавказа. Знаменитыми победами генерал-фельдмаршала князя Варшавского покорены: Эривань, Нахичевань, Ахальцих, Ахалкалахи, Поти, Анаклия, Сухум, Пицунда, Суджук, Анапа, и турки, вытесненные с восточного черноморского берега, уступили России все права свои на черкесские берега и на Закубанье.
Действия на Кавказской линии во время турецкой войны.
Между тем в продолжение войны с турками на Кавказской линии предпринимались небольшие наступательные действия. В 1828 году построено укрепление Св. Георгия на Уране и Джимитея при Бугасском проливе. В 1829 Жировское — на Чатлыне; Калажское — на Лабе и Жинифа — близ реки Белой, которые, однако, были вскоре оставлены.
Меры к покорению Кавказа после турецкой войны.
По окончании турецкой войны в 1830 году все усилия обращены были на покорение черкесских племен, т. е. на обложение Кавказа с последней стороны, с которой он оставался свободен. Сначала сильные наступательные действия начались за Кубанью в земле шапсугов, потом перенесены в землю натухайцев, и в то же время приступлено к устройству Черноморской прибрежной линии. Но с 1838 года действия на правом фланге в видах усмирения горцев силою оружия приостановлены, и только с большею деятельностию продолжалось устройство прибрежной линии. Линия эта имеет цель: 1) прервать горцам всякое сношение с иностранцами; 2) лишить их возможности получать извне огнестрельные снаряды, соль и другие потребности; 3) понудить их этим к изъявлению покорности.
В других местах Кавказа, исключая устройства Лезгинской кордонной линии, до 1839 года постоянных действий не было, а некоторые частные, в это время происходившие, зависели от положения дел и имели цель удовлетворять временным потребностям края.
Меры к покорению Кавказа с 1830 года состояли в следующем:
В 1830 году на Черноморской береговой линии и Закубанье построены укрепления:
1) Гагры. 2) Бамбары. 3) Мостовое Алексеевское (при переправе чрез Кубань). 4) Афипское за Кубанью.
В том же году довершена Лезгинская линия, начатая в 1822 году; на ней построены укрепления:
5) Кр(епость) Новые Закаталы. 6) Белоканы. 7) Лагодех. 8) Картубань.
В 1831 году на Черноморской береговой линии возведены:
1) Геленджик. 2) На Кубани устроена переправа для сообщения Черноморья с Геленджиком и при ней Ольгинский Тет-де-Пон.
В 1832 году на Черноморской береговой линии построены:
1) Укрепление Новотранцкое и в Северном Дагестане. 2) Темир-Хан-Шуру.
Сверх того, совершены экспедиции: одна против натухайцев; другая в Северном Дагестане, для усмирения жителей того края, возмущенного Кази-муллою.
В 1833 году предпринята экспедиция к натухайцам и в то же время к кистам, обитающим около Владикавказа.
В 1834 году на Черноморской линии и за Кубанью построены укрепления:
1) Обин. 2) Николаевское. 3) Дралды. 4) Пилары.
В 1835 году предпринята сильная экспедиция в земле натухайцев.
В 1836 году на Черноморском берегу построены укрепления:
1) Кабардинское и в Северном Дагестане. 2) Митрлинское на Сулаке.
В 1837 году на Черноморском берегу построены укрепления:
1) Михайловское. 2) Св. Духа.
В Дагестане занято Аварское ханство и сооружена крепость Кузнах.
Кроме того, в Дагестане предпринимались экспедиции в Аварии и Койсуби против Шамиля и в Чечне.
В 1838 году на Черноморском берегу построены укрепления:
1) Первый форт Новороссийский. 2) Тетинская. 3) Вельяминовское. 4) Навагинское.
Кроме того, в малой Кабарде для прикрытия Военно-Грузинской дороги:
5) Константиновское. 6) Елисаветинское.
На Сунженской линии для соединения Грозной с Внезапной:
7) Умахан-Юрт.
В Северном Дагестане для соединения Хунзаха с Темир-Хан-Шурою:
8) Зирани. 9) Бурундук-Кале.
В Южном Дагестане по случаю бывшего в 1837 году возмущения:
10) Кубинское. 11) Хазры.
Предпринята экспедиция в горные Самурские общества и в Койсубу и Аварию противу Шамиля.
В 1839 году на Черноморском берегу построены укрепления:
1) Другой форт в Новороссийске. 2) Форт Лазаревский. 3) Головинское. 4) Раевский.
По Любинской линии:
5) Зассовское укрепление.
В Южном Дагестане:
6) Тифлисское. 7) Ахтинское.
Предприняты две сильные экспедиции: одна для приведения в покорность Самурских горных обществ и другая противу Шамиля.
В 1840 году на Черноморском берегу устроены укрепления:
1) Возобновлены форты Лазарев и 2) Вельяминовский.
В Цебельде:
3) Марамбское.
На Лабинской линии:
4) Махашевское. 5) Темиргаевское. 6) Новоданское. 7) Новогеоргиевское.
На Чеченской линии:
8) Герзель-Аул.
Предприняты экспедиции в Чечню и Северный Дагестан противу Шамиля, для усмирения возмутившегося края.
В 1841 году предположено построить укрепления:
На Чеченской линии:
1) Чиркеевское. 2) В Аргунском ущелье при Чах-Кери.
На Лабинской линии:
3) При Ахмет-Гаре.
Кроме того, предполагалось: а) построить 4 поста на Лабе; b) 4 укрепленные станицы для поселения вновь формированного казачьего Лабинского полка и с) в Дагестане перестроить Темир-Хан-Шуру, Хунзах и низовое укрепление при Тарки, а на Черноморском берегу укрепление Гагры.
Кроме того, предпринимаются четыре экспедиции: одна в Дагестан, другая в Чечню, третья в землю абадзехов, четвертая в землю убыхов[111].
Общий свод действиям на Кавказе с 1830 по 1841 год.
Из этого краткого очерка видно, что в продолжение 15 лет, т. е. с 1826 по 1841 год, построено:
С 1826 по 1831 год:
На Черноморском берегу и за Кубанью
в земле шапсугов……..4 укрепления
На Мезгинской линии….4 укрепления
Итого…………………..8 укрепления
С 1831 по 1838 год:
На Черноморском берегу и за Кубанью
в земле шапсугов……….10
В Дагестане………………3
Итого……………………13
С 1838 по 1841 год:
На Черноморском берегу…9
Против абадзехов…………6
В Дагестане и Чечне…….10
В Кабарде…………………2
Итого…………………….27
ВСЕГО……….48 укреплений
Последствия от мер, принятых на Черноморской береговой линии.
По сие время укрепления на Черноморском берегу и крейсерство, в особенности азовскими ладьями, конечно, затрудняют сообщение, не менее того черкесы не перестают быть в сношениях с Турциею, о чем свидетельствуют журналы происшествий и донесения местного начальства. Сношения эти могут быть еще более затруднены, но никакою бдительностью нельзя достигнуть, чтобы они были вовсе прерваны. Нельзя, чтобы черкесы не пользовались ночною темнотою, или туманом, или сильным ветром, — отдаляющими крейсера от берегов. Заметить должно, что к сношению с Турциею они побуждаемы не только торговыми и политическими видами, но и узами родства, проистекшими от вековых продаж женщин, или, вернее сказать, от выдачи их в замужество. А потому, ежели бы даже и удовлетворять их нуждам для потребностей жизни, то связи с Турциею этим расторгнуты не будут; безошибочно можно сказать, что теперь в Константинополе почти нет ни одного сановника, который бы не был по жене или наложнице в родстве с лучшими фамилиями черкесскими. На сухом пути кордонные линии имеют взаимные сношения между укреплениями, там остается след, по которому можно прорвавшуюся партию преследовать, не менее того горцы чрез них беспрерывно проходят.
Для сближения посредством торговли с кавказскими народами, которым продавать почти нечего, заведены были меновые дворы или дозволяется приезжать в наши города и деревни для продаж и покупки разных товаров; кабардинцы, чеченцы, шапсуги и натухайцы возят и теперь на продажу: доски, бревна, дрова и живность; первые из них, как мирные, ездят даже в отдаленные станицы и колонии; между тем одни возмутились при первом появлении Шамиля, вторые волнуются, а последние среди миролюбивых и дружеских с нами сношений не перестают нападать на наши Анапские поселения. Нельзя не заметить, что во время экспедиции покойного генерала Вельяминова в их земле нападения эти никогда не повторялись так часто, никогда не были так жестоки и отчаянны, как в последнее время, когда сношения усилились.
Генерал Ртищев, командуя на Кавказской линии, сделал пред самым назначением своим в командование всем корпусам мирный договор с чеченцами; чрезвычайно обласкал главнейших и знатнейших из них в разбоях; одарил их щедро. Вслед за сим, отправясь в Тифлис, был атакован на первых переходах чрез горы сими самыми чеченцами.
Совершеннейшее невежество кавказских горцев препятствует видеть несоразмерность сил их с могуществом России. Они думают, что могут иметь против нас успехи и что могут отстоять свою независимость. От времени до времени действительно им удаются некоторые набеги, и удачи сии происходят от местных обстоятельств, а более от неспособности многих военных наших начальников. Как сии причины, так и вообще образ их понятия, происходящий от воспитания, обычаев и большого недостатка нравственности, заставляют их думать, что гостеприимство, щедрость, ласки, выгодные для них торговые сношения — суть дань бессилия. Они приносят тогда только пользу, если сопряжены с успехом оружья. Во все продолжение времени правления генерала Ртищева чеченцы и кабардинцы не переставали делать хищничество по Военно-Грузинской дороге, опустошая Терек, и только тогда усмирились, когда, как мы видели выше, выстроен был в землях их ряд укреплений с сильными гарнизонами, имевшими между собою свободное сообщение и в тылу целую Кавказскую линию. Эти укрепления дали возможность иметь лучший надзор за мирными; дали более удобности приходить с войсками нечаянно в жилища хищников и там наказывать их силою оружия; дали способ, в случае набегов, отрезывать отступление, о котором хищники всегда более помышляют, нежели какой-нибудь полководец.
Хотя укрепления на восточном берегу по своему отдельному (изолированному) положению представляют большие невыгоды, не менее того они имели бы влияние на горцев, как и другие линии, если бы возведение их сопряжено было с наступательными действиями и если бы гарнизоны были в состоянии неожиданно приходить в жилища горцев и наказывать их при малейшем неприязненном действии.
Напротив того, с 1838 года сильные отряды, на восточный берег прибывшие, оставляли горцев в совершенном покое и только от них отбивались во время постройки укреплений. Гарнизонам даже строго воспрещено было выходить из укреплений и угрожать горцам в жилищах их; даже вырубка леса была запрещена под тем предлогом, чтобы не заводить с горцами дела, не раздражать их и избежать потери людей. С другой стороны, совершенное бездействие[112] породило в войсках робость и уныние, неизбежный источник болезней и смертности. Офицеры, большею частию дурной нравственности, предавались пьянству. Люди теряли уважение и доверенность к начальникам и упадали духом. Расстройство гарнизонов, дурное состояние укреплений и система, в действиях с горцами принятая, не соответствующие, как выше изъяснено, с их понятиями и образом мыслей о силе и могуществе, которым они только повинуются, — породили в них самонадеянность и дерзость, дотоле на Кавказе неслыханную.
Последствия и успехи от мер наступательных.
До тех пор, пока сила оружия не употреблялась на Черноморской береговой линии, мы не имели успехов.
В прошлом году начальник 3-го отделения генерал-майор Муравьев, для приведения в покорность возмутившейся горной Цебельды, употребил силу оружия; действия этого достойного офицера увенчались полным успехом, и не только Цебельда и все окрестные племена смутились, но даже джигиты, устрашенные наказанием, постигшим горную Цебельду, склонились к покорности.
Успехи и выгодные для нас последствия, происшедшие от наступательных действий в Дагестане, Чечне, Кабарде и в других местах на Кавказе, мною выше описанные, пусть покажут противнику сего образа действий, какая произошла польза от ласкательств и щедрот, рассыпанных между кавказскими народами в разное время? Между тем сила оружия, как мы видели, доставила нам такие успехи, которые никаким гостеприимством, никакою ласкою, никакою щедростью, никакими торговыми сношениями нельзя было бы достигнуть.
Горцы по воспитанию своему, понятиям и обычаям даже и среди своих обществ не признают никакой власти, кроме силы оружия, никаких обязанностей, кроме тех, к исполнению коих можно принудить оружием, кои, несмотря на множество присяг, не исполняют никаких условий, коль скоро находят возможность нарушить оные. Каким образом народ хищный, воинственный, полудикий, покорится мирным соседям? Кажется, вопрос состоять должен в том только, каким образом употребить оружие, дабы вернее достигнуть цели, приспособляя и миролюбивые меры как средства вспомогательные и второстепенные.
Последствия от устройства Лезгинской кордонной линии.
До устройства в 1830 году Лезгинской линии за Кавказом джаро-салаканские лезгины, вместе с горными лезгинами, сильно нас тревожили среди владений Закавказских, увлекали людей в плен из окрестностей самого Тифлиса и при случае могли бы нам нанести много вреда. После учреждения этой линии и строгого наказания джарцев силою оружия не только эта провинция успокоилась, но имела большое влияние на спокойствие Кахетии и Тифлиса.
Положение Дагестана и Чечни до турецкой войны.
В 1826 году за Тереком мы имели только крепость Грозную, Амио-Алжи-Юрт, Горячеводскую, Таш-Кичу, Внезапную и Бурную. Преградный стан и Злобный окоп, находившийся на Сурудже между Грозною и Назраном, были упразднены потому, что места для укреплений не были избраны те, которые наиболее приличествовали, и строения в них были совершенно разрушены. Но вместо их предполагалось выстроить другие, как ниже об этом сказано будет.
Генерал Ермолов предполагал устроить передовую линию, которая соединяла бы кр [епость] Бурную с Владикавказом следующим образом:
1) Для связи Внезапной с Бурной думал построить одно укрепление у Болтугая[113] и сделать тут мост или переправу чрез Сумак, другое в Кафер-Кумыке, близ Темир-Хан-Шуры, и третье в Кум-Теркале.
2) На Сунженской линии он же предполагал построить укрепление близ Казах-Кичу, несколько выше оного, другое верст 15 впереди деревни на речке Оссе, впадающей в Сунжу, недалеко того места, где Осса выходит из ущелья. Укрепление это должно было помещать 500 человек гарнизона. Между Казах-Кичу и Грозной предполагалось построить пост при Ахан-Юрте или верст 10 выше Грозной; наконец, ниже Грозной — пост на Тепвикинчинской переправе.
Укрепления эти по Сунженской линии стеснили бы чеченцев в хищнических предприятиях к стороне Червленой, на Ура-Миздана-Владикавказа и по Военно-Грузинской дороге, доставили бы возможность приходить внезапно с войсками как в жилища карабулаков, так и к чеченцам, живущим за Оссою; укрепления же ниже Грозной прикрывали бы все пространство, находящееся между нижнею частию Сунжи и Тереком, а форты между Внезапной и Бурной прикрывали бы Шамхальские владения и нижний Терек к стороне Кизляра. Основательность этого предположения совершенно оправдалась событиями 1831 года и в особенности 1840 года. Если б Сунженская линия существовала так, как ее генерал Ермолов предполагал, то прошлогоднее возмущение Чечни не имело бы таких несчастных последствий. Те карабулаки и чеченцы, которые были нам преданы, нашли бы опору и защиту, они не имели бы возможности увести свои семейства; Военно-Грузинская дорога была бы совершенно прикрыта и не подвергнулась бы бедствиям, которые ее постигли в 1841 году.
Положение Дагестана и Чечни после персидской и турецкой войны.
Конечно, совершенно покойное состояние Дагестана после турецкой войны 1829 года подавало полную надежду на покорность этого края и дозволяло обратить все способы на противуположный фланг. Но между тем в недрах Дагестана собиралась туча, которая с тех пор омрачает край и грозит могуществу нашему.
Кази-Магома, или, как мы его называем, Кази-Мулла, восстанием своим в 1831 году возбудил умы разнородных племен Дагестана. Не только отдалил время покорения этого края, но распространением пагубного для нас учения своего воспламенил полудиких лезгин религиозным фанатизмом, со смертию его более и более возрастающим.
Мюриды[114], последователи учения Кази-Муллы, как мученики, обрекшие себя на смерть для прославления и распространения исламизма, как его побожники, проповедывают войну и ненависть к христианам. Шамиль, второй преемник и сподвижник Кази-Муллы, сосредоточивает в себе эту духовную власть в звании Имам-Азама[115] посредством своих мюридов, которые составляют его силу и исполняют безусловно все его веления, он держит всех в повиновении; чрез них приводит все замыслы свои в исполнение; неповинующихся наказывает смертию и часто за малейшее ослушание истребляет целые семейства: чрез них распространяет более и более свои учения, а с ними власть и могущество. Теперь нет деревни в Дагестане и в Чечне, которые не имели бы несколько мюридов, проповедывающих вражду и ненависть к нашему правительству.
Учение Шамиля, т. е. его шарият[116], принято почти от Каспийского моря до Кабарды, где уже также есть тайные его последователи; с [18]42 года учение его проникло к абадзехам и чрез посланного от него наместника он приводил их к повиновению. Он разделил весь край, ему повинующийся, на участки и поставил в них правителей, жестокостию и строгостию порабощающих народ его верховной власти. Организация эта, соединяя все силы и способы народные, направляет их к одной цели, для нас тем более опасной, что они основаны на религиозном фанатизме и на тех началах, которые служили основанием могущества арабов и османов. Эти основания дают войне на левом фланге Кавказской линии совершенно другой характер с войною на правом фланге и на восточном берегу.
Хотя борьба на Черноморском берегу и за Кубанью упорна, но утвердительно могу предсказать, что этой войне с мерами, ныне предпринимаемыми генералом Анрепом, мы увидим конец и он не так удален, но войне в Дагестане конца скоро не предвижу.
Нельзя не сознаться, что в продолжение всего времени командования генерала барона Розена дела Дагестана были почти забыты, и важности, в развивающейся в Кастии <деятельности> последователей Кази-Муллы, не предусматривалось; а зло между тем созревало и теперь достигло высокой степени. В справедливости этого мы легко убедиться можем, взглянув на выше изложенный мною краткий очерк действиям нашим на Кавказе, из которого мы видим, что с 1831 по 1838 год в Дагестане почти ничего не сделано.
Хотя после истребления Кази-Муллы под Гилузами построена Темир-Хан-Шуру близ Кафер-Кумыка, где генерал Ермолов предполагал построить укрепление, устроена переправа через Сулак вместо Болтутая в Миатлы; а в 1836 году занята Авария, возведена Хуизахская цитадель и предпринимаемы незначительные экспедиции в Нагорный Дагестан и Чечню, но действия эти, продолжавшиеся шесть лет, были слишком слабы, не соответствовали состоянию края и не противупоставляли возраставшему влиянию Шамиля надежных препон.
К окончанию Сунженская линия от Назрани до Толи-Кичу, на котором находилась только кр [епость] Грозная, была открыта. Укрепления приходили в упадок, наступательные действия, уже только в последнее время предпринятые, не совсем удавались, а между тем слабое и несправедливое управление краем при недостатке войск породило в 1837 году Кубанское возмущение, которое увлекло весь южный и часть центрального Дагестана и сильно отразилось не только в остальной части Дагестана, но даже за Кавказом и в Шеминской провинции. Этим шатким положением края и умов предприимчивый и осторожный враг наш умел воспользоваться и быстро развивал свое влияние.
Не могу умолчать, что и действия против Шамиля с Кавказской линии в 1839 и 1840 годах были, по моему мнению, несоответственные положению дел. В 1839 году, после поражения Шамиля при Бутурнае и Аргуани, надлежало овладеть Чиркеем и построить там укрепление, это прикрыло бы совершенно Шашхельские владения и кумыков. Хунзахскую цитадель надлежало перестроить прочным образом, увеличить объем и дать ей сильную оборону с гарнизоном на место одного батальона, это прикрыло бы Аварию и не поставило бы нас в то затруднительное положение, в котором мы находились там в 1840 и 1841 годах зимою.
Рассматривая дела так, как они совершались после пожертвований и потерь под Ахулью и после неудачи при Чиркее, воспламенившей горцев новою надеждою, я полагаю, что надлежало бы принять деятельные меры для наблюдения за действиями Шамиля и для усиления пунктов, ближайших к месту его пребывания в Аргунском ущелье. Надлежало видеть в нем врага опасного и не предаваться нелепой мысли, что он уже потерял все доверие горцев, что он скитается бесприютный, всеми отверженный. В то самое время, когда он распространяет власть свою между чеченцами и кабардинцами, следовало знать истинное положение Дагестана и Чечни и возможности, которые они имели быть нам вредными. Мы ведем с ними войну 40 лет, можно бы в этом не ошибиться? Если бы должные меры предосторожности были приняты, Шамиль не явился бы в таких силах и так нечаянно, как это было весною прошлого года.
В возмущении Чечни местное начальство обязано было предусмотреть ту степень опасности, которая действительно угрожала целому краю, и, не пренебрегая этой опасностию, отложив другие предположения и экспедиции[117], употребить все способы на замирение края. Бесполезное в нынешних обстоятельствах Горчель-Аульское укрепление не следовало в 1840 году возводить, но должно бы обратить внимание на укрепление Сунженской линии и на неразлучное с этим прикрытие надтеречных и сунженских чеченцев и Военно-Грузинской дороги, с другой же стороны на прикрытие кумыков, Шамхальства и Аварии.
Заключение.
Вот причины, которые, по моему мнению, дали вообще делам, как в Дагестане, так и на Черноморском берегу, столь невыгодное для нас направление.
Противу совести моей было бы также умолчать, что если слабость и безнаказанность в крае, где мы установили правление, будет отличительною чертою, то, к несчастью, ожидать можно еще худших последствий.
Последствия действий на Кавказе с 1830 по 1841 год.
Теперь рассмотрим последствия производимых действий против горцев в этом периоде, т. е. с 1826 по 1841 год.
1) Первый шаг к покорению прибрежных черкес сделан. Джигеты приняли подданство, и с полною надеждою можно ожидать дальнейших успехов.
2) Закубанские племена, обитающие между Кубанью и Лабой и далее на правом берегу этой последней реки живущие, смирились, и в крае этом, где в 1826 году ходили не иначе как сильными отрядами, теперь сообщение совершенно свободно и устраиваются казачьи поселения.
3) По всей Кубани, в особенности в Черномории, хищничества до чрезвычайной степени уменьшились. Теперь, кроме малочисленных партий, занимающихся воровством, других не бывает. В этом убедиться можно, сравнив происшествия прошлых годов.
4) Хищничество в Кабарде и по всей Военно-Грузинской дороге до того прекратилось, что спокойное и надежное состояние края дозволило там водворить десять русских поселений, из коих одно внутри гор.
До учреждения линии, хотя одни поселения не совсем окончены, сообщение по Военно-Грузинской дороге не иначе производилось как сильным конвоем пехоты с артиллериею. Теперь сообщение это безопасно, в особенности в горах, почта, путешественники, поселяне, даже одинокие женщины ездят свободно[118].
5) До устройства укрепления за Тереком сообщение с Дагестаном производилось не иначе как чрез Кизляр, где в 1815 году между этим местом и Кизе-Юртом был схвачен в плен чеченцами майор Швецов, ехавший под защитою сына кумыкского князя Шафира Тамирова. Теперь все тяжести, рекрутские партии, проезжие и всякой команды до прошлогоднего возмущения ходили прямо в Темир-Хан-Шуру чрез Внезапную из Грозной или из Амир-Аджи-Юрта[119].
6) Еще более должно сказать о Дагестане южном и о Джарской области, где прежде истребляли целые батальоны, там теперь жители совершенно покорные и мирные.
Горные Самурские общества с постройкою в их землях укреплений Ахтинского и Тифлисского совершенно смирились и исполняют все требования правительства, исправно платят дань и даже содержат на свой счет все свои правления и суд, учрежденный в 1839 году, которым они совершенно довольны.
Хотя положение нагорного Центрального и Северного Дагестана не таково, не менее того крепости: Бурлих, Темир-Хан-Шуру, Хунзах и укрепления Ахтинское и Тифлисское имели важное влияние на успокоение края. До постройки этих укреплений и до экспедиций, предпринимавшихся внутри Дагестана, акушинцы, аварцы, койсубушенцы подымали весь Дагестан и делали опустошительные набеги на Закавказский край.
7) С учреждением Лезгинской кордонной линии успокоилась Джарская область и Кахетия благоденствует, полудикие лезгины принимают покорность и с своими семействами входят мирными жителями в Кахетию для работ, подчиняясь совершенно земской полиции.
Хищничества, ими производившиеся по Военно-Грузинской дороге от Тифлиса к Владикавказу, совершенно прекратились.
8) Абхазия и Самурзахань не только успокоились, но усердно содействуют в покорении их соседей.
Общий вывод из всех событий, на Кавказе совершившихся, и начало войны с горцами до наших времен.
Вникая в события, на Кавказе совершившиеся во время долговременной борьбы, и в разные меры, для покорения оного употреблявшиеся, равномерно в успехи или неудачи, от них происходившие, нельзя не вывести нижеследующего заключения:
1) Что Кавказ должно употребить весьма сильной крепости, чрезвычайно твердой по местоположению, искусно ограждаемой укреплениями и обороняемой многочисленным гарнизоном, что одна только безрассудность может предпринять эскападу против такой крепости, что благоразумный полководец увидит необходимость прибегнуть к искусственным средствам: заложит параллели, станет подвигаться силою, призовет на помощь мины и овладеет крепостью.
2) Что ход сей атаки не был предварительно начертан для постоянного руководства, но что сущность вещей вынудила прибегнуть к сему образу действий, отчего хотя происходили частые отклонения от истинного пути, замедлявшие общий успех, не менее того действия эти образовали правильную атаку, а именно:
а) первая параллель: Кавказская линия от Каспийского до Черного моря; крепость Бурная, Дербент и все крепости в Закавказских наших владениях;
b) вторая параллель: Закубанские укрепления, т. е. Ольгинский Тет-де-Пон, Мостовое, Алексеевское и Афипское; потом Лабинская, Кисловодная и Кабардинская и Сунженская линии, также Кумыкская, укрепление Амир-Аджи-Юрт, Таш-Кичу, Внезапная, Миатлы, Темир-Хан-Шуру, равномерно Лезгинская линия и, наконец, укрепления наши в Абхазии;
с) третья параллель: Черноморская береговая линия, в других же местах Кавказа третья параллель только заложена, а именно: Абан составляет правую оконечность Шапсугской или Закубанской линии, Владикавказ, Назран, Герзель-Аул и Чиркей составляют начало Чеченской линии, Хунзах и Ахты начало Дагестанской линии.
3) Что всякая поспешность в действиях, всякий приступ, как в давнишние времена, так и ныне, имели последствием или неудачу, или кратковременные бесплодные успехи, от которых мы должны были отказываться и которые, собственно, по этой уже причине отдаляли время покорения этой крепости, порождая в гарнизоне бодрость и надежду с нами бороться с успехом и отстоять свою независимость.
4) Что устройство таких линий, которые служили базисом для дальнейших действий и которые оставляли позади себя целые племена, отрезывая их таким образом от гарнизона (т. е. главной части народонаселения), всегда приносило прочный и положительный успех.
5) Что в тех местах, где линия и крепости имели близкий надзор за племенами покорившимися и могли защитить их, там горцы пребывали верными, постепенно слагали с себя оружие и обращались в мирных жителей.
6) Что успехи, приобретенные силою оружия, с разборчивостью и осторожностью употребленною, без значительной с нашей стороны потери, всегда приносили прочные плоды, что, напротив того, все предприятия, где мы имели чувствительный урон, были для нас невыгодные, ободряя с одной стороны неприятеля, алчущего крови, с другой роняя смелость и уверенность в войсках.
7) Что набеги горцев в наши пределы должно уподоблять вылазкам гарнизона из крепости, и что для отражения их мы должны быть в беспрерывной бдительности, и что если наши циркумвалационные линии сильны и имеют грозное основание, то вылазки эти не могут нам принести ощутительного вреда.
8) Что поиски наши вовнутрь жилищ горцев не должны быть предпринимаемы иначе как для них нечаянно, а потому необходимо сначала к ним приблизиться линиями.
II. МЕРЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПОКОРЕНИЯ КАВКАЗА И ДЛЯ ПРОЧНОГО ВОДВОРЕНИЯ МИРА
Руководствуясь этими видами и опытами многолетной борьбы нашей с Кавказом, осмелюсь изложить мысли мои о мерах, по мнению моему, необходимых для успешного и прочного покорения Кавказа.
1) Немедленно приступить к окончанию Сунженской линии, т. е. построить одно укрепление близ Казах-Кичу, где окажется удобнее, другое на Оссе, один или два укрепленных поста между Казах-Кичу и Грозной и, наконец, один около Теплечизу. Эта линия совершенно покроет Военно-Грузинскую дорогу и участок Терека до станицы Щедринской, служить будет основанием для предполагаемых на Сунже казачьих поселений и, наконец, приблизит средства наши к предполагаемой Чеченской линии, которую следовало бы устроить уже потом.
2) Укрепления: Елисаветинское и Константиновское, как вовсе бесполезные и по сие время не приносившие никакой пользы, упразднить. Елисаветинское стоит среди покорного нам христианского племени, окруженное многолюдными аулами надежными, оберегающими верхнюю часть Военно-Грузинской дороги от хищников, Константиновское стоит в малой Кабарде отдельно; его можно везде обойти, и потому до сих пор не препятствовало прорыву хищников ни на Военно-Грузинскую дорогу, ни на Моздок; притом гарнизон оных слишком слаб, чтобы без постороннего пособия преследовать хищнические партии. Когда чеченцы были покойны и когда на Военно-Грузинской дороге приняты были надлежащие меры предосторожности, хищники там не появлялись; со времени же возмущения Чечни они нападали на Моздок, грабили наши поселения в Кабарде и уходили всегда безнаказанно, не встречая ни малейшего препятствия от обоих этих укреплений.
Для прикрытия же Военно-Грузинской дороги вместо Елисаветинского и Константиновского будут служить вышеупомянутые укрепления на Сунже и Оссе, а для успешнейшей постройки оных взять строительные материалы из Елисаветинского и Константиновского, как-то: полы, потолки, крыши, нары, двери, окна, кирпич и железо, может быть, окажется выгодным перевести и самые казармы, которые построены из бревен хорошо и прочно и теперь совершенно высохли, вырубка же леса за Сунжей не обойдется без потери людей и он будет сыр.
3) По окончании Сунженской линии приступить к устройству Чеченской по проекту, высочайше одобренному. Но если способы Кавказского корпуса дозволят, то, конечно, было бы весьма полезно в одно время с устройством Сунженской линии возводить и Чеченскую. В таком случае я полагал бы постройку укреплений начать с левого фланга этой линии с тою целью, дабы в одно и то же время прикрыть землю кумыков, Терек, Кабарду и Военно-Грузинскую дорогу.
4) По окончании Лабинской линии от верхней Кубани до устья р. Лабы перенестись от верхней Лабы, как по местности окажется удобнее, на реку Белую, и от оной устроить Шапсугскую линию по подошве гор, до Абини, который соединит с Новороссийском. Места, где укрепления должны быть возведены, определиться могут только тщательным осмотром местности.
5) Черноморскую береговую линию устроить нижеследующим образом:
По всему протяжению восточного берега Черного моря от Керченского пролива до пределов Турции три пункта особенно важны потому, что к ним во всякое время года могут приходить суда, а именно: Новороссийск, Геленджик, Сухум.
Сверх того, с первыми двумя пунктами можно устроить хорошее сухопутное сообщение, а последнее находится в крае, нам совершенно покорном.
Эти пункты должны быть заняты крепостями с сильными гарнизонами.
Между этими пунктами могут быть еще заняты два — Тенгинское или Вельяминовское, от коих ведет удобная дорога чрез хребет на Кавказскую линию, и потом — Навагинское или Св. Духа, из коих первое лежит в земле убыхов, сильнейшего и воинственнейшего племени на восточном берегу, другое в соседстве их, в земле джигетов, нам покорных, которым мы должны во всякое время подавать помощь противу их соседей.
Итак, с Анапою я полагаю занимать шесть пунктов сильными гарнизонами, остальные, как временные, служащие для прекращения горцам сообщения с Турциею, занять каменными башнями или другого рода подобными укреплениями с весьма незначительным гарнизоном.
Таким образом, сосредоточив силы наши в нескольких пунктах, мы будем в состоянии предпринимать нечаянные набеги внутрь жилищ горцев и угрожать им во всякое время, или подавать помощь племенам, нам покорным, противу их соседей.
6) Для владычества в Нагорном Дагестане нам нужно усилиться в Хунзахе. Знаю, что это сопряжено с большими затруднениями в отношении продовольствия и отапливания войск, но делать нечего, однажды заняв Аварию, мы должны превозмочь эти затруднения и быть так сильны для удержания этого края и дабы приобресть влияние на соседственные племена, иначе все пожертвования будут тщетны.
7) По окончании передовой Чеченской линии, для наступательных действий вовнутрь Дагестана, полезно соединить: а) Хунзах с Чиркеем чрез Гимры и Унцукуль и б) с укреплением, которое предполагается построить на этой линии при Хунсульском ущелье чрез Анды. В другую же сторону соединить Хунзах: а) с южным Дагестаном чрез Акулу и чрез Одномяр, Казикумух и Кюринское ханство и б) с Кахетиею по Аварскому Койсу. Но исполнение этих предприятий так еще удалено и до того времени столько может совершиться событий, что о них я упоминаю единственно как о цели, которой желательно бы достигнуть. Между тем теперь нужно только усилиться в Аварии и стать там твердою ногою.
8) Что касается до экспедиций, предпринимаемых в мерах наказания горцев, то я полагаю, что они весьма редко приносят желаемый успех, если не имеют никакой другой цели.
Экспедиции этого рода могут быть удачны только при нечаянности, в противном случае горцы всегда приготовятся к отражению и увезут в ущелья в недоступные дремучие леса свои семейства и имущество, и за каждую сожженную саклю или за каждую четверть истребленного хлеба мы платим кровью, не принося им ощутительного вреда. Впрочем, правило это не может распространиться на весь Кавказ. В Дагестане они еще могут иметь успех, потому что лезгинские племена живут в каменных, весьма для них ценных домах, имеют сады, которыми дорожат и неохотно допускают до разорения. Но чеченцы и черкесские племена живут в турлучных саклях, не имеют никакого оседлого хозяйства и охотно жертвуют своими лачужками, лишь бы убить русского. Еще должно заметить, что экспедиции подобного рода имеют влияние на племена, еще незнакомые с нашим оружием, но если они часто повторяются, то теряют свою силу. А потому наступательные действия в этом роде должны быть предпринимаемы с большою осмотрительностию, с надеждою на верный успех и без значительной потери людей.
Предполагаемые мною меры и линии потребуют, конечно, много времени, но не думаю, чтобы это могло быть достаточною причиною их опровергнуть. Осада Кавказа не может быть окончена чрез несколько суток по заложении параллели. Несомненно, что все эти линии и наступательные действия принесут наилучшие успехи и что большая часть кавказских племен приведены будут в необходимость изъявить покорность, но покорность эту нужно упрочить надежными мерами, и тогда только можно надеяться на спокойствие, когда на Кавказе не будет раздаваться ни одного выстрела.
Меры эти заключаются:
а) В силе оружия.
b) В водворении русского народонаселения.
с) В образовании внутреннего порядка.
d) В выборе способных и достойных начальников.
е) В развитии торговли и промышленности.
Все эти способы должны быть соединены и употребляемы совокупно, первый как главный, остальные как вспомогательные, без коих, однако, не может бьпъ полного и прочного успеха, в применении этих способов заключаться будет все искусство и умение, но для этого направление всех дел и действий частных начальников должно быть исключительно предоставлено главному начальственному лицу.
Способы, необходимые для применения силы оружия.
Сила оружия нужна, во-первых, для приведения в исполнение мер наступательных, во-вторых, для охранения линии, в третьих, для удержания в повиновении племен покорившихся и для их защиты.
Теперь наступательные действия происходят в четырех пунктах:
1) На Черноморском берегу,
2) На Лабе,
3) В Чечне,
4) В Северном Дагестане.
Дабы они производились с полным успехом, каждый из них должен иметь свои собственные средства, один от другого независимые, и два резерва, один на Кавказе, другой за Кавказом. Для усиления какого-либо пункта по мере надобности, иначе же будут или медленны и вялы, или в каком-нибудь пункте вовсе приостановлены. Как одно, так и другое должно всемерно избегать, ибо таковые действия обнаруживают слабость, ободряющую горцев и которою они никогда не преминут воспользоваться. Начав действия в таком объеме, как теперь, должно продолжать их с настойчивостию, иначе все пожертвования будут напрасны. Мы не должны с горцами бороться, но должны твердо подвигаться к цели и наносить им поражения при всякой неприязненной встрече.
Один из верных способов усмирения горцев состоит в том, чтобы везде предупреждать их замыслы, всегда находиться в сильном оборонительном положении, дабы отражать их набеги с успехом. Утвердительно можно сказать, что хищничества прекратятся, коль скоро горцы не будут иметь возможность их производить и как скоро они не будут иметь успеха, а для этого нужно быть на линиях наших в сильном оборонительном состоянии.
Кавказская линия во все время своего существования всегда поддерживалась регулярными войсками, а своим собственным народонаселением никогда не могла противустоять горцам. Линии, уже устроенные впереди оной, и те, которые теперь устраиваются и предполагается устроить, по недостатку земли не могут иметь такое сильное народонаселение, сколько для собственной их защиты нужно, и потому требуют подкрепления войсками, притом между первою и второю параллелью обитают уже горские племена, за которыми должно иметь общий надзор. Одним словом, нельзя стянуть все силы на передовые линии, не оставляя на задних надлежащих резервов.
Сверх сего, для удержания покорных горцев в повиновении и для защиты их нужно неизбежно присутствие войск, где единожды водворилось спокойствие, там должно употреблять все возможные меры для удержания оного в покорности, каждый выстрел отдаляет покорение горцев. Кавказ не может быть покоен до тех пор, пока жители вооружены, а дабы их обезоружить, мы должны им доставить личную безопасность и защиту собственности, и тогда только они постепенно отвыкнут от оружия. Приведу в пример кавказские ногайские племена, о которых я выше упомянул, они вовсе покинули оружие, другие покорные племена хотя носят оружие, но редко прибегают к оному. Все народонаселение Грузии было вооружено, народ этот до сих пор славится в горах храбростию, он несколько столетий боролся с могуществом калифов и их наследников, а теперь в большой части Грузии нет оружия; только часть Кахетии, прилегающая к лезгинам, вооружена.
Одною силою этого невозможно бы было достигнуть, но мы достигли по естественному ходу дел. Во всех этих племенах, сделавшихся мирными жителями, мы защитили личную свободу и собственность каждого, а они, не имея надобности прибегать к оружию, оставили оное как вещь для них излишнюю.
Всегда, когда мы вынуждены были выводить войска из земель уже попиравшихся горцев, последствия были самые пагубные. Не имея необходимых материалов, я не могу привесть в пример нее случаи; но упомяну только о некоторых, которые я помню.
В 1825 году генерал Ермолов вынужден был взять из Кабарды в Чечню два баталиона Апшеронского пехотного полка, и немедленно после того кабардинцы возмутились и бежали за Кубань.
В 1831 году возмущение всего Дагестана и Чечни последовало в то время, когда большая часть войск оттуда была выведена на правый фланг Кавказской линии.
В 1837 году восстала Кубанская провинция и увлекла весь Южный Дагестан, когда не было там войск.
Весною 1840 года мы были слабы на левом фланге и во Владикавказе и не могли подавить первые успехи Шамиля. Карабулаки остались не наказаны, побег мирных чеченцев не предупрежден, покорные не защищены, и возмущение так быстро распространилось, что к лету все восстало от Назрана до Шамхальских владений, и даже Кабарда сильно волновалась, остались покойны только кумыки, потому что земли их были прикрыты нашими войсками.
Теперь можно привести в пример [1]843 год.
Должно также взять в рассмотрение, что каждая удача горцев имеет сильный отголосок в Закавказских владениях наших. Мы видели этому пример в 1838 году, когда Ага-Бек со скопищами своими дерзнул вторгнуться в Шеканскую провинцию и осадил Нуху. Вся Шеканская провинция была готова пристать к возмутителю, и многие уже приняли его сторону. Можно сказать утвердительно, что они там только владычествуют, где имеют достаточно войск.
Принимая все это в рассуждение, по моему мнению, нужно иметь нижеследующее количество войск, независимо от линейных баталионов.
1) За Кавказом — бригаду пехоты, другую в резерве[120].
2) В Южном Дагестане один полк.
3) В Северном Дагестане два полка.
4) В Грозной для земли кумыков и в большой Чечне один полк.
5) Во Владикавказе для малой Чечни, малой Кабарды и земли шпутей <шапсугов?> один полк.
6) В Нальчике для Кабарды один полк.
7) В Темнолесской один полк.
8) В Кавказской один полк.
9) В Черномории один полк.
10) В Крыму для Черноморской береговой линии[121] один полк.
С этими средствами можно с полным успехом удовлетворить всем потребностям, удержать край в покорности и прочно утвердить наше владычество.
Водворение русского народонаселения и выселение горцев по возможности в места удободоступные.
Усиление русского народонаселения весьма полезно, но оно имеет свои границы, которые преступить опасно. Сколь ни полезно, с одной стороны, население русское на равнинах для оттеснения непокорных, дабы тем заставить их покориться, столько оно вредно в землях между племенами, готовыми к покорности.
Теперь поселяются два казачьих полка между Кубанью и Лабой, и предполагается также поселить (кажется, тоже два полка) казаков на Сунже. В обоих этих местах есть свободные земли, и линии эти принесут много пользы, однако должно внимательно и со всею справедливостию вникнуть, дабы при этом не стеснить нам покорных горцев. На тех же линиях, которые предполагается устроить впереди оных, русские поселения принесут более вреда, чем пользы, по следующим соображениям:
а) Собственно горцы вообще нуждаются в земле; каждый участок имеет своего хозяина и ценится дорого, следовательно, каждый кусок земли, который поселяне займут, будет отнят у туземцев. Это одно уже увеличит ту непримиримую вражду, которую они к нам питают, и должно их только более от нас удалить.
b) Находясь в близком соседстве с горцами, все полевые работы должны будут производиться под сильным прикрытием, и для охранения самых поселений нужно много войска, потому что они сами по себе не будут служить оплотом против набегов и навряд ли будут в состоянии защищать свои селения.
с) При малом количестве земли у горцев пустопорожними оставаться будут те только места, откуда они будут вытеснены, а потому горцы в наших поселениях увидят намерение отнять у них лучшие хлебороднейшие земли. Между тем люди неблагонамеренные пользуются подобными случаями и, распространяя слухи, что мы, нуждаясь в земле, намерены истребить горцев, возбуждают в них недоверчивость и ненависть к правительству. Такие действия произвели поселения наши на Военно-Грузинской дороге, и теперешнее волнение умов в Кабарде отчасти этому приписать должно.
Гораздо для нас полезнее покорных и желающих покориться горцев по возможности выселять из мест неприступных и давать им средства к спокойной и правильной жизни под покровительством наших укреплений, и для таковых поселений мы должны оставлять свободные земли. Так было сделано с племенами тагаурскими, ванагирскими, дигорскими, осетинскими и имгушами. Со времени поселения их на Кабардинской плоскости[122] они оставили хищничества, завели хлебопашество, обширное скотоводство и делаются совершенно мирными жителями.
Таким точно образом полезно бы поступить с беглыми чеченцами, карабулаками и с другими, которые бы пожелали выйти из лесов и гор, и населить ими Чечню между рек Осса, Сунжа и Терек и малую Кабарду.
По тем же самым причинам нужно сохранить народонаселение в большой и малой Чечне, когда устроится Чеченская линия.
Смею уверить, что спокойствие в этом углу Кавказа не водворится, покуда беглые чеченцы не возвратятся в наши пределы. Они теперь вынуждены снискивать пропитание в грабежах и хищничествах, знают хорошо местность и увеличивают число наших неприятелей.
Образование внутреннего управления и выбор мест и начальников.
Многие племена Кавказа уже покорились, и нет сомнения, что постепенно и последние смирятся. Для удержания их в постоянном повиновении нужна вооруженная сила, как побудительное к тому орудие. А дабы смягчить права горцев, обратить их в мирных поселян и распространить между ними промышленность, нужно поставить их в такое положение, чтобы они никогда не имели надобности прибегать к оружию, ни на защиту противу нас, ни против соседей своих, или для обеспечения личной безопасности и прав собственности. Коль скоро мы удовлетворим всем этим потребностям общественного быта, тогда надеяться можно, что они повиноваться будут законам, а не одной силе оружия.
Но дабы эти условия можно было выполнить, надлежит начать с того, чтобы в покорных племенах учредить правление, первоначально свойственное с правами и обычаями горцев, потом, смотря по степени их гражданственности, правление это смягчать и постепенным изменением привести их к мирной гражданской жизни.
Беспристрастие, строгость, соединенная с правосудием и с приветливостью, сохранение всех правил горского гостеприимства и коренных их обычаев должны отличать все действия как главных начальствующих лиц, так и частных начальников, управляющих кавказскими народами. Такого рода управление вселит в горцах к оному страх и уважение, а ласки и приветливость к тем, кои их заслуживают своим поведением, соединенные с денежными и другого рода наградами, доставят людей преданных и усердных. Нарушение правил гостеприимства, оценка голов людей нам вредных, неисполненные обещания, самовольное оштрафование аулов неимоверными поборами или только требованиями, несправедливость и лицеприятие возбуждают горцев к ненависти и к отчаянному сопротивлению.
Теперь покорные кавказские народы управляются приставами, избираемыми ими из офицеров из линейных казачьих войск или из туземцев, получающих весьма скудное содержание или вовсе никакого, они не снабжены постоянными правилами для управления народом, для разбирательства тяжебных полицейских и уголовных дел, не имеют никаких средств и оттого или вовсе не пользуются никаким влиянием, или, разбирая дела не всегда сообразно с выгодами правительства, лишены средств приводить приговоры и требования начальства в исполнение. От этого проистекают отягощения той части рода, которая находится под рукой, лихоимство, притеснение всякого рода, несправедливости и, наконец, неуважение к власти, над ними установленной, являющейся в глазах горцев со всеми своими недостатками и слабостию.
Для управления горскими народами необходимо установить правила, сообразные, как выше сказано, со степенью их политического состояния; начальникам, как главным, так и частным, нужно дать необходимую власть и средства:
1) для приличного себя содержания, 2) для защиты личной безопасности и собственности каждого, и наконец 3) для при-ведения в исполнение распоряжений начальства и судебных приговоров.
В проекте об управлении горскими народами, представленном командиром отдельного Кавказского корпуса, кажется, все эти требования предусмотрены, и я другого предложить не нахожу полезным.
От выбора начальников, как главных, местных, так и частных, зависеть будет больший или меньший успех в обращении горцев в мирных соседей. Для занятия должностей главных местных начальников потребны качества, не во всяком человеке встречающиеся, они должны соединить в себе нелицемерную благонамеренность, сметливый ум, образованность и любовь к народу, управлению их вверенному, и, наконец, самоотвержение. Не считая себя вправе говорить об особенных способах для жизни и преимуществах служебных, которые полезно предоставить таковым начальникам, дабы привлечь на эти должности людей достойных и соответствующих своему назначению, осмелюсь сказать только, что частая перемена вообще чиновников, на Кавказе служащих, влечет за собою большие невыгоды. Кавказ так обширен, дела его так сложны, что едва достаточно года, дабы несколько ознакомиться с управлением, но действительную пользу принести можно только после нескольких лет пребывания.
О местопребывании главного на Кавказе начальника и о военном подразделении края.
В заключение обязан изложить мысли мои о местопребывании главного на Кавказе начальства, имеющем, по моему мнению, важное влияние на дело Кавказа.
С самого начала владычества нашего на Кавказе главное начальство находилось в кр [епости] Терки, заведывая делами подвластных нам в то время пятигорских черкесов.
В 1722 году переведен в кр [епость] Св. Креста; в 1736-м в Кизляр, а в 1763-м в Моздок.
В 1786 году по построении Георгиевска переведено туда главное военное начальство, которому в качестве командующего войсками подчинено открытое в то время гражданское управление и все частные воинские начальники на линии. В таком положении оставалось главное кавказское управление до 1801 года.
В 1789 году, по желанию грузинского царя Георгия, был прислан в Тифлис статский советник Кавалинский[123] для управления гражданскими делами, и в конце того года прибыл в Грузию полк генерала Лазарева…
В 1800 году по смерти царя Георгия возник раздор между нашими властями: военной и гражданской. Генерал Кнорринг, командовавший тогда на Кавказской линии, по высочайшему повелению находившийся в Тифлисе для личного удостоверения о состоянии дел в Грузии, убедившись, что обе сии власти нужно подчинить одной особе, сделал о сем доклад государю императору 20 июля 1801 года.
Вследствие коего генерал Кнорринг назначен главнокомандующим над войсками, на Кавказе и в Грузии расположенными, и главноуправляющим. Местопребыванием главнокомандующего назначен г. Тифлис, с тою целию, дабы сблизить главное начальство с владетельными ханами Закавказского края, склонить их к добровольному подданству, употребляя силу оружия только в крайности. Кроме этих важных причин, присутствие за Кавказом главного начальника всего края признавалось необходимым по сильному в то время влиянию на сей край Персии и Турции и беспрерывным с их стороны набегам.
Итак, мы видим, что главное начальство на Кавказе переведено за Кавказ для того, чтобы утвердить владычество наше в том крае. Теперь причин этих боле не существует, все за Кавказом ханства и другие самостоятельные владения покорны, значительными победами над персиянами и турками границы округлены и прочно обеспечены, и, наконец, отеческим попечением государя о благе своих подданных учреждено за Кавказом гражданское управление, которое должно положить основание их счастию и благоденствию.
Между тем война с закавказскими народами делается урочнее и принимает обширный объем; огромная крепость, которую мы осаждаем, с многочисленным гарнизоном, остается в тылу главного начальника; сообщение его с базисом действия, т. е. с Кавказскою линиею, не надежно и подвержено случайностям; все главные способы, которыми он располагать должен, находятся в тылу, исключая вспомогательных, т. е. тех, которые ему представляет Закавказский край. Для успешного хода дел направление действий и мер к покорению горцев должно непременно сосредоточиваться в лице главного начальника, облеченного властию и доверенностию; между тем по отдаленности его местопребывания часто принимаются меры, несообразные с его видами и соображениями, которые он должен или отменять, или, смотря по обстоятельствам, терпеть во избежание важнейших неудобств.
Каждый полководец должен иметь: неприятеля впереди себя и все средства, которыми он располагать может, — под рукою, в прямой его зависимости.
Разделить начальство Кавказской линии от Закавказа я нахожу чрезвычайно вредным по следующим причинам:
1) Единство в направлении всех средств и способов корпуса к одной цели в таком случае существовать не может.
2) Каждому начальству должно будет предоставить собственные свои средства, один от другого не зависимые, ибо для направления избытков одной части для надобности другой должна быть непосредственная зависимость, иначе непременно встретятся противуречия и несогласия. Трудно допустить, чтобы два чиновника, облеченные одинаковою властию, имея каждый свой круг действия, не судили бы пристрастно своим делом. Но дабы дать каждому начальству свои собственные средства, нужно будет значительно усилить настоящие способы Кавказского корпуса как людьми, так и деньгами, и навряд ли выгоды, которые от этого ожидать можно, будут соответствовать пожертвованиям.
3) Дела Дагестана связаны с делами Чечни, и они разделены быть не могут, между тем Южный Дагестан находится в тесных сношениях с Закавказом в военном и политическом отношении и без большого ущерба для пользы правительства совершенно отделен быть не может. Точно так и Чечня принадлежит Кавказской линии, а не Закавказскому управлению, а потому единство в управлении этими провинциями не может быть нарушено.
4) Коль скоро разделится начальство Закавказское от Кавказской линии, то Черноморская береговая линия должна составить отдельное управление, также со своими собственными средствами, от первых двух не зависящими. Между тем южная часть береговой линии не может быть отделена от Закавказского края, ибо она связана с ним в действиях чрез Абхазию и Самурзахин, а северная от Кавказской линии чрез землю натухайцев.
5) Принимая во внимание слабости и страсти людские, нельзя не усумниться, чтобы две, а тем паче три отдельные самостоятельные власти могли согласно идти к одной общей, тогда как, к несчастию, мы видели, что с зависимостию трех этих частей от одной встречаются недоразумения, клонящиеся к вреду общей пользы.
Основываясь на всех здесь изложенных доводах, я полагал бы местопребывание главного кавказского военного и гражданского начальства назначить на Кавказской линии в Ставрополе. В таком случае все исчисленные мною неудобства сами собою уничтожаются и дела могут получить одну общую связь, один дух, одно направление.
Подразделение начальства я полагал бы учредить следующим образом:
1) Закавказский край, исключая всего Дагестана[124] со всеми войсками, там расположенными, с управлением гражданскою частию подчинить военному губернатору или генерал-губернатору.
2) Весь Дагестан, южный, центральный, северный и нагорный с большою и малою Чечнею, поручить управлению начальника 19-й пехотной дивизии со всеми войсками, там расположенными, назначив ему местопребывание в Темир-Хан-Шуру.
3) Владикавказский округ, большую и малую Кабарду поручить особому военному окружному начальнику с подчинением войск, там расположенных.
4) Правый фланг Кавказской линии и все племена за Кубанью до устья Лабы — начальнику 20-й пехотной дивизии или особому окружному с подчинением ему войск, в этом районе расположенных.
5) Черноморию — наказному атаману Черноморского войска.
6) Черноморскую береговую линию — начальнику этой линии.
7) Наконец, главное войсковое и гражданское начальство во всех этих управлениях сосредоточить в лице командира отдельного Кавказского корпуса, облеченного властию главнокомандующего в военное время и главноуправляющего гражданскою частию во всем крае.
О необходимости составить историю владычества русских на Кавказе и за Кавказом.
Заключая этим, я считаю долгом присовокупить, что полная и подробная история владычества нашего на Кавказе и за Кавказом была бы для нас весьма поучительна, и желательно не для одного любознания, но для пользы и выгоды правительства, чтобы история эта была составлена, начальники, как главные, так и частные, могли бы во многом руководствоваться многолетнею опытностию своих предшественников. Историю эту хорошо бы расположить следующим образом:
1) Древняя история Кавказа.
2) Первые отношения русских к Кавказу и подвиги русских князей и царей до императора Петра I.
3) Походы Петра в Персию, победы Екатерины II до присоединения Грузии.
4) По присоединении Грузии до настоящего времени, и этот последний период должен составить две части, из которых последняя начинается со времени вступления на престол императора Николая Павловича и преимущественно со времени основания новой системы управления и покорения Кавказа.
Этот огромный труд требует искусного пера и исключительных занятий.
КАВКАЗ: ЗЕМЛЯ И КРОВЬ
Думая и рассуждая сегодня о Кавказской войне XIX века, мы, как правило, сосредоточиваемся на чисто военной стороне дела.
Но не менее существен для понимания всего процесса был и другой аспект событий — устройство завоеванного края, в частности — регуляция поземельных отношений и расселение мигрирующего под воздействием военных действий и реализации стратегических задач русского командования населения, а также привлечение на свою сторону той части горцев, которая склонна была к лояльности.
Здесь публикуется ряд документов, выразительно демонстрирующих попытки русского генералитета, вынужденного заниматься административной деятельностью, найти выходы из запутанных и чреватых новыми мятежами положений.
1840 год, к которому относятся первые из публикуемых документов, был одним из самых кровавых и драматических годов Кавказской войны. Военный историк А. Юров писал:
«Начало 1840-го года вписано кровавыми строками в летописях многострадальной черноморской береговой линии. Сильный голод от неурожая хлеба в горах и возникшее поэтому стремление горцев воспользоваться складами провианта в наших береговых укреплениях произвели небывалое еще волнение умов на западном Кавказе»[125].
А. Юров не совсем точно указывает причины и в самом деле страшного голода, постигшего горские общества. Неурожай был только одной причиной. Второй — не менее важной — была блокада аулов русскими войсками, в результате чего горцы лишены были возможности закупать или выменивать продовольствие на побережье. В следующем, 1841 году вице-адмирал Серебряков, один из тех, кто определял тактику русских войск на побережье, доносил, как мы уже знаем, генерал-лейтенанту Н. Н. Раевскому-младшему, начальнику Черноморской береговой линии:
«Крайность, до которой горцы доведены теперь голодом, поставляет мне в непременную обязанность возобновить Вашему Превосходительству прежние представления о столь важном предмете и выгодах, которые можно извлечь из бедственного положения их для ускорения покорности, тщетно до сего времени достигаемой одними мерами кротости и великодушия, которого ценить они по дикости своей не могут».
В начале 1840 года расчеты русского командования оправдались, как говорится, с точностью до наоборот. Доведенные до отчаяния голодом горцы яростно атаковали русские крепости на побережье, взяли и разорили большинство из них, а гарнизоны вырезали…
Но не только на Черноморском побережье Западного Кавказа резко обострилась военная ситуация. В Чечне и Дагестане, усмиренных серией карательных экспедиций и отданных под управление военной администрации, началось массовое восстание. Тот же А. Юров так объяснял его причины:
«Вследствие трудности приискать русских офицеров, владевших туземными наречиями, пристава — непосредственное начальство мирных горцев — были выбраны преимущественно, если не исключительно, из милиционеров, которых азиатскую натуру не могли в корень изменить ни награды, ни отличия. Мало того, этот контингент не мог быть даже удовлетворительным: место пристава не доставляло в то время никаких выгод в служебном отношении, вызывая между тем большие расходы на лазутчиков и вооруженную стражу, тогда как не все пристава получали жалование, и ничем не вознаграждая постоянных забот, опасностей и лишений. Отсюда неудивительно, что опекаемые ими чеченцы и другие мирные племена нередко подвергались вопиющим злоупотреблениям; у них, под предлогом взимания податей и штрафов, отбиралось лучшее оружие и другие совершенно безвредные, но ценные вещи повседневного обихода; случалось, что ни в чем неповинных людей арестовывали по наущению простых и часто неблагонамеренных переводчиков; с арестантами и даже аманатами обращались бесчеловечно, держа их в сырой яме, где они нередко заболевали; во время экспедиций допускались принудительные сборы. Наконец, во главе нашего управления горцами левого фланга стоял глубоко ненавидимый последними генерал-майор Пулло, человек крайне жестокий, неразборчивый в средствах и часто несправедливый, как его характеризуют и Галафеев, и Граббе… Вообще к марту месяцу 1840 года в Чечне скопилось достаточно горючего материала — нужна была только искра, чтобы произвести повсеместный взрыв.
К несчастию, около этого времени между чеченцами пронеслись слухи о намерении начальства, обезоружив их, обратить в крестьян, а затем привлечь к отбыванию рекрутской повинности»[126].
Чеченцы призвали Шамиля…
«8-го марта 1840-го года генерал Пулло… писал, что жители аргунского ущелья и ичкеринцы, с прекращением сообщения их с плоскостью, доведенные до отчаяния голодом от недостатка хлеба, собираются напасть на плоскостных чеченцев, а между тем Шамиль в этот день уже появился в Урус-Мартане…»[127]
Активные боевые действия по восстановлению Черноморской линии и подавлению повсеместного восстания в Чечне и Дагестане продолжались все лето. В отряде генерала Галафеева, главной задачей которого было уничтожение аулов и посевов, воевал поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов. После боя при реке Валерик он писал своему другу А. А. Лопухину в Москву:
«У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2 000 пехоты, а их до 6 тысяч, и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте[128], — кажется хорошо! — вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью… Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными»[129].
А генерал Галафеев в рапорте командующему Кавказской линией генералу Граббе доносил:
«Тенгинского пехотного полка Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшей для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами, но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы»[130].
Таков был общий фон, на котором происходила переписка русских генералов по земельному вопросу.
25 июля 1840 года, в то время как Шамиль с десятитысячным конным «скопищем» обрушился на Аварию, а Галафеев, наскоро собрав четыре батальона пехоты и четыре сотни казаков при двенадцати орудиях, бросился ему навстречу, генерал во время ночевки в укреплении Герзель-Аул успел написать письмо командующему Сунженской линией полковнику Фрейтагу.
«Прилагая при сем для сведения Вашего копию с предписания ко мне Г. командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории от 12-го июля за № 1067 прошу Ваше Высокоблагородие поспешить исполнением следующего:
1-е) Объявить волю Его Превосходительства Павла Христофоровича (Граббе. — Я. Г.) относительно того, что все бежавшие надтеречные жители лишились навсегда права селиться и владеть местами и землями им доселе принадлежавшими.
2-е) Составить список всем тем лицам из надтеречных чеченцев, которые получали пенсии или жалование, имели чины и знаки отличия, и в каком количестве кто пользовался жалованием или пенсиею.
3-е) Составить список тем из жителей бежавших надтеречных деревень, которые остались нам верными, включая в оный одни лишь лица, имеющие чины, и вообще людей значительных по происхождению своему или влиянию, которое они имели или же по каким-либо особым услугам Правительству. А как список этот необходим для соображения при удовлетворении их за понесенные ими убытки, то весьма желательно, чтобы в нем же пояснить, в какой степени велики убытки каждого и в чем именно они заключались: в отбитом ли скоте, в расхищенном ли имуществе или в чем другом?
4-е) Составить список владельцам деревень, оставшихся после побега жителей с весьма лишь незначительным числом людей, пояснив в нем, сколько именно семейств при каждом.
Все эти списки, как скоро они будут приведены к окончанию, тотчас же представить ко мне, причем я желал бы, чтобы и Ваше Высокоблагородие по ближайшему усмотрению Вашему противу 2-го пункта препровождаемой Вам копии с предписания генерал-адъютанта Граббе, представили мне, каким образом вознаграждать за убытки каждого из тех жителей надтеречных, которые после побега своих односельцев остались нам верными»[131].
События, которые вызвали публикуемую переписку, были для Кавказа уныло типичными. Весеннее мощное и широкое наступление отрядов Шамиля на замиренные области вызвало смятение в умах горцев. Они оказались между двух равно опасных сил — русских войск и мюридов имама.
Не только истинные симпатии жителей Чечни были на стороне Шамиля, но и страх он внушал больший, чем русское начальство, от которого в конце концов можно было уйти в горы. Шамиль же был беспощаден к отступникам, и защитить их русские власти не могли. Поэтому население аулов, через которые проходили всадники Шамиля и его наибов, особенно тех, возле которых или в которых происходили бои, уходило вместе с мюридами. Уходили и те, кто прежде служил русским, чтобы не подвергнуться немедленному нападению отступающих.
Когда же русским войскам удавалось отбросить Шамиля и вернуть контроль над местностью, беглецы старались вернуться в родные места.
Таким образом, каждое масштабное наступление Шамиля и контрнаступление русских войск влекло за собой бурный шлейф новых проблем, связанных с судьбами тысяч беженцев и переделом земельных угодий. И в этих случаях власти оказывались перед выбором — запретить возвращение и получить еще тысячи озлобленных горцев, увеличив тем отряды противника, или же заняться кропотливым выяснением вины или невиновности каждого.
Вот этим, как видим, и занялись в разгар боевых действий русские генералы.
Предписание, направленное Галафееву генералом Граббе, звучало так:
«До сведения моего дошло, что Ваше Превосходительство предоставили хлеба оставшиеся на полях бежавших надтеречных чеченцев в пользу линейных казаков и дозволили им воспользоваться домами их и всем, что найдут в брошенных деревнях.
Одобряя совершенно эту меру, прошу Вас кроме того объявить, что все бежавшие надтеречные чеченцы навсегда лишились права селиться в оставленных ими местах или владеть землею, доселе им принадлежащею».
Затем шли пункты 2 и 3, воспроизведенные в письме Галафеева полковнику Фрейтагу. Далее Граббе писал:
«3-е) Из некоторых деревень остались одни владельцы с весьма небольшим числом людей, поэтому они не могут составлять особые деревни на прежних местах, а нужно будет дать им земли в других местах. Прошу Ваше Превосходительство по этому предмету предоставить мне Ваши соображения, с объяснением, какую часть того пространства, которое занимали надтеречные чеченцы, можно будет взять в казну, а какие вы находите необходимым отдать тем из них, которые остались нам верными, и в каком именно месте поселить сих последних.
При этом нужным считаю объяснить, что в эти соображения не должны входить земли деревень: Мижиюртовской и Кажаковской, которые находились на земле, отмежеванной по распоряжению господина корпусного командира в потомственное владение князю Бековичу-Черкасскому и которою он вправе распоряжаться, как он сам захочет. Поэтому прошу Вас сделать распоряжение, чтобы казаки не трогали хлебов и домов жителей сказанных двух деревень, ибо из числа жителей их некоторые остались верными, коим я предоставил снимать хлеб бежавших и воспользоваться их домами»[132].
Кроме Граббе, это предписание завизировал и начальник штаба Кавказской линии полковник Траскин. Вряд ли это случайно. Скорее всего, именно начальник штаба владел всеми необходимыми сведениями для рационального решения подобных задач.
В этом письме есть вещи, требующие разъяснения.
Во-первых, чеченцы жили в условиях военной демократии. Генерал М. Я. Ольшевский, служивший в сороковые годы именно в тех местах, о которых идет речь, и внимательно изучавший быт и историю чеченцев, писал, что
«у них не существовало никаких сословных подразделений. Не было ни князей, ни старшин или почетных людей, пользующихся особыми правами и преимуществами, или облеченных властию. Между чеченцами все были равными»[133].
Тогда откуда же взялись владельцы — хозяева деревень, то есть поселений? Поскольку эти места граничили с землями кумыков, у которых было и сословное разделение, и князья, и старшины, то, очевидно, речь идет о чеченцах, ранее переселившихся из глубины Чечни или насильственно переселенных в ермоловский период на земли кумыков.
Любопытно и то, что немалые пространства — 98,5 тысяч десятин (десятина — 1,45 гектара) — были уже собственностью русского генерала Федора Александровича Бековича-Черкасского, которые он со своим младшим братом Ефимом получил по ходатайству Ермолова на основании того, что прежде они принадлежали предкам их матери — княжне Мударовой. Ермолов хотел создать местную аристократию, привязанную к России. Шло наступление на земельные права коренных народов. Что неудивительно — в этот период резко возрастает приток в предгорья Северного Кавказа русских, украинских крестьян (хотя эта миграция редко была добровольной), усиливается продвижение в глубь Кавказа казачьих станиц. Из двух миллионов жителей Северного Кавказа в конце 1830-х годов русские и украинцы составляли уже более 400 тысяч, а чеченцы — второй по численности после адыгов (черкесов) народ — около 200 тысяч[134].
Потому вопрос о владении землей вставал все острее и требовал осторожного подхода, ибо отчуждение земель воспринималось все болезненнее. Те, кто занимался непосредственно административной работой, это понимали. О чем свидетельствует продолжение истории.
Поскольку полковник Фрейтаг, боевой офицер, командир прославленного Куринского егерского полка, находился непрерывно в боях, то выполнение предписания Граббе взял на себя генерал-майор Марцелин Матвеевич Ольшевский (не путать с М. Я. Ольшевским, цитированным выше!), получивший в это время командование левым флангом Кавказской линии.
Генерал Филипсон, объективный и внимательный мемуарист, писал о М. М. Ольшевском, с которым служил (сведения его относятся ко второй половине 1830-х годов):
«Большую часть занятий по военным действиям во всем крае он (генерал А. А. Вельяминов, командующий Кавказской линией и Черноморией до 1838 года. — Я. Г.) сосредоточил в секретном отделении, которым под его руководством и в его квартире (имеется в виду штаб-квартира, а не личные комнаты. — Я. Г.) управлял состоявший при нем для особых поручений полковник Ольшевский. Он прежде был адъютантом Вельяминова и теперь пользовался у него большим доверием… Ольшевский, поляк и католик, был сын какого-то шляхтича в Белоруссии или в Литве, воспитывался в кадетском корпусе и потому образование получил самое посредственное. Никакого иностранного языка он не знал. От природы имел он хорошие умственные способности, на службе приобрел навык и рутину очень хорошего канцелярского чиновника, а в школе Вельяминова сделался очень недурным боевым офицером… Личность и характер Ольшевского были очень несимпатичны. Говорят, будто Вельяминову однажды кто-то сказал о злоупотреблениях Ольшевского, и Вельяминов отвечал: “Докажи, дрожайший, и тогда я его раздавлю; а если не можешь доказать, то я сплетней не желаю и слушать”»[135].
Вполне возможно, что Марцелин Матвеевич Ольшевский был человеком неприятным. Но именно штабная добросовестность — а он долгое время был у Вельяминова походным начальником штаба — и административный навык дали ему возможность разобраться в ситуации куда подробнее и реалистичнее, чем это сделали чисто военные профессионалы.
«Секретно.
Командующему отрядом,
действующим на левом фланге
Кавказской линии, господину
генерал-лейтенанту и кавалеру
Галафееву.
Начальника левого фланга Кавказской линии генерал-майора Ольшевского
Рапорт
По повелению Вашего Превосходительства от 25-го числа истекшего июля № 464 и 465, я предписал всем приставам доставить ко мне требуемые Вами сведения. Но я приостановился с объявлением жителям, что они лишились навсегда права селиться и владеть местами и землями им доселе принадлежавшими, чтобы представить наперед на благоуважение Вашего Превосходительства нижеследующие обстоятельства.
Земли, на коих поселены были бежавшие надтеречные чеченцы, принадлежали не им, но князьям, кои остались нам совершенно верными. Поэтому несправедливо было бы за проступки жителей наказывать князей отнятием у них земель, коими владели их предки.
Господин командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории, как видно из предписания за № 1067, просил Ваше Превосходительство сообразить: какую часть того пространства, которое занимали надтеречные чеченцы, можно будет взять в казну и какую Вы находите необходимо отдать тем из них, которые остались верными, и в каких местах поселить последних.
По моему мнению, не следует разделять надтеречных земель. Их должно взять или все в казну или все оставить по-прежнему во владении теречных князей. Если эти земли поступят в казну, то без сомнения на них со временем будут поселены казачьи станицы. Тогда гораздо полезнее не иметь вблизи станиц чеченские поселения. Но если предположено отдать часть надтеречных земель князьям, оставшимся нам верными, то нужно каждому из них отдать то, чем владел он и его предки, по документам от прежних здешних начальников.
Ежели недозволено будет теречным князьям вызвать из бегов прежних своих подвластных, то им решительно невозможно будет поселиться на правом берегу Терека.
С князьями Мундаром и Турловыми остались только несколько семейств, а у Кагермана Алхасова нет ни одного. Эти князья не захотят поселиться в одном месте, а ежели будут жить отдельно каждый, то не в состоянии будут защитить дома противу незначительных партий».
Тут два любопытных штриха. Во-первых, давление на чеченцев к этому времени стало таким эффективным, что часть из них поступилась своей исконной вольностью и пошла в подчинение — пускай и номинальное — кумыкским князьям. Во-вторых, на правом берегу Терека, который, как считалось, плотно контролировался русскими военными властями и лояльными к империи владетелями, с относительной безопасностью можно было жить только крупными вооруженными общинами.
«Я не имею в виду предписание на каких условиях принимать теречных чеченцев, кои теперь уже начали являться из бегов. До получения же этого разрешения я решился дозволить им убрать хлеба на месте прежнего их жительства. Может быть, Ваше Превосходительство не одобрит эту меру снисходительности, ибо из распоряжений Ваших я вижу, что Вы дозволили казакам собирать хлеб бежавших жителей. Но я, входя в ближайшее рассмотрение обстоятельств побега надтеречных деревень, нахожу, что не все жители этих деревень должны быть обвиняемы в равной степени. Вот почему: чеченцы надтеречных деревень, пользуясь с давних лет всеми удобствами, доставляемыми им покойной жизнию и плодородными местами, сделались зажиточными и жили в довольстве. Это сделало то, что богатые люди стали отвыкать от обращения с оружием и, как уверяют меня теречные князья, у многих не было оружия, а у других оно находилось в самом неисправном состоянии. Одни только мошенники, не имеющие никакого почти хозяйства, занимались своим оружием. Эти-то люди суть главные виновники побега всех жителей. Им нечего было терять, и потому они надеялись при возмущении поправить свое состояние. Муллы, непримиримые наши враги, соединились с ними и заблаговременно условились с Шамилем последовать за ним при его появлении. Хотя известно было, что Шамиль имеет намерение напасть на теречные деревни, но многие благонамеренные жители не знали об отношениях изменников с Шамилем. Они узнали об этом, когда появился Шамиль. Тогда мошенники взяли его сторону и оружием грозили остальным жителям. Эти несчастные, желая спасти свои семейства, не смели противуречить им и невольно последовали за возмутителями. Шамиль, не доверяя теречным жителям, не дозволил им поселиться в одном месте, а приказал селиться по новым чеченским деревням. Несмотря на это, почти все жители надтеречных деревень живут в лесах и все их имущество уложено на арбы. Я имею сведения, что они тотчас охотно вернутся на место прежнего их жительства, но страшатся, чтобы непокорные не ограбили их по дороге. Входя в столь бедственное положение надтеречных чеченцев, кои понесли уже наказание, лишившись своих домов, имущества, а другие и родных, я бы полагал: простить их этот необдуманный поступок без всякого наказания и дозволить им возвратиться на прежние места жительства. Снисходительность эта послужит нам к скорому приведению к покорности и засунженских чеченцев, но с сих последних надо положить взыскание податей, по примеру прошлых лет, по рублю серебром с каждого двора, за исключением кадий, мулл и бедных стариков и вдов.
Ежели Ваше Превосходительство изволит одобрить мое мнение, то покорнейше прошу почтить меня на это Вашим предписанием. Оно нужно мне сколь возможно поспешнее, дабы я мог действовать сообразно с Вашим разрешением.
5 августа 1840 года
крепость Грозная»[136].
К сожалению, развитие событий неизвестно, поскольку в соответствующем деле отсутствует дальнейшая переписка по этому вопросу. Но это не имеет принципиального значения. Как правило, при наличии серьезных резонов вышестоящие соглашались с мнением нижестоящих.
Тут важно другое: документы обнаруживают все многообразие проблем, которые возникали перед русским командованием, неизбежность трудноразрешимых противоречий между интересами, с одной стороны, мигрирующих из России и Украины крестьян, линейных казаков, заинтересованных не просто в захвате хлебов и имущества горцев, как в данном случае, а в расширении своих пастбищ и пахотных земель, а главное — в отдалении туземных поселений в целях безопасности. Добровольно или по принуждению, но слишком часто поселения «мирных горцев» становились промежуточными базами для «хищников», совершавших набег на станицы.
Уже цитированный генерал М. Я. Ольшевский в воспоминаниях описывал особенности быта линейных казаков 1840-х годов:
«Станицы Кавказского линейного казачьего войска того времени не были похожи на станицы более известного нам Донского войска. На Дону каждая станица уподоблялась русскому селу: так же широко раскинута; нет вала или плетеной ограды вокруг станицы; скот и лошади пасутся свободно; нет стеснения в обрабатывании полей, кошении сена и других сельских занятиях.
Кавказские же казаки, в особенности жившие на Тереке и Кубани, во всем были стеснены. Станицы их, по преимуществу четырехугольные, окруженные или высоким земляным валом, или плетнем с колючкой, за который и днем не всегда и не везде безопасно отходить, ночью же не смей и носа показать за ворота; да и караульные не пустят. Усадьбы небольшие, а потому дворы тесные и всегда наполненные разной скотиной, а следовательно, всегда нечистые. Улицы узкие и до того грязные, что местами не высыхают даже среди самого жаркого лета. Нет садов и огородов, их не позволяют иметь тоже тесные усадьбы… Выезжайте за станицу и, куда ни обернетесь, везде вы видите или сторожевые посты с вышками, или пикеты, занятые вооруженными казаками. Пасется ли скотина или табун лошадей, и вооруженные казаки их сторожат. Едет ли казак пахать, собирать хлеб, косить сено, и он должен быть всегда вооружен, потому что не только должен оберегать себя от хищников во время сельских работ, но и скакать на место тревоги, которые в это время бывали зачастую»[137].
Из этого описания понятно, какую роль играли в последние десятилетия Кавказской войны поземельные отношения в предгорьях. Если овладение собственно Кавказом — Кавказским хребтом — не имело смысла экономического, а исключительно военно-административный и политический, то в предгорьях дело обстояло иначе. И с наращиванием сил русской армии на Кавказе, а соответственно, с наращиванием всестороннего давления на горцев, с ощутимой в последние годы войны обреченностью имамата Шамиля, с постепенным отходом от Шамиля Чечни, столкновение интересов в сфере распределения завоеванных земель становилось все интенсивнее, а разрешение конфликтов все усложнялось.
Для того чтобы была понятна динамика процесса и его направление, стоит привести документы, аналогичные тем, которыми мы уже характеризовали середину пятидесятых годов, то есть отделенные полутора десятилетиями от событий 1840 года.
«Временному командующему войсками
на Кавказской линии и в Черномории
господину генерал-лейтенанту
и кавалеру Козловскому
За отсутствием заведывающего
левым флангом Кавказской линии
генерал-майора Пулло
Рапорт
Последние удачные экспедиции со стороны Кумыкской плоскости, так равно Урус-Мартана и Воздвиженской в Большую и Малую Чечню, заставили непокорных горцев, теснимых повсеместным голодом в горах (обратим внимание, как часто фигурирует в рапортах слово «голод»! — Я. Г.), искать в наших пределах пристанища и покровительства. Получаемые ежедневно подтверждения утверждают, что горцы, преследуемые вышесказанными обстоятельствами, решились выселиться в наши пределы не только с ближайших к нам мест, но даже с самых дальних гор, и что как при этом большом переселении, представляющем затруднения, они должны будут оставить в горах все имущество свое, не исключая и небольших запасов хлеба, — то просят обнадежить их, что с переселением к нам они будут пользоваться тем временным пособием, которое производится вообще бедным выходцам из гор до нового урожая хлеба».
Судя по тому, что речь идет явно о тайном бегстве, при котором нет возможности идти обозом, чеченские переселенцы опасались мщения Шамиля и его наибов. Помимо всего прочего, в подтексте документов — крушение имамата, переориентация Чечни с Шамиля на русские военные власти.
«Имея в виду, что удовлетворение просьбы ожидаемых в значительном числе переселенцев из гор будет значительно в издержках для казны, чего, впрочем, при таких крайних обстоятельствах выходцев и невозможно избегнуть, я долгом своим счел донести об этом Вашему Превосходительству и почтительнейше прошу разрешения Вашего — как поступить мне в случае значительного выхода горцев к нам относительно производства им казенного пособия.
№ 109. 23 генваря 1856 года. Крепость Грозная»[138].
Как видим, близость военной победы приносила новые проблемы, которые усугубляли и без того непомерную финансовую тягость Кавказской войны для истощенного бюджета России, которая в это время вышла из Крымской войны с гигантским внешним и внутренним долгом.
И еще одно — то, что известный нам генерал-майор Пулло (за 16 лет он так и не повысился в звании!), которого ненавидели горцы, а начальство обвиняло в излишней жестокости, не сомневается в необходимости спасать от голода вчерашних смертельных врагов, свидетельствует о направленности общей политики России по отношению к горцам. Кавказская война была не случайно выиграна не в жесткое и воинственное николаевское время, а в эпоху «оттепели» Александра II, в то самое время, когда в России готовились и начались Великие либеральные реформы. Изменение общественного и политического климата в стране сопровождалось более гибкой политикой на Кавказе, что вместе с мощным и последовательным военным давлением стало приносить свои плоды…
1856 год был переходным периодом от наместничества Воронцова к эпохе Барятинского, сломившего сопротивление Шамиля. Кавказским корпусом в течение двух лет командовал старый кавказец Н. Н. Муравьев, начинавший службу при Ермолове, а войсками Кавказской линии начальствовал также кавказский ветеран генерал-лейтенант Викентий Михайлович Козловский.
Князь А. М. Дондуков-Корсаков, в сороковые и пятидесятые годы служивший на Кавказе, дал выразительную характеристику Козловского:
«…Это был один из старейших офицеров Кавказа; солдаты беспредельно любили его и доверяли ему, офицеры смеялись над его выходками, но глубоко уважали его за радушие, доброту, примерное самоотвержение в бою и преданность своему долгу».
Представления о ценности человеческой жизни и ее соотношении с воинским долгом у Козловского были своеобразные, но, очевидно, отвечавшие общим представлениям кавказцев. Дондуков-Корсаков рассказывает, как генерал однажды заставил войсковую колонну, авангардом которой командовал Корсаков, ввязаться в совершенно бессмысленную перестрелку с чеченцами, что привело к потере десяти солдат.
«В палатке его за ужином, который обыкновенно состоял из луку, водки, соленой кабанины, кизлярского вина и портера, которым он всегда нас так усиленно угощал, подавая собою пример, я решился в шутку сказать ему: “Я от Вас все учусь Кавказской войне, Викентий Михайлович, но никак не могу понять сегодняшнего нашего движения, где мы потеряли людей, кажется, даром”. Старик, весь красный, вскочил: “Странные, как, вы, господа! И этого не понимаете. Нас, как, побьют, мы, как, побьем, зато бой, как. А за что же, как, Государь нам жалование дает?” Против такой логики нечего было спорить»[139].
Мир Кавказского корпуса был особым человеческим миром, в котором формировались причудливые и парадоксальные представления о жизни, но удивительные личности, выраставшие в этом мире, тем не менее, когда надо было принимать военные или административные решения, действовали по очень определенной логике. Чего нельзя было сказать о Петербурге, о высшей власти.
17 февраля 1856 года генерал Козловский направил начальнику левого фланга генерал-майору Н. И. Евдокимову предписание:
«Заведовавший левым флангом Кавказской линии генерал-майор Пулло рапортом от 23 генваря № 109 донес мне, что по полученным сведениям горцы, прилегающие к району вверенного Вам фланга, преследуемые повсеместным голодом, решились выселиться в наши пределы не только с ближайших к нам мест, но из самых дальних гор, и что они при таком большом переселении неминуемо должны оставить в горах все свое имущество, а потому просят обнадежить их в получении того временного пособия от казны, которое производится вообще бедным выходцам с гор до нового урожая хлебов.
О разрешении производства провиантского и пособия выходцам я вошел с представлением Главнокомандующему отдельным Кавказским корпусом, но здесь представился к разрешению другой вопрос, в каких местах внутри наших поселений водворить этих выходцев из гор, когда переселение их будет произведено в больших размерах.
Нет сомнения, что селить покорившихся нам горцев на передовых пунктах — как-то: на правом берегу Сунжи, на Аргуне или при самых передовых укреплениях, как это делалось доселе, принесет нам существенный вред, ибо туземцы, здесь поселившиеся, совершенно неприкрытые, будут вести себя двусмысленно, как от сочувствия к одноплеменникам, так и от боязни хищничеств и нападений.
Вследствие этого, я предлагаю в виде временной меры селить выходцев из гор следующим образом.
1-е. Размещать их по аулам Кумыкского владения по взаимному соглашению выходцев с Кумыкскими князьями, на землях которых они пожелают водвориться. Такого рода водворение немирных на Кумыкской плоскости производилось неоднократно.
2-е. Селить выходцев на земле надтеречных чеченцев. Эта земля, заключающая в себе 116 т. десятин земли, занята в настоящее время 11-ю мирными аулами, в коих считается до 10 т. душ мужского пола, следовательно, на каждую душу приходится огромное количество земли, свыше 100 десятин. Первоначально при небольшом числе выходцев можно их водворить также по взаимному соглашению в существующих уже надтеречных аулах, при большом же переселении я полагаю образовать из них отдельные аулы на правом берегу Терека, где Ваше Превосходительство найдет это удобным.
Хотя переселением выходцев в этом пространстве нельзя будет совершенно прекратить их сношения с немирными, но во всяком случае они, находясь под ближайшим нашим надзором, не могут нам принести такого вреда, как на передовых линиях»[140].
В тот же день генерал Козловский отправил предписание начальнику Владикавказского военного округа:
«Вследствие стеснения в поземельном довольствии последними военными действиями нашими в Малой и Большой Чечне и повсеместного между ними голода, они решились, как донес об этом заведовавший левым флангом Кавказской линии генерал-майор Пулло, переселиться к нам не только из ближайших к нам мест, но из самых отдаленных гор.
При таком большом переселении в наши пределы непокорных горцев является вопрос, в каких местах Кавказской линии представляются свободные земли для водворения новых выходцев.
Для составления об этом предмете общего и подробного соображения относительно всей Кавказской линии, я желаю знать, представляется ли возможным поселить в Малой Кабарде выходцев из гор и в каком количестве.
Малая Кабарда занимает пространство свыше 150 т. десятин и все земли принадлежат княжеской фамилии Бековичам-Черкесским и старинным дворянским родам (узденям) как-то: Эльхотовым, Надоровым, Ахловым, Астемировым и другим. По сведениям, составленным в 1851 году, в Малой Кабарде всего находилось 12 766 душ обоего пола. При таком небольшом населении сравнительно с пространством Малой Кабарды казалось бы возможным водворить в ней большое число выходцев по взаимному соглашению сих последних с фамилиями, коим принадлежат земли.
Вследствие чего я имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство в возможной скорости доставить мне нижеследующие сведения.
1) Представляется ли возможным водворить выходцев из гор в Малой Кабарде и на каких именно условиях относительно господствующих фамилий, коим принадлежит земля в этом крае.
2) Если на такое водворение с известными условиями согласятся жители Малой Кабарды, то сколько приблизительно можно будет поселить там выходцев из гор.
3) Какие именно места в этом крае могут быть назначены для их водворения»[141].
Судя по сведениям, которые имелись в распоряжении Козловского, Малая Кабарда с ее просторами и вымершим от холеры населением была самым удачным вариантом решения переселенческой проблемы. На практике все оказалось не так.
18 марта начальник Владикавказского военного округа отправил командующему левым флангом рапорт.
«Вследствие предписания Вашего Превосходительства от 17 февраля № 462, имею честь донести, что для поселения в Малой Кабарде оных выходцев из гор не только не представляется никакой возможности, но, чтобы предоставить кабардинцам более простора в пользовании землей своею, необходимо выселить из их земли чеченцев, которые по различию языка и обычаев с кабардинцами никак с ними ужиться не могут.
Из 151,354 десятин земли в Малой Кабарде кабардинцы пользуются только 57,172 десятинами, а остальное число десятин распределено следующим образом.
Собственной земли князя Бековича-Черкасского 70,846 десятин, землю эту можно приобретать только покупкой, как было сделано для приобретения от князя Бековича земли 1-му Сунженскому полку.
Высочайше дарованной
Полковнику Есенову — 1, 500 десятин
Владельцам аула Козрова — 1, 000
Владельцам Гизельских аулов — 1, 500
Вольным христианам — 3, 320
Вольным магометанам — 3, 138
Для леса Тагаурского общества — 2, 342
Аулам Эльхатовским — 10, 506»[142].
Таким образом, самый перспективный вариант организации новых поселений отпал, но параллельно нужно было срочно решать проблему пропитания голодающих чеченцев — как уже перешедших к русским, так и намеревающихся бежать из районов, контролируемых Шамилем.
3 марта Козловский направил командующему корпусом генерал-адъютанту Муравьеву рапорт, свидетельствующий о нарастании трудноразрешимых проблем, ибо в этом рапорте начал разворачиваться новый сюжет.
«Имея в виду, что от стеснительного поселения чеченцев, водворенных на передовых линиях наших, где ощущается недостаток в землях для хлебопашества, они всегда будут нуждаться в хлебе и поставлять нас в необходимость оказывать им помощь в пропитании, я, в предупреждение этих нужд чеченцев на будущее время, полагаю необходимым выселить их на другие более удобные места, на которых они могли бы заниматься беспрепятственно хлебопашеством, не стесняя ни себя, ни казаков, землями коих ныне пользуются многие аулы Чечни, поселенные вблизи казачьих станиц и наших укреплений, о чем и требую соображения начальника левого фланга, по получении коего буду иметь честь войти по этому предмету с особым предложением к Вашему Высокопревосходительству»[143].
Новый сюжет, упомянутый выше, — стеснение чеченцами казаков и необходимость выселения — получил стремительное продолжение. В комплексе переписки отсутствует реакция Муравьева на рапорт Козловского, но по дальнейшему развитию событий можно с полным основанием реконструировать ее смысл.
Через девять дней после рапорта командующему корпусом — срок достаточный, чтобы получить ответ, — Козловский неожиданно меняет свою позицию и, явно не дождавшись соображений Евдокимова, посылает ему 12 марта новое предписание.
«По ближайшему рассмотрению вопроса о поселении туземцев, которые изъявляют нам покорность, в районе вверенного Вашему Превосходительству фланга, я считаю нужным дополнить и несколько изменить предписание мое по сему предмету от 17-го февраля № 461.
Первоначально нужно иметь в виду непременно выселить мирные аулы на Сунже, которые стесняют сунженских казаков в поземельном довольствии, а именно Закан-Юртовский аул и аулы против Алхан-Юртовской и Грозненской станиц. Для поселения этих аулов представляются свободные земли по течению рек, орошающих Малую Чечню, как-то: Гойта, Рошни, Валерика, Гехи и других с таким условием, чтобы туземцы непременно селились у так называемой русской дороги большими аулами. Такое переселение аулов должно быть сделано в том случае, когда не будет возможности поселить их в надтеречных аулах, — как я писал об этом в предписании № 461.
На правом берегу Сунжи, согласно приказанию бывшего Главнокомандующего генерал-адъютанта князя Воронцова от 18-го августа 1850 года № 630, сообщенного начальнику левого фланга в предписании от 1-го сентября того же года № 1653, должна быть отведена полоса земли с лесом для казаков 2-го Сунженского казачьего полка в следующих размерах (далее идет подробное топографическое описание полосы. — Я. Г.). В 1850 году было предписано не позволять чеченцам селиться на этой полосе.
Тем же из туземцев Малой Чечни, которые вновь нам покорятся и вместе с тем не пожелают поселиться в надтеречных аулах по взаимному соглашению с жителями оных, можно дозволить селиться на своих местах, но с таким обязательством, чтобы они жили непременно целыми аулами, а не отдельными хуторами, разбросанными по лесам, как они живут ныне. Величина этих аулов должна сообразовываться с количеством поземельного довольствия, а на жителей оных возложить расчистку просек, ведущих к их аулам и полям.
Для выходцев Большой Чечни я полагал бы назначить место у Гудермеса, где предполагается построить башню.
Когда наша линия на Сунже упрочится до самого впадения сей реки в Терек, то тогда нужно иметь в виду также переселить Тепли-Кичинский аул, куда в настоящее время воспретить переселяться новым выходцам. В противном случае крепость Грозная по необходимости должна сообщаться с линиею оказиями, а также производить фуражировки с большими прикрытиями и через то иметь в своем гарнизоне много пехоты и кавалерии. Сверх того Грозненская станица будет всегда иметь большие лишения в поземельном довольствии»[144].
Помимо всего прочего, здесь любопытен один штрих — близость мирного аула представляет для русских источник постоянной опасности. Но главный, хотя и не совсем отчетливо выраженный смысл предписания в другом — русское командование явно нащупывает пути к высвобождению максимума пахотных земель для казачества и в то же время возможность поселять подчинившихся чеченцев таким образом, чтобы они были надежно отсечены от немирных своих соплеменников.
Наряду с распределением пахотных земель переселение горцев, добровольное или насильственное, в места, где они представляли меньшую опасность для русских властей, начавшееся в эпоху Ермолова, в пятидесятые годы, как видим, стало проблемой, которая могла поспорить по степени сложности с собственно военными задачами. Во времена Барятинского и до 1864 года — момента окончания Кавказской войны в ее активной фазе — переселение горцев стало не менее действенным способом покорения края, чем боевые действия.
Приехавший на Кавказ через пять лет после описываемых нами событий вдумчивый и наблюдательный офицер М. Венюков, автор интересных записок, так оценивал процесс переселения:
«В 1862 году нами было заселено западнее Лабы (правый фланг Кавказской линии, левобережье реки Кубань. — Я. Г.) все пространство до р. Белой и даже две станицы водворены за этой рекой: Пшехская и Бжедуховская. В это же время начал приводиться в исполнение систематический план водворения на Прикубанской низменности тех горцев, которые прекращали сопротивление и изъявляли покорность нам. Длинная полоса земель вдоль левого берега Кубани, от самого ее истока, где жили издавна уже покорные Карачаевцы, до начала дельты, предназначена была в исключительное их пользование. Таким образом, выходя из родных гор, они оставались ввиду их, в отношении производительности почвы ничего не теряли, а в отношении удобства сбыта своих произведений даже выигрывали. Одно не могло нравиться им: близость надзора русских, которых селения окружали их земли со всех сторон. Но это было условие неизбежное и притом способное тяготить только первое поколение выходцев, живо помнившее приволье в горах».
Даже образованный и гуманный Венюков, впоследствии ученый-географ, этнограф, историк, не мог понять, что у горцев было отнято главное — тот образ жизни, который давал им самоуважение и который они считали единственно достойным.
Но в конце этого рассуждения Венюков сообщает нечто, чрезвычайно важное для нашего сюжета.
«Должно однако заметить, что граф Евдокимов, который был непосредственным исполнителем официального “проэкта заселения западного Кавказа”, не слишком заботился об участи горцев, выселявшихся на Прикубанскую низменность. Его твердым убеждением было, что самое лучшее последствие многолетней, дорого стоившей для России войны, есть изгнание всех горцев за море, поэтому на оставшихся за Кубанью, хотя бы и в качестве мирных подданных, он смотрел лишь как на неизбежное зло и делал что мог, чтобы уменьшить их число и стеснить для них удобства жизни»[145].
Генерал Евдокимов, от которого во многом зависела стратегия русских властей по отношению к переселенцам, был человеком уникальным даже для кавказского офицерства. Сын прапорщика, выслужившегося из солдат (родился Евдокимов, когда отец его был еще фейерверкером — нижним чином в кавказской артиллерии, уже прослужившим 20 лет), вырос в маленьких кавказских гарнизонах, не получил, фактически, никакого образования, выслужил первый офицерский чин отчаянной храбростью и незаурядной тактической сметливостью. Был дважды смертельно ранен. В бою с мюридами первого имама Кази-Муллы пуля навылет пробила ему голову, угодив под левый глаз, — он выжил и получил у горцев прозвище «трехглазый». В 1841 году, уже будучи майором, Евдокимов был назначен приставом большого горского общества — Койсубулинского и в этом качестве получил удар кинжалом в спину от фанатика. Он должен был умереть, но его выходил местный хаким — мусульманский лекарь. Вершиной карьеры Евдокимова был окончательный разгром и пленение Шамиля, а затем и покорение Западного Кавказа. Начинавший полуграмотным прапорщиком, Николай Иванович Евдокимов закончил войну генерал-адъютантом, генералом от инфантерии, графом и кавалером высочайшей награды — Георгия 2-й степени. Его лозунгом в последний период войны было:
«Первая филантропия — своим; горцам же я считаю вправе предоставить лишь то, что останется на их долю после удовлетворения последнего из русских интересов».
Человек такого жизненного воспитания и такой судьбы должен был безгранично верить в свою правоту и предназначение. Соответственно с этой верой генерал Евдокимов и действовал.
11 марта он ответил на предписание Козловского от 17 февраля обширным рапортом, в котором изложил свой план переселения горцев в соответствии с новой идеей — окружения мест сосредоточения горского населения русскими укреплениями и станицами. Это вполне соответствовало тому принципу, который обнаружил в его деятельности уже на Западном Кавказе Венюков. Интенсивная переписка продолжалась до июля, и наконец 10 июля Евдокимов направил по начальству обширную подробную «Записку о наделении землей мирных жителей Чечни», которая сконцентрировала его идеи по этому предмету…
Крупный знаток Кавказа и его истории А. П. Берже в исследовании «Выселение горцев с Кавказа» писал в начале 1880-х годов:
«В течение 20-ти лет ни один из чеченских аулов не был уверен в том, что он останется на месте до следующего дня; то наши колонны истребляли их, то Шамиль переселял на другие места по мере наших движений. Благодаря необычайному плодородию почвы, народ не погиб от голода, но потерял всякое понятие об удобствах жизни, перестал дорожить своим домом и даже своим семейством»[146].
Историк, естественно, не мог предположить, что постоянные переселения, которым подвергались чеченцы в середине XIX века, по жестокости и истребительности не шли ни в какое сравнение с тем, что ожидало их в столетии следующем. (Хотя один ситуационный аналог имеется — значительную часть из многих тысяч эмигрировавших в Турцию чеченцев турки отправили на жительство в Месопотамию, где большинство из них вымерло от тяжелого, непривычного климата.)
Наблюдая ретроспективно тот энергичный пасьянс, который раскладывали на Кавказе генералы, тасуя племена и разбрасывая их по огромному пространству в соответствии с возникавшими идеями, следуя меняющейся оперативной обстановке, не задумываясь над воздействием, которое производит это холодное насилие на сознание горцев, трудно отрешиться от простой мысли о злорадном торжестве причинно-следственных связей в истории…
РЕФОРМАТОР И КАВКАЗ
Исследователи русской истории, по странной особенности подхода и избирательного направления взгляда на материал, удивительно мало обращали внимания на то принципиальное обстоятельство, что судьбы чрезвычайно многих государственных и военных деятелей, игравших существенную роль в жизни страны, непосредственно связаны были с Кавказом, с Кавказской войной.
Опыт, полученный на Кавказе, несомненно влиял на их политические и административные представления. Достаточно вспомнить графа Лорис-Меликова, всю свою военную жизнь прослужившего на Кавказе — более тридцати лет — и ставшего на исходе царствования Александра II надеждой либерал-реформаторов, отстоявшего идею конституционных реформ, чьи замыслы сорвало убийство императора…
Вышедшие за последние три года два тома «Воспоминаний» другого крупнейшего либерала-реформатора, военного министра Александра II — Дмитрия Алексеевича Милютина еще раз заставляют задуматься о парадоксальной роли Кавказа в политической судьбе России.
Воспоминания Милютина, несмотря на то, что им присущ некоторый неизбежный в этом жанре субъективизм, представляют уникальное явление в обширном собрании мемуаров русских государственных деятелей такого ранга — начиная от Екатерины II и кончая С. Ю. Витте. В мемуарах Милютина нет установки на самооправдание, коррекции задним числом собственной биографии и истории вообще. Имеющие, безусловно, и дидактический смысл, о чем у нас еще будет речь, — они ориентированы, главным образом, на фиксацию многообразного исторического опыта, как российского, так и европейского.
Особенность мемуаров Милютина обусловлена, разумеется, особостью его личности и исторической судьбы.
Дмитрий Алексеевич Милютин, крупнейший после Петра I реформатор русской армии, родился через год после окончания наполеоновских войн и умер за два года до Первой мировой войны. Его девяностошестилетнюю жизнь обрамляют равновеликие по масштабу, значению и последствиям батальные катаклизмы.
Милютин родился в июне 1816 года — через год после окончательного завершения наполеоновской эпопеи, в то самое время, когда генерал Ермолов, получивший командование Кавказским отдельным корпусом, делал последние приготовления к отбытию по месту новой службы. Начинался активный период Кавказской войны, в которой Милютину предстояло сыграть не последнюю роль и которая решительным образом повлияла на его военные представления.
Милютин умер в январе 1912 года, не дожив несколько месяцев до начала Балканских войн, когда на пространстве, которое в свое время было предметом особого внимания военного министра и стратега Милютина, началась война всех против всех. Это был парадоксальный результат победы России над Турцией в 1878 году, победы, освободившей балканские государства. Милютин был в известном смысле отцом этой победы, ибо ее одержала реформированная им новая русская армия.
Не менее парадоксальным явилось и то обстоятельство, что крушение Оттоманской империи и выход балканских государств в самостоятельное международное существование стали одной из причин мировой войны… '
Мировидение человека, вся жизнь которого оказалась непосредственно и опосредованно связана с военной — и не только военной — судьбой России и Европы, человека, которого формировала европейская военная история и который, в свою очередь, существенно влиял на нее, — это мировидение драгоценно для всех, кто хочет понять не абстрактную, но человеческую суть процессов, длящихся и по сей день.
Один из великих уроков деятельности Милютина укладывается в элементарную формулу, им выведенную:
«Отдаленные результаты вполне рационального в конкретный исторический момент решительного вмешательства в ход событий оказываются бесконечно далекими от желаемых».
Это относится и к Кавказской, и к русско-турецкой войне, и к завоеванию Средней Азии, то есть ко всем вторжениям в историческую ткань, в которых принимал активное участие замечательный государственный и военный мыслитель и практик Дмитрий Алексеевич Милютин.
Молодой Милютин, талантливый и честолюбивый отпрыск обнищавшего семейства, иногда буквально сидевшего без гроша, оказался в положении, характерном для многих представителей дворянской молодежи двух предшествующих поколений, которых подобный поворот судьбы привел к мысли о роковой несправедливости существующего порядка и которые стали средой, пославшей на политическую арену наиболее радикальных «действователей» декабристских обществ — Каховского, Щепина-Ростовского, «соединенных славян»… К близкому слою принадлежали братья Бестужевы.
Во вступительной статье к первому тому Л. Г. Захарова приводит письмо победителя Шамиля — Барятинского, чьим сподвижником был Милютин, Александру II с интереснейшей характеристикой Милютина. Там, в частности, говорится: «Он враждебно относится ко всему аристократическому и в особенности ко всему титулованному». Враждебность Милютина, человека с выраженным сословным сознанием, была, естественно, не разночинно-демократического характера. Это было наследие декабристского и продекабристского дворянства, вытесняемого из политической и экономической жизни. Этот антагонизм, предельно четко обозначенный Пушкиным в его известном разговоре с великим князем Михаилом Павловичем, был одной из пружин декабристского движения.
Познавший унизительную участь бедствующего гвардейского офицера, вынужденного зарабатывать напряженным литературным трудом, с горечью наблюдавший за драмой своего отца, достойного, честного, благородного человека, самоотверженно боровшегося с нищетой и десятки лет положившего на бесконечную имущественную тяжбу (вспоминается и «Дубровский», и пьесы Сухово-Кобылина), Дмитрий Милютин сформировался, однако, в 1830-е годы, когда дворянский радикализм уже изжил себя (а до разночинного было далеко) и все надежды мыслящих людей возлагались на благие намерения императора Николая, создававшего один за другим секретные комитеты для обсуждения крестьянского вопроса.
Все вышесказанное дает основания для вполне определенного вывода: реформаторский прорыв военного министра Милютина и успехи группировки, к которой он принадлежал, были историческим реваншем дворянского авангарда первой четверти века, декабристской и продекабристской формации. Недаром одним из главных деятелей крестьянской реформы, без которой было невозможно все остальное, оказался Яков Иванович Ростовцев, автор романтических сочинений, полноправный член Северного тайного общества, втянутый накануне мятежа в двусмысленную и головоломную политическую игру, получивший клеймо предателя и своим рвением в период реформ старавшийся не только смыть это клеймо, но и реализовать идеалы юности, как собственные, так и своих наставников Оболенского и Рылеева.
Во вступительной статье к первому тому[147] Л. Г. Захарова выразительно демонстрирует парадоксальную двойственность политической позиции Милютина:
«Либерализм и просвещенность его взглядов как-то органично уживались с крайней жесткостью и даже нетерпимостью в реализации имперской политики самодержавия в пору либеральных реформ Александра II».
И повторяет во вступлении к тому «Воспоминаний» 1860–1862 гг.[148]:
«Либеральные взгляды Милютина на широкие радикальные преобразования уживались с очень жесткой позицией в вопросах имперской политики. И это касалось не только имеющихся владений, но и присоединения и завоевания новых. Милютин был среди тех, кто не только выступал за активную и энергичную политику самодержавия на Кавказе, но и лично принимал участие в ее реализации силой оружия».
Все это совершенно справедливо и, по сути дела, не содержит никаких принципиальных противоречий. Если мы вспомним взгляды декабристских идеологов, касающиеся имперских проблем, — не только свирепого государственника Пестеля, в «Русской правде» предлагавшего фактически уничтожить коренное население Кавказа как злую помеху прогрессу и цивилизации и заселить Кавказ выходцами из России, но и куда более терпимого Александра Бестужева, горько сетовавшего в письме с того же Кавказа в 1831 году, что он не имеет возможности участвовать в подавлении польского мятежа, то убедимся, что ни революционно-республиканские, ни либерально-конституционные взгляды русских дворян первой трети XIX века не мешали им быть убежденными сторонниками имперской идеи как идеи патриотической и цивилизаторской. Полонофильство Вяземского и Лунина представляется достаточной редкостью.
Милютин вошел в историю как реорганизатор русской армии, сломавший устаревшую и неэффективную рекрутскую систему и создавший армию европейского образца. Но именно этот слой его деятельности в своей содержательной части сегодня наименее актуален. Здесь важны не технология и содержание военной реформы, но само понимание ее необходимости и решительность ее осуществления. По сути же дела гораздо актуальнее другие сюжеты.
Во вступительных статьях к двум вышедшим томам «Воспоминаний» Л. Г. Захарова постоянно возвращается к кавказской проблематике. И дело не только в том, что в жизни Милютина Кавказ сыграл одну из определяющих ролей, но и в неизбежной — не аллюзионной, но совершенно реальной связи деятельности Милютина и его сподвижников на южной окраине империи с российско-кавказской драмой наших дней.
28 августа 1859 года начальник Главного Штаба Кавказского корпуса генерал-адъютант Милютин стоял рядом с фельдмаршалом Барятинским, когда тот принимал капитуляцию Шамиля. Л. Г. Захарова приводит слова Барятинского Милютину:
«Я вообразил себе, как со временем, лет через 50, через 100, будет представляться то, что произошло сегодня: какой это богатый сюжет для исторического романа, для драмы, даже для оперы».
И автор статьи комментирует эти мечтания:
«Наместник Кавказа явно чувствовал себя вместе со своим начальником Главного Штаба — Милютиным на исторической сцене в героической роли, но никак не предвидел трагических событий нашего времени».
Весьма симптоматично и требует анализа то обстоятельство, что русская литература фактически не удостоила своим вниманием этот и подобные ему героические кавказские сюжеты — ни сколько-нибудь заметных романов, ни драм, ни тем более опер. «Хаджи-Мурат» — совсем о другом… Осмыслением успехов Барятинского занимались исключительно военные публицисты — генерал Р. Фадеев, полковник Д. Романовский, в другом лагере — Добролюбов.
Есть основания считать, что Милютин не столь романтично оценивал ситуацию. Если выделить принципиальные фрагменты текста мемуаров, относящиеся к кавказской проблематике, то становится очевидной жесткая трезвость взгляда автора, существенно отличающая его от большинства мемуаристов — участников Кавказской войны.
Уже в 1839 году двадцатитрехлетний офицер Гвардейского Генерального штаба, после нескольких месяцев непосредственного участия в боевых действиях, осознал «несовершенство того образа войны, которому мы следовали в борьбе с горцами». Позже, в специальной главке «О набегах и хищничествах кавказских горцев», Милютин твердо говорит об особенностях партизанской войны, которых не учитывали петербургские власти:
«Охранение края или дороги на значительном протяжении против такого рода враждебных предприятий, каковы обычные набеги кавказских горцев, дело нелегкое; оно, можно сказать, непосильно регулярным войскам. В подтверждение того история дает много примеров. Знаменитейший полководец нашего века Бонапарт не мог справиться в Египте с мамелюками; в Испании целые армии Франции не могли одолеть гверильясов. И действительно, есть ли возможность войскам угнаться за подвижными летучими шайками, которым всюду открыт путь, которые могут появляться внезапно и мгновенно исчезать из глаз?»
Перед отъездом с Кавказа в 1840 году Милютин составил специальную записку, в которой суммировал свои соображения:
«Исходною точкою была та мысль, что принятая в то время система раздробления наших сил по всему обширному пространству края малыми частями во множестве ничтожных укреплений и постов, большею частию даже не вполне обеспеченных от нападения непокорных горцев, ослабляла нас и не только не вела к положительным результатам, но даже представляла опасность при всяком неблагоприятном обороте дел. Предпринимаемые же по временам большие экспедиции в горы, стоившие огромных жертв, также не могли вести к покорению края; даже после успешных действий отряд должен возвратиться из труднодоступных горных трущоб, оставляя за собой еще более озлобленное и враждебное население».
Милютин предлагал иной путь:
«Стоя твердою ногою в среде доступного нам туземного населения, дав ему при том разумное, правосудное управление, мы получили бы возможность, даже не прибегая к оружию, постепенно привлечь к себе и более отдаленные, недоступные горские племена влиянием нравственным, выгодами торговли и промышленности».
Последний пассаж — почти буквальное повторение того, что в 1816 году предлагал, напутствуя Ермолова, адмирал Мордвинов, а в 1829 году декларировал Пушкин в «Путешествии в Арзрум». Схожие соображения высказывал в 1805 году командовавший тогда войсками на Кавказе генерал Цицианов в проекте управления Кабардой.
Актуальность всех этих соображений говорит как об уникальной консервативности кавказской проблематики, так и о неизжитых за две сотни лет пороках российской стратегии на Кавказе, ибо все положительные программы так и не были реализованы из-за общего несовершенства государственной системы.
Справедливости ради надо сказать, что был и еще один важнейший фактор — представление горцев о частичном даже отказе от традиционного уклада (включавшего, в частности, набеговую практику как непременный элемент) как о катастрофическом крушении миропорядка. Это представление, с одной стороны, и неспособность имперских властей понять серьезность психологической стороны конфликта, с другой, определяли трагическую безвыходность ситуации, не дававшей возможности компромисса.
Рассказывая о посещении Кавказа Александром II в 1861 году, Милютин описывает сцену, прекрасно иллюстрирующую предшествующий абзац:
«Один из абадзехских старшин поднес от имени всего народа абадзехского адрес, в котором высказывалась в начале готовность войти окончательно в подданство русскому Императору, “соединиться с ним так, чтобы никогда уже не выходить из повиновения поставленному им начальству”; испрашивалось прощение прежних проступков, “совершенных по невежеству и притом в то время, когда они, абадзехи, были еще непокорными”; но затем слышались такие условия: “оставить за ними в неприкосновенности все земли от р. Лабы до пределов абадзехской земли, от р. Кубани до земель шапсугов и от Гагры до земли убыхов; не строить более на сказанных землях ни крепостей, ни укреплений, ни сел, ни деревень, не проводить дорог, которые вредят посевам хлеба, находящимся преимущественно вблизи дорог”. В заключение испрашивалась “выдача пленных горцев и возвращение беглых холопов”. На этот адрес и на речь депутатов Государь ответил в немногих словах, что примет “покорность безусловную, а устройство быта и судьбы народа поручил кавказскому начальству”, а потому указал горцам обращаться с просьбами к графу Евдокимову».
Если учесть, что генерал Евдокимов был сторонником полного освобождения Кавказа от коренного населения любыми способами, то неудивительно, что после такого ответа большинство горских племен постановило «продолжать войну с русскими до последней крайности».
Горцы предлагали в качестве компромиссного варианта лояльность и вассалитет, а русская сторона настаивала на полном и жестком включении в имперскую структуру, на что горцы добровольно пойти не могли…
Кавказская проблематика — лишь один из сюжетно-смысловых пластов «Воспоминаний», но она органично связана со всей системой представлений либерала-реформатора.
История реформ 1860-х годов — история драматическая по взвинченной напряженности, которая сопутствовала самому их ходу, и трагическая по близким и отдаленным последствиям. Один из самых проницательных и подготовленных участников реформ, Милютин скоро осознал их опасную внутреннюю противоречивость и зловещие издержки той свободы, за которую он сам ратовал. В частности, он писал:
«Что касается нашей журналистики, с которой снята была прежняя строгая узда, — то она воспользовалась данным ей простором уж слишком широко: она не ограничилась обличением существующих язв, злоупотреблений и беззаконий, а приняла характер оппозиции против всего правительственного, начала возбуждать недоверие ко всякой власти, разрушать все, на чем держится в государстве равновесие и порядок».
Георгий Федотов, глубокий мыслитель, обогащенный опытом крушения российского государства в 1917 году и последствий этого крушения, назвал известную статью о Пушкине «Певец империи и свободы». Эта только на первый взгляд противоречивая формула полностью подходит к миропредставлению Милютина. Стройный, отлаженный, прочный государственный механизм нерасчленяемой империи он считал гарантией личных свобод граждан. Этой же позиции придерживался и зрелый Пушкин.
Милютин, считая либеральные реформы неизбежными и необходимыми, не обольщался относительно готовности к ним всех слоев населения. При этом Милютин, работавший внутри системы, прекрасно знал ей цену:
«Нельзя не признать, что все наше государственное устройство требует коренной реформы снизу доверху. <…> Все отжило свой век, все должно б получить новые формы, согласованные с великими реформами, совершенными в 60-х годах. К крайнему прискорбию, такая колоссальная работа не по плечам теперешним нашим государственным деятелям, которые не в состоянии подняться выше точки зрения полицмейстера или даже городового. <…> Я убежден, что теперешние люди не в силах не только разрешить предстоящую задачу, но даже и понять ее».
Эта черновая дневниковая запись, фактически констатирующая провал реформ, была сделана в 1879 году на закате александровского царствования и государственной карьеры Милютина, вскоре после победы в русско-турецкой войне, одним из энергичных инициаторов которой был Милютин и которая (об этом уже говорилось) стала причиной совершенно неожиданных событий внутри страны — в ближайшей перспективе и международных — в перспективе отдаленной.
Неразрешимое внутреннее противоречие государственной доктрины и практики Милютина заключалось не в парадоксальности его политической позиции — «империя и свобода», а во вторжении «военного» слоя его сознания в сферу гражданского государственного строительства. Л. Г. Захарова приводит убийственные по своему реальному смыслу цифры, свидетельствующие, что под давлением Милютина военный бюджет России в самый напряженный период реформ поглощал средства, без которых эти реформы, идеологически энергично поддержанные тем же Милютиным, не могли эффективно осуществляться.
Совершенно так же внешнеполитическая имперская доктрина военного министра, восходящая к «восточным утопиям» Петра I и Екатерины II, доктрина, которой он обосновывал необходимость войны с Турцией вопреки категорическим возражениям министра финансов, вошла в катастрофическое противоречие с его же представлениями о внутреннем развитии страны.
Проницательный политический мыслитель, понимавший неимоверную сложность внутренних проблем, в качестве стратега-генерала бестрепетно расширял пределы империи на юго-востоке, неумолимо покоряя Кавказ, завоевывая Среднюю Азию, ставя перед Россией непосильные экономические задачи и провоцируя международные осложнения.
А между тем в «Воспоминаниях» присутствуют оценки и размышления, свидетельствующие о тонком понимании чужих ошибок в международной сфере. Таковы страницы, к примеру, посвященные мексиканской авантюре Наполеона III. Брезгливое описание попытки французского императора посадить на место законного президента Бенито Хуареса австрийского эрцгерцога Максимилиана в качестве монарха имеет важный подтекст. Внимательно читавший западную прессу Милютин, разумеется, знал, что в Мексике перед французской интервенцией закончилась ожесточенная гражданская война, которую мексиканцы назвали Войной за Реформу, одной из главных составляющих которой был «Закон Хуареса», отменяющий «фуэрос» — сословные привилегии. Победа Максимилиана и французов означала откат Мексики в прошлое, что было для Милютина принципиально неприемлемо.
Отнюдь не будучи самоуверенным догматиком и фанатичным доктринером, Милютин сознавал, что грубая реализация его идеалов чревата роковыми искажениями. В дневниковых записях он убеждал себя, что этих искажений можно избежать:
«Но сильная власть не исключает ни личной свободы граждан, ни самоуправления; но преобладание русского элемента не означает угнетения и истребления других народностей; во устранение сословных привилегий — далеко от нивелирства и социализма».
Однако само наличие этих заклинаний свидетельствует о глубоких сомнениях и подавляемых страхах. Как мы теперь знаем — вполне основательных…
Воспоминания Милютина — грандиозная энциклопедия светлых плодотворных идей и опасных заблуждений, высоких прозрений и наивных иллюзий всего русского XIX века, среди которых одно из важнейших мест занимает роковая кавказская проблема, ясно изложенных широко осведомленным человеком, который старался быть максимально честным перед собой и потомками.
ЧЕРКЕСИЯ — «КАВКАЗСКАЯ АТЛАНТИДА»
И с этим злом, веками освященным,
Ужасным, тело свыклося мое;
А из него от солнечного жара
Сочатся капли крови постоянно
И на скалы Кавказа упадают.
Эсхил[149]Алексей Николаевич Веселовский, известный историк литературы, в исследовании «Прометей в кавказских легендах и мировой поэзии», опубликованном в 1902 году в «Кавказском вестнике», писал:
«С тех пор, как легенда о Прометее подверглась впервые литературной обработке Гезиода, прошло двадцать шесть веков, но она все еще могущественно действует на человечество. Прометей — один из немногих его избранников, сочувствие к которым сопутствует мировой истории, — и, благодаря тому, что еще в отдаленной древности греческий миф о нем слился с преданиями народностей Кавказа о скованных титанах-страдальцах, во множестве вариаций повторялась повсюду, как нечто неизбежное, завещанное веками, именно кавказская обстановка мучений титана. На почве локализации предания сближаются такие крайности человеческого творчества, как кабардинские, осетинские или иные поверья… и просветленные гуманною мыслью и идеализмом художественные произведения Эсхила или Байрона».
В том, что именно Кавказ был выбран греческими гениями местом страданий Прометея, есть свой глубинный смысл, который не исчерпывается наличием схожих легенд у кавказских народов — у черкесов, в частности. Этот древний сюжет, реализовавшийся именно в той части Кавказа, обращенной к Черному морю, которая впоследствии была населена адыгами-черкесами и абхазами и была прочно связана с греческим миром, бросает мрачный отсвет на последующую судьбу этих народов. Тем более что кавказские варианты мифа принципиально пессимистичнее греческих — страдания титана бесконечны и у него нет надежды на вмешательство героя-освободителя.
А. Веселовский формулирует важную для нас мысль:
«Поразительная особенность Кавказа, которую можно было бы назвать бессмертием народной памяти или поэтическим консерватизмом, — умение в течение тысячелетий сберегать то, что некогда поразило народный ум или воображение, и, точно сохранив его в глубине своих ущелий, за твердыней гор, неприкосновенно передавать позднейшему потомству, ставит теперь лицом к лицу в мировой литературе обе эти противоположности…»
Это «бессмертие народной памяти», не только поэтический, но и — глубже — психологический консерватизм, то, что сегодня можно назвать психологической стабильностью, цельностью и прочностью мировосприятия, — стало одной из фундаментальных причин трагедии Черкесии, когда, волею геополитических обстоятельств и логики развития империи, она оказалась в неразрешимом конфликте с могущественной Россией.
Мы не будем излагать здесь длительную и многосложную историю взаимоотношений черкесских племен с Московским государством. Можно только сказать, что в XVI–XVII веках, когда эти отношения были достаточно оживленными, ничто не предвещало драмы, разыгравшейся в XIX веке, предпосылки которой сформировались в веке XVIII.
Мифологическая Атлантида рухнула в океанскую пучину в результате грандиозного природного катаклизма.
Историческая Черкесия исчезла в результате катастрофы военно-политической.
До начала 1860-х годов адыги-черкесы (наиболее крупные племена: шапсуги, абадзехи, натухайцы, темиргоевцы, бжедухи, убыхи) населяли обширное пространство от Черноморского побережья до Прикубанья. Восточнее проживали адыги-кабардинцы. Как и об античной Атлантиде, о «Великой Черкесии» существует много мифов, но есть и несомненная данность — пространство обитания адыгских народов было пространством богатой и своеобразной культуры. Это был особый мир, производивший сильное впечатление на европейцев. Мир, безжалостно и — как теперь очевидно — неоправданно разрушенный.
Трагедия такого масштаба заслуживает изучения внимательного и объективного, ибо уроки, которые можно извлечь из происшедшего, более чем актуальны. Не говоря уже о таком немаловажном понятии, как справедливость.
Что это была за культура?
В 2005 году вышло поразительное по своей смысловой и фактологической насыщенности издание, называющееся «Старые черкесские сады. Ландшафт и агрикультура Северо-Западного Кавказа в освещении русских источников». Создал этот двухтомник знаток истории Кавказа вообще и Черкесии в особенности Самир Хотко. Это увлекательное и горькое чтение, ибо речь, как правило, идет о достижениях великой аграрной цивилизации, погибавшей на глазах русских исследователей.
Крупный ученый — ботаник, агроном, этнограф — Иван Николаевич Клинген, в конце XIX века изучавший природу разгромленной Черкесии, оставил убийственные свидетельства:
«Весь восточный берег Черного моря и большая часть Батумского округа представляет из себя обширную пустыню с населением более редким, чем Сибирь. Природа здесь роскошна, как нигде в Европе, а климат по мягкости подобен климату Ривьеры. Растительность, сохраняя свою южнорусскую физиономию в северо-западной части, постепенно утрачивает ее при передвижении на юг, а за Сочи мало-помалу принимает субтропический характер… Под нею скрывается плодородная почва, нередко тучный чернозем, который обеспечивает урожаи самых прихотливых сельскохозяйственных растений, а массы воды дают огромные ресурсы для применения надпочвенного, подпочвенного и даже воздушного орошения. Но до последнего времени население побережья не прибавлялось, а скорее рефессировало, и колонии прозябали, а не процветали; ничтожная производительность земли, всюду жалкая культура, уныние в сердцах, вечные вздохи о покинутой родине, бедность, болезни, невозможные дороги, отсутствие мостов, общий упадок и одичание — вот что режет глаз на каждом шагу… В продолжение более чем четверти века испытаны всевозможные меры заселения, немало денег и энергии ушло на бесплодные попытки, а все же дело не продвинулось.
В чем же здесь тайна?»
И честный ответ:
«Исчезли горцы, но вместе с ними исчезло их знание местных условий, их опытность, та народная мудрость, которая у беднейших народов составляет лучшее сокровище и которой не должен брезговать даже самый культурный европеец. Горцы прекрасно умели возделывать всякого рода орехи, хурму, яблоки, груши, винную ягоду и, несмотря на закон, угощали европейцев прекрасным вином. На юго-востоке занимались они хлопком, особый вид лебеды служил им для добывания селитры, а душистый мед тысячами пудов шел за границу. Их защитные насаждения вдоль рек, живые изгороди, лесные опушки кругом полей, древесные группы для затенения, воздушные силосы из листьев и ветвей — все вызывает одобрение агрономов. Веками выработанная система гигиенического режима для предупреждения от лихорадки, особый выбор мест для жилища, пользование водой, распределение работ по времени дня и по времени года в зависимости от вертикального профиля местности — все возбуждает удивление среди гигиенистов. Их плуги и рала, их выносливые горские семена были замечательно приспособлены к местным условиям. Скотоводство велось в огромных размерах, и из молочных продуктов приготовлялся хороший и прочный сыр… Они ежегодно били до 500 000 баранов и продавали до 200 000 бурок. Масса тисового, пальмового и строевого леса грузилась на иностранные корабли. Еще в последней трети прошлого столетия (XVIII век. — Я. Г.)… общий вывоз товаров из Черкесии простирался, по тогдашним деньгам (считая один только таманский рынок и Каплу), до двух миллионов рублей. Из этого количества на долю одного восточного побережья приходилось около миллиона по нынешнему курсу».
Итоговый вывод Клинген вписал курсивом:
«Удалив из страны черкесов в силу общих государственных соображений, мы взяли на себя тяжелый нравственный долг удовлетворить цивилизацию за утраченные силы и за погибшую культуру, которая копилась 3000 лет, а погибла в 30 лет под напором чудовищно-творческой силы природы, уже не сдерживаемой опытной и сильной рукой аборигена… Бессильны здесь огонь и меч, и не спасут никакие беспочвенные проекты, потому что погибли навсегда старые традиции и почти без следа исчезла старая культура»[150].
«Погибшая культура…». «Исчезла старая культура…»
Честный русский ученый нигде ни словом не говорит о «дикости» аборигенов, об этом любимом аргументе новых конквистадоров. Да и не только их. Демократ Добролюбов, сочувствуя горцам, писал, тем не менее, о необходимости «внушить диким племенам истинные начала образованности и гражданского быта». За несколько десятилетий до Добролюбова железный республиканец и несгибаемый государственник Пестель аргументировал поголовное изгнание горцев с Кавказа и заселение его русскими крестьянами тем, что «полудикие народы» не могут рационально распоряжаться благами природы.
Таков был уровень осведомленности и неспособность понять ценность другой культуры.
Сведения о цветущем состоянии края приходят в некоторое противоречие со свидетельствами русских военных. Так, например, адмирал Серебряков, игравший одну из ведущих ролей в войне на Черноморском побережье и в прилегающих горах, назвал черкесов «стадом нищих дикарей». (Правда, через некоторое время он изменил свое мнение.)
Это объяснялось двумя причинами. Во-первых, особым шиком среди горских удальцов, в том числе и имевших высокий социальный статус, было ношение драных черкесок при дорогом оружии. На русских офицеров, недостаточно знакомых с горским бытом и психологией, это производило странное впечатление. Во-вторых, и это главное, черкесы действительно постепенно нищали в результате карательных действий войск Кавказского корпуса. Это была сознательная стратегия, направленная на уничтожение посевов, угон скота, разрушение аулов, что приводило к массовому голоду и хозяйственному разорению.
Тут стоит повторить уже известный нам фрагмент из наставления генерала Вельяминова полковнику Хан-Гирею, направленному, как мы помним, Николаем I уговорить черкесов подчиниться требованиям Петербурга:
«Натухайцы, шапсуги и абадзехи до сих пор упорствуют в непокорности. Самая большая половина натухайцев и значительная часть шапсугов потерпели большие разорения в последние три года. Многие остались на прежних местах жительства, и как дома их сожжены, то живут в скудных шалашах. Другие переселились к абадзехам, к шапсугам, обитающим между Абином и Афипсом, и к народам, живущим вдоль берега Черного моря между Геленджиком и Гагрою. Натухайцы, потерпев в прошедшую осень большую потерю в сене, как оттого, что сами зажгли его (чтобы не досталось русским. — Я. Г.), и оттого, что весьма много взято нашими войсками, продавали в течение зимы рогатый скот и баранов за бесценок»[151].
Разумеется, цивилизация «Кавказской Атлантиды» не исчерпывалась процветанием сельского хозяйства во всех его видах, включая коневодство — черкесские кони чрезвычайно ценились, в частности, русскими офицерами.
В Черкесии были развиты изощренные ремесла — главным образом изготовление оружия высочайшего качества. Недаром Ермолов начал перевооружение войск Кавказского корпуса, заменяя традиционные сабли на горские шашки. В Черкесии до середины XIX века производились металлические доспехи для конных воинов, высоко ценимые далеко за пределами Кавказа.
Надо помнить о «военном отходничестве» черкесов. Военная культура Черкесии находилась на весьма высоком уровне, и наемники-черкесы играли значительную роль как в войнах между государствами Востока, так и во внутренних междоусобицах. Но военная и политическая история черкесов за пределами Черкесии — особый обширный сюжет, разворачивать который в данном сочинении нет возможности. Он подробно рассмотрен в фундаментальной «Истории Черкесии в Средние века и новое время», написанной уже названным Самиром Хотко и выпущенной издательством Санкт-Петербургского университета в 2001 году.
Надо помнить и о горском фольклоре, и о своеобразной религиозной жизни.
При всем том не надо представлять себе Черкесию земным раем, население которого равно благоденствовало. То, что сегодня называется социальным расслоением, было присуще и Черкесии. Описывая быт «простых черкесов», очевидно, имея в виду зависимых крестьян, русский офицер Федор Федорович Торнау, проведший более двух лет в плену у черкесов и соответственно имевший возможность подробно изучить их быт, вспоминал:
«Дома без деревянных полов, недостаток белья, отсутствие теплых бань, существующих в изобилии у других восточных народов, и скудная нездоровая пища порождают между простыми черкесами неслыханную нечистоту и самые отвратительные накожные болезни…»[152]
Для того чтобы понимать судьбу Черкесии, надо, помимо всего прочего, представлять себе, как воспринимали горцев русские военные.
Генерал Григорий Иванович Филипсон, который впоследствии, как мы увидим, пытался предотвратить гибель «Кавказской Атлантиды», прослуживший на Кавказе много лет и хорошо его знавший, писал в своих мемуарах:
«Воровство и разбой, как в древней Спарте, были у черкесов в чести; позорно было только быть пойманным в воровстве»[153].
Под воровством здесь, естественно, подразумеваются не кражи в аулах, а набеги в поисках добычи. Сопоставление со Спартой придает этой характеристике особый оттенок. Филипсон понимает особость мировидения другого народа, другой цивилизации, других нравственных мотивов.
Мотив «хищничества» проходит через все воспоминания старых кавказцев. Один из таких кавказских ветеранов, прослуживший на Кавказе четверть века и специально изучавший происхождение, быт и нравы горцев, генерал Милентий Яковлевич Ольшевский, писал, в частности:
«Чтобы оградить наши южные пределы, а в частности, Новороссию от хищнических набегов черкес, переводится на Кубань в 1792 году принесшее покорность Запорожское казачье войско… Цель наших действий со стороны Кубани заключалась сколько в охранении наших пределов от хищнических вторжений закубанцев, столько и в наказании их за такие хищничества»[154].
Нравится нам это или не нравится — «набеговая система» была реальностью. Корни ее уходили глубоко в традиционный быт и психологию горского воина. Набег был важным элементом той картины мира, которая представлялась горцу справедливой и органичной. Целью набега была отнюдь не только добыча — это был способ самореализации, испытание мужских качеств — храбрости, ловкости, хитрости. Известно, что юноша, не проявивший себя в набеге, отнюдь не был желанным женихом.
У меня в столе лежат несколько сотен рапортов офицеров Кавказской линии начала XIX века о горских набегах. Это было еще до того, как началось интенсивное завоевание.
Разумеется, взаимоотношения с разными черкесскими племенами определялись конкретными обстоятельствами. Ольшевский писал:
«По Куржупсу и Пшехе, притокам Белой, Пшишу и Псекупсу, впадающим в Кубань, находились многочисленные и богатые поселения абадзехов — народа, с которым мы начали вступать в более частые столкновения только с пятидесятых годов. До того же времени, если и известны были нам, то только окраины абадзехской земли, изредка посещаемые нашими войсками. Сами же абадзехи не боялись нас, потому что, кроме труднодоступной местности, были защищены со стороны Лабинской линии храбрыми бесленеями, махошами, темиргоями и егерукаями, а со стороны Черномории бжедухами и гатюгаями или черченеями. Притом же, живя в довольствии, они не имели надобности заниматься хищничеством и добывать себе существование грабежом. Когда же пришлось абадзехам защищать собственные пределы, то они со времени заложения Майкопа и до своего падения дрались неустрашимо, мужественно и храбро.
Иными являются сопредельные абадзехам шапсуги, жившие между Шебшем и Абином. Они считались злейшими и опасными соседями черноморцев, и только пластунами сдерживались в своих хищничествах и разбоях в наших пределах. Шапсуги умели мужественно и стойко защищаться на своей земле, что доказывалось значительными потерями во всех случаях, когда нашим войскам приходилось с ними драться»[155].
Отношение русских к горцам — причудливая смесь вражды и восхищения. Описывая казаков-линейцев, тот же Филипсон писал:
«На конях горских пород, в красивом горском костюме, линейные казаки многое заняли от горцев: джигитовку, удальство и блестящую храбрость с театральным оттенком»[156].
То есть «удальство и блестящая храбрость» признаются органичными качествами горцев.
Необычайно выразительное описание черкеса-воина оставил великолепно знавший Западный Кавказ Федор Федорович Торнау:
«Одежда черкеса, начиная от мохнатой бараньей шапки до ноговиц, равно как и вооружение, приспособлены как нельзя лучше к конной драке. Седло легко, покойно и имеет важное достоинство не портить лошади, хотя б оно по целым неделям оставалось на ее спине. Винтовку черкес возит за спиной в бурочном чехле, из которого он ее выхватывает в одно мгновение. Ремень у винтовки пригнан так умело, что легко зарядить ее на всем скаку, выстрелить и потом перекинуть через левое плечо, чтоб обнажить шашку. Это последнее, любимое и самое страшное черкесское оружие состоит из сабельной полосы, в деревянных, сафьяном обтянутых ножнах, с рукояткой без защиты для руки. Оно называется «сажеиш-хуа», большой нож, из чего мы сделали название шашки. Шашка черкеса остра как бритва и употребляется им только для удара, а не для защиты; удары шашки большею частью бывают смертельны. Кроме того, черкес вооружен одним или двумя пистолетами за поясом и широким кинжалом, его неразлучным спутником. Ружейные патроны помещаются в деревянных гильзах, заткнутых на груди в кожаные гнезда; на поясе висят: жирница, отвертка и небольшая сафьяновая сумка со снадобьем, позволяющим, не слезая с лошади, вычистить и привести в порядок ружье и пистолеты… Свою лошадь он бережет пуще глаза… В деле черкес наскакивает на своего противника с плетью в руке; шагах в двадцати выхватывает из чехла ружье, делает выстрел, перекидывает ружье через плечо, обнажает шашку и рубит; или, быстро поворотив лошадь, уходит назад и на скаку заряжает ружье для вторичного выстрела. Движения его в этом случае быстры и вместе с тем плавны»[157].
В ходу у русских кавказцев была устойчивая формула «горское рыцарство».
Сам факт пристрастия к черкесской одежде не только казаков, в некотором роде коренных жителей Предкавказья, но и офицеров, которые славились своей жестокостью по отношению к горцам, как, например, генерал Засс (о котором речь шла выше) и его окружение, говорит о многом. Дело, конечно, не только в функционалыности черкесского костюма. Психологическая подоплека этого явления гораздо серьезнее.
Парадоксальность отношения русских офицеров к горцам и самому процессу завоевания — его смыслу и нравственному аспекту — можно продемонстрировать на примере воспоминаний Михаила Ивановича Венюкова, в начале 1860-х годов, в период сокрушения Черкесии, командовавшего батальоном Севастопольского пехотного полка. Венюков впоследствии стал известным этнографом, писателем, сотрудничал в герценовском «Колоколе», эмигрировал и писал свои воспоминания в Швейцарии, то есть не будучи стесненным никакой цензурой.
Взгляд этого образованного человека с широким кругозором, не солдафона и охранителя, на интересующую нас проблему очень показателен.
Вот как он описывает операцию по изгнанию горцев из родных мест:
«Март месяц (1862 года. — Я. Г.) был роковым для абадзехов правого берега Белой, т. е. тех самых друзей, у которых мы в январе и феврале покупали сено и кур. Отряд двинулся в горы по едва проложенным лесным тропинкам, чтобы жечь аулы. Это была самая видная, самая “поэтическая” часть Кавказской войны. Мы старались подойти к аулу по возможности внезапно и тотчас зажечь его. Жителям представлялось спасаться как они знали. Если они открывали стрельбу, мы отвечали тем же, и как наша цивилизация, т. е. огнестрельное оружие, было лучше и наши бойцы многочисленнее, то победа не заставляла себя долго ждать. По обыкновению, черкесы не сопротивлялись, а, заслышав пронзительные крики своих сторожевых, быстро уходили в лесные трущобы. Сколько раз, входя в какую-нибудь только что оставленную саклю, видел я горячее еще кушанье на столе недоеденным, женскую работу с воткнутою в нее иголкою, игрушки какого-нибудь ребенка, брошенные на полу в том самом виде, как они расположены забавлявшимся! За исключением, кажется, одного значительного аула, население которого предпочло сдаться и перейти на равнинную полосу, отведенную для покорных горцев, мы везде находили жилища покинутыми и жгли их дотла»[158].
Перед этим аулы подвергались тотальному ограблению…
Судя по нарисованной Венюковым картине — брошенная сакля с детскими игрушками на полу (и восклицательный знак в конце фразы), — он сочувствовал людям, с которыми поступали столь безжалостно. Но и этот «корреспондент Герцена», образованный человек «прогрессивных взглядов», — он писал воспоминания через семнадцать лет, будучи, как уже говорилось, эмигрантом, — даже он в 1879 году считал изгнание горцев если и несправедливым, то рациональным. Это, увы, характерно для общественного сознания тогдашней России — в том числе для большей части ее интеллектуальной элиты, к которой Венюков, безусловно, принадлежал.
Однако, понимая неприглядность того, что он описывал и в чем сам участвовал, Венюков искал оправдание происшедшему прежде всего в неспособности черкесов к гражданскому бытию европейского типа:
«Если бы теперь кто-либо из лиц, не видавших Кавказских гор в эпоху, предшествующую занятию их русскими, вздумал очертить быт тогдашнего их населения, то он бы не мог ничего лучше сделать, как перевести Тацитову “Германию” или даже те места из “Комментариев” Цезаря, которые относятся до германцев: до того сходство было велико. Разбросанные среди местных гор, по долинам и косогорам, небольшими аулами, а то и отдельными саклями из плетня, обмазанного глиною, или из досок и бревен, жилища горцев самим расположением своим доказывали, что тут сильно развита индивидуальная семейная жизнь, но нет общественной, а тем более государственной. Ставленник Шамиля, Магомет-Амин, попробовал было водворить зачатки государственности у абадзехов, но не имел успеха… Читайте панегириста горцев Лапинского, и там не найдете доказательств, чтобы горцы в 1860-х годах были способны одни, сами по себе, образовать правильные гражданские общества… У них не было постоянных вождей; по крайней мере после Магомет-Амина их не было у абадзехов. Оттого-то граф Евдокимов, отдавая справедливость их храбрости, их рыцарской честности в некоторых случаях, называл их все-таки баранами, да еще такими, с которыми пастуху было бы много хлопот. Поэтому-то он и выгонял их в Турцию.
Я сейчас упомянул о горском рыцарстве. Оно проявлялось в многом, хотя бы, например, в честном держании условий о перемирии, не говоря уже о прославленном их гостеприимстве»[159].
Это важный и характерный пассаж, содержащий двойственный смысл. С одной стороны, и в самом деле, патриархальное горское общество не могло существовать вечно в окружении стремительно меняющегося мира. Но с другой — удивительно читать именно у этнографа Венюкова сетования относительно того, что черкесы не создают у себя в 1860-х годах «правильные гражданские общества» европейского типа. Как это ни странно, Венюков принадлежал к тем, кто не признавал смысла эволюционной органики, да еще в отношении принципиально консервативного горского менталитета. Сами того не подозревая, люди типа Венюкова исповедовали применительно к историческому процессу теорию катастроф Кювье.
Однако Венюков не мог не понимать, что доводы графа Евдокимова, им, Венюковым, разделяемые, выглядят не очень убедительно как обоснование чудовищной акции — изгнания из родных мест сотен тысяч людей. Он искал других оправданий.
Тут важно уже встречавшееся нам сопоставление ситуации с событиями античности. Если горцы — варвары-германцы, то Российская империя — Рим с его мощным цивилизаторским потенциалом. Взаимоотношения между Римом и европейскими варварами являли собой сложнейший и многообразный процесс, завершившийся образованием Священной Римской империи германской нации. Сопоставление, к которому прибегает Венюков, несомненно облагораживает политику российских властей на Кавказе.
Но Венюков считает необходимым усилить аргументацию. Говоря о переселении черкесов с гор на прикубанскую равнину, он предлагает читателю сильное, на его взгляд, сопоставление в пользу действий российских властей:
«Факта, подобного этому, я не знаю в истории никакого государства, кроме России. Янки Соединенных Штатов выгоняют индейцев из гор, но лишь затем, чтобы их истребить. Англичане в Австралии, в Новой Зеландии истребляют туземцев и в горах, и на равнинах, иногда с ружьем и собакою, как зверей. Мы же долго боролись с черкесами как с равными противниками, и когда одолели их, то честно уступили им земли, которые могут служить предметом зависти для самых цивилизованных племен»[160].
Никто не собирается оправдывать колониальную политику европейцев, хотя проблема «белые американцы — индейцы» гораздо сложнее, чем казалось Венюкову. В некоторых отношениях самосознание индейца принципиально напоминало самосознание кавказского горца — набег, война как высшая форма проявления человеческого духа, как способ выявления истинной ценности мужчины-воина.
Относительно качества земель, предложенных черкесам на кубанской равнине, существуют очень разные точки зрения. Но дело не в этом.
Венюков, который уехал с Кавказа в 1863 году, не был свидетелем переселения Черкесов за Кубань, тем не менее он был наслышан о том, что там происходило. Хотя некоторые сведения о происходящем у него имелись и они явственно противоречили предшествующим его утверждениям. Вслед за рассуждениями о благородстве российской политики по отношению к черкесам он писал:
«Должно, однако, заметить, что граф Евдокимов, который, будучи непосредственным исполнителем официального “проекта заселения Западного Кавказа”, не слишком заботился об участи горцев, выселявшихся на прикубанскую низменность. Его твердым убеждением было, что самое лучшее следствие многолетней, дорого стоившей для России войны есть изгнание всех горцев за море. Поэтому на оставшихся за Кубанью, хотя бы и в качестве мирных подданных, он смотрел лишь как на неизбежное зло и делал, что мог, чтобы уменьшить число их и степень для них удобства жизни»[161].
В частности, он своей волей отдавал отведенные горцам земли под казачьи станицы.
Но Венюков, писавший свои мемуары, как уже говорилось, в Швейцарии через много лет после событий, и не представлял себе, в каком положении оказались покорившиеся и не эмигрировавшие черкесы.
Сразу после окончания войны генерал-майор Ростислав Фадеев, теоретик и практик завоевания Кавказа, незаурядный имперский мыслитель, получил от великого князя Михаила Николаевича, наместника Кавказа и командующего Кавказской армией, задание обследовать закубанские округа и выяснить реальное положение оставшихся в России горцев.
Записка Фадеева, условно называемая «Дело о выселении горцев», содержит немало точных наблюдений и жестких рекомендаций. Но и этот апологет империи и твердый сторонник завоевания Кавказа ужаснулся увиденному:
«Кроме распадения общественного быта закубанские черкесы испытали в последнее время такое неимоверное нравственное потрясение, что им уже невозможно от него оправиться, они отданы во власть России как малые дети. Понятия их до того спутались неслыханным разгромом, что они ничему не удивятся, что бы с ними ни сделали, и малейшее снисхождение примут как благодеяние. Едва веришь глазам, смотря, как черкес, несколько месяцев тому назад отчаянно прорывавшийся для грабежа сквозь тройной ряд военных линий, теперь на своей земле, в глухом лесу робко сторонится перед встречным крестьянином, мальчишка бьет его, и он не смеет отводить его ударов, чему я сам был свидетелем. Понимая бессилие свое для борьбы против русской империи, но не понимая еще своих прав русского гражданина, черкесы покорились постигшей их участи и безропотно переносят беспрерывные притеснения и насилия от соседей своих казаков и всякого чужого человека. Даже глядеть они стали какими-то рабами польского пана. Подобной деморализации никогда не было видно. Все нынешнее закубанское туземное население составляет запуганную толпу, которой правительство может дать какое угодно направление… Нечего больше опасаться напуганных и истерзанных остатков черкесского населения»[162].
Ужасающее положение оставшихся на Кавказе черкесов так поразило вовсе не сентиментального генерала Фадеева, что он постоянно возвращается к этому сюжету в своей записке:
«Горцы до такой степени запуганы последними событиями, что не оказывают сопротивления никому и никогда, что бы с ними ни делали. Казаки же не великодушны, и с черкесами сбывается басня об умирающем льве; всякий их топчет. От безнаказанных убийств до мелких оскорблений, побоев, захватов отведенной им земли им пришлось много вытерпеть. Как казаки вне дома вооружены, а горцы безоружны, то первым легко позволить себе насилие; побить без причины горца для многих составляет забаву. Когда горец приходит в станицу для продажи своих произведений, казак дает ему, что хочет, половину, четверть того, что он требует, и затем гонит его вон… Захваты земли производятся также без зазрения совести не только казаками, но войсками, которые выкашивают у горцев покосы, как сделал ставропольский полк и многие станицы по Кубани и Лабе, или даже хлеба, отданные им начальством, как сделал крымский полк… Бывают насилия и покрупнее. Я слышал о многих случаях убийства и разбоя, совершенных казаками над горцами»[163].
Фадеев, повторяю, был непреклонным имперским идеологом, необходимость и закономерность завоевания Кавказа не вызывали у него ни малейшего сомнения. Его невозможно заподозрить в желании «очернить» имперскую власть и казачество. Но он был при этом человеком благородным и порядочным.
В отдельных местах его записки прорывается сдерживаемое возмущение против самой власти:
«Если правительству угодно изгнать остатки черкесского населения, то на это есть другие средства, без нарушения справедливости… Но если правительство не имеет в виду побуждать остальных черкесов к переселению, то необходимо оградить их на будущее время от притеснений соседнего населения»[164].
Есть в записке Фадеева и сведения, ставящие под сомнение точку зрения Венюкова о благородном поведении власти в экономическом отношении:
«Для прочного устройства абадзехов нужно еще несколько лет; они вышли из гор в таком состоянии нищеты, что половина их и теперь еще ходят почти нагие и не имеют никакого орудия, ни топора, ни лопаты для работы»[165].
Как мы знаем — при выселении аулы были ограблены…
Фадеев явно не был сторонником тотального изгнания черкесов и старается исподволь внушить высшей власти идею полезности горцев:
«Поведение всего закубанского народа, принявшего покорность, примерно… Общий голос без изъятия свидетельствует о хорошем поведении горцев».
И далее:
«Если же правительство не имеет в виду систематического изгнания всех горцев, то ему нужно сказать только одно слово своим местным агентам, и движение остановится… Они (черкесы. — Я. Г.) представляют теперь не воинственные племена, а рабочие руки, которых Россия не имеет в таком изобилии, чтобы без самой крайней надобности добровольно обращать возделанные и населенные земли в пустыни… Объезжая черкесские племена, я везде говорил горцам, что по русскому закону им всегда обеспечен в их нуждах доступ к Е. И. Высоч. и самому Государю Императору. Если б они могли в этом убедиться, то, без всякого сомнения, истерзанные остатки адыгского народа очень скоро стали бы полезными и мирными подданными русской державы»[166].
Фадеев объезжал покоренные области сразу по завершении военных действий и добросовестно заблуждался относительно реальной позиции генерала Евдокимова, концепция которого стала определяющей. Власть предпочла обратить «возделанные и населенные земли в пустыни»…
Был ли возможен иной вариант? Был ли возможен на каком-то этапе противоборства компромисс, который позволил бы сохранить Черкесию в ее органичном виде, компромисс, который заменил бы катастрофу закономерной эволюцией и постепенным сближением культур?
Теоретически такой вариант был реален. Нужна была всего лишь трезвая оценка ситуации обеими сторонами, то есть именно то, что так редко случается в острых конфликтах между народами и государствами.
Здесь нет возможности представить сложную и обширную картину дипломатических контактов горских лидеров и русских генералов. Тем более что эта тема требует еще тщательного исследования.
Ограничимся несколькими эпизодами, касающимися именно Черкесии.
1837 год был насыщен попытками переговоров и на Восточном, и на Западном Кавказе. В сентябре разгромленный и потерявший большинство своих сторонников Шамиль вступил в переговоры с командующим войсками в Северном Дагестане генералом Клюки-фон-Клюгенау и морочил прямому и доверчивому Клюгенау голову до тех пор, пока снова не собрался с силами.
За несколько месяцев до этого, в мае, в Черкесии происходили события более важные и характерные для ситуации в этой области Кавказа.
Готовился визит императора Николая I на Кавказ. Предварительно в Черкесию был отправлен, как уже говорилось, флигель-адъютант гвардии полковник Хан-Гирей, а кавказские генералы вели, так сказать, подготовительную работу.
Генерал Филипсон вспоминал:
«На другой день по нашем приходе в Геленджик нам дали знать, что пятеро горских старшин приехали к аванпостам для переговоров с г. Вельяминовым. Это были пять стариков очень почтенной наружности, хорошо вооруженные и без всякой свиты. Они назвались уполномоченными от натухайцев и шапсугов. Вельяминов принял их с некоторой торжественностью, окруженный всем своим штабом. В этот только раз я видел на нем кроме шашки кинжал: предосторожность далеко не лишняя после примеров фанатизма, жертвами которого сделались князь Цицианов, Греков, Лисаневич, князь Гагарин и многие другие.
Эта сцена была для меня новостью. Мне казалось, что тут решается судьба народа, который тысячи лет прожил в дикой и неограниченной свободе. В сущности это была не более, чем пустая болтовня. Депутаты горцев начали с того, что отвергли право султана уступать их земли России, так как султан никогда их землею не владел; потом объявили, что весь народ единодушно предложил драться с русскими на жизнь и на смерть, пока не выгонит русских из своей земли; хвалились своим могуществом, искусством в горной войне, меткой стрельбой и кончили предложением возвратиться за Кубань и жить в добром соседстве… Старик Вельяминов на длинную речь депутатов отвечал коротко и просто, что идет туда, куда велел Государь, что, если они будут сопротивляться, то сами на себя должны пенять за бедствия войны, и что если наши солдаты стреляют вдесятеро хуже горцев, то зато мы на каждый их выстрел будем отвечать сотней выстрелов. Тем конференция и кончилась»[167].
Филипсон, конечно же, был не прав. В декларации горских старейшин был глубокий и роковой смысл. Из нее явствует, что в 1837 году черкесы очень смутно представляли себе возможности Российской империи и не были готовы даже к подобию компромисса. Со своей стороны кавказский генералитет вряд ли предполагал, что война продлится еще без малого тридцать лет, поглотит огромное число человеческих жертв и финансов. А потому еще менее, чем горцы, готовы были к серьезным переговорам.
Ситуация менялась постепенно — в зависимости от боевой обстановки. В среде генералитета постоянно боролись две тенденции — «ломить стеною», не считаясь с потерями, постоянно демонстрировать горцам силу русского оружия или искать пути сближения — прежде всего экономического, доказывая горцам выгоду мирного сосуществования, а затем и вхождения в состав империи на взаимоприемлемых условиях.
В том же 1837 году, когда Вельяминов отмел любую возможность компромисса с горцами, генерал Симборский, командовавший одним из отрядов на Черноморской линии, обратился к племени убыхов — воинственному и чрезвычайно авторитетному в Черкесии — с предложениями, утвержденными лично императором. Но этим условиям предшествовало послание самого Симборского — ясный образец психологического давления и поисков мирного пути замирения черкесов:
«Добровольное признание над собою власти Государя Императора сопрягается с неисчислимыми для вас выгодами и пользами, которые по милосердию и великодушию Его Императорского Величества польются на вас в той же степени, как на все благоденствующие под Его Державою народы. В жилищах ваших водворится мир и спокойствие, взаимные ссоры ваши и распри прекратятся, и благосостояние каждого будет умножаться произведениями труда его. Свободная торговля с Россиею нужными для вас товарами учредится по всему протяжению земли вашей, и в службе Государя Императора откроется обширное для вас поприще к приобретению богатства, почестей и славы».
Далее шел чрезвычайно важный пассаж:
«Между тем в домах своих вы будете управляемы по собственным нравам и обычаям, а вера ваша останется неприкосновенной святыней для русских властей».
Затем снова речь шла о гарантиях:
«Жизнь и имущество останутся неприкосновенными, все преимущества, о которых уже говорено здесь, будут вам дарованы, свободная торговля с нами тотчас будет открыта, и произведения ваши мы будем покупать по ценам, которые вы сами назначите. Наконец, владельцы той земли, на которой будет построено наше укрепление, щедро будут за нее вознаграждены»[168].
Это были очень недурные условия. Если учесть, что Черноморское побережье охранялось российским флотом и торговля с турками была затруднена, то возможность торговать с русскими имела для черкесов немалое значение.
Федор Федорович Торнау, как мы знаем, наблюдавший изнутри повседневную жизнь горцев, вспоминал, в частности:
«Осенью тридцать седьмого года обе жены Алим-Гирея, его дочери и маленькие сыновья совершенно обносились, даже у моей приятельницы Аслан-Коз число рубашек и шаровар быстро уменьшалось. Богатый стадами, лошадьми и оружием, Алим-Гирей все-таки не имел средств купить им холста и самых простых материй для ежедневного употребления. Турки, доставлявшие горцам разный товар, не меняли его иначе как на девушек и на мальчиков»[169].
Но акция Симборского не кончилась соблазнительными посулами. К его посланию были приложены условия «покорности».
Условия эти, составленные в Петербурге, выглядели отнюдь не так привлекательно.
«Высочайше утвержденные условия для требования от горцев покорности.
1. Прекратить все враждебные противу нас действия.
2. Выдать аманатов по нашему назначению. Дозволяется через четыре месяца заменить их другими, но не иначе как по назначению Русского Начальника.
3. Выдать всех находящихся у них наших беглых и пленных.
4. Не принимать непокорных на жительство в свои аулы без ведома Русского Начальника и не давать пристанища абрекам.
5. Лошадей, скота и баранов, принадлежащих непокорным жителям, в свои стада не принимать, и если таковые где-либо окажутся, то все стада будут взяты нашими войсками и сверх того покорные жители подвергнутся за то взысканию.
6. Ответствовать за пропуск чрез земли их хищников, учинивших злодеяния в наших границах, возвращением наших пленных и заплатою за угнанный скот и лошадей.
7. Повиноваться поставленному от нашего Правительства Начальнику; и
8. Ежегодно при наступлении нового года должны они переменять выданные им охранные листы. Не исполнившие сего будут почитаться непокорными и не будут пощажены нашими войсками».
Между обещаниями Симборского и ультиматумом Петербурга, как видим, была огромная разница. Горцам предлагалось отдать себя под постоянный и жестокий контроль, а главное — повиноваться «Русскому Начальнику».
И тут надо вспомнить то, что было уже сказано о «бессмертии народной памяти», о цельности и стабильности горского мировидения. Соглашаясь даже на смягченный вариант предлагаемых условий, они отрекались от многовековой традиции, которая была психологическим стержнем их существования. Им предлагали отказаться от мироустройства, которое они сами, их отцы, деды и самые отдаленные предки считали единственно правильным. Им предлагали отречься от самих себя.
В 1837 году, когда русская армия отнюдь не могла еще похвалиться успехами на Западном Кавказе, у сотен тысяч черкесов, профессиональных воинов, у «гарнизона естественной мощной крепости» требования русских могли вызвать чувства от недоверия до презрения.
Именно презрением дышит ответ убыхов генералу Симборскому:
«Если желаете ответа, то вот он: оставьте крепости, находящиеся на черкесской земле, перейдите за Кубань, и мы туда ходить не станем, вы же сюда не ходите. Тогда, если захотим, то будем жить с вами в дружбе. В письме вашем вы просили выдачи от нас аманатов и хотите поставить начальника над нами. Вы написали к нам довольно надменное и заносчивое письмо: кто над нами начальник и кто может давать нам приказания? Тем ли вы возгордились, что овладели на берегу моря клочком земли величиной с рогожу? Более мы к вам переговорщиков посылать не будем, и вы не посылайте; не пишите к нам более писем, а если вы это сделаете, то посланного убьем, письмо же разорвем в клочки»[170].
Натухайцы, шапсуги и абадзехи — самые многочисленные из адыгов — отвечали не столь радикально, но вполне решительно. Единственное, на что они были согласны, — мирное сосуществование в прежних границах.
В ответ на попытки русских отрядов закрепиться на берегу и в предгорьях объединенные силы черкесских племен в 1840 году фактически разгромили Черноморскую линию, взяв и разрушив четыре укрепления и вырезав гарнизоны в трех из них. В четвертом — Михайловском — защитники в последние минуты, когда горцы уже ворвались в укрепление, взорвали пороховой погреб, похоронив и остатки гарнизона, и множество атакующих.
Укрепления были восстановлены. Гарнизоны их несли тяжелейшие потери не столько от пуль горцев, сколько от лихорадки. И через девятнадцать лет боевых действий, не принесших решительного успеха ни той ни другой стороне, генерал Филипсон заключил — в конце 1859 года — мирное соглашение с абадзехами, фактически на компромиссных условиях.
Суть этого соглашения воспроизвел в воспоминаниях Милютин:
«В начале ноября явилась в лагерь (отряда генерала Филипсона. — Я. Г.) депутация от абадзехов с предложением условий примирения. Им объявлено, что требуется не примирение, а покорность, причем назначен срок для окончательного решения. К этому сроку неожиданно явился в Хамкетинский лагерь сам Магомет-Эмин в сопровождении большого числа абадзехских старшин с конвоем из 2 тыс. всадников. После продолжительных переговоров 20 ноября абадзехские старшины с Магомет-Эмином во главе принесли присягу покорности русскому царю с оговоркою, что народ абадзехский сохранит неприкосновенную веру, обычаи, земли и будет навсегда освобожден от податей и воинской службы»[171].
В Петербурге известие о присяге вызвало восторг. В этом событии увидели залог скорого замирения и остальных черкесских племен. Барятинский был пожалован званием генерал-фельдмаршала, а Филипсон получил высокий орден Святого Александра Невского.
Кавказский генералитет в большинстве своем отнесся к соглашению скептически и, несмотря на одобрение высшей власти, не склонен был его выполнять. То, что для Филипсона было принципиальным этапом, для Барятинского и Милютина являло собой тактический ход.
Не все просто было и с горской стороной.
Заключение мирных соглашений с горцами осложнялось тем, что не было единых представлений на этот счет не только между разными народами, но внутри одного народа. Ольшевский писал по поводу заключенного Филипсоном мира с абадзехами:
«Этот мир не мог считаться прочным как не заключенный с общего согласия абадзехского народа, а был махинацией нескольких десятков влиятельных лиц, во главе которых стоял Магомет-Амин. Этот мир был не только стеснителен для нас, как не дозволяющий действовать самостоятельно и сообразно с обстоятельствами, но был, по некоторым условиям, унизителен. Однако этот мир много способствовал к быстрой колонизации Западного Кавказа»[172].
Соглашение давало возможность строительства новых станиц и — вопреки утверждениям Ольшевского — на некоторое время обеспечило нейтралитет абадзехов.
Анализируя возможности переговорного процесса, надо иметь в виду ожесточенность и жестокость Кавказской войны. Торнау выразительно и лапидарно очертил ситуацию:
«Наши пограничные казаки, одетые и вооруженные совершенно сходно с горцами и не менее их привычные к войне, день и ночь караулили границу и, в свою очередь, столкнувшись с абреками, когда сила брала, истребляли их до последнего человека. Война велась со всем ожесточением народной вражды. Ни казаки, ни черкесы никогда не просили и не давали пощады. Не было ни средства, ни хитрости, ни вероломного обмана, считавшегося недозволенным для черкеса, когда дело шло убить русского, и для казака, когда предвиделась возможность подкараулить черкеса»[173].
Это, конечно, не вся правда. Было и парадоксальное явление куначества — побратимства людей, которые, казалось бы, должны быть врагами, и горское гостеприимство, распространявшееся на врага, и взаимное уважение противников.
Но мы сегодня с трудом осознаем степень жестокости этой войны и чудовищные формы ее проявления с той и с другой стороны.
Венюков свидетельствовал:
«Нам… приходилось ходить на место неудачной битвы, чтобы подобрать тела убитых, которых сами участники боя не успели унести с собою. Тут я в первый раз увидел, как горцы “обещещивают” тела гяуров, отрезывая некоторые органы и кладя их в рот убитым»[174].
Надругательства над телами врагов было обычным делом для горца-победителя.
Александр Михайлович Дондуков-Корсаков, кавказский ветеран, вспоминал:
«Ожесточение их (солдат. — Я. Г.) дошло до последних пределов, когда, входя дальше в лес, они увидели изуверски изуродованные трупы товарищей, павших накануне, развешанные по всем деревьям проходимого ими пути»[175].
Но было и другое.
«Трофеями этого дня, — писал Филипсон, — было несколько трупов горцев, у которых отрубили головы, завернули и зашили в холст. За каждую голову Вельяминов платил по червонцу и черепа отправлял в Академию наук»[176].
Тот же Филипсон оставил, так сказать, живую зарисовку:
«Засс, по обыкновению, приказал отрезать головы убитых и с этим трофеем возвратился в свой Прочный Окоп. Через год после того я встретил генерала Засса в Ставрополе. Он ехал в санях, а другие сани, закрытые полостью, ехали за ним. “Куда это, ваше превосходительство, и что вы везете?” — “Еду, земляк, в отпуск и везу Вельяминову в сдачу решенные дела”. С этими словами он открыл полость, и я не без омерзения увидел штук пятьдесят голых черепов»[177].
Я привожу эти свидетельства для того, чтобы было понятно, в какой атмосфере делались попытки нащупать компромисс, в каком жестоком климате взаимной безжалостности решалась судьба народов и как искажены были представления о ценности человеческой жизни и человеческом достоинстве.
Впервые идея о выселении горцев Западного Кавказа была сформулирована еще в 1857 году начальником главного штаба Кавказского корпуса Дмитрием Алексеевичем Милютиным в специальной записке «О средствах к развитию русского казачьего населения на Кавказе и к переселению части туземных племен».
Милютин, активный участник Великих реформ Александра II, отнюдь не был охранителем, реакционером. Это был скорее человек умеренно либеральных взглядов и высокой личной порядочности. Но политический либерализм в России прекрасно сочетался с имперской идеологией[178].
Милютин писал:
«Необходимо переселить их на Дон, потому что в Ставропольской губернии нет свободных земель, что водворение их в тылу казачьего населения было бы неудобно и отклонило бы нас от главной цели, т. е. развития русского населения на северной покатости Кавказского хребта до решительного перевеса его над живущими там племенами азиатского происхождения. Не обращая там горцев в казаки, нужно устроить из них на Дону особенные поселения вроде колоний. Мы должны тщательно скрывать эту мысль от правительства горцев, пока не наступит пора для исполнения ее»[179].
Командующий Кавказским корпусом князь Александр Иванович Барятинский, «коренной кавказец», решительно поддержал своего начальника штаба:
«Нет причины щадить те племена, которые упорно остаются враждебными, государственная необходимость требует отнятия у них земель»[180].
Кавказский комитет в Петербурге, однако, не поддержал идею. В заключении комитета говорилось:
«Глубокая привязанность к родине известна, а поэтому нельзя сомневаться, чтобы они не предпочли смерть водворению в степях Донской земли. Не только целые племена, но и одиночные семейства не решаются покориться на таких условиях, и применение предполагаемой меры повело бы не к покорности горцев, а к их истреблению. Кроме того, эта мера может повлечь за собою общее волнение и даже восстание самых мирных и преданных нам обществ»[181].
Это было за два года до пленения Шамиля и усмирения Восточного Кавказа — Чечни и Дагестана. Шамиль был еще силен. И государственных мужей в столице справедливо пугала перспектива тотального выступления всех горских племен против русских войск. Притом что наиболее трезвые из них понимали: Россия надрывается, ведя эту бесконечную войну. Статс-секретарь Александр Васильевич Головнин писал Милютину в марте 1858 года:
«Какое государство в мире в состоянии держать постоянно 300 тыс. войска на военном положении и терять в год постоянно по 30 тыс. человек? Какое государство может уделять шестую часть всего дохода на одну область?!!»[182]
Для того, чтобы понимать стремление этой части элиты закончить Кавказскую войну любым способом, надо представлять себе финансовое положение империи после царствования Николая I и Крымской войны, в частности. Тот же Головнин, прекрасно осведомленный о положении дел, писал Милютину на Кавказ в то самое время, когда Филипсон договаривался с абадзехами, — в ноябре 1859 года:
«Если не будет принята целая система самых энергических мер, то государственное банкротство, т. е. потеря всякого кредита за границей и понижение на 50 % и более ассигнаций, т. е. кредитных билетов в Империи, неизбежно. Это уже началось… Вы говорите, что Россия богата, что надо отыскивать новые источники дохода. Да, Россия богата, но в будущем и с условием затраты на нее капиталов, а их-то и нет, и некогда ждать будущих доходов, ибо надобно жить и платить долги. Россия — это огромное поместье, которое владелец получил с лесами, рыбными ловлями, минеральными богатствами в недрах земли, но без капиталов и с огромными долгами»[183].
Это был момент, когда Петербург готов был санкционировать компромисс. Черкесы не были к нему готовы.
Отчасти это объяснялось их туманными представлениями о возможностях империи, отчасти — ложными надеждами, которые внушали им английские эмиссары, надеждами на помощь европейских государств, в первую очередь Англии. Большинство кавказского генералитета во главе с Барятинским отчаянно противилось такому варианту.
Милютин вспоминал:
«Мысль о поголовном выселении из гор всего туземного населения и занятия всей предгорной полосы сплошь казачьими станицами — вообще не одобрялась в Петербурге и вызывала сильные возражения… В отношении горцев говорили, что предположенная слишком жестокая мера доведет их до озлобления и отчаянного сопротивления»[184].
Выбор стратегии в конечном счете зависел именно от кавказского генералитета и той информации, которой он снабжал Петербург.
Тот же Милютин рассказал, как принималось в 1860 году роковое для черкесов решение:
«Главным предметом совещаний был план военных действий в Закубанском крае. В этом вопросе существенно различались взгляды генерал-лейтенанта Филипсона и графа Евдокимова. Первый отстаивал мнения, изложенные в прежней его записке; основная мысль его заключалась в том, что горское население западной половины Кавказа совершенно отлично от населения восточной, что к нему вовсе не применим тот образ действий, который привел к таким успешным результатам в Чечне и Дагестане, что крутые меры против шапсугов и убыхов только вызовут вмешательство европейских держав, особенно Англии, которая не признает прав России на восточный берег Черного моря. По мнению Филипсона, следовало мерами кроткими при содействии Магомет-Эмина достигнуть на всем Западном Кавказе такой же степени покорности, какая уже была достигнута относительно абадзехов и натухайцев, стараясь упрочить нашу власть в этом крае только занятиями некоторых укрепленных пунктов, проложением дорог, рубкою просек, введением управления сообразно быту и нравам племен в духе гуманном, не препятствуя торговым сношениям прибрежных горцев с Турцией и т. д.
Нельзя не подивиться такому оптимизму Григория Ивановича Филипсона, тридцать лет прослужившего на Кавказе (именно в западной части его) и, стало быть, имевшего довольно времени, чтобы убедиться, как смотрят горцы на гуманность и кротость и как мало можно полагаться на их изъявления покорности»[185].
Думаю, что Филипсон отнюдь не был наивен, знал горцев не хуже своих оппонентов и никаких иллюзий не питал. Это явствует из его мемуаров. Он был стратегически мудрее Милютина, не говоря уже о Евдокимове. Именно потому, что он четверть века прослужил на Западном Кавказе и понимал его особость, он и хотел, чтобы черкесский мир стал составной частью общероссийского мира. Он прекрасно понимал все трудности и опасности этого пути, он знал все особенности горского характера. Но он был сторонником процесса с фундаментальными результатами, сторонником постепенной адаптации горцев к миру европейских представлений и поэтапного, а не одномоментного включения их в общеимперский организм или же полного, по возможности, изъятия их из подвластного России пространства.
Милютин вспоминал:
«После Филипсона высказал свое мнение граф Евдокимов. Ему не стоило большого труда победоносно опровергнуть иллюзии бывшего начальника Кубанской области. С обычными ясностью, отчетливостью, простотой изложил граф Николай Иванович свой план действий, основанный на прежних предположениях, поддерживаемых самим главнокомандующим и состоящий в том, чтобы решительно вытеснить из гор туземное население и заставить его или переселиться на открытые равнины позади казачьих станиц, или уходить в Турцию… Само собой разумеется, что мнение графа Евдокимова взяло верх и предметом обсуждения оставались только способы исполнения его плана»[186].
В ясности и простоте плана Евдокимова заключалась и его сила, и его принципиальная порочность. Он давал несомненный тактический выигрыш. Во-первых, как представлялось, легко решалась проблема колонизации. Во-вторых, учитывался важный геополитический фактор, о котором говорили и думали все, кто занимался судьбой Кавказа. Фадеев в «Письмах с Кавказа», публиковавшихся в «Московских ведомостях» в 1864–1865 годах, а затем вышедших отдельным изданием, писал:
«Перевоспитать народ есть дело вековое, а в покорении Кавказа главным элементом было именно время, данное нам, может быть, в обрез, может быть, в последний раз, для исполнения одной из жизненных задач русской истории. Было бы чересчур легкомысленно надеяться переделать в данный срок чувства почти полумиллионного варварского народа, искони независимого, искони враждебного, вооруженного, защищаемого неприступной местностью, предоставленного постоянному влиянию всей суммы враждебных России интересов… В случае же войны Кавказская область стала бы открытыми воротами для вторжения неприятеля в сердце Кавказа»[187].
В этих опасениях был некоторый смысл. Во время Крымской войны, когда на театре военных действий у русского командования катастрофически не хватало войск, — франко-англо-турецкий экспедиционный корпус превосходил русскую полевую армию не только по качеству вооружения, но и численно, — на Кавказе стояло более двухсот тысяч закаленных солдат. Командование не решалось сколько-нибудь существенно ослабить Кавказский корпус, опасаясь массированного удара со стороны горцев в случае вражеского десанта на Черноморское побережье.
Однако опасения эти были преувеличены. Горцы не выступили не только из-за концентрации русских войск, но и потому, что сомневались в реальных возможностях Турции.
Их потенциальная агрессивность не в последнюю очередь была результатом полувековой политики империи. Хотя еще в конце 1830-х годов Николай Николаевич Раевский-младший, командовавший Черноморской линией, предлагал иные — компромиссные — варианты, построенные на уважении горских традиций и экономическом вовлечении горцев в отношения с российской властью.
Филипсон, служивший под командованием Раевского, — он был у него начальником штаба, — в значительной степени развивал через двадцать лет идеи, воспринятые у своего командира и наставника.
Окончательно судьба черкесов была решена осенью 1861 года, во время поездки Александра II по Кавказу.
16 сентября император принял депутацию от абадзехов, убыхов и шапсугов. Мы уже знаем из воспоминаний Милютина, о чем просили горцы и что ответил император, адресовав их к генералу Евдокимову.
Реакция горцев была вполне предсказуема:
«Горские депутаты уехали из лагеря крайне разочарованные и недовольные; ожидавшая возвращения их толпа, узнав об ответе “падишаха”, пришла в сильное волнение, и партия, клонившая дело к покорности, должна была умолкнуть. Убыхи и шапсуги постановили решение — продолжать войну с русскими до последней крайности; абадзехи же положили выждать еще до новых переговоров с графом Евдокимовым»[188].
Разумеется, попытки переговоров с Евдокимовым ни к чему не привели.
Так была упущена последняя возможность взаимоприемлемого компромисса.
Среди требований горцев было одно, на которое российские власти не могли пойти ни при каких обстоятельствах: «возвращение беглых холопов». Проблема «холопов», а попросту говоря, рабов была наиболее сложной даже при готовности сторон пойти навстречу друг другу. (А этого, увы, не было.)
Собиравший сведения о быте черкесов и вовсе не предубежденный против горцев Ольшевский, описывая положение «кавказских пленников», рисовал весьма мрачную картину:
«Сколько страданий, мучений, физических и нравственных, претерпевали эти несчастные со времени их пленения. Изнуренные тяжкими работами, обессиленные голодом и томимые жаждою, они подвергались поруганиям и побоям; их таскали от одного хозяина к другому, или напоказ толпе, на аркане; они ввергались в душные и грязные ямы, наполненные разными гадинами и нечистотами. Спасение пленника заключалось или в скором выкупе, или в промене его на других пленных, или в бегстве. Если же не являлась к нему эта помощь, то он, изнывая от страданий и мучений, преждевременно умирал. Но были и такие пленники, которые, принимая магометанство, вступали в брак с горянками, если таковые находились; а были и такие из них, которые, будучи не в состоянии дать за себя выкуп, оставались в кабале и не переменяя веры. Такие несчастные с их потомством составляли “иессырей” или в полном смысле рабов, лишенных всякой свободы и которыми помыкали хуже скотов. И где же существовало такое страшное рабство? В народе, дышавшем полною независимостью и свободою, который не допускал никакой посторонней силы и внешнего вмешательства»[189].
Существует немало свидетельств о положении пленников и невольников у горцев. Они далеко не всегда совпадают.
Федор Федорович Торнау, как уже говорилось, много путешествовавший по Западному Кавказу в качестве разведчика и два года проведший в плену у адыгов, испытал многое из того, о чем пишет Ольшевский. Но он сообщает и другие сведения:
«Каждая услуга, оказанная седине, ставится молодому человеку в честь. Даже старый невольник не совсем исключен из этого правила. Хотя дворянин и каждый вольный черкес не имеют привычки вставать перед рабом, однако же мне случалось нередко видеть, как они сажали с собою за стол пришедшего в кунахскую седобородого невольника»[190].
Судьба рабов оказывалась одним из камней преткновения в поисках компромисса между горцами и русской властью даже в самые благоприятные моменты. А после отмены крепостного права в России сохранить рабство на Кавказе было тем более нежелательно. Фадеев писал после своей инспекционной поездки:
«Вообще у нас с самого начала не было обращено достаточного внимания на крепостное сословие, составляющее резкое отличие общественного устройства черкесов от других кавказских племен. В Дагестане рабы находятся только у ханов; в Чечне их очень мало; у закубанцев же они составляют треть населения»[191].
Социальная структура адыгского общества была сложнее, чем это представлялось внешним наблюдателям. Зависимый крестьянин и раб — разные социальные фигуры. Но факт существования рабства был несомненен, и русская власть вовсе не склонна была упускать такой козырь. И требование горских старшин вернуть «беглых холопов» и, таким образом, подтвердить законность и неприкосновенность рабства существенно подрывало их позиции.
Более того, русские власти предприняли ряд шагов, чтобы оторвать эту униженную часть горского населения от основной массы свободных черкесов. Как свидетельствует Венюков:
«Чтобы привлечь возможно более мирных горских переселенцев на Кубань, был основан “вольный аул” где-то недалеко от станицы Баталпшинской: там могли селиться беглые горские ясыри (рабы), и правительство уже ручалось, что они никогда не вернутся под власть господ»[192].
Это имело и чисто практический смысл. Фадеев писал в своей «Записке»:
«Черкесские крепостные народ не вооруженный, не умеющий стрелять и никогда не ходивший на войну. Как угнетенный класс, не знающий почти вовсе мусульманской религии, они не могли и не могут быть нашими врагами; против нас враждовали только свободные и воинственные сословия; но у нас всегда смешивали в одно всю массу черкесского населения. Позволяя выселяющимся в Турцию горцам уводить массою своих крепостных, мы лишаем себя рабочих рук, чрезвычайно трудолюбивых, смирных, ни в каком отношении не опасных людей»[193].
И однако же встреча горских старшин с императором в сентябре 1861 года являет собой отнюдь не такой простой сюжет, каким он представлен у Милютина и многих других мемуаристов.
Венюков, уже в то время бывший не только строевым офицером, но и человеком, готовившим себя к трудам этнографа и историка, собиравший материалы для последующего описания событий на Западном Кавказе, оставил принципиально важное свидетельство. Сведения эти сообщены были ему конфиденциально абсолютно осведомленным человеком — генералом Николаем Николаевичем Забудским, начальником штаба войск Кубанской области, то есть правой рукой Евдокимова.
Вот как представляет подоплеку переговоров императора и горских депутатов Венюков:
«Не могу не рассказать… одного важного исторического факта, известного очень немногим. Когда Государь прибыл на Кавказ, то охотно изъявил согласие на прием горских старшин, которые должны были заявить свои пожелания. Кажется, в то время в высших правительственных сферах не было решено, вытеснять ли горцев с их земель или оставить там, ограничась проведением через эти земли дорог и постройкою укреплений. Следующие слова официального “Обзора царствования императора Александра II”, изд. в 1871 году, заставляют думать, что правительство было склоннее на последнюю меру. Именно в “Обзоре” говорится: “Огромность жертв, которых требовал план изгнания горцев из их убежищ, и жестокость такой меры смущали энергию исполнения… Его Величество, принимая горских депутатов, предложил им сохранение их обычаев и имуществ, льготу от повинностей, щедрый замен тех земель, которые отошли бы под наши военные линии, и требовал только выдачи всех русских пленных и беглых. Что же ответили горские старшины? На другой день они представили челобитную, в которой требовали немедленно вывести русские войска за Кубань и Лабу и срыть наши крепости”. — Факт этот верен, да только в рассказе не договорено кое-что, что, может быть, было и неизвестно рассказчику и что именно я хочу здесь сообщить. После милостивого приема Государем депутатов граф Евдокимов сильно опасался, что горцы примут императорское предложение и останутся на своих землях под “покровительством” России, чего он никак не хотел допустить, порешив в своем уме выгнать их из гор всех до последнего. Зная легковерность азиатов, он командировал к ним ночью своего приближенного полковника Абдеррахмана и приказал ему внушить горцам, что они могут требовать теперь всего, даже удаления наших войск за Лабу и Кубань и срытия укреплений. Те поддались на коварный совет, и участь их была решена»[194].
Вся сумма свидетельств о ситуации, в которой принималось решение судьбы горцев, делает этот рассказ правдоподобным. Мы помним, в каком катастрофическом состоянии находились российские финансы, а стало быть, и экономика вообще. Александр II представлял себе, сколько еще человеческих и финансовых жертв потребует военная операция по усмирению черкесов, и, естественно, не обладая специфическим «кавказским патриотизмом», особой «кавказской идеологией» — в отличие от Барятинского и Милютина, не имея личных счетов с горцами — в отличие от Евдокимова, он искал наименее болезненные пути разрешения конфликта.
Из вышесказанного ясно, что реализовавшийся трагический для адыгов исторический вариант не был неизбежен и детерминирован. Черкесия, черкесская цивилизация имела шансы сохраниться — в границах Российской империи — при всех издержках этого положения.
Сохранить прежний статус горцам не удалось бы в любом случае, но перед обеими сторонами конфликта — нападающей и защищающейся — стоял выбор: медленный и сложный процесс сближения или одномоментная акция, радикально меняющая положение вещей.
Состоялся второй вариант — катастрофический для горцев и, в конечном счете, далеко не лучший для России.
Ключевую роль в трагедии адыгов играл, безусловно, граф Евдокимов, человек по-своему глубоко незаурядный.
Ольшевский, близко знавший Евдокимова, оставил краткий, но весьма выразительный очерк его карьеры:
«Николай Иванович Евдокимов, как говорится, был темного происхождения и воспитывался, как он и сам выражался, на медный грош. Сколько известно, его родитель дослужился до штаб-офицерского чина из простого звания; домашнее же его воспитание и школьное кавказское образование ограничилось знанием русской грамоты. Но, будучи от природы одарен положительным, здравым умом, он успел усовершенствовать себя основательно в этой грамоте и приобрести достаточные сведения, касающиеся военного дела, потому что с первых дней своей службы умел рельефно выставить себя перед своими товарищами»[195].
Ольшевский несколько идеализирует ситуацию. Отец Евдокимова, взятый в рекруты из крестьян, «тянул солдатскую лямку» 29 лет и только тогда был за выслугу лет и исправную кавказскую службу произведен в прапорщики. Вряд ли он дослужился до штаб-офицерского чина. Евдокимов родился и вырос в глухих кавказских гарнизонах. Это был его мир. Другого он не знал до зрелых лет.
С детства Евдокимов воспринимал горцев как угрозу, как врагов — явных или тайных, и, несомненно, ненавидел их. Кавказ был его миром. Горцы в общей картине этого мира были лишними.
Это был человек абсолютной суровости, если не сказать жестокости. Тот же Ольшевский рассказывал о действиях Евдокимова на последнем этапе войны на Западном Кавказе:
«Если кавалерия не имела покоя и страдала от беспрестанных скачек, то пехота не имела отдыха от непомерных работ и караулов. Для нее не существовало покоя ни днем, ни ночью. Днем рубка леса, проложение дорог, устройство мостов, копание рвов, насыпание брустверов, вязание туров или плетня; ночью — усиленные караулы по причине не вполне огороженной станицы и зачастую бдение всего гарнизона по случаю ожидаемого нападения.
Хотя солдаты сильно были изнурены и болели, однако работы не прекращались даже в годовые праздники. “Пусть умрут на работах!” — было девизом Евдокимова»[196].
В командовании Кавказской армии и в Петербурге знали, что Евдокимов не брезгует казенными деньгами, но его яростная боевая энергия, приносившая явные плоды, его истовая, а можно сказать, и фанатическая преданность идее завоевания Кавказа перекрывали в глазах высшей власти эти грехи.
Когда фельдмаршалу Барятинскому говорили о злоупотреблениях Евдокимова, он отвечал:
«Вы говорите, что он свободно относится к казенному интересу. Пусть будет так… Но какой ущерб он может нанести казне? Ну, пусть будет полмиллиона, миллион, даже два миллиона. Ну, что значат два миллиона для такого государства, как Россия? А он мне Кавказ завоюет, и Россия сохранит этим сотни миллионов и десятки жизней русских людей»[197].
Если это и апокриф, то весьма точно отражающий логику отношения вышестоящих к Евдокимову, солдатскому сыну, выслужившему не только чин генерала от инфантерии, но графское достоинство.
Беда лишь в том, что и после «замирения» Кавказ продолжал приносить одни убытки…
Фигура Евдокимова символична для последнего этапа Кавказской войны — вытеснения черкесского народа из родных мест. Та жестокость, с которой происходило это вытеснение, не в последнюю очередь определялась ведущей идеей командующего войсками на Западном Кавказе — пространство без горцев.
Здесь нет возможности и надобности подробно описывать сам процесс вытеснения. Лаконичное свидетельство Венюкова, уже приведенное ранее, достаточно красноречиво.
Если обратиться к болезненной сегодня проблеме геноцида, то нужно только представить себе чудовищную реальность исхода черкесов в Турцию, перед которой меркнут все обиды, нанесенные горцами сопредельному русскому населению, и все геополитические соображения.
Большинство черкесов — кроме наиболее знатных и состоятельных, заранее подготовивших свою эмиграцию, — отправлялись в Турцию нищими.
Автор классической работы «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия» Георгий Дзидзария писал:
«Переселенцы вынуждены были за бесценок продавать свое имущество. Такое разорение было обусловлено тем, что турецкое правительство не разрешало горцам брать с собой в Турцию оружие и скот».
Уводить с собой скот не позволяло и русское начальство, да и переправить его в Турцию в любом случае было невозможно.
«Во-вторых, горцы не думали так скоро быть побежденными, откладывая распродажу своего имущества до последней минуты. Когда же пришлось нескольким сотням тысяч людей одновременно продавать свое имущество, цены упали до невероятного. Особенно много продавалось оружия и скота. Хорошего быка можно было приобрести за целковый, барана — за четвертак, обыкновенную лошадь с седлом и полной сбруей за пять рублей, а породистую — рублей за двадцать. Дорогие шашки в богатой оправе так же отдавались за бесценок — то, что прежде ценилось в 200–300 рублей, теперь можно было купить за 30–40 рублей. За древний хороший клинок в свое время отдавали десятки рабов, сотни баранов, “теперь же все пошло прахом”. Старики, не желая продавать оружие, так долго служившее им, с каким-то немым отчаянием кидали его в море»[198].
Тысячи горцев, скопившихся на берегу Черного моря, — при том, что никакой рациональной системы их отправки в Турцию налажено не было, — оказались в ужасающем положении.
Трагедия разворачивалась на глазах многочисленных наблюдателей — и русских, и иностранцев, ошеломленных увиденным и оставивших соответствующие свидетельства:
«Весь северо-западный берег Черного моря был усеян трупами и умирающими, между которыми сохранялись небольшие оазисы еле живых, ожидавших своей очереди отправления в Турцию»[199].
Выполняя установку Евдокимова, черкесов гнали из родных мест, стремясь как можно скорее очистить горы, но при этом не было и малой доли судов — как турецких, так и русских, способных быстро перебросить эту огромную массу людей через море. Отсюда — мучительная жизнь на прибрежной полосе, голод, болезни…
Адольф Петрович Берже, официальный историк Кавказа, при этом объективный и порядочный человек, в 1864 году направлявшийся с Кавказа через Турцию в Грецию и в том же году возвращавшийся обратно, воочию убедился в безжалостности проводимой акции:
«Следуя вдоль Анатолийского берега, я встречал их (переселенцев. — Я. Г.) во множестве в открытом море и был свидетелем их горестного положения в Батуме и Трапезунде. В ноябре того же года, на возвратном пути из Европы, я видел их при несравненно худшей обстановке в Рушуке и Силистии. Но никогда не забуду я того подавляющего впечатления, которое произвели на меня горцы в Новороссийской бухте, где их собралось на берегу около 17 000 человек. Позднее, ненастное и холодное время года, почти совершенное отсутствие средств к существованию и свирепствовавшая между горцами эпидемия тифа и оспы делали положение их отчаянным. И действительно, чье сердце не содрогнулось бы при виде, например, молодой черкешенки, в рубищах лежащей на сырой почве, под открытым небом, с двумя малютками, из которых один в предсмертных судорогах боролся со смертью, в то время как другой искал утоления голода у груди уже окоченевшего трупа матери. А подобных сцен встречалось немало…»[200]
Да, подобные свидетельства можно множить и множить.
«Поразительное зрелище представилось глазам нашим по пути: разбросанные трупы детей, женщин, стариков, растерзанные, полуобглоданные собаками, изможденные голодом переселенцы, едва поднимающие ноги от слабости, падавшие от изнеможения и еще заживо делавшиеся добычею гончих собак… Живым и здоровым некогда было думать об умирающих; им и самим перспектива была не утешительнее; турецкие шкиперы из жадности наваливали, как груз, черкесов, нанимавших их кочермы до Малой Азии, и, как груз, выбрасывали лишних за борт при малейшем признаке болезни… Едва ли половина отправившихся в Турцию прибыла к месту. Такое бедствие и в таких размерах редко постигало человечество»[201].
Суровый Ростислав Фадеев, изначально утверждавший, что земли черкесов России нужны, «а в них самих нет надобности», с горечью признавал, что изгнание горцев было чревато «бесчисленными, бесчеловечными страданиями».
Потряс его и еще один аспект происходящего — разгул работорговли:
«За неимением денег или вещей расплата (за перевоз. — Я. Г.) происходила женщинами и детьми. Для черкешенок это было, впрочем, все равно, потому что в каком бы качестве они ни достигали турецкого берега, их потом все-таки гуртами отправляли на базар»[202].
Яков Васильевич Абрамов, уроженец Ставрополя, прославившийся как исследователь народных нравов и в особенности быта и идеологии сектантов, во времена выселения горцев был еще ребенком, но собственные детские впечатления и собранный материал легли в основу работы «Кавказские горцы», опубликованной молодым исследователем в 1884 году в журнале «Дело»:
«Горцы, уходя со своих мест поселения, покидали свои жилища, оставляя скот и запасы хлеба, а иногда и неубранные нивы. Сами же горцы, без всякого имущества, скапливались частью в Анапе и Новороссийске, частью во многих мелких бухтах северо-восточного берега Черного моря, тогда еще не занятых русскими. Отсюда их перевозили в Турцию турецкие кочермы, а также отчасти заарендованные для этой цели русским правительством суда. Но так как всего этого транспортного флота было крайне недостаточно для перевозки почти полумиллиона человек, то массе горцев приходилось ждать своей очереди по полугоду, по году и более. Все это время они оставались на берегу моря, под открытым небом, без всяких средств к жизни. Страдания, которые приходилось выносить в это время горцам, нет возможности описать. Они буквально тысячами умирали с голоду. Зимой к этому присоединился холод. Весь северо-восточный берег Черного моря был усыпан трупами и умирающими, между которыми лежала масса живых, но до крайности ослабевших и тщетно ждавших, когда их отправят в Турцию»[203].
В вышеназванной книге Георгия Дзидзарии собран огромный материал, рисующий трагедию переселенцев-махаджиров.
Знал ли умный, интеллигентный, либеральный Дмитрий Алексеевич Милютин, в то время уже военный министр, проводивший прогрессивные реформы, чем обернулась для сотен тысяч горцев его любимая идея очищения гор от коренного их населения?..
Нет устоявшихся представлений ни о реальной численности адыгов перед изгнанием, ни о точном числе переселенцев. Скорее всего, на отведенные российской властью земли переселилось не более 8–10 % от общего числа черкесов.
Отвечая на поставленные ранее вопросы — можно ли было избежать этой трагедии? возможен ли был компромиссный вариант, позволявший черкесам остаться на родной земле, находясь при этом под русским контролем? — надо уверенно ответить: да, трагедии можно было избежать, компромиссный вариант был возможен.
Я терпеть не могу пресловутой формулы: «История не знает сослагательного наклонения». Любители этой формулы исключают само понятие ответственности за те или иные действия. Если в истории все жестко детерминировано, то с кого спрос?
Исторический процесс гораздо сложнее, чем некое однонаправленное действие, — он состоит из вариантов, из развилок, из ситуаций выбора.
Тот вариант судьбы черкесов и Черкесии, который избран был кавказским генералитетом, оказался стратегически порочным. Дело было не только в провале колонизации. Был не менее важный, хотя и менее заметный внешне нравственный аспект происшедшего. То, что произошло с черкесами-махаджирами, было для России опасным уроком бесчеловечности. Если сам факт завоевания Кавказа имеет свое объяснение геополитического характера, то степень жестокости, проявленная к уже побежденному, бессильному населению, не имеет ни объяснения, ни тем более оправдания.
Кавказская война была сложнейшим явлением, многообразно воздействовавшим на общественное сознание России. Через Кавказскую войну прошли сотни тысяч русских людей. Влияние Кавказа на русскую культуру в самом широком смысле еще не исследовано и не осознано.
Не обдуман и не осознан и тот урок безнаказанной бесчеловечности, который получила Россия на Западном Кавказе.
И еще одно: Российская империя лишила себя возможности обогатиться не просто лишними землями, но инкорпорировать своеобразную и мощную культуру, которая, сближаясь с русской культурой, обогатила бы ее представления о взаимоотношениях человека с миром, человека с человеком.
ПРИЛОЖЕНИЕ М. Я. Ольшевский[204] ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ
С 1861 ПО 1863 ГОД
Отсрочка на один месяц, данная 18 сентября 1861 года лично нашим великодушным и добросердечным государем императором, старшинам абадзехов, шапсугов, убыхов и других горских народов Западного Кавказа, не повлекла ни к каким для них благоприятным последствиям.
Нельзя было ожидать, чтобы после ответа нашего царя на дерзкие и нелепые предложения старшин нашего неприятеля вся масса населения могла изъявить согласие поселиться на указываемых им местах. Такие условия заставили бы призадуматься и более благоустроенные общества, нежели горские племена Западного Кавказа, между которыми не существовало единства мысли, а каждый глава семейства действовал по своему убеждению и внушению.
Променять свои заветные, дышащие здоровьем, свободой, независимостью горы и леса на зловредные равнины Черноморья и болотные низменности Большой Лабы не значит ли отдать себя на жертву лихорадок? И действительно, если страшно болели живущие там казаки, как родившиеся среди миазм, или переселившиеся туда со степного пространства, то каким образом могли перенести эту миазму жители гор, дышавшие всегда свежим, здоровым воздухом?
К тому же каждый абадзех, шапсуг, убых понимал, что, с переселением в Черноморию и на Лабу, он будет лишен той независимости и свободы, которой пользовался в труднодоступных для нас горах и лесах. Каждый горец хорошо понимал, что, будучи окружен нашими укреплениями, станицами и войсками, он лишается возможности действовать произвольно и что, находясь под постоянным надзором, каждое неблагонамеренное его действие будет замечено и подвергнет его ответственности.
Большинство дальних абадзехов и шапсугов не хотело слышать и о переселении в Турцию. К этому большинству принадлежали беззаботная молодежь и «байгуши», то есть люди, не имеющие, как говорится, ни кола, ни двора.
— Мы будем драться и все умрем, но не покинем наших лесов и гор, — кричали они, подстрекаемые убыхами.
— Пусть только падишах пришлет нам обещанную помощь, то мы освободим вас от ненавистных гяуров, — вторили им убыхи. — Нам нечего бояться русских, нас защищают от них горы, — добавляли они с надменною гордостью, столь свойственной легковерному молодому горцу.
Однако благоразумные не только абадзехи и шапсуги, но убыхи видели настоящее свое печальное положение и понимали, что то время, когда они должны будут покинуть свои заветные горы и леса, приближается. Некоторые из них втайне приготовлялись к переселению, разумеется, не в наши пределы, а в Турцию; делали же это не явно, потому что боялись укора не только со стороны других, но даже от своих родичей.
Лихорадочная деятельность была заметна между теми абадзехами, темиргоями, махошами и егерукаями, которые жили между Фарсом и Белой. Их беспокоил не столько абадзехский отряд, по-прежнему расположенный на том месте, где осчастливил своим трехдневным пребыванием государь император, сколько просека, прокладываемая войсками этого отряда, вниз по Фарсу на станицы Нижнефарскую и Кужорскую. Жители этих мест видели и понимали, что с проложением сообщения через недоступный и заветный лес, имеющий более двадцати верст протяжения, они должны будут безусловно покориться или немедленно переселиться в Турцию и уйти в горы. На первое они не согласились, а поспешили удалиться в горы и частью переселились в Турцию.
Здесь, кстати, упомяну, что проложение просеки абадзехским отрядом не нарушало перемирия с нашим неприятелем, потому что войска этого отряда не переходили Фарс; по правую же сторону этой реки мы могли действовать по своему усмотрению и заниматься прорубкой просек, проложением дорог и устройством станиц.
С наступлением ноября открылись наступательные военные действия с двух сторон.
Отряд, выступивший из Майкопа под начальством командира Кубанского пехотного полка, полковника Горшкова, в составе шести батальонов с пропорциональным числом артиллерии и кавалерии, двинулся вверх по Белой. На обязанности этого отряда лежало: а) в 14 верстах от Майкопа выстроить станицу Егерукаевскую; b) прорубить просеки через леса, растущие на так называемой Семиколенной горе, что между строящейся станицей и Фюнфтом, а также между урочищами Большим и Малым Кожохом, что поблизости Каменного моста на Белой; с) проложить колесное сообщение на пространстве между станицею Егерукаевскою и Каменным мостом, и d) устроить укрепленный складочный пункт у впадения Фюнфта в Белую.
Абадзехскому отряду, оставленному мною в конце октября[205] и состоящему под начальством знакомого уже нам генерала Тихоцкого, предстояло исполнить следующее: а) построить станицу Царскую на левом берегу Фарса напротив лагеря, осчастливленного пребыванием нашего царя, и поэтому названную Царской; b) построить станицу Севастопольскую в верховьях Фюнфта на половинном расстоянии между Фарсом и Белой; и с) проложить колесное сообщение на двадцативерстном гористом и перерезанном крутыми оврагами пространстве, лежащем между Фарсом и устьем Фюнфта в Белую, где вместо складочного укрепленного поста должна быть построена станица Абадзехская.
Исполнение этих предприятий, возложенных на оба эти вышеупомянутые отряды, по сложности своей не было вполне удовлетворительно, как по времени года, так и по короткому сроку, назначенному для этого. Граф Евдокимов желал, чтобы все это было окончено к марту. Он полагал, что одновременно с проложением просек можно также удобно строить станицы и проводить дороги. Но на деле вышло не так.
Не одному графу Евдокимову, а всем воевавшим в Чечне, начиная со времен генерала Фрейтага, было известно, что зима считалась самым удобным временем для проложения просек в лесу и, чем сильнее была стужа, тем скорее и шла эта работа, в особенности если отряд располагался внутри того леса, который предназначался к рубке; тогда он истреблялся с неимоверной быстротой на огромных и во множестве раскладываемых кострах. Работы же по проложению дорог на большом расстоянии и по устройству на протяжении нескольких верст земляных валов, вокруг вновь устраиваемых станиц, не могли с успехом производиться на земле, не только крепко замерзшей, но и покрытой глубоким снегом. А зима в декабре 1861 и январе 1862 года, как бы наперекор предположениям графа Евдокимова, была суровая и изобильная снегом. Притом прочному проложению дорог препятствовало бесчисленное множество ручьев и источников, в зимнее время или иссякнувших, или невидимых.
Поэтому на самом деле случилось то, что дорога по Фюнфту, а также переезды через Семиколенную гору и урочище Кожох оказались вовсе негодными, и их нужно было снова переделать. Между тем, от тяжелых земляных работ и некоторых других неудобств в сильной степени развилась болезненность между нижними чинами. К тому же к больным прибавилось более 200 человек с отмороженными членами, во время стужи и метели, застигшей отряд под личным предводительством графа Евдокимова, при обратном следовании от Белой к станице Царской, так что к марту месяцу все госпитали и лазареты были переполнены больными.
Несмотря на это, граф Евдокимов продолжал упорно приводить в исполнение свои предположения по заселению края. С раннею весною, а именно в марте, не только заселены жителями огороженные станицы: Царская, Севастопольская, Абадзехская и Егерукаевская, но приступлено к устройству и заселению новых станиц: Баговской, Баракаевской, Хамкетинской, Махошевской и Псефирской между Фарсом и Лабою, а также Ханской и Белореченской по Белой.
Каждая из этих станиц должна была вмещать от 150 до 250 и даже 300 семейств; и так как кроме широких улиц, огромных площадей, сенников поселяне наделялись большими усадьбами, то через это станичные юрты становились слишком велики. Такое широкое расположение станиц и наделение усадебною собственностью жителей было весьма удобно, если бы эти поселения воздвигались в мирном крае и если бы не нужно было принимать никаких охранительных мер против неприятеля. Но так как в то же время каждая из станиц обносилась по преимуществу земляным валом, то такое широкое расположение, противореча военному положению края, значительно увеличивало личный труд войск и расстраивало их в материальном отношении.
Кому не известно, как тяжела земляная работа, когда не лопата и мотыга, а кирка и лом в ходу. А в суровую зиму 1861 и 1862 годов солдаты упомянутых отрядов, откапывая землю из-под снега и ледяной коры или роясь в каменистом грунте, иначе не работали, как киркой и ломом. Истощая свои физические силы на столь тяжелых и притом беспрестанных работах, у них вместе с тем быстро изнашивалась обувь и портилась одежда, которую они не имели возможности исправлять, по неимению на то свободного времени, и обновлять, не получая никакой заработной платы.
Но в войсках подвергались неимоверному труду не одни люди, а страдали от нескончаемых перевозок по дурным дорогам подъемные лошади. В видах будто бы сбережения казны, граф Евдокимов нашел полезным, отпуская подъемным лошадям вместо шестимесячного по положению фуражного довольствия девятимесячное, употреблять беспощадно этих несчастных животных не только для перевозки провианта, боевых патронов и артиллерийских принадлежностей, но подвозить колья, жерди, хворост для тех станиц, в которых ограды устраивались плетневые. От этого подъемные лошади едва таскали ноги и сильно падали. Но были и такие случаи, когда артельные лошади — собственность солдата — перевозили не то, что им подлежит, а по причине дороговизны продовольствуясь с ненадлежащим образом, тоже были худотелы и болели.
С наступлением апреля солдаты обоих абадзехских отрядов повеселели и вышли из того апатического состояния, в котором они находились в продолжение зимы, когда узнали о двух экспедициях: одной в Дахо, а другой для выселения из лесных трущоб махошев, темиргоев и егерукаев. Они знали, что эти экспедиции не будут продолжительны и что по совершению их опять наступят тяжелые ненавистные работы, но что эти работы будут производиться на новой местности, весною при обновляющейся природе. Главная же причина оживления солдат была та, что они будут наконец иметь возможность подраться с неприятелем, которого, несмотря на его близость, они до сих пор не видели. Может быть, перепадет на их долю и некоторая добыча при занятии аулов.
Выселение из лесов махошев, темиргоев и егерукаев и занятие Дахо поглощали все внимание графа Евдокимова и действительно при тогдашнем положении дел составляли важные и безотлагательные предприятия.
Махоши, темиргои и егерукаи, гнездившиеся теперь в лесных трущобах между Фарсом, Лабой и Фюнфтом, с давних пор отличались своим воинственным духом. Соприкасаясь с нашими казачьими поселениями, сначала на Кубани, а потом на Лабе, они первые должны были испытать силу нашего оружия. Но, не будучи в состоянии отражать силу силою, они преимущественно прибегали к скрытным действиям; а потому подобно чеченцам отличались хищничеством и воровством, совершая по временам и более решительные предприятия, например, нападали на станицы. Впрочем, на подобные предприятия решались не иначе, как в совокупности с прочими своими соседями. Поэтому выселение из лесных трущоб такого хищнического населения должно было считаться делом весьма важным и полезным.
Покорение Даховского общества, живущего за хребтом, замыкающим верховья Белой и образующим ущелье Каменного моста, слывшего до того времени Фермопилами Западного Кавказа, считалось делом особенной трудности и важности.
Исполнение этого предприятия граф Евдокимов возложил на командира Севастопольского полка, полковника Геймана, безотчетно храброго, предприимчивого, решительного, пожалуй, крайне честолюбивого и не лишенного военных способностей, необходимых для начальника отряда. Получивши гимназическое или домашнее воспитание, что наверное не знаю, Гейман поступил в 1840 году юнкером в Кабардинский полк, с которым с честью участвовал во многих славных экспедициях и делах с горцами и в котором он дослужился до полковника. Не только тяжелая рана, но любовь и преданность к нему солдат той роты и батальона, которыми командовал, свидетельствовали, что он был достойным и лихим начальником.
Занятие Дахо сверх ожидания совершилось с незначительной для нас потерей, несмотря на то, что во время перехода через хребет, по дурной лесистой дороге, покрытой завалами, было оказано довольно упорное сопротивление со стороны неприятеля. В донесении графа Евдокимова о покорении Даховского общества, в котором по справедливости выхвалялась решительность и распорядительность полковника Геймана, между прочим, было сказано: что пространство это совершенно замыкает с фланга Белореченскую линию и, владея всеми проходами к Большой и Малой Лабе, по которым постоянно проходили хищнические партии, представляет готовое основание для будущих наших действий в горных котловинах, лежащих за рекой Белой, избавляя в то же время нас от необходимости снова прорываться туда с севера чрез хребты, покрытые лесами.
Однако такое предположение на самом деле не оправдалось. Владение нами Дахо нимало не препятствовало неприятелю вторгаться в наши пределы. Дахо никогда не мог служить базисом для будущих наших действий в горах, за исключением только движения на Хамишки и далее вверх по Белой. Напротив, пять батальонов, две сотни и восемь орудий, находившиеся там для устройства и разработки дороги на правом берегу Белой, как замкнутые в котловине, сжатой со всех сторон высокими и трудно доступными горами, оставались в бездействии во время лета, когда Залабинский край был подвержен нападению неприятеля, а вновь поселенные станицы находились чисто в блокадном положении.
И, действительно, неприятель, как будто желая доказать неосновательность приведенного донесения, вслед за занятием Дахо, не упоминая о второстепенных его действиях и хищнических покушениях, нападает в значительных массах на скот под Псебаем и станицей Губской, а также окружает колонну, высланную из Дахо в Царскую за провиантом. Не проходило дня, чтобы не раздавались сигнальные пушечные выстрелы или не слышалась учащенная канонада по разным направлениям. Беспрестанно получались известия о сборах неприятеля и о намерении его напасть то на скот, то на жителей, то на строящиеся станицы.
От такого тревожного состояния края в особенности изнурена была кавалерия от скачек по разным направлениям, вследствие сигнальных выстрелов, производимых без всякого систематического порядка. По существующим для кордонной службы правилам, каждый постовой начальник, с появлением неприятеля, не справляясь о числе, должен был извещать кордон сигнальным пушечным выстрелом, который повторялся на соседних постах и ближайших станицах. Такая мера, бесспорно хорошая и полезная при обыкновенных отправлениях кордонной службы, была неуместна в лето 1862 года, когда неприятель, желая держать наши войска и поселения в постоянной тревоге, с намерением являлся одновременно в разных пунктах. А потому зачастую случалось, что от таких сигнальных выстрелов тревога делалась общею, не только в Залабинском пространстве, но и на Лабинской линии. Следствием такой неурядицы было то, что кавалерия, не успевшая возвратиться с одной тревоги, должна была скакать на другую, или, не доскакавши до одного места, — спешить по учащенным выстрелам на другой пункт. В особенности страдала от таких скачек кавалерия, расположенная по Белой, а также в станицах Кужорской и Нижнефарской, по причине болезненной деятельности и энергии начальника кордона, подполковника Есакова.
Если кавалерия не имела покоя и страдала от беспрестанных скачек, то пехота не имела отдыха от непомерных работ и караулов. Для нее не существовало покоя ни днем, ни ночью. Днем рубка леса, проложение дорог, устройство мостов, копание рвов, насыпание брустверов, вязание туров или плетня; ночью — усиленные караулы, по причине не вполне огороженной станицы, и зачастую бдение всего гарнизона, по случаю ожидаемого нападения.
Хотя солдаты сильно были изнурены и болели, однако работы не прекращались, даже в годовые праздники. «Пусть умрут на работах!» — было девизом графа Евдокимова. И действительно, госпитали и лазареты были запружены больными, между которыми и смертность была очень велика, потому что, кроме изнурительных лихорадок, явился заразительный тиф.
Но страдали не одни войска, страдали и жители новых поселений, куда попали кроме казаков старых станиц Кавказского линейного войска и поселяне внутренней России, не имевшие понятия о бивуачной жизни, а тем более подверженные постоянной опасности лишиться не только последнего своего имущества, но и жизни. Стесненные в станичной ограде с лошадьми и рогатым скотом, по нескольку дней невыгоняемым на пастьбу, по причине иногда воображаемой в уме станичного или кордонного начальника опасности, они должны были под навесом или холщовым наметом, а то и под открытым небом, переносить все влияния непогоды, столь непостоянной в предгорных местах. От этого явилась не только лихорадка — болезнь обыкновенная в странах, подверженных быстрым и частым переменам, но другие изнурительные болезни и даже тиф. Много бедствий перенесли новые поселенцы не только от болезни и других лишений, но даже от голода.
При таком печальном состоянии Залабинского края без сомнения следовало бы обратить внимание на облегчение от работ войск и успокоение новопоселенных жителей, не предпринимая ничего нового. Нужно было заняться надежным ограждением и вооружением станиц, потому что большинство было без оконченных оград и вовсе не были вооружены. Нужно было прекратить напрасные частые тревоги, изнурительные скачки и распространение неточных сведений о неприятеле — сообразным отправлением кордонной службы, правильным расположением войск и положительным собиранием и рассылкою точных сведений о неприятеле.
К сожалению, на все это не было обращено ни малейшего внимания. Из числа войск, изнуренных уже непомерными работами, частыми тревогами и сильными болезнями, составляется новый отряд из 141/2 батальонов, восьми эскадронов драгун, четырех сотен казаков и шестнадцати орудий, который и двигается на Пшеху, где и приступает к устройству Пшехской станицы.
Это новое наступательное движение было тем более несвоевременно, что предпринималось в покосное время и когда приближалась уборка хлеба. Но этого желал начальник штаба войск, за Лабою находящихся, подполковник К-в, пользовавшийся особенным доверием графа Евдокимова и генерала Забудского и вполне управлявший генералом Тихоцким, человеком добрым, храбрым и не без некоторых других военных способностей, но до сего времени под своим начальством, свыше кавалерийского полка, не имевшим.
От такого преждевременного движения наших войск на Пшеху пользы особенной не произошло, а последовало много вреда.
Залабинский край, как надеялись, не только не успокоился, а напротив — неприятель, показавший отчаянное сопротивление при движении на Пшеху и занятии этой реки, с новой энергией начал тревожить наши новые поселения и делать нападения еще в большем числе. Так в тысячных массах штурмует укрепление Хамкеты, дважды врывается в станицу Пименскую, значительную часть которой сжигает и предает разграблению. Кроме того, появляясь одновременно небольшими партиями в разных местах, отгоняет скот, нападает на небольшие команды и посты, убивает и захватывает в плен жителей во время полевых работ или при заготовлении леса для построек.
Такие ежедневные происшествия, наводя ужас на жителей, заставили их совершенно прекратить полевые работы и не выгонять свой скот на пастьбу. А от этого произошло: что сена было не накошено в должном количестве; созревший хлеб не был убран надлежащим образом; скот, оставаясь без корму по нескольку дней, начал болеть и дохнул. Ко всему этому еще более увеличилась болезненность и смертность между жителями и солдатами, тогда как, если бы движение наших войск на Пшеху совершилось позже хотя двумя месяцами, то жители успели бы накосить в достаточном количестве сена, убрать и свезти с полей хлеб и заготовить для своих построек лес.
В таком тревожном положении Залабинское пространство находилось до глубокой осени, когда, с окончательной разработкой дороги между Даховскою станицею и Каменным мостом на Белой, расширялся круг действий Даховского отряда и его энергического начальника.
Полковник Гейман не оставался в бездействии и во время своего замкнутого нахождения в Даховской котловине. Тогда как меньшая часть его отряда занималась устройством Даховской станицы и устройством дороги до Каменного моста по правую сторону Белой, где одновременно нужно было бурить и разрывать порохом каменные скалы и перестреливаться с неприятелем, постоянно беспокоившим своими выстрелами с противоположного берега, — он с большею частью прошел более 20-ти верст вверх по Белой и осмотрел все боковые ущелья. Живущее там небольшое, но хищническое Хамышейское общество было выселено из лесных трущоб к укреплению, устроенному на единственной в горах довольно обширной поляне, и проложена дорога через густой лес и скалы между этим укреплением и станицей Даховскою.
Только к сентябрю окончились работы по устройству и снабжению продовольствием Даховской станицы и восстановлению надежного сообщения, начиная от Каменного моста вверх по Белой, и только с этого времени меняется место действия Даховского отряда, сохранившего это свое название и на будущее время, до окончательного покорения Западного Кавказа.
Полковник Гейман, перевалившись с 8-ю батальонами, 4-мя эскадронами, 8-ю сотнями и 12-ти орудиями через возвышенный левый берег Белой, вступает в узкую, лесистую и густо населенную долину Куржипса, где и занимается в продолжение зимы прорубкой просек, проложением сообщения и устройством окопа для Куржипской станицы. Действия этого отряда в тревожный 1862 год завершаются восьмидневной экспедицией, предпринятой к верховьям Куржипса, собственно для прусского принца Альберта, в честь которого и закладывается станица Прусская.
Одновременно с переходом полковника Геймана с отрядом на Куржипс Пшехский отряд, уже состоящий под начальством генерала Преображенского, совершив движение вверх по Пшехе, переносит свои действия на Пшиш, где, устроив два поста и приступив к окопанию Бжедуховской станицы, вступает в связь с отрядом генерала Кухаренки.
Этот отряд, составленный в станице Корсунской преимущественно из бывших черноморских пеших батальонов и казаков, где, переправившись через Кубань, начал и окончил свои действия устройством кордонной линии вверх по Пшишу и заложением на этой же реке станицы Габукаевской.
Обратимся теперь в противоположную сторону Западного Кавказа, к действиям Адагумского отряда, войска которого находились в несравненно лучшем состоянии, нежели действующая между Лабой и Пшишем, и что между солдатами было менее больных. Это происходило как от того, что Натухайский округ менее был тревожим неприятелем, так и по той причине, что солдат не обессиливался и не изнурялся тяжелым трудом.
И действительно, Натухайский округ, кроме появления неприятельских партий, только один раз подвергся вторжению неприятеля в тысячных массах, а именно при нападении в октябре на вновь поселенную и не вполне достроенную и вооруженную Нижнебаксанскую станицу. Однако и в этом своем предприятии он понес поражение от подоспевшей своевременно кавалерии и даже пехоты. Правда, был еще случай, неприятный для всех, в особенности для начальства: это уничтожение поста Георгиевского, с находящимися на нем 35 казаками.
Нельзя не сказать, что появление небольших неприятельских партий и совершаемые ими хищнические проделки были по временам довольно частые, но только войска не тревожились и не изнурялись от напрасных скачек и передвижений, как, например, это было на Белой, потому что здесь соблюдалось более порядка в производстве сигнальных выстрелов и самые войска были более правильно расположены. От этого они успели своевременно прибыть и предупредить разграбление Нижнебаксанской станицы от вторгнувшегося в нее неприятеля.
Нельзя не сказать, что и работы, возложенные на Адагумский отряд, по числу войск, его составляющих, были меньшие, сравнительно с отрядами, действовавшими между Лабою и Пшишем. На Адагумском отряде кроме действия против шапсугов, скрывавшихся в лесных трущобах и ущельях Абина, Кунипса, Афипса, Антхира и Хабля, лежало устройство станиц: Благовещенской, Анапской, Новороссийской, Гастюгаевской, Раевской, Варениковской, Натухайской, Верхне— и Нижнебаксанской, Неберджайской и Крымской. Сверх того, в укреплении Абинском устраивались помещения для штаб-квартиры Крымского пехотного полка, перемещенной из Крымского укрепления, обращенного в станицу.
И все это благодаря распорядительности и заботливости начальника отряда, генерала Бабича, без изнурения, лишений и особой болезненности для вверенных ему войск к сентябрю было окончено.
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ С 1863 ГОДА ДО ЕГО ПОКОРЕНИЯ
В 1863 году войскам, действующим на Западном Кавказе, предстояли такие же огромные занятия по продолжению устройства наших казачьих поселений и проведению сообщений, как и в прошлом году; но только это было совершено при менее тревожных обстоятельствах.
Неприятель, истощенный физически после огромных потерь, понесенных им в частых кровавых делах с нами, видя наш успех в колонизации и массу войск, везде его стесняющую, начал упадать и нравственно. Этот упадок духа еще более увеличился, когда в феврале месяце его императорское высочество, главнокомандующий Кавказской армией прошел победоносно с Адагумским и Пшехским отрядами по предгориям, где толпилось неприязненное нам мусульманское население Западного Кавказа.
С этого времени уже не существует того общего, единодушного противодействия, того энергического стремления к нанесению вреда нам, которое проявлялось у абадзехов, шапсугов, убыхов и других обществ в прошлом году. Так, при движениях полковника Геймана с Даховским отрядом по Куржипсу и в верховьях Пшеха ему сопротивляется только местное население. Таким же образом генерал Зотов, начальник Пшехского отряда, при движении вверх по Пшишу к Хадыжам и при занятии этого пункта дерется только с абадзехами, столпившимися в ущелье Пшиша. Об убыхах же, столь сильно подстрекавших абадзехов и шапсугов к сопротивлению и клявшихся не покидать их, нет и помину. Они, потеряв надежду на помощь от турецкого султана, приготовляются к переселению за море до прибытия русских.
Неприятель наш, утратив энергию и упав духом, уже не смеет предпринимать вторжение в наши пределы. Он теперь думает только о собственном своем спасении. Но если успокоилась часть Западного Кавказа, занятая нашими поселениями, то не избавились войска от работ. Они по-прежнему трудились без отдыха. Лишения и болезни по-прежнему преследовали их. Никакие доводы и убеждения частных начальников, что войска нуждаются в отдыхе, хотя непродолжительном, необходимом для приведения в некоторый порядок их одежды и обуви, не принимались во внимание графом Евдокимовым. Ропот между войсками был столь силен, что не раз казалось, что перейдет в возмущение. В особенности неудовольствия и ропот были велики в Пшехском отряде в то время, когда командовал им полковник Офрейн. Нельзя не удивляться, что такому бесхарактерному и безгласному штаб-офицеру мог быть поручен двадцатитысячный отряд.
Но войска, составлявшие этот отряд, несмотря на дурное продовольствие, трудились не менее прежнего. Только круг их действий был самый ограниченный. Они занимались рубкою просек и проложением дорог в окрестностях Пшехской станицы, а также устройством мостов на Пшехе и ее рукавах, несколько раз портившихся и сносимых от прибыли воды и напора льда. Впрочем, предпринимать хотя несколько отдаленные движения отряд не мог и потому, что все подъемные лошади частей войск, будучи заняты перевозкой сена по страшно дурным дорогам, находились в самом изнуренном состоянии.
Поэтому войска Пшехского отряда ожили, когда начальство над ними было вверено распорядительному и попечительному генералу Зотову. Большая часть знала его во время покорения Чечни, когда он ходил в бой с ними при занятии Аргунского ущелья.
Одновременно с тем, как полковник Гейман строит станицы Дагестанскую, Нижегородскую и Самурскую и, прорубившись до Тубинского ущелья, производит в нем рекогносцировку, Пшехский отряд под начальством генерала Зотова закладывает и устраивает станицы по Пшехе: Кубанскую, Апшеронскую и Ширванскую, и по Пшишу Тверскую; прорубает между ними просеки и устраивает надежные сообщения. И все это совершается не торопясь, обдуманно, а главное, без излишнего обременения и изнурения для войск. Наконец отряд двигается от станицы Тверской вверх по Пшишу и с незначительной потерей занимает Хадыжи, пункт довольно важный в стратегическом отношении, как лежащий на прямом сообщении к Гойтскому перевалу, ведущему в долину Туабсе, а следовательно, к Черному морю.
Казалось бы, лучшего успеха нечего и желать, но граф Евдокимов находит занятие Хадыжей преждевременным и по причине своей отдаленности, могущим нам дорого стоить; а потому предписывает оставить Хадыжи и отступить снова к Тверской.
Генерал Зотов оставляет Хадыжи и, несмотря на бой с неприятелем, с незначительной потерей прибывает в эту станицу, где и слагает с себя по болезни начальство над отрядом.
Удалением генерала Зотова был доволен и недоволен граф Евдокимов. Он был доволен, что избавился от надоедливого начальника отряда, часто требовавшего от него денег на экстраординарные расходы. Недоволен был тем, что лишился в нем распорядительного и дельного помощника.
Зато вполне торжествует честолюбивый и властолюбивый полковник Гейман. Он хорошо понимал, что пока будет начальствовать Пшехским отрядом Зотов, круг его деятельности будет весьма ограниченный и он с Даховским отрядом или должен вращаться в долине Куржипса и Тубинском ущелье, или подчиниться в своих действиях Зотову, как старшему. А потому полковник Гейман, бывший по вызову в Ставрополь, в то время, когда было получено донесение о занятии Хадыжей, выражает и свое мнение, что движение на перевале через Тубинское ущелье он считает более удобным и кратчайшим. И граф Евдокимов, хотя не знакомый с Тубинским ущельем и верховьями Пшиши, но убежденный доводами Геймана, — о военных дарованиях и способностях которого он составил непреложное мнение, еще со времени Даховской экспедиции, — предписывает генералу Зотову оставить Хадыжи.
Однако граф Евдокимов, вскоре по прибытии в станицу Тверскую, убеждается в неосновательности своих распоряжений. По собранным сведениям оказывается Тубинское ущелье вовсе неудобным и не прямым путем к движению наших войск к перевалу. Такой путь ведет вверх по Пшишу на Гойт, ту часть перевала, откуда эта река берет свое начало, а следовательно, на Хадыжи, которое урочище спустя двадцать дней снова занимается нашими войсками под личным предводительством графа Евдокимова.
Но если путь действий остался прежний, то изменились труженики и деятели. Здесь по Пшишу действует полковник Гейман с Даховским отрядом; полковник же граф Граббе, за отделением нескольких батальонов своему сопернику, с Пшехским отрядом направляется вправо на Псекупс.
На Даховский отряд возложено было: а) устроить в Хадыжах окоп со складами для продовольственных и военных запасов, необходимых для будущих военных действий; b) построить на Пшише мост и несколько постов для обеспечения сообщения; с) прорубить просеки через густые лесные полосы, растущие на тридцативерстном расстоянии между Хадыжами и перевалом; d) на этом же расстоянии проложить дорогу по крутым подъемам и глубоким оврагам, и е) устроить на перевале укрепление с новыми складами для продовольственных и военных запасов.
Пшехский отряд, действуя вверх по Псекупсу, обязан был столпившихся там в огромных массах, живших на плоскости абадзехов или заставить принести положительную покорность, или вытеснить их за перевал. Достигнув вершины хребта, с которого берет свое начало Псекупс с притоками, граф Граббе обязан был занять такую позицию, чтобы находиться в связи с Даховским отрядом и в случае надобности охранять его с фланга от неприятельского покушения.
И все это исполнено с точностью, можно сказать, математическою, стоившею новых больших трудов, усилий и лишений для солдат, в особенности при производстве земляных работ, как совершавшихся в зимнее время. В конце декабря оба отряда были расположены на перевалах: Даховский отряд занял позицию возле выстроенного им Гойтского укрепления, получившего это название от перевала. В нескольких верстах на запад был расположен Пшехский отряд.
В ожидании дальнейших приказаний от графа Евдокимова оба отряда бездействовали, и потому, в ожидании их деятельности, опишем, что делалось в Адагумском отряде, состоящем по-прежнему под начальством генерала Бабича, и взглянем на новый Джубский отряд.
Занятия Адагумского отряда в продолжение 1863 года состояли: в довершении устройства Абинской линии, возведением станиц: Ильской, Хабльской, Грузинской, Мингрельской, Эриванской и Шапсугской; в проложении сообщения от Абина на Геленджик и в построении в этом последнем пункте укрепления. Наконец движением отряда от Геленджика по берегу моря до Джубы и даже Шапсуха, для очищения этого прибрежного пространства от туземного населения, завершилась семилетняя тихая заботливая деятельность Бабича.
Приказом по войскам Кубанской области от 27 декабря Адагумский отряд был расформирован, с поступлением одной половины на усиление Джубского отряда и с оставлением другой во вновь устроенных укрепленных пунктах на прибрежье и для окончания различных работ в Натухайском округе.
Вновь составленный собственно для подвигов наказного атамана Кубанского казачьего войска графа Сумарокова-Эльстона Джубский отряд, выступив из укрепления Григорьевского и двигаясь вверх по Шепшу, в 15-ти верстах закладывает станицу Ставропольскую. По устройстве этой станицы и проложении дороги до перевала Джубский отряд переваливается через хребет в долину Джубы, двигаясь по которой истребляет несколько шапсугских аулов, а на берегу моря разрушает укрепление, впрочем никем не занятое.
Не помню, как долго находились в бездействии Даховский и Пшехский отряды на перевале, где мы их оставили, но знаю, что войска, составлявшие эти отряды, мерзли и претерпевали стужу от сильного мороза, метели и ветра.
Знаю также, что сильно страдали подъемные и артельные лошади частей при перевозе провианта и других продуктов по гористой, дурно устроенной, покрытой льдом или занесенной снегом дороге.
Известно также, что начальники отряда жили между собою не в ладах, интриговали и, следя друг за другом, в искаженном или смешном виде старались представить действия один другого.
Не берусь описывать с подробностью действия полковника Геймана, когда он с Даховским отрядом двигался вниз по Туабсе к морю. Знаю только, что большие трудности и препятствия нужно было преодолеть на этом более чем шестидесятиверстном расстоянии и что войска кроме неимоверных трудов терпели огромные лишения. По причине существования только вьючного сообщения, — да и то местами весьма опасного, войска не могли взять с собой ни палаток, ни в достаточном количестве продовольствия; а потому пришлось им бивуакировать и расходовать сухари с большой экономией, в особенности в то время, когда отряд прибыл к месту бывшего форта Вельяминовского, разрушенного в 1841 году горцами.
По распоряжению графа Евдокимова, в начале марта должны были прибыть по морю, к устьям Туабсе, наши суда с продовольственными и военными запасами. Но с прибытием Даховского отряда после тяжелого двенадцатидневного похода к развалинам форта Вельяминовского не оказалось там ожидаемых судов. Не видно было судов и в бушевавшем море, с возвышенного правого берега Туабсе, на котором торчали развалины этого форта. Да если бы суда плавали в виду нашем, то и тогда бушевавшее море не дозволило бы выгрузиться им, потому что они во избежание крушения должны были бы держаться в отдалении от берегов.
Но, как оказалось, транспортные суда, долженствовавшие доставить продовольственные и военные запасы, по причине бурь и столь опасного «бора»[206] не могли выйти из Новороссийска с таким расчетом, чтобы прибыть к Туабсе одновременно с отрядом, а значительно запоздали. По той же причине не существовало сообщения по Черному морю и для других судов, тем более для «кочерм» — небольших парусных турецких судов, долженствовавших перевозить по преимуществу горцев, перекочевывавших в Турцию.
За неприбытием судов, оставалось одно средство для Даховского отряда — доставить продовольствие из Гойта. Но на эту операцию нужно было употребить не менее пяти суток: один день на посылку гонца; двое, трое суток на отпуск провианта, укладку его на вьюки и прибытие транспорта на половину дороги и не менее суток на обратное шествие колонны, высланной из Вельяминовского форта. Между тем в Даховском отряде оставалось сухарей с небольшим на одни сутки. Следовательно, по необходимости пришлось питаться одной говядиной, бараниной и козлятиной, да похлебкой и кашей из проса и кукурузы, которых продуктов, к счастью, оказалось в достаточном количестве. Рогатый скот, бараны и козлы не только имели сами войска, но их, а равно просо и кукурузу, можно было приобретать за весьма умеренную цену у выселяющихся в Турцию абадзехов и шапсугов.
Но если положение Даховского отряда, занявшегося устройством помещения в развалинах Вельяминовского форта, с прибытием сухарного продовольствия, соли, водки и других необходимых продуктов значительно улучшилось, то положение выселяемых в Турцию абадзехов и шапсугов с каждым днем ухудшалось. Наконец положение их доведено было до отчаяния, когда все жившее как по прибрежью Черного моря, так между хребтом и Кубанью столпилось у устья Туабсе, единственного пункта, назначенного для их отплытия в Турцию.
Самое большое число абадзехов и шапсугов столпилось у устья Туабсе, как бы на большую их погибель, во время весеннего равноденствия, когда царство Нептуна вообще бывает неспокойно, и в особенности бушует Черное море. По непреложному велению судьбы в начале марта к шапсугам, жившим по течению Туабсе с ее притоками и принужденным оставить свои жилища Даховским отрядом, присоединились как шапсуги, жившие с незапамятных времен по прибрежью Черного моря, так и соплеменники их, обитавшие по Кунипсу, Абину, Хаблю, Супсу и другим речкам, впадающим в Кубань, а равно абадзехи, населявшие долины Белой, Куржипса, Пшехи, Ишипса и Псекупса.
Тесно скученные в тысячных массах на небольшой равнине, возле Вельяминовского форта под открытым небом, пронизываемые постоянно холодным ветром, обливаемые частыми дождями, терпя недостаток в продовольствии и оставаясь без горячей пищи, дети, женщины и старики начали сильно болеть и умирать, в особенности от тифа и дизентерии. Большие и частые могилы свидетельствовали о множестве жертв, погибших на родном берегу, еще недавно столь для них дорогом, а теперь им опротивевшем.
Немало абадзехов и шапсугов погибло и во время переезда по морю. Хозяева судов, в особенности турецких кочерм, из жадного корыстолюбия брали на свои суда более переселенцев, нежели могли вмещать в себе или выдержать по дурной конструкции и ветхости, ту тяжесть, которая составляла груз.
А от тесноты и заразительного воздуха увеличилась смертность и без того уже страждущих болезнями переселенцев. Или и того хуже — когда суда, носимые по волнам бушующего моря, погибали. Впрочем, в своей гибели были отчасти виноваты и сами переселенцы, которые из желания скорее оставить прежде столь дорогую, а теперь столь ненавистную родину употребляли силу, хитрость и платили втридорога, чтобы попасть на отплывающую кочерму.
И действительно ни одно судно не отплывало без печальной или трагической катастрофы для переселенцев. Один из них утопал, штурмуя баркас или лодку, долженствующую перевезти его от берега к судну; другой с отчаяния, что не попал на отходящую кочерму, бросался в море и погибал в волнах. Здесь удрученный годами и изнеможенный болезнью старик с проклятиями распарывал себе живот кинжалом. Там в ужасных корчах испускала дух на берегу мать, держа в своих объятиях умирающего грудного младенца[207].
Отчего же произошло, что Даховский отряд был несколько дней без сухарей, соли и водки, а изгоняемые из своей родины абадзехи и шапсуги претерпевали такие страшные мучения и страдания? Единственно от торопливого и преждевременного движения наших отрядов к морю до весеннего равноденствия. Выступи Даховский отряд месяцем, двумя неделями позже, и этого не случилось бы. Между тем мы достигли бы тех же самых результатов по окончательному покорению Западного Кавказа.
Но солдаты, в особенности же офицеры Даховского отряда, претерпевали некоторые лишения непродолжительное время, потому что, с прибытием в Туабсе наших военных пароходов, миновались эти лишения и даже явились предметы роскоши, тогда как положение выселяемых абадзехов и шапсугов немногим улучшилось и по успокоении моря, по той причине, что на место отплывавших в Турцию являлись новые толпы горцев.
С движением Даховского отряда во второй половине марта от Туабсе к Псезуапе и далее, когда началось выведение шапсугов, между этими реками и в ущельях, образуемых многими притоками, массы горцев достигли опять до двадцати тысяч душ обоего пола. Но только эти переселенцы, по причине хорошей погоды, уже не болели так сильно, хотя, как и их предшественники, томились ожиданием отплыть, потому что как тогда, так и теперь, был недостаток в перевозочных средствах.
Даховский отряд следовал по восточному прибрежью Черного моря, так же без выстрела, как совершил свое движение от Гойтского перевала к устью Туабсе[208].
Только в вершинах Аше и Псезуапе войска наши встретили слабое сопротивление от живших там хакучей, не составлявших особого племени, а образовавшихся из абреков, то есть воров, разбойников и таких бездомных людей, которые всегда жили грабежом и воровством. Тут были абадзехи, шапсуги, убыхи и других обществ горцы. Между хакучами даже находились наши беглые казаки и солдаты. Хакучи не щадили никого, даже своих соплеменников. Их боялись и ненавидели, как страшных воров, все соседние им горцы.
Однако, если Даховскому отряду не противодействовал неприятель, то он встречал много трудно преодолимых препятствий со стороны природы. В особенности затрудняли следование этого отряда разлившиеся реки с их бесчисленными притоками, в другое время года не составлявшие никакого препятствия. Теперь же они составляли такую важную преграду, через которую нельзя было устроить мостов, как по неимению мест для устоев и широте разлития, так по огромности камней и деревьев, несомых быстротою течения, не только по Псезуапе, Аше и Шахе, но и по их ничтожным притокам. Также немало затрудняли шествие наших войск острые камни, которыми усеяно прибрежье моря и ущелья, а равно растущие в изобилии колючие растения, быстро уничтожавшие обувь и портившие одежду. Но имевшиеся у солдат поршни и башмаки с толстыми подошвами, убитыми гвоздями, сохраняли отчасти их сапоги и ноги от искалечения.
Не остановила решительных и смелых действий полковника Геймана сбор убыхов позади Псезуапе, намеревавшихся воспротивиться переходу Даховского отряда через границу их земель, и сильно разлившаяся Шахе.
Разбитые и понесшие значительные потери на Вардане, убыхи беспрекословно покорились и поспешили переселением в Турцию с указанного им близ Сочи пункта. Переход же через Шахе наших войск был совершен по импровизированным, качающимся горским мостам, устроенным в узких скалистых берегах над пенящеюся пропастью.
С прибытием на Сочи, составляющую границу между убыхами и джигетами, Даховский отряд приостановил свое дальнейшее победоносное шествие. Необходим был отдых для исправления разорванной одежды от колючки и обновления пришедшей в совершенную негодность обуви. Нужно было подумать и об обеспечении отряда продовольствием.
В ответе, полученном из Тифлиса на телеграмму полковника Геймана о покорении убыхов, тоже упоминалось о необходимости оставаться Даховскому отряду на Сочи и озаботиться обеспечением сообщения и продовольствия, а также окончательным выселением в Турцию горцев.
Покорение же джигетов, псхоу, анчипсхоу и других мелких обществ, обитавших по Мзымпте и Бзыби, возлагалось на отряд, сосредоточенный в Абхазии, под личным начальством главнокомандующего.
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ
Экспедиция против неприязненных нам обществ, обитавших по Мзымпте и Бзыби, была непродолжительная, не трудная и не опасная. Но так как с этой экспедицией, и вместе с последним выстрелом на урочище Каабе, где после торжественного молебствия было отпраздновано окончательное покорение Кавказа, соединен трудно интересный переход мой через перевал у Оштен, одного из гигантов Кавказского хребта, то и коснусь некоторых подробностей этого путешествия.
Это движение было предпринято графом Евдокимовым не с боевою целью, потому что со стороны неприятеля не могло встретиться сопротивления. Его уже не было по северо-восточную сторону хребта с прошлого года; юго-западные же покатости, обращенные к Черному морю, были только что очищены действиями Даховского отряда. Могли разве встретиться хищнические партии хакучей или несколько абадзехов и убыхов, скрывавшихся в непроходимых дебрях и ущельях.
Этот путь желал лично исследовать граф Евдокимов и убедиться в том, может ли он служить удобным сообщением для наших войск, как один из кратчайших между Кубанью и Черным морем, и в таком случае какого рода поселения, или только одни укрепленные пункты могут существовать на нем. Поэтому граф Евдокимов выступил из Майкопа в конце мая с одной только милицией, тем более, что на многих пунктах были расположены войска, занимавшиеся разработкой дороги.
До перевала у Оштен путь лежал по Белой и до Хамешков, где был назначен первый ночлег, пролегал через известные уже нам места: станицу Егерукаевскую, Семиколенную гору, Фюнфт, станицу Абадзехскую, Большой и Малый Кожоки, ущелье Каменного моста, станицу Даховскую и через десятиверстное лесистое и скалистое ущелье.
От укрепления Хамешки, построенного еще в 1862 году и занимаемого линейным батальоном, или, правильнее сказать, от находящегося в 6 верстах впереди Белореченского поста, путь лежал по местности уже неизвестной. Далее этого поста войска наши не двигались, и только за несколько дней было послано несколько рот пехоты для разработки тех мест, по которым нам предстояло ехать. Извилистая вьючная дорога круто поднималась в гору между вековым лесом, состоящим из дуба, чинара, ясени, бука, вяза, карагача, лиственницы и других пород, перевитых колючими растениями. Влево шумела Белая, текущая по каменистому и узкому ущелью.
Более часу ехали мы по такой закрытой, однообразной местности, когда лес окончился яворовой рощицей и перед нами представились обнаженные каменистые горы и снежный Оштен. Но этот гигант Западного Кавказа был еще далек от нас. Нужно было перевалить через два глубоких ущелья, по которым прорывалась и шумела Белая с своими притоками, да кой-где виднелись оставленные жилища загнанных и сюда силою оружия абадзехов. Древесная растительность была самая жалкая и состояла из чахлых, корявых приземистых сосен, елей, берез, встречались также рододендроны. Окружавшие наш путь горы состояли из шиферного плитняка или гнейса.
Поднявшись на одну из таких гор и обогнув другую, мы въехали в снежную полосу, лишенную уже всякой растительности. Только лишай да мох покрывали камни, обнаженные солнечными лучами от снега. Перед нами возвышалась на несколько сотен футов снежная и недоступная вершина Оштен, которую нужно было обогнуть с северо-восточной стороны по снежной тропе, наклоненной к глубокой пропасти.
Крайне опасен был этот переход. Хотя длина его не превышала двух, трех десятков сажен, однако одна милиционерская и несколько вьючных лошадей обрушились в пропасть, где и остались на добычу волков, шакалов, орлов и воронов.
Дальнейшее следование по обширной, снежно-льдистой впадине тоже было не без затруднений. Нужно было следовать более двух верст пешком, ведя лошадь в поводу с большою осторожностью, и делать частые обходы, чтобы не попасть в провал, зажору или расщелину, образовавшиеся от таявшего снега и льда. Сверх того, мы продрогли от сильного ветра, промокли от мокрого снега и в довершение всего были побиты градом, доходившим величиною до куриного яйца, пока добрались до небольшого леса, растущего у притоков Шахе. Здесь был дан часовой привал, необходимый как для всадников после восьмичасового тяжелого переезда, так и для того, чтобы дать время подтянуться отставшим вьюкам.
Продолжать же нам отдых нельзя было, потому что на переезд до Бабуковского аула, ближайшего населенного места, где предположено было переночевать, нужно было употребить не менее трех часов. Переезд по расстоянию был не велик, верст не более десяти, но он был труден по крутости и продолжительности спуска к Шахе, а равно по переправе через эту быстро текущую, в особенности в своих верховьях, и каменистую реку.
Поразительно было ущелье Шахе по грандиозности гор, которыми оно обставлено, и по растущим на них вековым деревьям, но поразительнее всего были места, покрытые рододендронами и азалиями. Их темно-пунцовый и ярко-желтый цвета среди зелени сильно поражали зрение, и глаз невольно обращался в ту сторону, где находились кусты этих непахучих растений.
Бабуков аул, куда мы прибыли после полусуточного трудного и утомительного переезда, получил это название от своего владельца, одного из влиятельных старшин убыховского племени и, за несколько дней до нашего прибытия, отправившегося в Турцию, вместе с другими своими соплеменниками. Этот аул был не велик. Он состоял из десятка небольших деревянных сакель, между которыми возвышался двухэтажный дом владельца так же высоко, как Оштен над своими соседями, составлявшими хребет Западного Кавказа.
После ночлега в Бабуковом ауле — нельзя сказать покойного, по причине множества крыс, воя голодных собак и вторивших им шакалов и волков, завывания ветра и течи от сильного дождя с громом и молниею, — мы отправились с восходом солнца далее.
На 8–10 верст от Бабукова аула встретил нас Гейман — уже генерал и кавалер св. Георгия 3 степени, достойно заслуживший эти награды за покорение убыхов и вообще за смелые и решительные свои действия. Он ожидал нарочно на таком трудном месте графа Евдокимова, с частью войск Даховского отряда, где нужно было или почти вплавь совершить переезд через бушевавшую Шахе или перебираться по опасным ступеням через скалу над страшным обрывом.
Спешенные всадники предприняли опасный и трудный переход через скалу, тогда как наши верховые и вьючные лошади начали такой же переезд по Шахе. Хотя переход через скалу, в особенности трудный для страдавшего удушьем покойного генерала Шульмана, был совершен без приключений, но зато при переезде наших верховых и вьючных лошадей по Шахе, кроме других случаев, несмотря на все меры предосторожности и опытности, — три вьюка вместе с лошадьми были унесены водой.
С этой переправой через Шахе кончились трудности нашего дальнейшего путешествия, а напротив, чем более мы приближались к морю, тем более каждый из нас наслаждался прелестями природы.
Переваливши через два хребта и проехав сплошную массу хуторов и поселков, расположенных между дубовым, чинаровым и других пород лиственным лесом, мы въехали в ущелья сначала каштановых и ореховых рощ, а наконец виноградных лоз. Часто встречаемые пустые аулы свидетельствовали о густом здесь населении. На прихотливую же и роскошную жизнь живших здесь убыхов указывали огромные фруктовые сады и виноградники, расположенные террасами.
В одном из таких аулов, находящемся в глубоком ущелье одного из притоков Шахе, название которого я, к сожалению, не помню, мы расположились на ночлег за несколько часов до заката солнца. И каждый из нас уснул крепким сном под благодатным небом и в благорастворенном климате, несмотря на вой многочисленных собак, оставленных прежними обитателями, невольно переселившимися в Турцию.
На четвертые сутки после нашего выступления из Майкопа мы отправились далее. Проходя по таким же густонаселенным аулам и богатым садами и виноградниками местам, мы прибыли в Даховский отряд, расположенный не при устье Сочи, где приостановилось его победоносное шествие, а на Дагомысе, на небольшой речке. имеющей свой исток в море и по которой мы ехали более 10 верст после нашего последнего ночлега.
Этот пункт лагерной стоянки Даховского отряда предпочел генерал Гейман перед Сочи и другими не столько по климатическим причинам, сколько потому, что по Дагомысу лежал лучший путь сообщения, если бы пришлось устроить таковой через перевал у Оштена, то есть тот путь, который я только что описал.
«СТРАШНО И ГРУСТНО ВЫРАЗИТЬ МЫСЛЬ ОБ УТРАТЕ КАВКАЗА»
Все, кто в разные периоды обдумывал сущностные проблемы Кавказской войны, неизменно вспоминая о тяжких жертвах — человеческих и финансовых, — о мучительных усилиях, с которыми проходило покорение Кавказа, тем не менее, настаивали на фатальности этого процесса.
Причины обозначались самые разные. Толковали о спасении единоверной Грузии и преследуемых христиан-армян от окончательного поглощения мусульманским миром, о защите той же Грузии от горских набегов, о необходимости обеспечить безопасность коммуникаций с новыми областями империи — после вхождения Грузинского царства в состав империи, о долге защиты собственного приграничного населения.
Трактовали Кавказскую войну как последнюю схватку христианства с воинствующим исламом. И так далее.
Но сколь ни парадоксальным это может показаться, дело было отнюдь не только в Грузии и не в самом Кавказе.
Если проанализировать стратегические соображения — иногда высказанные вскользь, иногда развернуто, на протяжении нескольких десятилетий, то становится понятна фундаментальная геополитическая подоплека изнурительной битвы за Кавказ и титанических усилий по его удержанию и замирению.
Завоевание Кавказа предполагало, кроме ясной и очевидной задачи, еще и мощный геополитический рикошет — удар по европейским странам, в первую очередь по Англии.
Нисколько не утрируя ситуацию, можно сказать, что в Азии Россия воевала с Европой.
После оглушительных успехов второй половины Северной войны — с 1709 по 1720 год, — когда Петр приобрел обширные прибалтийские земли, невский край, значительную часть Финляндии, стало ясно, что продвижению России на Запад положен предел. Вооруженные вмешательства в европейские конфликты успеха не имели. Решительная переориентация имперской политики с Запада на Восток была результатом этого осознания.
Черноморская политика Петра не была по сути своей восточной политикой. Черное море, хотя оно омывало и азиатский берег Турции, было все же европейским морем, и манило оно Петра прежде всего как путь в Европу.
После катастрофы на Пруте в 1711 году от наступления на турецкие владения в Европе пришлось отказаться. Поход в Дунайские княжества не имел прямого отношения к собственно азиатской политике Петра, которая стала бурно реализовываться с середины 1710-х годов. Именно тогда созрела идея прорыва к Индии и вытеснения англичан из «золотых стран Востока».
В сознании имперской элиты после Петра параллельно существовали и развивались два утопических грандиозных плана. Первый, связанный с завоеванием Константинополя, имевший еще и религиозный аспект — возвращение в христианский мир столицы некогда великой Восточной Римской империи, откуда пришло на Русь православие. Второй — уже упомянутый прорыв к Индии, и если не захват ее, то продвижение через Афганистан к самым ее границам — «отсель грозить мы будем бритту!».
И тот и другой проекты базировались на противостоянии Европе, отношения с которой — Англией, Францией, Австрией — были весьма напряженными, иногда явно, иногда подспудно, — даже тогда, когда русские императоры считали себя хозяевами положения и верили в дружбу союзных монархов.
Мощная новая Восточная империя — дочернее государство России — во главе с представителем российского императорского дома, — Екатерина II, как известно, прочила на этот трон своего внука Константина, — контролировала бы Черное море и грозно нависала над Средиземным, а необъятные просторы Азии, по замыслу петербургских стратегов, обеспечивали бы рынок сбыта российских товаров и приток необходимых империи средств.
Укрепившись на юго-востоке и в Азии, империя становилась независимой от европейских государств; она, действительно, становилась в этом случае не страной, а — по выражению одного английского политика — «частью света». И это было бы принципиально новое качество в геополитическом раскладе.
При очевидном экономическом отставании от Европы, при постоянном ощущении внутренней политической неустойчивости, — в 1829 году шеф жандармов Бенкендорф писал императору Николаю о «пороховой бочке над государством», имея в виду крепостное право, — при настороженно-подозрительном отношении к мыслящей части общества, имперская элита искала путей к максимальной устойчивости. Грандиозность охваченного имперской структурой пространства казалась Петербургу залогом такой устойчивости.
Стремление к постоянному расширению территории — последняя безумная попытка: корейская авантюра, приведшая к русско-японской войне, пришлась уже на самый финал существования империи, — в политико-психологическом плане было вызвано ощущением внутреннего неблагополучия. Равно как и маниакальное и гибельное в экономическом отношении наращивание военной мощи за счет численности армии. Особенно ярким симптомом было неуклонное увеличение «внутренних войск» — гвардии, дислоцированной в столице и вблизи от нее.
Обе вышеназванные утопии подразумевали в качестве непременного условия овладение Кавказом и прочное его освоение.
Но был и еще один важный аспект проблемы — страх перед захватом европейцами азиатских тылов России, страх перед возможностью если не удара, то опасного давления на «мягкое подбрюшье» империи.
Для того, чтобы понять, какую роль играл Кавказ в воображении имперских стратегов и как овладение им соотносилось с убежденностью в неизбежном противостоянии Европе, можно рассмотреть два выразительных сюжета.
В 1860 году генерал-майор Ростислав Андреевич Фадеев, чрезвычайно яркая и симптоматичная для русского XIX века фигура, чьи внутриполитические представления во многом совпадали с представлениями зрелого Пушкина, один из самых энергично и размашисто мыслящих имперских идеологов, соратник Барятинского в последний период завоевания Кавказа, выпустил книгу «Шестьдесят лет Кавказской войны». Книга эта — первая попытка разработать задним числом стройную идеологию этой войны — заслуживает особого анализа. Но в данном случае имеет смысл процитировать один обширный фрагмент ее первой части.
«В то время (1801 год, вхождение Грузии в состав Российской империи. — Я. Г.) спор за господство на Черном море шел у нас только с одною Турциею. Но Турция была уже объявлена несостоятельною политически; она уже находилась под опекою Европы, которая ревниво блюла ее целость, потому что не могла принять равного участия в дележе. Несмотря на искусственное равновесие, опертое на острие иглы, между великими державами начиналась борьба за преобладающее влияние на Турцию и все принадлежащее ей. Европа проникала в отжившую массу Азии с двух сторон, с запада и с юга; для некоторых европейцев азиатские вопросы получили первостепенную, исключительную важность. В пределах Турции, если не действительных, то предполагаемых дипломатически, заключалось Черное море и Закавказье; это государство простирало свои притязания до берега Каспийского моря и легко могло осуществить их первым успехом, одержанным над персиянами.
Но неясно очерченная масса Турецкой империи начинала уже переходить из одного влияния под другое. Было очевидно, что спор за Черное море, за все воды и земли, на которые простирались притязания Турции, рано или поздно, при первом удобном политическом сочетании, станет спором европейским и будет обращен против нас, потому что вопросы о западном влиянии или господстве в Азии не терпят раздела; соперник там смертелен для европейского могущества. Чье бы влияние ни простерлось на эти страны (между которыми были земли без хозяина, как, например, весь Кавказский перешеек), оно стало бы во враждебные отношения к нам.
Между тем владычество на Черном и Каспийском морях, или, в случае крайности, хоть нейтралитет этих морей, составляет жизненный вопрос для всей южной половины России, от Оки до Крыма, в которой все более и более сосредоточиваются главные силы империи, и личные, и материальные. Эта половина государства создана, можно сказать, Черным морем. До завоеваний Екатерины она была в таком же положении, как теперь Уральский край и Южная Сибирь, поселениями, вдвинутыми в безвыходную степь; владение берегом сделало ее самостоятельною и самою богатою частью империи. Через несколько лет, с устройством Закавказской железной дороги, которая необходимо привлечет к себе обширную трапезондскую торговлю с верхней Азией, при быстром развитии волжского и морского пароходства, при состоявшейся компании азиатской торговли, пустынное Каспийское море создаст для юго-восточной России то же положение, какое Черное море уже создало для юго-западной.
Но охранять свои южные бассейны Россия может только с Кавказского Перешейка; континентальному государству, как наше, нельзя поддержать своего значения, ни заставить уважать свою волю там, куда его пушки не могут дойти по твердой почве. Если бы горизонт России замыкался к югу снежными вершинами Кавказского хребта, весь западный материк Азии находился бы совершенно вне нашего влияния и, при нынешнем бессилии Турции и Персии, не долго бы дожидался хозяина или хозяев. Южные русские области упирались бы не в свободные воды, но в бассейны и земли, подчиненные враждебному влиянию. Если этого не случилось и не случится, то потому только, что русское войско, стоящее на Кавказском перешейке, может охватить южные берега этих морей, протянувши руки в обе стороны».
Фадеев, один из ближайших в это время сотрудников Барятинского, знавший настроения российских верхов, выражал, разумеется, не только свое мнение. Недаром Дмитрий Алексеевич Милютин, начальник штаба Кавказского корпуса при том же Барятинском, а в скором времени реформатор русской армии, военный министр и одна из ключевых фигур Великих Реформ, был безоговорочным сторонником полного покорения Кавказа и прочного включения его в общеимперскую структуру. И дальше Фадеев ясно формулирует то, чего боялись и чего ожидали в имперских верхах в случае потери Кавказа.
«Враждебное влияние не остановилось бы на Кавказском перешейке. Ряд водных бассейнов, вдвинутых в глубь азиатского материка, от Дарданелл до Аральского моря с его судоходным притоком Аму-Дарьей, прорезывающим всю среднюю Азию почти до индийской границы, — слишком заманчивый путь для торговли, пробивающейся теперь через бездорожные хребты и высокие плоскости Армении и Азербайджана. <…> Но кто не знает, что такое европейская торговля в Азии? Соприкосновение двух пород столь неравных сил начинается там ситцами, а кончается созданием подвластной империи во 150 миллионов жителей. Если б торговля некоторых европейцев установилась по направлению внутренних азиатских бассейнов само собой, до или помимо нашего господства за Кавказом, путь ее был бы пределом наших отношений к Азии».
Но, по убеждению Фадеева, такое развитие событий не просто пресекло бы возможности российской экономической экспансии в Азию. Россия оказалась бы перед лицом мощной агрессивной силы.
«Все лежащее за чертой, протянутой от устья Кубани к северному берегу Аральского моря и дальше, было бы слито в одну враждебную нам группу и мы выиграли бы только то, что вся южная граница империи на несколько тысяч верст от Крыма до Китая сделалась бы границей в полном смысле слова, потребовала бы крепостей и армий для своего охранения; чистая выгода в смысле “мирного развития внутренних сил государства”. Для обороны Кавказской линии пришлось бы вероятно употребить те же войска, какие занимают ее теперь, но уже без всякой надежды на окончание этого положения. <…> Кавказская армия держит в своих руках ключ от востока; это до того известно нашим недоброжелателям, что во время истекшей войны нельзя было открыть английской брошюры, чтобы не найти в ней толков о средстве очистить Закавказье от русских. Но если отношения к востоку составляют вопрос первой важности для других, то для России они осуществляют историческую необходимость, уклониться от которой не в ее власти».
Далее Фадеев уверенно пишет о разложении и бессилии мусульманского мира, который сам по себе не может никому угрожать. Кавказ — единственное сосредоточение боевого духа исламизма. Опасность же в овладении европейскими недоброжелателями России азиатскими народами и просторами.
Говоря о созданной европейцами «подвластной империи в 150 миллионов жителей», Фадеев, разумеется, имеет в виду Индию под властью англичан. Но — не только. Идея создания на рыхлых политических пространствах Азии нового сильного государства владела Бонапартом во время Египетского похода. Он прямо говорил об этом на Святой Елене:
«Если бы Сен-Жан д’Акр была взята французской армией, то это повлекло бы за собой великую революцию на Востоке, командующий армией создал бы там свое государство».
Ермолов, внимательно следивший за карьерой Наполеона, безусловно психологически ориентированный на судьбу великого корсиканца, хорошо знавший историю Египетского похода, говорил:
«В Европе не дадут нам шагу ступить без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам».
И настойчиво напоминал, что его род восходит к потомкам Чингисхана.
Постепенно и в России, и в Европе формировалось осознание невозможности изменить территориальную ситуацию на западной линии соприкосновения России и европейских держав. То, что кровавое испытание сил в 1853–1855 годах произошло не на Балтике, не в Финляндии, например, где союзникам, господствуя на море, было гораздо легче снабжать свои экспедиционные корпуса, предоставив туркам отвлекать на юге силы русской армии, а в Крыму, на Черном море, имело не только военно-стратегический, но и глубоко символический смысл.
Наиболее реальным театром будущих военных действий стала Азия — оперативное направление через Афганистан к границам Индии. Для этого России нужно было утвердиться в Средней Азии, а фундаментом всего грандиозного плана был замиренный, твердо контролируемый Кавказ.
И Афганистан, и среднеазиатские ханства фигурировали в стратегических разработках штаба Кавказского корпуса еще с 1820–1830-х годов.
Крымская война, продемонстрировав солидарное неприятие великими европейскими державами исторических задач России, как их понимала российская элита, подтвердила версию «азиатской угрозы». Кавказ непререкаемо выдвигался в этой ситуации на авансцену будущего геополитического конфликта.
В декабре 1855 года Тютчев с пронзительной выразительностью сконцентрировал в стихотворении «1856» эсхатологические — если не панические — настроения, после разгрома в Крыму бытовавшие в русском обществе, которое ожидало продолжения гибельной для России войны.
Стоим мы слепо пред Судьбою. Не нам сорвать с нее покров… Я не свое тебе открою, А бред пророческий духов… Еще нам далеко до цели, Гроза ревет, гроза растет, — И вот — в железной колыбели, В громах родился Новый год… Не просто будет он воитель, Но исполнитель Божьих кар, — Он совершит, как поздний мститель, Давно задуманный удар… Для битв он послан и расправы, С собой принес он два меча: Один — сражений меч кровавый, Другой — секиру палача. Но для кого?.. Одна ли выя, Народ ли целый обречен?.. Слова неясны роковые, И смутен замогильный сон…Незадолго до Тютчева высокопоставленный чиновник барон Николай Егорович Торнау отправил на высочайшее имя «Записку», которая, с одной стороны, вполне корреспондирует с логикой Фадеева, с другой — по своему подспудному смыслу близка к тютчевскому ощущению грядущих бед. Но, в отличие от поэта, Торнау исходит из представлений о психологии горцев. Поэтому он ориентирован не на «бред пророческий духов», а на вполне конкретные военно-политические проблемы.
Надо помнить, что именно в ноябре 1855 года Австрия, на поддержку которой Николай I рассчитывал, начиная роковую войну с Турцией, направила Александру II ультиматум, требуя принять мирные предложения Англии и Франции. Вступление Австрии в войну на стороне союзников означало для России катастрофу. Недаром в позднейших построениях Фадеева, активно занимавшегося внутренней и внешней политикой, Австрия стояла едва ли не на первом месте в ряду врагов России, соперничая в этом с Англией.
Симптоматично, что именно в это время два кавказских генерала отправили в Петербург энергичные записки, предлагающие начать активное продвижение через Афганистан к Индии.
Но «Записка» Торнау наиболее содержательна и реалистична по оценке ситуации.
ЗАПИСКА БАРОНА ТОРНАУ[209]
Действия союзников нынешнего года начинают угрожать Кавказу и Закавказским владениям нашим.
Поныне действия эти ограничились появлением турецких войск в Абхазии — движением их к Грузии и к Мингрелии и нравственным влиянием на непокорных и покорных нам жителей Кавказа.
Медлительность в действиях Омар-паши и нерешимость его, основанная на расчетах личных его выгод, оградили пока еще Закавказский край от завладения врагами.
Но отторжение края сегодня от России, уничтожение исключительного нашего права владения Каспийским морем, отнятие от нас средств непосредственных сношений с странами Центральной Азии — все эти обстоятельства слишком важны для английского правительства в отношении индейских владений его, чтобы мы могли надеяться на неприведение в исполнение со стороны западных держав предначертаний их.
Для торговых выгод Англии необходимо было уничтожение преобладания России на Черном море; для устранения на будущие времена опасности индейским ея владениям необходимо отбросить границы России на 100 верст назад от границ Индии.
Отторжение Закавказского края от России, водворение и укрепление английской власти на южном берегу Каспийского моря — необходимо английскому правительству.
Еще год бездействия с нашей стороны — и предположения врагов России исполнятся.
Без принятия мер предусмотрительности и решительного противуборства действиям врагов в будущем году, в одну кампанию, весь Закавказский край отпадет от России, если только к турецким войскам присоединятся французские и английские войска и если к материальным силам неприятеля присоединится еще и нравственная сила — в решимости французских, в настойчивости английских генералов.
Опасность Кавказу и Закавказии угрожает со всех сторон.
Внутри края: отпадение даже вполне покорных и подвластных нам племен исполнится под личиною покорности силе.
И прежде всего отпадут грузины, а за ними лишь татары.
Армяне будут действовать и в пользу нашу, и в пользу врагов, смотря по личным их выгодам.
Чувств благодарности в азиатах искать нечего; напротив того, грузинское дворянство, по совершившимся местным обстоятельствам, видит в зависимости страны от России причину лишения драгоценнейших для него, дворянства, благ: народной самостоятельности и сатрапного своеволия.
А когда испрошенные генерал-адъютантские аксельбанты не удержали абхазского властителя от перехода к неприятелю даже прежде занятия всей страны неприятельскими войсками, — удержатся ли другие туземцы от перехода, когда увидят, что сила наша уступает силе союзников, когда убедятся в том, что для удержания края на будущие времена не принято мер предусмотрительности и противуборства и что все усилия наши стремятся лишь к временному отпору вражеских сил.
Пока турки одни будут сражаться против нас на Кавказе, высшее сословие края будет если и не мыслию, то грудью за нас: оно знает, что Турция одна не в состоянии состязаться с Россиею; положительное участие западных держав в военных действиях на Кавказе легко может изменить и образ действий закавказского высшего сословия. При том союз с Европой даст грузинам то, чего русское правительство им дать не могло, но к чему они, однако, достаточно приготовлены, а именно: политическую самостоятельность Царства Вахтангов и Ираклиев и феодальное своеволие Сердаров, Таваров и Тавадов.
Татары-мусульмане, хотя и их высшему сословию было дано более чем ожидали и просили, татары более осторожны и рассудительнее грузин. В Грузию войска наши приходили союзниками. Мусульманские же провинции испытали и помнят силу русского оружия. Татары отпадут, когда увидят уже положительную неудачу оружия нашего.
Опасность Кавказу и Закавказскому краю угрожает еще с двух сторон: со стороны непокорных горцев и со стороны Персии.
Между горцами — разноплеменные черкесы-адыге и дагестанцы: лезгины и чеченцы, кроме вражды к России и непокорности власти нашей, ничего общего между собой не имеют.
Если уже сам Шамиль-эффенди походом своим на правый фланг нашей Кавказской линии в 1846 г. не успел соединить интересов черкесов с интересами дагестанцев, то вряд ли Турция и западные державы в этом успеют.
При противуборстве врагам этим в отдельности Кавказскую и Черноморскую линию возможно будет отстоять и без усиления военных средств, с нынешнею численностью расположенных на линиях войск.
Но если по занятию Мингрелии и Имеретии союзные войска двинутся к Тифлису и если в то же время между горцами заметно будет движение на страны, расположенные к югу от главного хребта Кавказских гор, то необходимо будет покинуть Военно-Грузинскую дорогу и посты, расположенные по границам с Дагестаном, стянув все эти посты в отдельные отряды сперва в главные ворота уездов, а за сим, смотря по ходу дел, даже лишь в два или три пункта, дабы сим действием быть в состоянии располагать отрядами в большей численности.
Нейтралитетный союз наш с Персиею основан на началах столь шатких, что Россия ежедневно должна быть готова встретить <нрзб> границах своих…
Союз этот основан единственно на одном убеждении персидского правительства, что оно не в силах противуборствовать России.
Но чем более проходит времени с последней войны 1826 и 1827 годов, чем менее остается государственных людей, помнящих кампанию эту и последствия оной, тем менее ослабевает в персиянах убеждение в превосходстве русской силы, — за сим: чем более, чрез дипломатические сношения наши, мы снисходим к требованиям их и выказываем персидскому правительству равенство его с нашим правительством и отступаемся от покровительственного влияния нашего на внутренние и внешние дела Персии — тем более персияне заносятся в мыслях о могуществе их, о равенстве их сил с силами России.
Лишь несколько настоятельное требование со стороны западных держав, с подкреплением требования присылкою военных сил и денег, и обещание возвратить Персии Эриванскую область, хлебную житницу северных ея стран, и Карадагское, и Талышинское ханства, коих высшее сословие родственными и личными связями и всем воспитанием чувствует уже <нрзб> более влечения к Персии, чем к России, — лишь исполнение этих условий, и персияне с легкостью воспламенятся к войне против нас.
Если западные державы до сих пор не успели поднять Персию против России, то это потому, что они не избрали того дипломатического пути к действиям на тамошнее правительство, который единственно в Азии увенчивается успехом, а именно: действие устрашением и щедростию. При неудаче настоящих средств влияния на Персию — приведение в исполнение сего последнего способа не замедлится.
Английское правительство, убедившись наконец в том, что Россия не желает и не способна нанести ему вред в Индии, двинет оттуда войска свои на Персию. В две-три недели 30 тысяч войска и более могут быть в Персидском заливе.
Тогда сила принудит персиян идти против России.
А против вражьих сил со всех сторон отстоит ли и Кавказское, доблестнейшее во всем мире войско, Закавказский край?
И тогда, с сокрушенным сердцем, мы увидим, что в одну кампанию утратятся плоды трудов умственной деятельности правительства нашего на Кавказе в течение полувека, утратится страна, поглотившая из средств России сотни миллионов рублей и сотни тысяч людей, утратится, наконец, та будущность, которая с окончательным укреплением за Россию Закавказского края представлялась нам для установления влияния на Центральную Азию!
Хотя поныне и много упущено времени и средств для укрепления и удержания за нами Закавказия, но край этот окончательно не утрачен еще для России, если без замедления примутся энергические меры предусмотрительности и противуборства действиям врагов и проявляющимся опасностям.
В настоящее время главным базисом всех наших коммерикационных и впоследствии военных операций должно быть Каспийское море.
С прекращением сообщения Закавказского края с Россиею посредством Черного моря и посредством Военно-Грузинской дороги единственный открытый и безопасный путь сообщения остается чрез Каспийское море.
К пути сему мы не можем не обратиться ныне потому, что крайность заставляет нас к тому, — а между тем удобство сего пути всегда, в действительности, существовало, но не соответствовало лишь расчетам личных выгод как местных в Астрахани начальств, так и чинов военной администрации.
А потому до сих пор ощущается крайний недостаток в средствах к воспользованию удобствами сего пути.
Сколько нам известно, его императорское высочество, управляющий Морским министерством, обратил уже внимание Свое на устранение неудобства плавания из Астрахани в Каспийское море и на преобразование, в некоторых частях, морских административных властей в Астрахани и в Баку[210].
Важнейший шаг в сем отношении сделан. Высшее правительство обратило внимание свое на море, в пользовании коего Петр Великий усматривал блестящую будущность в политическом и торговом отношениях[211].
После Петра Великого доныне Каспийское море доставляло России выгоду лишь откупом рыбных ловлей.
В последнем мирном нашем трактате с Персиею — единственною самостоятельною державою, прилегающею к Каспийскому морю, постановлено, что на море этом дозволяется плавание военным судам только под русским флагом.
В политическом отношении обстоятельство это устанавливает право исключительной государственной собственности России над Каспийским морем.
Но право это Россия обязана поддерживать не только нравственною, но и материальною силою: необходимо иметь на Каспийском море достаточно сильную флотилию, которая была бы в состоянии не только защищать берега наши и русских рыбопромышленников от разбоев туркменцев и других не покорных ни России, ни Персии племен, но и силою противудействовать всяким покушениям, с какой бы стороны ни было, к усилению и к укреплению власти на Каспийском море, как чрез постройку судов, так и чрез возведение крепостей приморских или близ моря.
При пароходной флотилии должны быть транспортные суда, подобно летучему парку, устроенному в С. -Петербургской губернии для постоянного передвижения войск и орудий.
Постоянными сборными пунктами для войск и для запасов, как военных, так и продовольственных, должны быть крепости: Петровская, Дербент и Баку на западной стороне Каспийского моря, Новопетровск и Ахкале на восточной стороне.
Крепость Баку, по важности положения своего, следует обратить в крепость 1-го разряда.
Баку с гарнизоном в 10 т. человек удержит в повиновении ханства Бакинское, Кубинское, Мирьанское, Талашинское и Карабагское и даже Шекинское и Елисаветпольское.
При первом проявлении в одной из сих провинций признаков внутренних смут — неповиновения местной власти, отдельный отряд в 3 или 6 т. человек должен отправиться из Баку на место, где последовало неповиновение, и беспощадным наказанием виновных и наложением строжайшего взыскания на весь округ, к которому принадлежат виновные, восстановить спокойствие и страхом наказания предупредить возобновление подобного рода смуты по всему Закавказскому краю[212].
Крепость Новопетровск будет продолжать исполнение ныне указанной цели: устрашение хивинцев и племен, расположенных по восточному берегу Каспийского моря.
Наконец, возведение в землях туркменских, между реками Гурганом и Карасу, крепости Ахкале представляет важность в размерах великих, как для настоящего положения дел на них, так и для будущих действий на Востоке.
Крепость эта удержит в повиновении и в должном страхе не только туркменцев, но и персиян. От Ахкале столица Персии может быть достигнута войсками нашими в 15 дней, провинции же Астрабад, Мазандеран и Гилян, доходнейшие провинции для государственной казны Персии, могут быть занятыми в 4 дни[213].
Кроме влияния на Персию, возведение крепости в Ахкале и содержание в оном постоянного гарнизона произведут сильнейшее впечатление на дела англичан в Индии.
Одним действием этим Россия приобретет нравственное влияние на Афганистан и на разноплеменные царства в Туркестане. Последствия сего влияния будут ощутительны и по политическим делам в Индии.
Английское правительство не решится тогда отправить значительное число войск своих из Индии в Персию; оно будет нуждаться во всех силах своих для противуборства внутренним волнениям, которые легко возбудятся при одной мысли о приближении русских войск к границам Индии. Уже ныне англичане приписывают смуты в северо-восточных и северо-западных странах их индейского царства действиям России.
Не будучи в состоянии подкрепить требований своих в Персии материальною силою, западные державы не столь легко успеют склонить государство это к войне с Россиею, принявшею построением крепости на Гургане грозную позицию против самой Персии.
Дабы положительно и окончательно обеспечить себя со стороны Персии, необходимо усилить, хотя одним еще полком, артиллериею, военный лагерь, расположенный ныне на границах Персии близ Ордубада. Военное начальство за Кавказом, расположив в сем месте один полк с двумя сотнями казаков, фронтом к Персии, произвело этим действием на Персию столь сильное впечатление, что не можем сомневаться в том, что эта удачная стратегическая мера, сколь бы ни казалась незначительною, немало содействовала к сохранению со стороны Персии нейтралитета.
Усиленный отряд, в сем месте расположенный, в 7 или 8 т. человек, в случае разрыва с Персиею может в 6 дней подойти к стенам Тавриза, или же, при наступательном движении персиян, удержать первый натиск их до прибытия войск из Баку или из главного Кавказского корпуса.
Наконец отряд этот послужит звеном, соединяющим главный отряд действующей Закавказской армии с депо войска в Баку[214].
С принятием мер, выше сего указанных, главные силы Кавказской армии могут свободно действовать против внешнего неприятеля, решившегося вторгнуться в пределы наши, и в то же время охраняя безопасность провинций наших, предупредят не только внутреннее восстание, но даже и проявление духа непокорности против русской власти.
Таким образом, предполагаемыми мерами предосторожности и усилением материальных средств не мелкими, разбросанными по различным местам, партиями, но в некоторых лишь пунктах, и наконец объявлением во всеобщее сведение о неизбежном наказании за переход к неприятелям — изгнанием и конфискациею имений не только самих провинившихся лиц, но, смотря по обстоятельствам дела, и их семейств и обществ, к которым принадлежат виновные, — этими предварительными мерами предупредится опасность в двух важных видах, а именно — опасность от внутренних смут и восстаний и опасность от войны с Персиею.
Если же не достигается цели сохранения мирных сношений с Персиею, то, по крайней мере, с возведением крепости в Ахкале и с укреплением военной позиции в Ордубаде и с депо войска в Баку — война с сею державою не застанет нас врасплох, как это было в 1811 и 1826 годах.
Наконец, усилением морских сил наших в Каспийском море и построением крепости в Туркмении мы в настоящее время достигнем того, что Англия будет вынуждена удержать в Индии все войска свои, из опасения движения нашего в Афганистан и далее, и что за сим мы с положительностью избегнем опасности и сраму в том, что английский флаг не будет развеваться ни на воде в Каспийском море, ни на суше на юго-восточном побережье сего же моря, в странах, долженствующих быть подчиненными лишь влиянию одной России;
— в будущее же время эти же меры дадут нам средства и способы, с одной стороны, к развитию торговой нашей деятельности с Азиею, а с другой стороны установят политическое первенство наше по делам Центральной Азии и послужат страшилищем Англии, постоянному врагу нашему на Востоке.
Опасность, которая неминуемо грозит Индейскому царству англичан от одного укрепления нашего в Туркмении, не только чувствуется, но и высказана ими в официальных речах и сочинениях.
За сим излишне, кажется, представлять еще другие доказательства важности предполагаемых мер и о полезности от оных последствий.
Итак:
— для удержания за собою Закавказского края,
— для восстановления и удержания впредь за собою политического влияния на Центральную Азию,
— и наконец, для противуборства Англии на востоке, необходимо:
1) Устранение препятствий: физических от природы и нравственных от людей — в отношении свободного и удобного плавания по Каспийскому морю.
2) Устройство флотилии и транспортов пароходных для военной и коммерческой цели.
3) Перестройка Бакинской крепости, обратить оную в главное военно-складочное депо для значительнейшей части Закавказского края.
4) Возведение крепости в Ахкале.
5) Усиление военной позиции на границах Персии, в Ордубаде и Карабахе.
6) Проложение и разработка военных дорог.
7) Объявление и исполнение мер строгости в случае перехода закавказцев к неприятелям.
8) Подкрепление военных сил на Кавказе для занятия и удержания позиции близ Ордубада, в Ахкале и Баку пехотою и артиллериею из войск Оренбургского и других корпусов.
и 9) Разумная раздача денежных пособий в Персии, Туркмении и в других странах Центральной Азии.
Исполнение предложенных мер удержит за нами Каспийское море, спасет Кавказ, но единственно под условием, чтобы исполнение это совершилось немедленно.
Страшно и грустно выразить мысль об утрате Кавказа, но твердо убеждение наше в том, что если до лета будущего 1856 года не будут исполнены предложенные меры осторожности и противуборства, то в то же лето мы увидим союзные войска в Тифлисе и английский гарнизон в крепостях на южном и юго-восточном прибрежье Каспийского моря.
Если мы коснулись настоящего вопроса, то потому, что видим во владении Каспийским морем предмет государственной важности, а по предмету удержания за нами Кавказа — мы увлеклись тем чувством привязанности и любви к краю, который невольным образом разделяют все те, кои побывали в нем и переносили трудности и опасности Кавказской войны.
Ноябрь 1855
Как видим, в «Записке» представлены не только острая тревога, не только вполне оправданное с военно-стратегической точки зрения ожидание вторжения англо-турецких войск в Закавказье и массовое восстание в его поддержку, но и решительные соображения о характере превентивных действий. А действия эти, по убеждению Торнау, имеют своей целью не просто удержание завоеванного частично Кавказа и включенного в империю Закавказья, но и перспективу продвижения в глубь Азии, «нравственное влияние на Афганистан и на разноплеменные царства в Туркестане», что, собственно, должно заложить основы влияния уже не просто нравственного, а собственно военного.
Смысл «Записки» — Азия не должна быть отдана Европе. А в случае потери Кавказа и Закавказья это неизбежно произойдет, и Россия будет отброшена на два столетия назад…
План, предложенный Торнау, в то время не был выполнен по двум причинам: во-первых, у истощенной России не было для этого ресурсов, а во-вторых, вскоре начались мирные переговоры между Россией и коалицией ее противников, и прямая угроза Кавказу и Закавказью отпала.
Но в последующие десятилетия империя пошла именно этим путем, пытаясь продвинуться вплотную к северным границам Индии, ведя борьбу с Европой в Азии, опираясь на покоренный Кавказ.
ВОЙНЫ, ОФИЦЕРЫ, ИСТОРИЯ[215]
Задача данного предисловия менее всего литературная. Слабые и сильные стороны повествования Вячеслава Миронова оставим критикам.
Мне важно понять, что произошло с русским боевым офицером, с русской армией на исходе XX века — на фоне трехсотлетней военной истории России.
С петровских времен армия играла в политической, экономической, социально-психологической жизни нашей страны такую значительную роль, что без понимания ее судеб, особенностей ее сознания, ее представлений невозможно понять судьбу страны и народа.
Можно сколько угодно говорить о пагубности милитаризации русской жизни — и это чистая правда! — но бессмысленно игнорировать реальное положение вещей: еще долго проблема военного человека будет одной из ключевых проблем нашего общественного сознания.
Афганская и чеченская войны сделали эту проблему особенно острой.
Для того чтобы понять происходящее в этой сфере, нужен материал, которому можно доверять. И это, прежде всего, свидетельства участников событий.
Исповедь капитана Миронова — из этого пласта материала.
Я не случайно употребил слово «исповедь». Это не просто воспоминания о пережитом и увиденном. Это явная попытка извергнуть из своего сознания, из своей памяти то самое страшное, порой — отвратительное, непереносимо жестокое, что не дает человеку жить нормальной человеческой жизнью. Ведь «жанр» исповеди в его изначальном, церковном варианте — необходимость очиститься от худшего, греховного, что происходило с исповедующимся. Исповедующийся искренне — всегда жесток к себе. Есть серьезные подозрения, что Жан-Жак Руссо в своей знаменитой «Исповеди» приписал себе постыдные поступки, которых не совершал, чтобы его исповедь стала образцом жанра саморазоблачения человека вообще, а не только конкретного Жан-Жака.
Книга капитана Миронова — страшная книга. Ужас античеловечности сгущен в ней до предела. И не важно, происходило ли все это с самим автором или он вбил в свой сюжет и опыт других. В любом случае — это безжалостная к себе и миру исповедь русского офицера эпохи российско-чеченской трагедии.
Словосочетание «капитан Миронов» неизбежно будит литературную ассоциацию (не знаю, рассчитывал ли на это автор) — «Капитанская дочка», комендант Белогорской крепости капитан Миронов, честный служака, беспредельно верный присяге. Но к этому капитану мы еще вернемся.
Повествование Вячеслава Миронова — в некотором роде энциклопедия не только чеченской войны, но и боевых ситуаций, и персонажей вообще. Тут и прорыв небольшой группы сквозь контролируемую противником территорию, и бой в окружении, и бессмысленно кровопролитные, преступно неподготовленные атаки, и вороватый интендант, и хлыщ из Генштаба, и захваченный в плен предатель-перебежчик, и боевое братство…
И все это приобретает фантастический колорит, когда осознаешь, что действие разворачивается в пределах одного города — Грозного — превратившегося в какое-то подобие «зоны» из «Пикника на обочине» Стругацких, пространства, вчера еще мирного, жилого, заполненного обычными домами, предметами, но в котором сегодня может произойти все что угодно…
Стараясь писать «правду и только правду», Миронов, тем не менее, не может избежать боевого молодечества, жутковатой романтизации происходящего. Но это только придает психологической достоверности. Очевидно, это неизбежный элемент ретроспективного самовосприятия сражающихся людей. Без этого память о кровавом кошмаре была бы невыносимой.
Прекрасно знающий страшную суть войны, тонкий и интеллектуально мощный Лермонтов, автор горького и мудрого «Валерика», в письме с Кавказа к московскому приятелю писал: «У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2 000 пехоты, а их до 6 тысяч, и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте, — кажется хорошо! — вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью… Я вошел во вкус войны…»
Если сопоставить повествование капитана Миронова с воспоминаниями участников Кавказской войны XIX века, то открывается множество ситуационных совпадений. Причем совпадений принципиальных.
Вот картина самосуда солдат над снайпером, перебежчиком из российской армии к чеченцам, описанная Мироновым: «Метрах в тридцати от входа в подвал стояли плотной стеной бойцы и что-то громко обсуждали. Я обратил внимание, что ствол пушки танка как-то неестественно задран вверх. Подойдя ближе, мы увидели, что со ствола свисает натянутая веревка. Бойцы, завидев нас, расступились. Картина открылась страшная — на конце этой веревки висел человек, лицо его было распухшим от побоев, глаза полуоткрыты, язык вывалился, руки связаны за спиной».
А вот что записал в дневнике в августе 1859 года русский офицер, участник пленения Шамиля, после штурма аула Гуниб: «По дороге ниже первого завала валялось много убитых мюридов. Они остались на тех местах, где происходили схватки их с ширванцами (солдатами Ширванского полка. — Я. Г.). Один из трупов, разутый, с потрескавшейся кожей, был обожжен. Это беглый солдат, вероятно артиллерист, который стрелял по ширванцам, когда те шли в гору; найдя его при орудии, ширванцы избили его прикладами до полусмерти, зажгли на нем платье, и он обгорел совершенно. Несчастный получил награду по заслугам!»
Разница только в том, что в 1995 году самосуд надо было оправдать, и в официальном документе повешенный снайпер «умер от разрыва сердца, не вынеся мук совести», а сожженный в августе 1859 года артиллерист абсолютно никого не интересовал — расправа на месте с перебежчиками была законным делом.
Миронов описывает как характерную ситуацию ужасающий по кровавой бессмысленности штурм знаменитой площади Минутка в Грозном, спланированный упрямым и безжалостным командованием.
Но подобные же ситуации постоянно встречаются и в мемуарах офицеров той Кавказской войны. Будущий военный министр и реформатор русской армии Дмитрий Милютин, молодым офицером получивший боевое крещение на Кавказе, с бесстрастной жестокостью рассказал о штурме чеченского укрепления — Сурхаевой башни — отрядом генерала Граббе, одного из наиболее известных завоевателей Кавказа: «Горцы защищались с отчаянной отвагою. Кровопролитный бой длился несколько часов; одна рота сменяла другую. Больно было видеть, как бесплодно гибли люди в безнадежной борьбе, но генерал Граббе упорствовал в своем намерении взять башню приступом… К середине дня страшный бой временно притих, как будто от изнеможения обоих сторон. Егеря наши томились от зноя и жажды на голой скале. В 4 часа генерал Граббе приказал возобновить приступ свежими войсками. Двинуты были батальоны Кабардинского полка, знаменитого своей беззаветной храбростью и воинственным духом, но под впечатлением испытанных в течение целого утра неудач, кабардинские егеря шли неохотно на убой. Новая попытка приступа осталась столь же безуспешною, как и прежние. С наступлением темноты передовые части войск были отведены с облитого кровью утеса».
Можно множить и множить прямые параллели между нынешней чеченской войной и войной позапрошлого века. Можно приводить исторические примеры генеральского авантюризма и пренебрежения к солдатским жизням, примеры критического отношения боевых офицеров к действиям высшего командования. То есть всего того, о чем с такой страстью пишет наш современник капитан Миронов.
Но между психологическим климатом этих двух войн есть и принципиальные различия — и это главное.
Во-первых, это — бескомпромиссная ненависть к противнику. Никаких человеческих чувств по отношению к сражающимся боевикам Миронов и его товарищи не испытывают. Это — ВРАГ. И только.
Полтора века назад при всей ожесточенности противоборства психологическая атмосфера была иной. Полковник Константин Бенкендорф в воспоминаниях фиксирует парадоксальные, на нынешний взгляд, ситуации. Во время наступления на какую-то высоту русские солдаты услышали, что ее защитники горцы громко молятся, призывая Аллаха. «Солдаты же, прежде чем броситься в атаку, приостановились, и слышно было, как они говорили: “Нехорошо, Богу молятся!” Во время изнурительного похода, перед смертельной схваткой, русский солдат испытывает неловкость оттого, что приходится прервать молитву противника: “Нехорошо, Богу молятся!”…»
Тот же Бенкендорф рассказывает удивительный эпизод: «Однажды, в один базарный день, возникла ссора между чеченцами и апшеронцами (солдатами Апшеронского полка. — Я. Г.), куринцы (солдаты Куринского полка. — Я. Г.) не преминули принять в ней серьезное участие. Но кому они пришли на помощь? Конечно, — не апшеронцам! «Как нам не защищать чеченцев, — говорили куринские солдаты, — они наши братья, вот уже 20 лет как мы с ними деремся!»»
В ходе многолетней войны возникло парадоксальное чувство родства — «братства» — с противником. Ничего подобного мы не найдем в повествовании капитана Миронова. Там есть признание высоких боевых качеств противника, но ни о каком уважении, тем более о чувствах, которые испытывали к чеченцам куринцы, солдаты одного из самых героических кавказских полков, и речи нет.
Разумеется, боевики Дудаева и Басаева, сражающиеся за бесконтрольность территории, вчерашние советские генералы, офицеры, партийные и комсомольские работники, ставшие в одночасье воинами ислама, — это не горские рыцари, не представлявшие себе иной жизни, кроме той, которой они жили веками, жизни, основанной на высокой личной независимости.
Но принципиально изменилось и сознание русского офицера. Офицер XIX века мог критиковать пагубные распоряжения своих генералов, мог презирать кого-то из этих генералов, но того тотального неприятия к «высшим», которое демонстрирует капитан Миронов — и он в этом не одинок! — в то время и представить себе было нельзя.
Кавказский офицер мог саркастически относиться к конкретным приказам, идущим из Петербурга, где весьма туманно представляли себе кавказскую реальность. Но выполнение своего долга перед империей и императором было для него чем-то абсолютно непререкаемым. Да простится мне невольный каламбур — это был нравственный императив.
Участник той Кавказской войны — генерал ли, офицер ли, солдат ли — не задавался гамлетовским вопросом о смысле войны. Он был послан расширять пределы империи и отстаивать интересы этой империи. И этого было достаточно. Для кавказских «коренных» полков Кавказ был домом. Люди проводили там десятилетия, а иногда и всю жизнь. «Кавказцы», по утверждению одного из них, составляли «особую партию или союз, но это союз в лучшем смысле слова, союз уважаемый и благотворный, так как основанием его является глубокое знание края и любовь к нему все того же края». Разумеется, это точка зрения русского офицера, которую вряд ли бы разделили наибы Шамиля. Но как отличается она от позиции капитана Миронова и его товарищей.
Я пишу это вовсе не в укор автору «исповеди» и его соратникам. Они — жертвы нашей безжалостной истории. Они — солдаты, выполняющие страшной ценой свой долг, но потерявшие ориентиры, — в чем смысл их подвигов, их мучений, их жертвенности, их жестокости к противнику?
Комендант Белогорской крепости капитан Миронов два с лишним века назад бестрепетно пошел на казнь, но не изменил присяге, которая не подлежала ни анализу, ни сомнению, ни обсуждению. Это была данность. Не в том дело, хорошо это или плохо. Так было.
Сегодняшний капитан Миронов истерзан рефлексией. Он не верит никому кроме ближайших боевых товарищей. Эта мука дезориентированности, внутренней растерянности стократ увеличивает ожесточение, которое вымещается на противнике — как реальном, так и предполагаемом, им может оказаться и оказывается любой чеченец.
Является ли повествование абсолютным диагнозом происходящего? Не думаю. Положение значительно сложнее. Психологическая модель, предложенная автором, насколько я понимаю, не всеобъемлюща. Но «исповедь» капитана Миронова — безусловное свидетельство глубокого кризиса взаимоотношений в армии, кризиса представлений о задачах государства; свидетельство разрушения представлений о задачах государства, свидетельство разрушения психологической иерархии в армии. Это началось в Афганистане и достигло апогея в Чечне. При том, что для России с ее историей, которую невозможно отменить или зачеркнуть, армия и ее проблемы — существеннейший фактор общественного самосознания. Невозможно триста лет быть военной империей и за десятилетие обернуться государством с доминирующим гражданским обществом. Это процесс долгий и трудный.
Российско-чеченский кризис — одно из порождений этого мучительного процесса. И здесь не может быть вины одной стороны.
Яростное, горькое, жестокое — иногда отталкивающе жестокое — повествование капитана Миронова есть симптом тупиковости того положения, в котором оказались Россия и Чечня. Слишком многое происшедшее за эти годы вопиет к отмщению.
Кто ответит за гибель Майкопской бригады, с душераздирающими подробностями описанную Мироновым? Кто ответит за всю бездарность и безответственность начального этапа первой чеченской войны? Дело не в судебных приговорах. Дело в беспристрастном анализе происшедшего.
Кто ответит за насилие над мирным населением, увы, реально происходившее и происходящее?
Но кто ответит и за безумную авантюру вооруженной чеченской элиты, спровоцировавшей войну, приведшей свой несчастный народ под бомбы и снаряды российской армии? Кто ответит за маниакальное упорство радикалов, готовых воевать до последнего чеченца на территории Чечни?
Здесь нет надобности и возможности анализировать все аспекты происходящей трагедии. Но надо осознать ее глубину и понять, что выход из кровавого тупика в возвращении к фундаментальным постулатам, ясным некогда многим русским офицерам. Главный из которых — признание друг друга ЛЮДЬМИ. И только в этом случае может сработать известная и проверенная технология замирения.
И главный урок, который несет в себе повествование Миронова, — безысходность расчеловеченности. И это относится далеко не только к чеченской войне.
2001
ПРИЛОЖЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ И СВИДЕТЕЛЕЙ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ XVIII в.
Богданов А. Жизнь Артемия (Богданова) Араратского… СПб., 1813 // 4.1, ч. 2. Набеги дагестанцев и иранцев в Армении, войны в Грузии и на Каспии.
Гудович Иван Вас. Записка о службе генерал-фельдмарш. графа И. В. Гудовича, им самим составленная.
РВ. 1841, т. I, № 3, с.607–681. Командование войсками на Кавказе 1791–1796, 1806–1808 — Персидская война.
Мосолов С. И. Записки отставного генерал-майора Сергея Ивановича Мосолова // РА. 1905, кн. 1, вып.1, с. 124–173 (поправки вып. 2, с. 375). Служба на Кавказе 1785–1789.
Пишчевич А. С. Жизнь Пишчевича, им самим описанная. 1764–1805. Отдельн. отт. М., 1885.
ЧОИДР, 1885, кн. 1, отд. 1, с.1—V, 1–112 (паг. 2); кн.2, отд. 1, с. 113–273 (паг. 2). Война на Кавказе 1784–1792.
Путешественники об Азербайджане. Т. 1. Баку, 1961. 1466–1796. Экономическое, политическое и военное состояние кавк. княжеств и царств.
Текели С. [Автобиография. Пересказ и извлеч.] // РА, 1878, кн. 3, вып. 12, с.83–506 (в ст. Н. А. Попова «Савва Текели в России (1787–1788)»). Пер. по изд.: «Летопис Матице сриске», 1877, кн. 119. … Пребывание на… Сев. Кавказе у дяди П. А. Текели, генерала русской армии, …военный быт…
Штрандман Г. Э. фон. Записки // РС. 1882, т. 34, № 5, с. 289–318; 1884, т. 43, № 7, с. 55–86; № 8, с. 271–288. Публ. не закончена. Перевод с немецкой рукописи.
1800-е гг.
Броневский С. Б. Отрывки из записок. (Кавказ — 1803–1808) // ИВ. 1889, т. 38, № 12, с. 500–512.
Жемчужников В. М. Записки. (Кавказ 1809. Борьба с чеченцами) // ВЕ. 1899, т. 1, № 2, с. 634–664.
Берже А. Присоединение Грузии к России. 1799–1831. РС. 1870. т. ХХVIII.
Тучков С. А. Записки. (Кавказ 1801–1805, Цицианов). СПб., 1908. 287 с. Есть др. изд.
1810-е гг.
Воспоминания об Алексее Петровиче Ермолове // Нива, 1870, № 31, с. 489–491. В конце текста: Т. Р. 1818–1819.
Ермолов А. П. Записки // ЧОИДР, 1864, № 3, отд. 2, с. 1–113; № 4, с. 115–282; 1866, № 2, отд.2, с.1 —120; № 3, с. 121–192. Документы и письма: Там же, 1865, № 3, отд. 2, с. 1–184; № 4, с. 185–386; 1867, № 3, от. 2, с. 1–247; № 4, с. 249–358; 1868, № 1, отд. 2, с. 359–434. То же (с сокр.). Отд. отт. М., 1865–1868. Есть др. публ. (в отрыв.). 1816–1827.
Мертваго Д. Б. Записки. М., 1867 (Прил. к РА за 1867 г. (вып. 8–9)). Есть др. публ. (отрывки) // …Краткие сведения об участии в сенаторской ревизии… Кавказской губ. (1818). Встреча с А. П. Ермоловым.
Муравьев-Карский Н. Н. Записки // РА, 1877, кн. 1, № 3, с. 315–351 (под загл.: Первое взятие русскими войсками г. Карса, июнь 1828 г.); 1885, кн. 3, № 9, с. 5–84; № 10, с. 225–262; № 11, с. 337–408; № 12, с. 451–497; 1886, кн. 1, № 1, с. 5–54; № 2, с. 69–146; № 4, с. 445–524; кн. 2, № 5, с. 5–32; кн. 3, № 11, с. 289–340; № 12, с. 430–496; 1887, кн. 3, № 9, с. 5–42; № 10, с. 145–176; № 11, с. 393–416; 1888, кн. 1, № 1, с. 71–92; № 2, с. 235–258; № 3, с. 393–432; кн. 2, № 5, с. 97–122; № 7, с. 313–352; кн. 3, № 9, с. 5–48; № 10, с. 193–224, 247–248; № 11, с. 385–433; 1889, кн. 1, № 2, с. 177–208; № 4, с. 571–604; кн. 2, № 8, с. 536–561; кн. 3. № 9, с. 60–97; № 11, с. 273–316; 1891, кн. 3, № 9, с. 5–82; № 10, с. 177–228; 1893, кн. 3, № 11, с. 317–364; № 12, с. 401–478; 1894, кн. 1, № 1, с. 5–54; № 3, с. 378–416; № 4, с. 501–527; кн. 2, № 7, с. 349–413; № 8, с. 449–536; кн. 3, № 9, с. 31–50; № 10, с. 145–206; № 11, с. 343–432; № 12, с. 465–538; 1895, кн. 1, № 1, с. 23–36; № 2, с. 177–212; № 3, с. 313–356; № 4, с. 417–437. Есть др. публ. (в отрывках). 1810–1830-е, 1848, 1855 (?) гг.
Рошешуар Л. -В. -Л. де. Мемуары графа де Рошешуара, адъютанта императора Александра I (Революция, Империя и Реставрация). Пер. с фр. М., 1914 (Ист. б-ка «Сфинкса». Т. 13. Вып. 2) // Пер. по изд.: Rochechouart L. De Souvenirs sur la Revolution, L’Empire et la Restauration. Paris, 1889. <О России: нач. XIX в. — 1814> нач. 1810-х гг. [1812 г.?] …Походы в Черкесию. …Гл. III: …Занятие Акоспы. Поход в Черкесию (1806–07 гг.).
Сбитнев Н. М. Воспоминание о Черногории // «Укр. журн.», 1825, ч. б, № 11/12, с. 310–340. 1818–1820. …Приводится текст письма автора о стычке русского отряда с горцами.
Цебриков Н. Р. Ермолов // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 1. М., 1931, с. 263–265. 1812–1827. Рассказы о А. П. Ермолове со слов очевидцев.
Цылов Н. И. Дневник // Щукинский сб. Вып. 5. М., 1906, с. 367–442; вып. 6. М., 1907, с. 40–202 (здесь и далее под загл.: Описание жизни); вып. 1. М., 1907, с. 1–76. Др. публ. (с сокращ.) …служба в Георгиевске (1817–1820). …Поход в Дагестан во главе с А. П. Ермоловым. Амулат-Бек. …
1820-е гг.
Андреев В. Воспоминания из кавказской старины. 1826–1834. КСб. 1876, т. 1, с. 1–121.
Бартенев П. И. Из старых записей издателя «Русского архива». О Кюхельбекере // РА, 1910, кн. 2, № 5, с. 46–48. …Его военная служба на Кавказе у Ермолова…
Бестужев П. А. Памятные записки. 1828 и 1829 годы // Воспоминания Бестужевых. М. —Л., 1951, с. 343–383. Есть др. публ. …Декабристы на Кавказе… А. С. Грибоедов.
Бриммер Э. В. Служба артиллерийского офицера. (Кавказ — 1820–40-е гг.). Отд. изд. — «Записки генерала от артиллерии Эдуарда Владимировича Бриммера». Вып. 1–6. Тифлис. 1894–1898 // КСб. 1894, т. 15, с. 52–260; 1895, т. 16, с. 1–234; 1896, т. 17, с. 1–174; 1897, т. 18, с. 1–131. Прил. — докум., письма — 1898, т. 19, с. 371–463. 1899, т. 20, с. 464–539. Частично на фр. яз.
Граф Дибич на Кавказе в 1827 г. // ДНР. 180, т. 18, № 9, с. 174–180.
Давыдов Д. В. Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича Давыдова (Примеч. авт.). // Давыдов Д. В. Сочинения.
Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы. М., 1987. с. 70–79. Примеч. сост.: с. 629–630. Есть др. изд. Служба на Кавказе в 1826–1827 гг.
Дневник Ф. Ф. Бартоломея // РС, 1904, май.
Дубецкий И. П. Записки // РС. 1895, т. 83, № 4, с. 113–144; № 5, с. 87–100; № 6, с. 107–141. 1820–1828. Экспедиция в Абхазию (1821 и 1824). Подавление восстаний в Имеретии (1820) и Чечне (1825).
Знакомство с князем Мадатовым. (Из воспоминания армейского офицера) // ЖЧВВУЗ, 1839, т. 17, № 66, с. 182–185. 1828 г.
Измаил Алиев, князь мангатовских нагайцев. (Отрывок письма из Прочно-Окопской крепости) // МТ, 1829, ч. 27, № 12, с. 431–448. 1827–1829. …Гибель в стычке с горцами…
История бедствий одной семьи. Из воспоминаний старого кавказца // НВ, 1903, т. 94, № 12, с. 865–884. В конце текста: Авф. 20-е гг. …Поездка на Кавказ… Беседа с А. П. Ермоловым.
Красовский А. И. Дневник генерала Красовского 1826–1828 гг. (Из рукописей Воен. учен. ком. Гл. штаба). // КСб, 1901, т. 22, с. 1–68 (паг. 2-я). Прил.: (Официальные документы и письма), с. 37–68. 1826–1827. Служба на Кавказе… В основном — русско-иранская война.
Лачинов Е. Е. Записки декабриста Е. Лачинова об Армении // Нерсисян М. Г. Из истории русско-армянских отношений. Кн. 1. Ереван, 1956, с. 312–396. 1827–1828. Дневниковые записи. Служба на Кавказе. …
Мадатова С. А. Князь Мадатов, генерал-лейтенант // РС, 1873, т. 7, № 1, с. 85–94, 1826–1829. Отчасти по рассказам сослуживцев.
Муравьев-Карский Н. Н. — см. 1810-е гг.
Новицкий Г. В. Воспоминания воспитанника 1-го выпуска из Адмиралтейского училища // ВС, 1871, т. 77, № 2, с. 287–308. 20-е гг. …Отд. эпизоды Кавк. в-н. Сбор сведений о горцах.
Пущин М. И. Записки // РА, 1908, кн. 3, № 11, с. 410–464; № 12, с. 507–576. Есть др. публ. 1827–1831. …Солдатская служба на Кавказе…
Симонич И. О. Персидская война. Кампания 1826 г. Из записок графа Симонича. (Пер. с фр.). // КСб, 1901, т. 22, с. 1–44 (паг. 3-я). …Генерал А. П. Ермолов и его политика на Кавказе. …
Славской. Воспоминания и рассказы старого кавказского воина. (Ермоловский период) // ЖЧВВУЗ. 1849, т. 77, № 305, с. 5–40; № 306, с. 111–142; № 307, с. 225–260.
1830-е гг.
Атарщиков Г. Заметки старого кавказца о боевой и административной деятельности на К. ген. — лейт. барона Григория Христофоровича Засса. (Сырой материал для истории покорения Кавказа) // ВС. 1870, т. 74, № 8, с. 309–333.
Бакланов Я. П. Моя боевая жизнь. (Записки Войска Донского ген. — лейт. Я. П. Бакланова [1809–1873], написанные его собственною рукою) // РС, 1871, т. 3, № 1, с. 1–14; т. 4, № 8, с. 154–161. Примеч.: с. 14–15. Есть др. публ. …Служба на Северном Кавказе (1837–1845). …
Бельгард В. А. Автобиографические воспоминания. СПб., 1899. 50 с. Есть др. публ. 1835–1845 — служба на Кавказе.
Беляев А. П. Воспоминания о пережитом и перечувствованном с 1803 года // РС, 1880, т. 29, № 9, с. 1–42; № 12, с. 823–850; 1881, т. 30, № 1, с. 1–26; № 3, с. 487–518; № 4, с. 799–838; т. 31, № 7, с. 327–370; т. 32, № 9, с. 1–46; № 10, с. 251–286; № 12, с. 551–568; 1886, т. 49, № 2, с. 377–398; т. 52, № 11, с. 285–310. То же [С сокр.]. СПб., 1882. 1839 [1840]—1846. … Кавказские экспедиции 1840-х гг.
Берже А. П. Н. П. Колюбакин // РС, 1876, т. 17. № 10, с. 317–320. …Военная служба на Кавказе (1830-е — 1840-е гг.)
Воспоминания о К. 1837 года // БЧ. 1847, т. 80, с. 51–74; т. 81, с. 1–22, везде: паг. 3. Есть др. публ.
Воспоминания о службе на К. Отрывок из записок офицера, служившего под началом Ермолова. (1820–30 гг.) // «Москвитянин». 1851, ч. 1, кн. 4, № 4, с. 494–507.
Гангеблов А. С. Воспоминания декабриста Александра Семеновича Гангеблова. М., 1888. Доп.: РА, 1906, кн. 3, № 12, с. 596–599 (под загл.: Неизданное место из записок А. С. Гангеблова). Есть и др. публ. (в отрывках). 1820-е — 1830-е гг. …Участие в Кавказских экспедициях.
Головин Е. А. Очерк положения военных дел на Кавказе с начала 1838 года по конец 1842 года. Рига, 1847 («Жизнь Е. А Головина». Девятнадцатый век. 4.1, с. 1–60. Действия Головина в качестве командующего Кавказским корпусом). Есть др. публикации.
Граббе П. X. Записная книжка. М., 1888. (Текст на р. и фр. яз.). Есть др. публ. …Командование войсками на Кавказе (1837–39).
Дзюбенко В. А. Воспоминания. Полувековая служба за Кавказом. 1829–1876 гг. // РС. 1879, т. 25, № 8, с. 637–670; т. 26, № 9, с. 43–58.
Заблоцкий П. Путевые записки из Астрахани через Кизляр в Баку в 1835 и 1836 годах // ЖМВД, 1838, ч. 29, № 7, с. 1–64.
Ильин П. Еще восп. о Н. П. Слепцове. (1820–40 гг.) // ЖЧВВУЗ. 1853, т. 100, № 399, с. 334–337. … Отдельные эпизоды из истории Кавказских войн.
Исарлов Л. С. Из воспоминаний бывшего грузинского губернатора князя Н. О. Палавандова // КВ, 1900, № 4, с. 1–14 (паг. 2-я). 30-е — 40-е гг. …М. С. Воронцов.
Капнист-Скалон С. В. Воспоминания // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Т. 1. М., 1931, с. 287–428. Примеч.: с. 399–428. Есть др. публ. …служба Н. И. Лорера рядовым на Кавказе…
Колюбакина А. А. Воспоминания. (О Н. П. Колюбакине) // НВ, 1894, т. 58, № 11, с. 379–407; № 12, с. 694–721.
Костенецкий Я. И. Воспоминания из моей студенческой жизни // РА, 1887, кн. 1, № 1, с. 99–117; № 2, с. 229–242; № 3, с. 321–349; кн. 2, № 5, с. 73–81; № 6, с. 217–242. Есть др. публ. …Служба на Кавказе. 1833–1842.
Костенецкий Я. И. Записки об Аварской экспедиции на К. 1837 г. СПб., 1851. 122 с. Или: «Современник», 1850, т. 23, № 10; т. 24. № 11–12. Есть др. публ.
Лачинов Е. Е. Отрывок из «Исповеди». (1828–1832) // КСб. 1876, т. 1, с. 123–196; 1877, т. 2, с. 75–115. … Служба в Отдельном Кавказском корпусе. Экспедиция генералов Г. В. Розена и А. А. Вельяминова против горцев Дагестана (1832).
Лорер И. И. Записки декабриста. М., 1931 (Есть уже новое издание: Иркутск, 1984). Есть др. публ. 1837–1842. …Участие в кавказских экспедициях.
Львова Е. Н. Рассказы, заметки, анекдоты из записок // РС, 1880, т. 27, № 3, с. 635–650; т. 28, № 6, с. 337–356; № 8, с. 794–801; № 9, с. 200–206. Есть др. публ. (в отрывках). …Посещение Николаем I Кавказа (1837)…
Мамауев К. X. Новые материалы об участии М. Ю. Лермонтова в войне на Кавказе в 1840 году. (По воспоминаниям К. X. Мамауева) // Труды Ленингр. библ. ин-та им. Н. К. Крупской, 1957, т. 2, с. 239–249. Есть др. публ. (в отрывках). …Описание боя при Валерике.
Мартынов Н. С. Экспедиция действующего Кавказского отряда за Кубанью в 1837 году под начальством генерал-лейтенанта Вельяминова // ИТамбУАК. 1904. Вып. 47, т. 1. С. 153–157 (прил. 7).
Мельников А. Нападение горцев на ст. Темнолесскую Куб. обл. в 1835 г. (Из рассказов очевидца) // ТСтУАК, 1911, вып. 1, с. 1–5 (паг. отд.).
Милютин Д. А. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. Т. 1. Кн. 1–3. Томск: Воен. акад., 1919. …Годичная командировка на Кавказ [1839]…
Мирославский И. Взрыв Михайловского укрепления в 1840 году. (Рассказ одного из бывших в плену участников дела) // КСб, 1879, т. 4, с. 1 —17.
Огарев Н. П. Кавказские воды. (Отрывок из моей исповеди) // Огарев Н. П. Избр. произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1956, с. 375–391. Примеч.: с. 521–523. Указ. имен: с. 529–536. Есть др. публ. 1838. Поездка на Кавказ… А. И. Одоевский.
Орбелиани И. Д. Восемь месяцев из моей жизни: Рассказ офицера, бывшего в плену у Шамиля в 1842 г., с 22 марта: Показания прапорщика князя Орбелиани, находящегося в 1842 г. в плену у Шамиля / Публ. Г. Гавашели // ЛГ. 1969. № 9/10, с. 173–183. — В ст.: Шарадзе Г. Неизвестные записи Ильи Орбелиани о Шамиле. 1832–1842 гг.
Пауль Н. Кавказские картины. (1833) // «Телескоп», 1833, ч. 16, № 15, с. 321–354; № 16, с. 511–528. Военные действия против горцев. Экспедиция в Нахчимах. Быт и нравы горцев.
Последние минуты Марлинского. Сообщ. Л. К-ъ // Иллюстрация, 1848, т. 6, № 24, с. 376–378. (Автор служил вместе с А. А. Бестужевым на Кавказе.) 1837. Описание боя за Адлер.
Прозор Э. Воспоминание о кавказских водах // Опыты в русской словесности воспитанников гимназии Белорусского учебного округа. Вильна, 1839, с. 436–447. 1835–1838. …Набеги черкесов.
Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста в Азии с 1829 по 1831 год // ВЖ, 1857, кн. 1, с. 1–93; кн. 2, с. 94–164; кн. 3, с. 75–160; кн. 4, с. 154–204; кн. 5, с. 153–203; кн. 6, с. 136–175. Есть др. публ. (в отрывках). …Служба на Кавказе… Национально-освободительное движение…
Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907. (Есть уже новое издание: Иркутск, 1984.) Есть др. публ. 1837–39.
Розен А. Е. Князь А. И. Одоевский. Краткий биогр. очерк // Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907, с. 447–448. Есть др. публ.
Рукевич А. Ф. Из воспоминаний старого эриванца. (1832–39) // ИВ. 1914, т. 137, № 8, с. 414–428; № 9, с. 789–810; т. 138, № 10, с. 39–52; № 11, с. 400–415; № 12, с. 766–791. …Война с горцами… Бои на Черноморском побережье Кавказа.
Рябов С. Рассказ бывшего унтер-офицера Апшеронского полка Самойлы Рябова о своей боевой службе на К. // КСб. 1897, т. 18, с. 352–381 (1833–1840-е). …В т. ч. пребывание в плену у горцев.
Самсонов Г. П. Из частных записок старослуживого. М., 1895. 32 с. Продолж. // ИВ. 1901, т. 86, № 12, с. 923–938. (Под загл.: Воспоминания). Есть др. публ. …Служба на Кавказе… Экспедиция против горцев…
Сатин Н. М. Из воспоминаний // Почин. М., 1895, с. 232–250. Есть др. публ. 1837–38. …Декабристы на Кавказе.
Семевский М. И. Барон Андрей Евгеньевич Розен. 1799 [1800]—1884. [Некролог.] // РС, 1884, т. 42, № 4, с. 657–658.
Соболев М. Письма о войне с закубанцами. (1830). «Моск. телеграф», 1831, ч. 37, № 3, с. 400–410; № 4, с. 549–564.
Страмилов Д. Из записок убитого офицера. 1831–38. ВС. 1860, т. 12, № 4, с. 463–482. (1838). …В т. ч. А. А. Бестужев на Кавказе…
Толстой В. С. Воспоминания. — В кн.: Декабристы. Новые материалы. М., 1955, с. 5–136. 1830-е гг. [1829–1843?] …Декабристы на Кавказе.
Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. 1835–1838. М., 1865. 4.1, 2. (4.1 — 116 с.; 4.2 — 173 с.). Рец.: Воен. сб. 1865. № 11. (Сын Отеч. 1865. № 81).
Торнау Ф. Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии. (1831–1832) // РВ. 1869, т. 79, № 1, с. 5–36; № 2, с. 401–443; т. 80, № 3, с. 102–155; № 4, с. 658–707. Рец.: Воен. сб., 1870. № 1.
Торнау Ф. Ф. Гергебиль. (1843) // РА. 1881, кн. 2, № 3/4, с. 425–470.
Торнау Ф. Ф. Из воспоминаний бывшего кавказца. (1844). «Нева», 1910, № 17. Есть др. публ. Экспедиции генерала Р. К. Фрейтага против горцев.
Федоров М. Ф. Походные записки на К. С 1835 по 1842 г. // КСб. 1879, т. 3, с. 1–250; прил. с. 220–250.
Филипсон Г. И. Воспоминания. (Кавказ 1837–1844) // РА. 1883, кн. 3, № 5, с. 73–200; № 6, с. 241–356; 1884, кн. 1, № 1, с. 199–222; № 2, с. 331–390; кн. 2, № 3, с. 99–120. …Участие в экспедициях против горцев.
Ховен И. Р. фон-дер. Мое знакомство с декабристами и другими замечательными личностями, служившими рядовыми в кавказских войсках в 1835–36 годах. (Рассказ очевидца) // ДНР, 1877, т. 1, № 2, с. 221–224. (Есть отклик на этот текст Д. И. Завалишина — см. № 1178 у Зайончк.)
Шумков А. О. Корнилович — издатель исторического сборника «Русская старина» в 1824 и 1825 г. // РС, 1878, т. 23, № 10, с. 319–320. Его служба в Шуванском пехотном полку (1832–1834).
1840-е гг.
Атаров М. Ш. Рассказ моздокского гражданина 3-й гильдии купца Миная, Шаева сына Атарова о поездке своей в Даргы-Веденно, местопребывание Шамиля // Вердеровский Е. А. Кавказские пленницы, или Плен у Шамиля. 2-е изд., испр. М., 1857, с. 443–455. То же // Вердеровский Е. А. Плен у Шамиля. СПб., 1856. с. 42–49 (паг. 4-я). Май 1848 г.
Ахшарумов Д. Д. Из моих воспоминаний (1849–1851). СПб., 1905. Доп.: Совр. М., 1908, № 4, с. 138–181; № 5, с. 195–208. Есть др. публ. (в отрывках). …Борьба с горцами. Переход к русским Хаджи-Мурата (по рассказам Н. П. Слепцова). Гибель генерала П. П. Слепцова и его похороны.
Бабанов. Описание блокады Низового укрепления в 1843 году// ЖЧВВУЗ, 1847, т. 68, № 270, с. 175–191.
Баумгартен А. К. Записки // ВСб. 1910, № 4, 5.
Беклемишев Н. П. Записки о Кавказе, писанные Н. Беклемишевым в Оренбурге в 1849 году // Щукинский сб. Вып. 2. М., 1903. с. 20–90. Прил. 67–90 (1845–1849). …М. С. Воронцов. …Боевые столкновения с горцами…
Бенкендорф К. К. Воспоминания Константина Константиновича Бенкендорфа о Кавказской летней экспедиции 1845 года. СПб., 1911, 123 с. Есть др. публ.
Бороздин К. А. Из рассказов старика-черкеса // Сборник «Нивы» 1892, № 4, с. 106–118. (1840-е гг.). …Набеги дагестанцев на казачьи поселения за Кубанью.
Воронцов М. С. Выписки из дневника светлейшего князя М. С. Воронцова с 1845 по 1854 г. СПб., 1902. 45 с.
Вранкен А. К. Дело при Гилли, 3-го июля 1844 г. (Пассек) // ЖЧВВУЗ, 1846, т. 59, № 235, с. 271–280.
Повтор: Гагарин П. Д. Воспоминания о фельдмаршале князе А. И. Барятинском. Со слов кн. Гагарина. Записано А. П. Мальшанским // РВ, 1888, т. 197, № 7, с. 126–142. 1847–1860.
Гейман В. А. 1845 год. Воспоминания В. А. Геймана // КСб, 1879, т. 3, с.251–375. …Даргинская экспедиция.
Горчаков Н. Экспедиция в Дарго (1845 г.). (Из дневника офицера Куринского полка) // КСб, 1877, т. 2, с. 117–141.
Горчаков Н. Вторжение Шамиля в Кабарду в 1846 г. Из записок офицера Куринского полка // КСб. 1879, т. 4, с. 19–37.
Дагестан 1841 года // Сборник газеты «Кавказ». Т. [1]. Тифлис, 1847, с. 72–81.
Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Т. 1–4. М., 1912–1913. Есть др. публ. …Управление Кавказом (40–50-е гг.). [Т. 1–2.] Т. 1 — 1813–1842. Т. 2 — 1842–1858.
Дельвиг Н. И. Воспоминание об экспедиции в Дарго // ВС, 1864, т. 38, № 7, отд. II, с. 189–230. 1845 г.
Доливо-Добровольский-Евдокимов В. Я. Из кавказской жизни. 1848 год в Дагестане // РВ, 1862, т. 40, № 7, с. 35–66. Есть др. публ.
Дондуков-Корсаков А. М. Мои воспоминания // СтН, 1902. № 5, с. 119–234; 1903, № 6, с. 41–215. Прил.: Приказы по ОТММпному Кавказскому и 5-му пех. корпусам, с. 208–215; 1904, № 7, с. 1–16. Есть др. публ. (отд. оттиски — 5). …Военная служба на Кавказе (1840-е — 1850-е гг.).
Европеус Н. Н. Николай Николаевич Муравьев // РС, 1874, т. 11, № 9, с. 181–184. 40-е гг.
Записки о князе М. С. Воронцове // Архив князя Воронцова. Кн. 40. М., 1895, с. 511–528. (Предполагаемый автор — врач князя Э. С. Андреевский). 1782–1856. Биографические сведения… (Воспоминания не закончены).
Зимняя экспедиция 1849 года в Малой Чечне и в Галашках // ИнЖ, 1870, № 7, с.793–819.
Зиссерман А. Л. Двадцать пять лет на Кавказе. (1842–1867). СПб., 1879. 4.1. 1842–1851; 4.2. 1851–1856. (ч. 1 — 424 с.; ч. 2 — 443 с.) // Продолж. РА. 1884, кн. 3, № 6, с. 413–434. 1885, кн. 1, № 1, с. 67–102; № 2, с. 273–298; кн. 4, с. 600–628; № 5, с. 127–148.
Зиссерман А. Л. Десять лет на Кавказе // «Современник», 1854, т. 47, № 9, с. 1– 42; № 10, с. 117–154; т. 48, № 11, с. 1–40 (везде паг. 5-я). Есть др. публ. 1842–1851. …Борьба с горцами.
Зиссерман А. Л. Из кавказских воспоминаний // РЛ, ЮТб, кн. 1, № 2, с. 311–313. 40–50-е гг. (О М. С. Воронцове).
Зиссерман А. Л. Из моих записок. 6-го июня 1845 года // Сборник газеты «Кавказ». Т. [1]. Тифлис, 1847, с. 306–311.
Зиссерман А. Л. По поводу полемики о князе Воронцове и Н. Н. Муравьеве как наместниках кавказских // РВ, 1874. 1 I М № 11, с. 77–101. 1845, 1854–1856.
Иеремия. Записки преосвященного Иеремии (Соловьева), архиепископа Нижегородского (1799–1884), за время бытности его епископом Кавказским и Черноморским в г. Ставрополе в 1846, 1847 и 1848 годах // Публ. предисл. и послесл. К. Евтропова // Томек Е. В. 1901. № 11, отд. неофиц. с. 6–17; № 12, отд. неофиц. с. 6–18.
Исаков Н. В. Из записок // РС, 1914, т. 157, № 1, с. 52–71 (под загл.: 1849. Назначение в состав чрезвычайного посольства ген. — адъютанта П. X. Граббе в Константинополь); 1917, т. 169, № 2, с. 161–193 (здесь и далее под загл.: Кавказские воспоминания. (Период войны с горцами 1846 и 1848 годов)); № 3, с. 321–336; т. 170, № 4/6, с. 46–62; т. 171, № 7/9, с. 1–22; т. 172, № 10/12, с. 13–32 // 1845–1849. …сведения об итогах экспедиции в Дарго (1845)… и др.
Каченовский В. М. Изгнание Шамиля из Даргинского общества в 1846 году // ЖЧВВУЗ, 1852, т. 100, № 397, с. 35–52.
Каченовский В. М. Любительский спектакль на аванпостах. (Из воспоминаний старого кавказца) // «Библиотека для чтения», 1892, № 6, с. 881–900. Ежемес. беспл. прил. к журн. «Царь-колокол». 1846 г.
Корф М. А. Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа // РС, 1899, т. 98, № 5, с. 371–395; № 6, с. 511–542; т. 99, № 7, с. 3–30; № 8, с. 271–295; № 9, с. 480–515; т. 100, № 10, с. 25–58; № 11, с. 267–299; № 12, с. 481–521; 1900, т. 101, № 1, с. 25–56; № 2, с. 317–354; № 3, с. 545–588; т. 102, № 4, с. 27–50; № 5, с. 261–292; № 6, с. 505–527; т. 103, № 7, с. 33–55; 1904, т. 117, № 1, с. 59–98 (здесь и далее под загл.: Из дневника); № 2, с. 275–302; т. 118, № 6, с. 545–568 // Реформа управления Кавказом и высшая администрация. П. В. Ган, М. П. Позен, Е. А. Головин, М. С. Воронцов. …
Левый фланг Кавказской линии в 1848 году // КСб, 1885, т. 9, с. 367–475; 1886, т. 10, с. 405–496; 1887, т. 11, с. 303–463. В конце текста: К. 1847–1848.
Николаи А. П. Из воспоминаний о моей жизни // РА, 1890, кн. 2, вып. 6, с. 249–278 (под загл.: Даргинский поход. 1845 г.); 1891, вып. 6, с. 133–153 (под загл.: Салтинский поход 1847 года).
Николаи Л. П. Кавказская старина. Выписки из дневника генерал-адъютанта барона Леонтия Павловича Николаи. Тифлис, 1872–1874, т. 1–2. Есть др. публ. (в отрывках). 1848–1857.
Новоселов С. К. Рассказ об осаде укрепления Ахты // ЖЧВВУЗ, 1851, т. 92, № 368, с.408–432. Сент. 1848 г.
Ольшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866. Записки // РС, 1893, т. 78, № 6, с. 573–611; т. 79, № 7, с. 89–124; № 8, с. 287–319; № 9, с. 563–589; 1894, т. 81, № 2, с. 51–79; № 6, с. 63–94; т. 82, № 7, с. 44–108; № 9, с. 22–43; № 11, с. 215–240; № 12, с. 155–197; 1895, т. 83, № 3, с.167–184; № 4, с. 179–189; № 6, с. 171–184; № 9, с. 105–117; № 10, с. 129–166. То же. Отд. отт. СПб., 1894. Есть др. публ. (в отрывках).
Орбелиани И. Д. Восемь месяцев из моей жизни… см. 1830-е гг.
Орбелиани И. Д. Отрывок из рассказа покойного генерал-майора князя И. Орбелиани о своем плене у Шамиля в 1842 году // Вердеровский Е. А. Кавказские пленницы, или Плен у Шамиля. 2-е изд., испр., М., 1857. с. 412–443. То же // Вердеровский Е. А. Плен у Шамиля. СПб., 1856. с.22–42 (паг. 4-я).
Полторацкий В. А. Воспоминания [Предисловия ред.] // ИВ, 1893, т. 51, № 1, с. 39–86; № 2, с. 367–410; № 3, с. 723–757; т. 52, № 4, с. 72–89; № 5, с. 355–372; № 6, с. 667–689; т. 53, № 7, с. 31–55; № 8, с. 301–322; № 9, с. 583–602; т. 54, № 10, с. 29–45; 1895, т. 59, № 1, с. 109–133; № 2, с. 412–441; № 3, с. 773–791; т. 60, № 4, с. 85–109; № 5, с. 414–444; № 6, с. 759–782; т. 61, № 7, с. 66–80 // 1846–1856, 1868–1874 гг.
Соллогуб В. А. Воспоминания. М. —Л., «Academia», 1931. Есть др. публ. …М. С. Воронцов на Кавказе. [1840-е — 50-е?]
Толстой В. С. Князь Михаил Семенович Воронцов // РА, 1877, кн. 3, № 11, с. 293–310. 40–50-е гг.
Фелькнер А. И. Дело флигель-адъютанта Копьева. Рассказ из времени управления Кавказом кн. М. С. Воронцова. 1845–1850 // РС, 1873, т. 7, № 4, с. 533–546. Доп.: РА, 1873, кн. 2, № 9.
Харитонов А. А. Из воспоминаний // РС, 1894, т. 81, № 1, с. 101–132; 1862, с. 96–130; № 3, с. 63–93; № 4, с. 124–156; № 5, с. 170–201. То же. Отд. отт. СПб., 1894. Есть др. публ. (в отрывках). 1816–1854. 40-е — 50-е гг.
Шварценберг Э. фон. О военных действиях на Кавказе в 1844 и 1845 г. (Из воспоминаний офицера) // Южный сборник в пользу пострадавших от неурожая, изданный Одесским обществом вспомоществования литераторам и ученым. Одесса, 1892, с. 101–110 (паг. 2-я).
Шиманский. Дело на Гоцатлянских высотах 21 сентября 1843 года. (Из походных записок) // ВС, 1869, т. 68, № 7, с. 5–9.
Шомпулев В. А. Из воспоминаний старого кавказца // «Разведчик», 1900, № 517, с. 820–822; № 518, с. 843–845; № 519, с. 868–870. Конец 1840-х — начало 1850-х гг. Крепость Воздвиженская. Сведения о набегах и экспедициях против горцев. Генерал Н. П. Слепцов.
Щербинин М. П. Воспоминания. Изд. 2-е. СПб., 1877. Есть др. публ. …Назначение М. С. Воронцова наместником Кавказа (1844) и отдельные эпизоды покорения края. Наместник Кавказа Н. Н. Муравьев (1854). …
Щербинин М. П. Князь М. С. Воронцов и Н. Н. Муравьев. Из служебных воспоминаний // РС, 1874, т. П, № 9, с. 99–114. То же. Отд. отт. СПб., 1874. 40–50-е гг.
1850-е гг.
Алексей Петрович Кульчаев. (В письмах, рассказах и воспоминаниях). …Состав войск на Кавказе к октябрю 1853 г. …А. И. Барятинский… КС. Т. 30, 1910, с. 1–88.
Аноев А. А. Воспоминания о боевой службе на Кавказе // ВС, 1877, т. 114, № 4, с. 398–412; т. 115, № 5, с. 188–204; № 6, с. 393–414 (везде паг. 1-я). Есть др. публ. (в отрывках). Авг. 1858 — сент. 1859.
Бакланов Я. П. Блокада и штурм Карса в 1855 г. (По неизд. запискам Я. П. Бакланова и рассказам прочих участников события) // РС, 1870, т. 2, № 12, с. 567–610. Есть др. публ // Состав русских войск на Кавказе к началу года. [1855]
Баратов Н. Н. Описание нашествия скопищ Шамиля на Кахетию в 1854 г. // КСб, 1876, т. 1, с. 237–267.
Берже А. П. Николай Николаевич Муравьев во время его наместничества на Кавказе. 1854–1856 // РС, 1873, т. 8, № 10, с. 599–618.
Бороздин К. А. Воспоминания о Н. Н. Муравьеве // ИВ, 1890, т. 39, № 1, с. 86–101; № 2, с. 307–323. 1853–1856.
Ботьянов М. И. Воспоминания севастопольца и кавказца и некоторые мысли по военным вопросам. Витебск, 1901 (перед загл.: М. Б.). Др. публ.: СПб., 1899; СПб., 1913. 1852–1878. … Служба на Кавказе в 1854–1878 гг.
Бугайский П. Я. Гуниб. (Воспоминания о покорении Восточного Кавказа и утверждении русского владычества в горах) // «Кругозор», 1877, № 24, с.374–376. 1859.
Взятие в плен Шамиля // ЖЧВВУЗ, 1860, т. 142, № 566, с. 177–187. 1859.
Воспоминание о былом // ВС, 1872, т. 83, № 2, с. 313–358. В конце текста: В-ский А. 1852–1853. Военная экспедиция от Ставрополя до крепости Грозной. Поход против горцев из Грозной…
Воспоминания о закавказском походе // ВС, 1860, т. 11, № 1, с. 135–272; <…> Есть др. публ. // …Обстановка на Кавказе к началу 1854 г. …
Воспоминания о зимней экспедиции Майкопского отряда // ВС, 1868, т.64, № 12, с.247–283. В конце текста: В. 1857 -58.
Воспоминания офицера Закавказской армии. Соч. И < > < (1Л 1857. (Автор — офицер Белевского пехотного полка). ОСИ кнмюМ на Кавказе в окт. 1853 г. …
Гольдман А. фон. Под Гунибом. (Воспоминания очевидца) // ВС, 1864, т. 35, № 1, с. 129–153. Авг. 1859.
Григорьев Д. П. Воспоминания о деле близ укрепления Архой // ВС, 1893, т. 209, № 2, с. 347–349. 1858 г.
Дзержинский В. С. Из Кавказской войны. По поводу 50-летия осады Мосельдельгерского укрепления Шамилем в 1853-м году // ВС, 1903, № 9, с. 50–68; № 10, с. 27–61.
Дондуков-Корсаков А. М. Воспоминание о кампании 1855 в Азиатской Турции // КСб, 1876, т. 1, с. 289–368. Есть др. публ. // Расположение войск на Кавказе летом 1855 г. …
Дроздов И. И. Записки кавказца // РА, 1896, кн. 3, № 10, с. 213–274. Назначение на Кавказ в резервную легкую батарею в ноябре 1854 г. …Н. Н. Муравьев.
Дюма А. Кавказ: Путешествие Александра Дюма / Пер. с фр. П. Роборовского. Тифлис, 1961. Вып. 1–2. 712 с. Нояб. 1858 — февр. 1859.
Зимняя экспедиция 1852 г. в Чечне. (Воспоминания очевидца) // КСб, 1889, т. 13, с. 425–616. В конце текста: К.
Из боевых воспоминаний. Рассказ куринца // КСб, 1879, т. 4, с. 51–67. В конце текста: Н. П. 1859.
Из дневника дагестанца // КСб, 1897, т. 18, с. 204–287. В конце текста: П. К. Июль — авг. 1859.
Из походных записок. Кавказ // ВС, 1866, т. 50, № 7, с. 127–144. 1852–1853.
Инсарский В. А. (директор Канцелярии Кавказского наместника). Записки // РС, 1894, т. 81, № 1, с. 3–61; № 2, с. 3–45; № 3, с. 3–38; № 4, с. 36–59; № 5, с. 3–28; № 6, с. 33–62; т. 82, № 11, с. 27–57; № 12, с. 29–52. (То же. Отд. отт. СПб., 1894); 1895, т. 83, № 1, с. 92–124; № 2, с. 53–91; № 3, с. 29–74; № 4, с. 3–42; № 6, с. З—38; т.84, № 7, с. З—56; № 8, с. 3–39; № 9, с. 3–40; 1897, т. 91, № 9, с. 561–591; т. 92, № 10, с. 159–187; № 11, с. 425–445; № 12, с. 631–648; 1898, т. 93, № 1, с. 193–214; № 2, с. 371–400; № 3, с. 607–634; 1904, т. 119, № 8, с. 241–266; № 9, с. 481–504; т. 120, № 10, с. 5–29; № 11, с. 249–299; № 12, с. 489–524; 1905, т. 121, № 1, с. 5–23; 1906, т. 125, № 1, с. 5–61; № 2, с. 233–271; № 3, с. 473–508; т. 126, № 4, с. 79–108; № 5, с. 341–377; 1907, т.129, № 1, с. 29–83; № 3, с. 487–527; т. 130, № 6, с. 509–551. Есть др. публ. (в отрывках) // …А. И. Барятинский и покорение Кавказа (с 1856)… Вел. кн. Михаил Николаевич как наместник Кавказа. [1860-е гг.]
Исарлов Л. С. Воспоминание о генерале Н. Н. Муравьеве, бывшем наместнике Кавказском // КВ, 1901, № 12, с. 74–111. 1854–1856.
Кишмишев А. Тифлис. Личные воспоминания (за время управления Кавказом кн. Воронцова). Тифлис, 1909. <1844–1854>. …Убийство Хаджи-Мурата. [1852] …
Корганов И. И. Воспоминания И. И. Корганова: (Письмо к Л. Н. Толстому) / Сообщ., предисл. и коммент. Л. Семенова // ЛН. 1939, т. 37/38, вып. 2. с. 637–641. — В ст.: Материалы к истории создания повести «Хаджи-Мурат», 1852 г.
Корганова А. А. Воспоминания А. А. Коргановой / Сообщ., предисл и коммент. Л. Семенова // ЛН. 1939, т. 37/38, вып. 2. с. 642–645. — В ст.: Материалы к истории создания повести «Хаджи-Мурат». 1852 г.
Корсаков А. С. Воспоминание о Карее // РВ, 1861, т. 34. № 8, с. 339–430. Есть др. публ. Сент. — ноябрь 1855. Подневные записи военных событий на Кавказе. Состояние войск к сентябрю…
Лихутин М. Д. Русские войска в Азиатской Турции в 1854 и 1855 годах. Из записок о военных действиях Эриванского отряда. СПб., 1863. Окт. 1853 — ноябрь 1855. …Состав русских войск на Кавказе. … [1854]
Муравьев А. Н. Николай Николаевич Муравьев. 1854–1856 // РС, 1874, т. 10, № 5, с. 139–151. (В конце текста: Любитель Кавказа и Закавказья).
Муравьев Н. Н. Из записок о войне 1855 г. в Малой Азии // РВ, 1862, т. 37, № 1, с. 310–341; т. 43, № 1, с. 397–402. Планы автора по ведению военных действий на Кавказе в 1855 г.
Никифоров Д. И. Воспоминания из времен императора Николая I. М., 1903. 63 с. …Начало Крымской войны и поход полка на Кавказ. …
Николаев П. С. Воспоминания об А. И. Барятинском // ИВ. 1885, т. 22, № 12, с. 618–644. 1856–1877.
Ностиц И. Г. [Портрет Шамиля] // Потто В. История 44-го драгунского Нижегородского его императорского величества государя наследника цесаревича полка. СПб., 1895, т. 7, с. 24–26. Сент. 1859.
[Орлов-Давыдов А.] Частное письмо о взятии Шамиля. // РА, 1869, т. 6, с. 1046–1064.
Осман-бей. Воспоминания 1855 года. События в Грузии и на Кавказе. Пер. с фр. // КСб, 1877, т. 2, с. 143–214. … Обстановка на Кавказе в 1855 г. …
Переход войск Дагестанского отряда через главный хребет Кавказских гор Гутур-Дах в 1853 г. (Из воспоминаний кавказца) // ВС, 1862, т. 26, № 7, с. 157–184.
Покорение Дагестана в 1859 году. (Из дневника кавказца) // ВС, 1863, т. 34, № 11, с. 51–78. В конце текста: С. К.
Попко И. Д. Из дневника // РА, 1909, кн. 2, № 6, с. 285–290; кн. 3, № 11, с. 321–339; № 12, с. 439–454; 1910, кн. 1, № 1, с. 78–92. Июль 1854 — июль 1855. Подневная запись военных событий на Кавказе….
Прозрителев Г. Н. Из прошлого Северного Кавказа. Воспоминания старого кавказца отставного вахтера Мефодия Степановича Солодуна. Ставрополь, 1914. 26 с. Есть др. публ. 50-е — 60-е гг.
Радецкий Ф. Ф. Согрытлахская переправа. (Заметки по поводу статей о Согрытлахской переправе, помещенных в газете «Кавказ») // ВИС, 1914, № 1, с. 149–160. Июль 1859 г.
Рассказ очевидца о Шамиле и его современниках. — См. раздел «О Шамиле». [Пленение Шамиля под Гунибом (1859)].
Радзевич К. Р. Автобиография. Тифлис, 1908. 55 с. …Служба на Кавказе (с 1851 г.).
Роткирх В. А. Капитан Платов. — В кн.: Роткирх В. А. Воспоминания. Ч. 3. Вильна, 1890, с. 88–101. Есть др. публ. Нач. 50-х гг. О самозванце Платове, выдававшем себя за кавказского героя.
Рудаков П. Д. Дневник о войне в Малой Азии в 1854–1855 годах // РС, 1905, т. 122, № 5, с. 274–304; № 6, с. 481–508. Есть др. публ. (в отрывках). Военные действия на Кавказе осенью 1853 г. …Силы русских войск на Кавказе к 1854 г. …Взаимоотношения командного состава. …Н. Н. Муравьев. М. С. Воронцов. …
Салов И. А. Умчавшиеся годы. (Из моих воспоминаний) // Русская мысль, 1897, кн. 7, с. 1–27; кн.8, с. 1–25; кн. 9, с. 56–81 // То же. [В отрывках] // РМ, 1894, кн. 11 (под загл.: Француз и помещик Баклажанов). …Пленение Шамиля… (1859). Др.
Свидание с Шамилем: Письмо пруссака, служащего в р. войсках на Кавказе // Вердеровский Е. А. Плен у Шамиля. СПб., 1856. с. 9–22 (паг. 4-я). Конец февр. — 10 марта 1855.
Святополк-Мирский Д. И. Воспоминания. — В кн.: Сборник рукописей, представленных… о Севастопольской обороне севастопольцами. Т. 1. СПб., 1872, с. 385–404. Есть др. публ. // Служба на Кавказе в марте 1854 — феврале 1855 г.
Смоленский С. Воспоминания кавказца // ВС, 1872, т. 87, № 9, с. 149–169; № 10, с.325–360; 1874, т.97, № 5, с.157–176; № 6, с. 376–395; т. 98, № 8, с. 393–416; т. 99, № 9, с. 164–186; 1875, т. 105, № 10, с. 414–438; т. 106, № 11, с. 245–261; № 12, с. 503–518; 1876, т. 110, № 7, с. 205–222. 1859–1863.
Согрытлахская переправа. (Из дневника очевидца) // ВС, 1866, т. 48, № 4, с. 343–355. Июль 1859 г.
Солтан В. На Гунибе в 1859 и 1871 гг. // РС, 1892, т. 74, № 5, с. 391–418. Авг. 1859, сент. 1871.
Степанов П. И. Севастопольские записки 1854, 1855 и 1856 годов // ВС, 1905, <…> № 12, с. 45–54. То же. СПб., 1905. …Перевод автора на Кавказ в начале 1856 г.
Стреллок Н. Н. Из дневника старого кавказца // ВС, 1870, т. 76, № 11, с. 189–242. Июль — авг. 1859 г. Подробные подневные записи об участии в Аварской экспедиции, штурм Гуниба и взятие в плен Шамиля.
Фадеев А. М. Воспоминания 1790–1867. В 2-х ч. Одесса, 1897. Есть др. публ. …Крымская война и военные действия на Кавказе. А. И. Барятинский и окончательное покорение Кавказа. …
Филиппов Н. Н. Поездка по берегам Азовского моря летом 1856 г. // МС, 1857, т. 29, № 6, с. 207–260; т. 30, № 7, с. 1–52; № 8, с. 217–244; т. 31, № 10, с. 169–205 (везде — паг. 2-я). То же. Отд. отт. СПб., 1857. …Набеги черкесов. …
Чертков А. А. Александр Алексеевич Баженов. (Из кавказских воспоминаний) // РА, 1881, кн. 2, вып. 3/4, с. 191–227. 1852–1878.
Шабанов Н. Воспоминания о зимней экспедиции 1859 года в Чечне // ВС, 1866, т. 51, № 10, с. 297–333.
Штанге Э. К. Действия 2-го батальона Ширванского полка под Гунибом. По поводу статьи: Покорение Дагестана в 1859 году // ВС, 1864, т. 39, № 9, с. 149–155.
Экспедиция в Дагестане летом 1851 г. // ИнЖ, 1870, № 2, с. 183–207. В конце текста: Ал. Фр.
1860-е гг.
Венюков М. И. Из воспоминаний. (Кн. 1–3). Кн. 1. 1832–1867. Амстердам, 1895. Др. публ. (в отрывках) // …Колонизация Кавказа в 1861–63 гг. …Военные действия… и т. д.
Вишневецкий Н. И. Сотник Горбатко и его сподвижники, 1862 г.: (Ст. войскового старшины [Кубанского казачьего войска] Н. И. Вишневецкого) / С послесл. И. И. Палимпсестова // РА. 1889. Кн. 3, вып. 11, с. 353–375.
Гейне К. Пшехский отряд. С окт. 1862 по ноябрь 1864 г. СПб., 1866. 251 с. Др. публ.: ВС, 1866, № 1–5. 1861–1864.
Гончаренко С. К. Из кавказского прошлого: (По воспоминаниям о трехгодичном плене казачки Соломониды Капитоновны Гончаренко, по отцу Ярошенко, по плену Чупахан-Муляхан-Перми / С. К. Гончаренко (Ярошенко); В записи Е. И. Аничкова-Платонова // РС. 1911, т. 148, № 11, с. 427–447. То же [отд. отт.) СПб., 1911. 20 с. 1860-е гг.
Гунаропуло С. А. Встреча с абреками // НВ, 1902, т. 89, № 8, с. 445–452. 1862 г.
Солтан В. Военные действия в Кубанской области с 1861 по 1864 год. Походные записки // КСб, 1880, т. 5, с. 345–470.
Хагондоков. Из записок черкеса // ВС, 1867, т. 54, № 3, отд. 2, с. 95–104. 1862 г.
Хитрово Н. П. Воспоминания об одном из петрашевцев (Н. А. Мамбелли) // РМ, 1909, № 7, с. 88–108. Есть др. публ. (в отрывках). 60-е — 70-е гг.
Шиманский. Дело 2-го марта 1862 года на реке Белой // ВС, 1869, т. 70, № 11, с. 5–18.
Яковлев И. Нападение горцев на ст. Темнолесскую. По воспоминаниям О. П. Павловой. Ставрополь, 1914. 6 с. // Др. публ.: ТСтУАК (Труды Ставроп. ученой арх. комиссии) 1914, вып. 6. 60-е гг.
Свидетельства пленных
Беляев С. И. Дневник русского солдата, бывшего десять месяцев в плену у чеченцев // БЧ. 1848, т. 88, с. 71–102; т. 89, с. 21–48. (Везде: паг. 3-я).
Дрансе А. Пленницы Шамиля. Тифлис. 1859. (Есть др. изд. 2-е — 193 с).
Екельн Л. Из записок русского, бывшего в плену у черкесов // ОЗ. 1841, т. 19, № 12, с. 91–96 (паг. 7 — я)
Загорский И. Восемь месяцев в плену у горцев. 1842. КСб. 1898, т. 19, с. 221–247.
Зубов П. Шесть писем о Грузии и Кавказе, писанные в 1833 году Платоном Зубовым. М., 1834. …Пребывание воинского начальника укрепления Урух и его конвоя в плену у горцев (в пересказе). …
Клингер И. А. Два с половиною года в плену у чеченцев. 1847–1850 // РА. 1869, № 6, с. 964–1006. Есть газета, вар. 1856 г. (1239-Г).
Кофанов М. [X. Кафанов.] В плену у горцев в 1831 и 1832 гг. ТСтУАК (Труды Ставроп. ученой арх. Комиссии) 1914. Вып. 6. с. 3–11 (паг. 3-я).
Румянцев И. Н. В плену у Шамиля. Запмски русского. Т. 1. СПб., 1877. 188 с. Др. изд. // Или: Новые проповедники мюридизма на Кавказе. (Из записок пленного). СПб., 1878.
Шипов Н. Н. История моей жизни и моих странствий. Рассказ бывшего крепостного крестьянина Николая Шипова. 1802–1862 гг. — В кн.: Карпов В. Н. Воспоминания. — Шипов Н. Н. История моей жизни. [М. —Л.], 1933, с.366–523 // Др. публ.: РС, т.31, № 5–8; т.32, № 9. То же. Отд. отт. СПб., 1881. …Взятие в плен чеченцами. …
О Шамиле
Березин И. Н. Путешествие по Дагестану и Закавказью. Изд. 2-е, доп. Казань, 1850 (Березин И. Н. Путешествие по Востоку. I). 4.1–3. Есть др. публ. 1842 г. …Характеристика Шамиля и изложение рассказов о нем. …
Захарьин И. Н. Генерал Шамиль — и его рассказы об отце. — В кн.: Захарьин И. Н. Встречи и воспоминания. Из лит. и воен. мира. СПб., 1903, с. 231–266. На тит. л. авт.: И. Н. Захарьин (Якунин) // Др. публ.: РС, 1901, т. 107, кн. 8. 1832–1899.
Захарьин И. Н. Поездка к Шамилю в Калугу в 1860 году. (Из записок и воспоминаний). — В кн.: Захарьин И. Н. Встречи и воспоминания. Из лит. и воен. мира. СПб., 1903, с. 37–91. На тит. л. авт.: И. Н. Захарьин (Якунин). Есть др. публ. 1859–1861.
Пржецлавский П. Г. Шамиль в Калуге. Записки полковника П. Г. Пржецлавского. 1862–1865 // РС, 1877, т. 20, № 10, с. 253–276; № 11, с. 471–506; 1878, № 1, с. 41–64; № 2, с. 265–280.
Рассказ очевидца о Шамиле и его современниках. Сообщ. С. Шульгин. — В кн.: Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 32. Тифлис, 1903, с. 10–24 (паг. 3-я) // Со слов Сеида Абдуррахима Джемалэддина Хусейна. …
Руновский А. И. Записки о Шамиле пристава при военнопленном. СПб., 1860. 204 с. Есть др. публ. 1859–1860.
Хаджи-Мурат Г., Хаджи-Мурат К. Предания о Хаджи-Мурате: Пер. с авар. / Записал Г. Ясулов // Дагестанский сборник. Махачкала, 1927. т. З. с.7–49.
Погодин М. П. Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его биографии. М., 1863. Есть др. публ. 1777–1861.
Похвиснев М. Н. Алексей Петрович Ермолов. (По поводу помещенных в «Русской старине» материалов под загл.: «Ермолов, Дибич и Паскевич»). См. Зайончковского // РС, 1872, т. 6, № 11, с.475–492. Нач. XIX в. — 60-е гг.
Из воспоминаний кавказца // Почтальон, 1903, № 3, с. 14–22. В конце текста: Ветеран. Описание нескольких эпизодов войны с горцами.
Бороздин А. К. Мое знакомство с декабристом бароном Черкасовым // Нива, 1887, № 11, с. 282–286; № 12, с. 306–307 // 20-е — 50-е гг. Рассказ А. Н. Черкасова о своей жизни…. <в 1837– 42 гг. — рядовой на Кавказе>.
Газеты
Алибегов, горец. Из воспоминаний дагестанского горца (Время Шамиля) // Кавказ. 1874. №№ 65, 96, 103–106.
Бакрадзе Д. Сцены из грузинской жизни (набег лезгин в Грузию) // Кавказ. 1850. №№ 91–93.
Барилко П. Плен и смерть генерала Я. Г. Кухоценко. // Кавказ. 1862. № 90.
Боевые будни кавказского офицера. (Из дневника 1858–1860 годов участника покорения Кавказа) // Кубанск. обл. ведомости. 1900. №№ 180–185, 188, 191, 192, 194, 195, 197, 200, 203 и 204. Выдержки в «Терских ведомостях». №№ 109, 110, 114, 115. <Извлечение из дневника б. офицера Кабардинского полка Дмитрия Николаевича Шр-ра. В т. ч. взятие Ведено и Гуниба>
Бывший Нижегородец. Воспоминание драгунского офицера о деле 8 апреля // Кавказ. 1860. № 33.
Вейль К. Крепость Воздвиженская (описание крепости; жизнь в гарнизоне; тревоги; оказии) // Кавказ. 1852. № 34.
Военный листок. Случаи из кавказской боевой жизни. // Кавказ. 1853. № 93; 1854. №№ 3, 23, 75 и 76.
Волконский Н. Кавказский солдат. (Качества, выработанные условиями Кавказской войны). // Кавказ. 1858. № 52.
Волконский. О куначестве рот в Кавказской армии. // Кавказ. 1861. № 68.
Волконский Н. Укрепления Шатоевское и Евдокимовское зимою 1858 года // Кавказ. 1859. №№ 69 и 71.
Воспоминание драгунского офицера о деле 8 апреля 1851 г., в день Св. Пасхи // Русск. инвал. 1860. № 3 (См.: Воен. сб. 1860. № 1).
Воспоминания кавказца. О поражении Магомет-Амина, 13 января 1859 г. // Рус. вестн. 1861. № 272.
Выдержки из записок Абдеррахмана, сына Джамаляддина, о пребывании Шамиля в Ведено и о прочем // Кавказ. 1862. №№ 72–76. Отд. изд. — Тифлис. 1862.
Выдержки из походных записок (форт Раевского, описание его и жизни в нем) // Кавказ. 1848. № 4.
Гливенко Г. Воспоминание о нападении черкес, 31 декабря 1857 г., на Павловский пост и 7 января 1858 г. на станицу Пашковскую // Кубан. обл. ведом. 1884 №№ 3–5.
Губарев К. Из путевых заметок о Кавказе. // Русское слово, 1865. № 5.
Г. Ш. Воспоминание об аварской экспедиции 1837 г. // Кавказ. 1872. №№ 50, 53 и 56.
Дневник майора Татарова, веденный в Кабарде в 1761 г. // Ставроп. губ. вед. 1856 года. №№ 3–13, 15, 17–19, 23–27.
Дьяченко. Воспоминания о чеченской экспедиции 1852 года // Русс, инвал. 1855. №№ 94 и 95; С. -Петерб. ведом. 1855. №№ 107 и 108; особое прибавление к газете «Кавказ». 1855. № 26.
Записки о 22 конном полку Кубанского поиска // Кубанск. войск, ведом. 1870. № 32.
Зиссерман А. Курьезное дело (о происшествии в 1812 году со временно-командовавшим Кавказскою линиею генералом Портнягиным) // Кавказ. 1878. № 294.
Зиссерман А. Лагерь близ аула Тандо. Дневник. <с 15 по 27 июля> // Кавказ. 1859. № 64.
Зиссерман А. Лагерь у озера Япи-ам (описание лагеря и приезда кн. Барятинского) // Кавказ, 1859. № 59; перепечатано в «Ставроп. губ. ведом.» 1859. № 32.
Зиссерман А. О последних событиях в Дагестане. Описание событий… с 30 июля по 27 авг… // Кавказ. 1859. №№ 72 и 73.
Зиссерман А. Отрывок из кавказских воспоминаний // Кавказ. 1857. № 87.
Зиссерман Ар. Письмо с Кавказской линии. Воспоминание о путешествии главнокомандующего князя А. И. Барятинского по левому крылу Кавказской линии // С. -Петерб. ведом. 1857. № 113.
З…ский. Воспоминания о действиях Моссельдельгерской колонны лезгинского отряда близ креп. Закаталы в 1853 году // Кавказ. 1865. №№ 51 и 52.
Ив. Б-в. Первый набег. Рассказ. (Экспедиция на правом фланге Кавказской линии в 1851 году) // Кавказ. 1861. № 14.
Из воспоминаний об экспедиции 1859 г. в Дагестане. Саг-рытлосская переправа // Кавказ. 1864. №№ 3 и 6. Возражение на эту ст. Девеля в № 27. Ответ автору возражения на ст. «Сагрытлосская переправа» Н. Иванова в № 56. Ответ на ст. г. Иванова Ф. Девеля — № 70. Заметка по поводу статей о Сагрытлосской переправе, помещенных в газете «Кавказ», Ф. Радецкого — № 73.
Ильин П. Еще воспоминание о Н. П. Слепцове (начало славы Слепцова — дело 17 декабря 1843 г. против горцев при кр. Зыряне) // Кавказ. 1852. № 31.
Кавказский ветеран. Поход графа Воронцова в Дарго и сухарная экспедиция 1845 года // Кавказ. 1892. №№ 92 и 93; Вторжение Шамиля в Кабарду в 1846 г. // Кавказ. 1893. № 58.
Кази-Мулла (Гази-Магомед, 1824–1833). Из записок капитана Пружановского // Кавказ. 1847. №№ 30 и 31. Сб. газ. «Кавказ». 1848, т. 2.
Каченовский Вл. Начало конца. Эпизод из кавказской войны 1846 г. (Из воспоминаний старого кавказца) // Московск. ведом. 1892. №№ 36 и 37.
Клингер И. Рассказ офицера, бывшего в плену у чеченцев с 24 июля 1847 г. по 1 января 1850 г. // Кавказ. 1856. №№ 86, 88, 90, 91, 92, 97 и 101.
К. М. Из воспоминаний об Адагуме. Переход Крымского полка на вновь назначенную штаб-квартиру // Кавказ. 1860. № 40.
Козловский А. Очерк из Дагестанской войны (бой с горцами с 29 на 30 июля 1857 г. около укрепления Оглы) // Кавказ. 1857. № 72.
Костемеровский. Дневник. Салатавский зимний поход 1858 г. 29 ноября // Кавказ. 1859. №№ 60 и 62.
Костемеровский. Окончательное занятие Салатавии войсками Прикаспийского края (1857 г.) и сооружение в центре ея штаб-квартиры Дагестанского полка // Кавказ. 1858. № 1.
Костемеровский. Постройка штаб-квартиры Дагестанского полка на развалинах старого Бутуная // Кавказ. 1858. №№ 83 и 84.
Ливенцов А. Из воспоминаний о походе в Дагестане в 1843 году // Кавказ. 1850. №№ 70, 71, 73, 74, 80, 82, 83 и 94.
Маняти К. Два истинных происшествия из эпохи минувшей войны (1853–1856 гг.) // Кавказ. 1857. №№ 91 и 92. <два рассказа пленных>
Нападения: 16 марта 1846 г. на двух казаков… и 15 мая 1846 г. на казака… Два рассказа // Кавказ. 1846. № 33.
Наши пленные в Турции. Рассказы (из «Нового времени») // Кавказ. 1878. № 214.
Некоторые биографические подробности о Шамиле. Д. Б. // Калужск. губ. вед. 1859, № 44 (по поводу статьи Савинова, помещенной в «Сыне Отечества»).
Николаи, барон. Материалы для истории Кавказской войны. (Выписки из дневника генерал-лейтенанта барона Леонтия Павловича Николаи) // Кавказ. 1874. №№ 107, 109, 123, 129, 141 и 150. <1855–1857>
Ницик П. Вторжение Шамиля в Кабарду в апреле 1846 года (Из кавказских воспоминаний) // Терские ведом. 1886. №№ 54, 56, 58 и 60.
Новоселов Сем. Рассказ об осаде укрепления Ахты в 1848 г. // Кавказ. 1851. №№ 66–68. То же в «Сев. пчеле». 1851. №№ 68 и 69.
О. К. Сцены из боевой жизни (взятие Андийских высот под начальством князя Барятинского) // Кавказ. 1846. № 1.
Отрывок из походных записок. Об осаде Чоха в 1849 году // Рус. инвалид. 1851. № 257.
Пиотровский, доктор. Поездка в горы // Кавказ. 1858. №№ 70 и 71. <приглашен к сыну Шамиля, Джемаль-Эддину>
Плетнев А. Из воспоминаний об экспедиции в Дидайское общ— во в 1857 году // Кавказ. 1864. №№ 24, 37 и 55.
Подробное описание размена пленных семейств флигель— адъютанта полковника князя Чавчавадзе и генерал-майора князя Орбелиани // Русск. инв. 1855. № 77; С. -Петерб. ведом., № 85; Северная пчела, № 86; Русск. вестн. №№ 40 и 47; Моск. ведом № 48; Ведом. Моск. гор. полиции. № 87.
Последние 15 дней салатавской экспедиции. Воспоминания и впечатления участника экспедиции. Л. // Кавказ. 1858. № 10 19; Рус. инв. 1858. №№ 56, 64 и 65.
Происшествия в Кайтаге с 1820 до 1826 г. По запискам капитана Пружановского // Кавказ. 1846. № 14.
Прокофьев Г. Из воспоминаний. Разорение аула Танды, по дороге в Джумсой, в 1860 г. // Кавказ. 1862. №№ 80 и 81.
Рассказ моздокского гражданина 3-й гильдии купца Миная Жаева сына Атарова (посещение Дарго, Ведено, личность Шамиля) // Кавказ. 1853. № 85.
Рассказ солдата об осаде Балаханов в 1843 году // Кавказ. 1853. № 74.
Рассказ офицера, бывшего в плену у Шамиля в 1842 году // Кавказ. 1849, №№ 1–5.
Самарин. Набеги беглого казака Алратова на линию (1844–1854 гг.) и биографические о нем сведения. См. «Дорожные заметки» // Сев. пчела. 1862. №№ 132, 133, 134 и 160.
Сливицкий И. Очерки Кавказа и Закавказья (набеги лезгин в Кахетию) // Кавказ. 1848. №№ 40 и 41.
С-ов. 1) Набег (эпизод из походн. жизни). Экспедиция в начале мая 1861 г. в землю шапсугов // Кавказ. 1861. № 96. 2) Дневка на Кубани (эскизы походной жизни. Продолж. ст. «Набег») // Кавказ. 1862. №№ 4 и 5.
Сулейман-ефенди. Окончат, покорение Малой Чечни // Кавказ. 1846. № 51.
Султан Адиль-Гирей. Рассказ аварца. Из походного дневника, веденного на осаде Салтов // Кавказ. 1847. №№ 48 и 40.
Сцена из покорения Джаро-Белокан // Кавказ. 1846. № 4.
Торнау бар. Ф. Ф. Записки р. офицера, бывшего в плену у горцев // Кавказ. 1852. №№ 1 и 2. <5 и 9 янв.>
Финогеев. Письмо из крепости Грозной. Впечатления очевидца о действиях в октябре 1857 г. на реках Гойте и Шавдоне // Кавказ. 1858. № 5.
Ф…ъ Д…ъ. Клочок из походной жизни <в 1847 г.> // Кавказ. 1849. №№ 4 и 5.
Хан-Гирей. Биографии знаменитых черкесов и очерки черкесских нравов и преданий // Кавказ. 1847. №№ 42–47.
Циммерман. Несколько слов о покойном генерале Слепцове // Рус. инв. 1852. № 36; Кавказ. 1852. № 16.
Цискаров И. 1) Дикло и Шанако (нападения в 1838 г. лезгин на эти деревни) // Кавказ. 1846. № 27. 2) Картины Тушетии (набеги лезгин) // Кавказ. 1846. № 50.
Школа военных кантонистов при Кавказском саперном батальоне // Кавказ. 1846. № 22.
Штейнбок, гр. Воспоминания кавказского офицера // Кавказ. 1854. №№ 17, 18 и 20.
Щербаков. Воспоминания о генер. от инф. кн. Вас. Осип. Бебутове // Кавказ. 1883. № 269.
Эристов Р. Рассказы наших милиционеров // Кавказ. 1854. №№ 91–95.
Эристов Р. Шете Глухаидзе. Тушинский белади (наездник) и его подвиги // Кавказ. 1856. № 14.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БЧ — Библиотека для чтения
ВЖ — Военный журнал
ВЕ — Вестник Европы
ВС — Военный сборник
ГМ — Голос минувшего
ДНР — Древняя и новая Россия
ЖМВД — Журнал Министерства внутренних дел
ЖЧВВУЗ — Журнал для чтения воспитанников военных учебных заведений
ИВ — Исторический вестник
ИнЖ — Инженерный журнал
ИТамбУАК — Известия Тамбовской ученой археологической комиссий
КВ — Кавказский вестник
КСб — Кавказский сборник
МС — Морской сборник
МТ — Московский телеграф
ОЗ — Отечественные записки
РА — Русский архив
РВ — Русский вестник
РМ — Русская мысль
РС — Русская старина
СтН — Старина и новизна
ТСтУАК — Труды Ставропольской ученой археологической комиссии
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Горец
Чеченец
Труп врага.
Рисунок М. Зичи
Мюриды Шамиля.
Рисунок Т. Горшельта
И. Ф. Паскевич.
Портрет работы Ф. Крюгера
Е. А. Головин
Портрет работы Д. Доу
Шамиль и мюриды.
Рисунок Е. Е. Лансере
А. И. Чернышев
Портрет работы Д. Доу
Д. А. Милютин
Литография
М. С. Лунин
Акварель Н. А. Бестужева
Обер-офицер Кавказского лейб-гвардии полуэскадрона.
Рисунок А. И. Зауэрвейда
Офицеры и казаки Кубанского и Терского войска.
Рисунок К. К. Пиратского
Э. В. Бриммер
Литография
Князь В. Г. Мадатов.
Портрет работы Д. Доу
И. И. Пестель
Рисунок Е. И. Пестель
Охотник Кабардинского полка
Рисунок Т. Горшельта
Унтер-офицер Кабардинского полка
Рисунок Т. Горшельта
Хаджи-Мурат.
Литография
Магомет-Амин.
Литография
Тавлинец (Дагестан)
Рисунок Т. Горшельта
Нападение горцев на фуражиров.
Рисунок М. Зичи
В секрете.
Рисунок М. Зичи
Солдаты строят дорогу в Дагестане.
Картина работы Т. Горшельта
Шамиль.
Литография
Солдаты и унтер-офицеры Кавказского корпуса.
Рисунок К. К. Пиратского
Черкес.
Рисунок Г. Гагарина (из собрания Государственого Русского музея)
Солдат Кавказского корпуса.
Литография
Кабардинский князь
Рисунок Т. Горшельта
Милиционер грузинской дружины.
Рисунок Т. Горшельта
Князь А. М. Дондуков-Корсаков
Литография по рисунку П. Смирнова
Князь А. И. Барятинский
Литография
Сражение при Валерике.
Рисунок М. Ю. Лермонтова
Вылазка за водой.
Рисунок М. Зичи
Линейные казаки
Рисунок Т. Горшельта
Князь М. С. Воронцов
Литография по рисунку П. Смирнова
Я. И. Бакланов,
генерал-майор Войска Донского
Литография по рисунку Гиллера
П. Х. Граббе
Литография по рисунку П. Смирнова
Н. Н. Раевский-младший
Портрет работы В. А. Тропинина
Барон И. А. Вревский.
Литография
Д. В. Пассек
Литография
Казак и чеченец.
Рисунок Т. Горшельта
Терский казак.
Рисунок Т. Горшельта
Права
© Яков Гордин, 2014
© «Время», 2014
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga, 2014
1
Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. СПб., 1895. С. 52.
(обратно)2
М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России в ХIХ столетии: Сб. статей. Лондон, 1991. С. 179.
(обратно)3
Кавказский сборник. Тифлис, 1897. Т. ХVIII. С. 468.
(обратно)4
Павел Пестель. «Русская правда». М., 1993. С. 115.
(обратно)5
Там же. С. 167.
(обратно)6
Историки, исследовавшие эту проблематику, писали о широкомасштабной охоте за людьми, которая была важным фактором в экономике горских обществ. Особенно страдала Кахетия от набегов джаро-белоканских лезгин, которые ежегодно уводили для продажи в рабство через турецких, а иногда генуэзских посредников тысячи людей. Еще более опустошительными были вторжения в Грузию персидских войск.
(обратно)7
П. Я. Чаадаев. Полное собрание сочинений и избранных писем. М., 1991. Т. 11. С. 264.
(обратно)8
П. Зубов. Подвиги русских воинов в странах кавказских с 1800 по 1834 год. Т. 1, ч. 1. СПб., 1835.
(обратно)9
Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. С. 36.
(обратно)10
М. С. Лунин. Сочинения, письма, документы. Иркутск, 1988. С. 168.
(обратно)11
Там же.
(обратно)12
М. С. Лунин. Сочинения… С. 170.
(обратно)13
Там же. С. 171.
(обратно)14
Слово — разумному (лат.).
(обратно)15
М. С. Лунин. Сочинения… С. 96.
(обратно)16
А. Е. Розен. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 388.
(обратно)17
Р. А. Фадеев. Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис, 1860. С. 1.
(обратно)18
А. Е. Розен. Записки… С. 389.
(обратно)19
Там же. С. 390.
(обратно)20
Акты Кавказской археографической комиссии. Т. IX, ч. 2. Тифлис. С. 505.
(обратно)21
А. Е. Розен. Записки… С. 390.
(обратно)22
Там же.
(обратно)23
Р. А. Фадеев. Собрание сочинений. Т. 1, ч. 2. СПб., 1890. С. 138.
(обратно)24
А. С. Грибоедов. Сочинения. Л., 1945. С. 510.
(обратно)25
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. АН СССР. М. —Л., 1949. Т. VI. С. 647–649.
(обратно)26
Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений. Т. 5. М. —Л., 1962. С. 449.
(обратно)27
А. Е. Розен. Записки… С. 391.
(обратно)28
См. «Звезда». 1996. № 12. С. 91.
(обратно)29
Р. А. Фадеев. Шестьдесят лет Кавказской войны. С. 2.
(обратно)30
Там же.
(обратно)31
М. Блиев, М. Дегоев. Кавказская война. М., 1993. С. 149.
(обратно)32
Кавказский сборник. Т. XVIII. С. 460.
(обратно)33
Р. А. Фадеев. Собрание сочинений. Т. 1, ч. 2. С. 147.
(обратно)34
Архив князя Воронцова. Т. 38. М., 1892. С. 387.
(обратно)35
Р. А. Фадеев. Шестьдесят лет… С. 2.
(обратно)36
Там же. С. 3.
(обратно)37
Там же. С. 4.
(обратно)38
Там же. С. 8–9.
(обратно)39
Там же. С. 12–15.
(обратно)40
Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. С. 37.
(обратно)41
З. Авалов. Присоединение Грузии к России. СПб., 1906. С. III.
(обратно)42
С. А. Тучков. Записки. СПб., 1908. С. 202.
(обратно)43
Письма А. П. Ермолова здесь и далее цитируются: М. С. Воронцову — Архив кн. Воронцова. М., 1890. Т. 36; А. А. Закревскому — Сб. Императорского Русского Исторического общества. СПб., 1890. Т. 73 и Сб. материалов для описания местности и племен Кавказа. Махачкала, 1926. Вып. 45.
(обратно)44
Л. Н. Энгельгардт. Записки. М., 1867. С. 163.
(обратно)45
С. А. Тучков. Записки. СПб., 1908. С. 196.
(обратно)46
Н. Ф. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1888. Т. IV. С. 28.
(обратно)47
Ахунд — высшая степень учености в исламе.
(обратно)48
И. Петрушевский. Джаро-белоканские вольные общества в первой трети XIX столетия. Тифлис, 1934. С. 19.
(обратно)49
Крайности сходятся (франц.).
(обратно)50
Р. И. Храповицкий. Знакомство с Ермоловым // «Русская старина». 1872, ноябрь. С. 539.
(обратно)51
С. А. Экштут. В поиске исторической альтернативы. М., 1994. С. 116.
(обратно)52
Хуан Ван-Гален. Два года в России // «Звезда». 1997. № 3. С. 143.
(обратно)53
Конгрев — боевая ракета, изобретенная английским инженером Уильямом Конгривом.
(обратно)54
Хуан Ван-Гален… С. 154.
(обратно)55
А. Берже. Император Николай на Кавказе в 1837 г. // «Русская старина», т. ХLIII, 1884, август.
(обратно)56
Г. И. Филипсон. Воспоминания. М., 1885. С. 130.
(обратно)57
Там же. С. 90.
(обратно)58
Э. В. Бриммер. Служба артиллерийского офицера // Кавказский сб., т. XVI. Тифлис, 1895. С. 225.
(обратно)59
Рассказ бывшего унтер-офицера Апшеронского полка Самойлы Рябова // Кавказский сб., т. XVIII. Тифлис, 1897. С. 354.
(обратно)60
Жозеф де Местр. Петербургские письма. СПб., 1995. С. 282.
(обратно)61
Там же.
(обратно)62
Там же. С. 289.
(обратно)63
Там же. С. 303.
(обратно)64
Кавказский сб. Т. VII. Тифлис, 1883. С. 14.
(обратно)65
Там же. С. 16.
(обратно)66
Там же. С. 17.
(обратно)67
Г. И. Филипсон… С. 121.
(обратно)68
Все приведенные ниже архивные документы, касающиеся подготовки визита Николая I на Кавказ, хранятся в Российском Государственном военно-историческом архиве, ф. 405, оп. 6, ед. хр. 2176.
(обратно)69
Вестник архивов Армении. Ереван, 1993. № 1 (35). С. 26.
(обратно)70
Там же. С. 28.
(обратно)71
А. Е. Розен. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 391.
(обратно)72
Г. И. Филипсон… С. 113.
(обратно)73
Г. И. Филипсон… С. 246.
(обратно)74
Российский архив. Т. VII. М., 1996. С. 215.
(обратно)75
Г. И. Филипсон… С. 110.
(обратно)76
Э. В. Бриммер. Служба артиллерийского офицера // Кавказский сб. Т. XVI. 1895. С. 157.
(обратно)77
Г. И. Филипсон… С. 132.
(обратно)78
Кавказский сб. Т. VIII. 1884. Приложение, с. 10.
(обратно)79
Там же. С. 2.
(обратно)80
Кавказский сб. Т. VIII. Приложение, с. 13.
(обратно)81
Кавказский сб. Т. VIII. С. 8.
(обратно)82
В. С. Толстой. Характеристики русских генералов на Кавказе // Российский архив. Т. VII. М., 1996. С. 230.
(обратно)83
А. Е. Розен… С. 374.
(обратно)84
М. Ф. Федоров. Походные записки на Кавказе // Кавказский сб. Т. III, 1879. С. 98.
(обратно)85
Кавказский сб. Т. VIII, 1884. С. 79.
(обратно)86
Кавказский сб. Т. VIII, 1884. С. 80.
(обратно)87
Там же.
(обратно)88
А. Юров. Три года на Кавказе // Кавказский сб. Т. VIII, 1884. С. 87.
(обратно)89
Там же. С. 83.
(обратно)90
Там же. С. 86.
(обратно)91
Г. И. Филипсон… С. 139.
(обратно)92
Российский Государственный военно-исторический архив. Ф. 405. Оп. 6. Ед. хр. 2176. Л. 187–203 об.
(обратно)93
Имеется в виду племя натухайцев. Вообще Хан-Гирей воспроизводит этнические и географические названия ближе к горскому произношению, чем они звучат у русских генералов и офицеров.
(обратно)94
Все документы, приведенные в этом очерке, хранятся в Российском государственном историческом архиве — ф. 1268, оп. 1, ед. хр. 425.
(обратно)95
Разъяснение переводчика прокламации.
(обратно)96
Это было написано в разгар первой Чеченской войны.
(обратно)97
Донесения Серебрякова Меншикову и ген. Анрепу цитируются по «Вестнику архивов Армении», № 1 (35). Ереван, 1973.
(обратно)98
Г. И. Филипсон. Воспоминания. М., 1885. С. 246.
(обратно)99
См.: «Морской сборник». СПб., 1865. С. 64–73.
(обратно)100
Подобные идеи бытовали и в штабе Ермолова.
(обратно)101
Впоследствии Серебрякову предстояло частично осуществить свой план — в октябре 1850 года снаряженный им отряд прошел по землям натухайцев в северо-западной части Кавказа и сжег более 2000 дворов вместе с огромными запасами хлеба. При этом было убито около 200 горцев, пытавшихся оказать сопротивление.
(обратно)102
РГАВМФ, ф. р-2222, оп. 1, д. 85, лл. 51–110.
(обратно)103
Беш означает на татарском языке пять, а тау — по-горски гора, т. е. пятигорские.
(обратно)104
Суда, шедшие из Астрахани с провиантом, бурею были разбиты, а потому, по недостатку продовольствия, император должен был возвратиться.
(обратно)105
Правильнее — Уцмия Каракайтагского. Большинство географических и этнических терминов, употребляемых Серебряковым в традиции прошлого века, не исправляется и не комментируется.
(обратно)106
Покорена была, вероятно, только приморская часть оного, но в донесениях императору сказано: весь Дагестан покорился, и так пишут современники.
(обратно)107
Правильно — Тахмасп.
(обратно)108
Осетин тагоурского общества, составляющего ныне предместье Моздока, именуемого Лукомская станица.
(обратно)109
В этот промежуток времени Россия достославно совершила четыре войны: три с Франциею, одну с Швецией и одну с Турциею, несколько лет продолжавшуюся (так в тексте. — Ред.).
(обратно)110
В этом легко убедиться можно, сравнив журнал происшествий до устройства всех вообще поименованных линий и после того.
(обратно)111
В этой записке было бы кстати упомянуть, хотя вкратце, о всех вообще экспедициях, предпринимавшихся противу кавказских народов, но для этого я не имею ни способов, ни материалов, и предмет этот мог бы слишком распространить эту материю, а потому я должен ограничиться только одним кратким обзором постепенного утверждения нашего на Кавказе и разных мер, употреблявшихся для усмирения кавказских народов.
(обратно)112
В гарнизонах Восточного берега бывшим местным начальником строго воспрещалось занимать людей фронтовым образованием.
(обратно)113
Суманг ниже Мятлы, почти напротив Чир-Юрта.
(обратно)114
Мюрид есть правоверный мусульманин из среды последователей учения превратного шарията, т. е. толкования Корана, поклявшийся повиноваться воле своего лжеучителя и умереть с радостью за веру в полной уверенности получить на том свете все наслаждения рая. Мюрид не курит, не нюхает табаку, не пьет горячих напитков, презирает всех хотя бы мусульман, имеющих сношения с русскими, а тем паче находящихся у них на службе.
(обратно)115
Звание, которое носили Абубекр, Омар и Осман, основатели Турецкой империи, положившие начало бывшего ее могущества и славы.
(обратно)116
Шарият значит: правила, изложенные в Коране, относительно духовных и светских постановлений, которым все правоверные мусульмане должны следовать. Правила эти перетолковывались еще в начале мусульманства Абубекром, Омаром и Османом, а в 1828 году в Дагестане начал их излагать Кази-Мулла; потом его преемник Халзат-Бек (правильно — Гамзат-бек. — Ред.), и наконец, по смерти сего последнего, Шамиль. Основание Шарията состоит: в истреблении христиан, в особенности русских, в уничтожении всякой светской власти, хотя бы мусульманской и тем паче иноверной. Шарият проповедует равенства, признающие власть только духовную в лице Имам-Азама, как наследника Магомета, и тех из подвижников его, коих он, Имам-Азам, передает по вдохновению волею свыше на него ниспославшего.
(обратно)117
Я здесь разумею предполагаемую экспедицию за Лабу, в которой не было никакой надобности и которая не исполнилась, а между тем войска, для нее предполагавшиеся, оставались в бездействии и прибыли в позднюю осень, когда они уже не могли быть полезны.
(обратно)118
Спокойствие это нарушено было весною нынешнего года, но надеяться можно, что после постройки предполагаемых укреплений в Чечне оно водворится еще прочнее.
(обратно)119
Это тоже изменилось с 1842 года, в особенности с 1843 года.
(обратно)120
Принимая полки в пятибатальонном составе, исключая гренадеров, которые и теперь в четыре батальона.
(обратно)121
Хотя Черноморская береговая линия имеет свой резерв, состоящий из четырех линейных батальонов, но для наступательных действий от Новороссийска и из Абхазии их недостаточно.
(обратно)122
Под названием Кабардинской плоскости разумеется вся равнина от Владикавказа до Екатеринограда.
(обратно)123
Правильно — Коваленский. — Ред.
(обратно)124
Оставляя Кубанский и Дербентский уезд в зависимости по гражданской части от Каспийского областного правления.
(обратно)125
Кавказский сб. Т. Х. Тифлис, 1886. С. 230.
(обратно)126
Кавказский сб. Т. X. С. 271.
(обратно)127
Там же. С. 275.
(обратно)128
Официальные данные — убито 6 обер-офицеров, 65 нижних чинов, ранено 2 штаб— и 16 обер-офицеров, контужено 4 обер-офицера и 46 нижних чинов, без вести пропали 1 обер-офицер и 7 нижних чинов. Чеченцы потеряли убитыми 150 человек.
(обратно)129
М. Ю. Лермонтов. Собр. соч. в 4 т. Т. 4. Л., 1981. С. 422.
(обратно)130
Цит. по: П. А. Висковатов. Михаил Юрьевич Лермонтов. М., 1987. С. 309.
(обратно)131
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 13454, оп. 1, ед. хр. 699, л. 2.
(обратно)132
РГВИА, ф. 13454, оп. 1, ед. хр. 699, л. 4.
(обратно)133
М. Я. Ольшевский. Кавказ с 1841 по 1866 год // Русская старина, 1893. Т. 79. С. 91.
(обратно)134
См.: В. М. Кабузан. Население Северного Кавказа в XIX–XX веках. СПб., 1996. С. 145.
(обратно)135
Г. И. Филипсон. Воспоминания. М., 1885. С. 105.
(обратно)136
РГВИА, ф. 13454, оп. 1, ед. хр. 699, л. 5.
(обратно)137
М. Я. Ольшевский // Русская старина, 1893. Т. 78. С. 590.
(обратно)138
РГВИА, ф. 13454, оп. 15, ед. хр. 584, л. 7.
(обратно)139
А. М. Дондуков-Корсаков. Мои воспоминания // Старина и новизна. 1902. Кн. 6. С. 94–95.
(обратно)140
РГВИА, там же, л. 8.
(обратно)141
РГВИА, там же, л. 10.
(обратно)142
РГВИА, там же, л. 19.
(обратно)143
РГВИА, там же, л. 13.
(обратно)144
РГВИА, там же, л. 15.
(обратно)145
М. Венюков. Кавказские воспоминания // Русский архив. Т. 1. 1880. С. 435.
(обратно)146
А. П. Берже. Выселение горцев с Кавказа // Русская старина. 1882. Т. 34. С. 8.
(обратно)147
Д. А. Милютин. Воспоминания. 1816–1843. М., 1997. С. 22.
(обратно)148
Д. А. Милютин. Воспоминания. 1860–1862. М., 1999. С. 7.
(обратно)149
Процитированные строки принадлежат второй части трилогии Эсхила о Прометее. До нас дошла только первая часть — «Прометей прикованный» и небольшие фрагменты второй. Стихи, вынесенные в эпиграф, были включены Цицероном в его «Тускуланские беседы» и благодаря этому сохранились.
(обратно)150
Старые черкесские сады. Ландшафт и агрикультура Северо-Западного Кавказа в освещении русских источников. М., 2005. Т. 2. С. 7.
(обратно)151
Комплект документов, относящихся к миссии Хан-Гирея, хранится в РГВИА: ф. 405, оп. 6, ед. хр. 2176.
(обратно)152
Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2000. С. 245.
(обратно)153
Цит. по: Осада Кавказа. СПб., 2000. С. 81.
(обратно)154
Ольшевский М. Кавказ с 1841 по 1866 год. СПб., 2003. С. 478.
(обратно)155
Ольшевский М. Указ. соч. С. 488.
(обратно)156
Осада Кавказа. С. 105.
(обратно)157
Торнау Ф. Ф. Указ. соч. С. 164.
(обратно)158
Венюков М. И. Кавказские воспоминания // Русский Архив. 1880. Т. 1. С. 419.
(обратно)159
Там же. С. 445.
(обратно)160
Там же. С. 435.
(обратно)161
Там же.
(обратно)162
Фадеев Р. А. Собр. соч. СПб., 1890. Т. 2. С. 65.
(обратно)163
Там же. С. 71.
(обратно)164
Там же. С. 75.
(обратно)165
Там же. С. 72.
(обратно)166
Там же. С. 75.
(обратно)167
Осада Кавказа. С. 110. Этот текст, равно как и последующие документы, уже был представлен читателю. Но по логике сюжета их уместно повторить.
(обратно)168
Кавказский сборник. Тифлис. Т. VIII, 1884, приложение. С. 10.
(обратно)169
Торнау Ф. Ф. Указ. соч. С. 246.
(обратно)170
Кавказский сборник. Т. VIII. С. 13.
(обратно)171
Милютин Д. А. Воспоминания. 1856–1860. М., 2004. С. 418.
(обратно)172
Ольшевский М. Указ. соч. С. 518.
(обратно)173
Торнау Ф. Ф. Указ. соч. С. 141.
(обратно)174
Венюков М. И. Указ. соч. С. 417.
(обратно)175
Осада Кавказа. С. 474.
(обратно)176
Там же. С. 105.
(обратно)177
Там же. С. 83.
(обратно)178
См.: Я. Гордин. Декабристы и Кавказ. Имперская идеология либералов // Империя и либералы. СПб., 2001.
(обратно)179
Цит. по: Кавказская война: уроки истории и современность. Краснодар, 1995. С. 66.
(обратно)180
Там же. С. 67.
(обратно)181
Там же.
(обратно)182
Цит. по: Милютин Д. А. Воспоминания. 1856–1860. М., 2004. С. 198.
(обратно)183
Милютин Д. А. Воспоминания. 1860–1862. М., 1999. С. 488.
(обратно)184
Милютин Д. А. Воспоминания. 1856–1860. М., 1999. С. 417.
(обратно)185
Там же. С. 474.
(обратно)186
Там же. С. 475.
(обратно)187
Фадеев Р. А. Письма с Кавказа. СПб., 1865. С. 75.
(обратно)188
Милютин Д. А. Воспоминания. 1860–1862. С. 148.
(обратно)189
Ольшевский М. Указ. соч. С. 496.
(обратно)190
Торнау Ф. Ф. Указ. соч. С. 127.
(обратно)191
Фадеев Р. А. Письма с Кавказа. С. 68.
(обратно)192
Венюков М. И. Указ. соч. С. 435.
(обратно)193
Фадеев Р. А. Собр. соч. Т. 2. СПб., 1890. С. 68.
(обратно)194
Венюков М. И. Указ. соч. С. 416.
(обратно)195
Ольшевский М. Я. Указ. соч. С. 413.
(обратно)196
Там же. С. 539.
(обратно)197
Полководцы, военачальники и военные деятели России в энциклопедии И. Д. Сытина. СПб., 1996. С. 144.
(обратно)198
Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми, 1982. С. 221.
(обратно)199
Там же. С. 220.
(обратно)200
Берже А. П. Выселение горцев с Кавказа // Русская старина. 1882. Т. XXXIII, январь. С. 170.
(обратно)201
Дроздов И. Последняя борьба с горцами на Западном Кавказе // Кавказский сборник. 1877. Т. 2. С. 548.
(обратно)202
Фадеев Р. А. Собр. соч. Т. 1. Ч. 1. С. 203.
(обратно)203
Цит. по: Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 220.
(обратно)204
Ольшевский М. Кавказ с 1841 по 1866 год. СПб., 2003.
(обратно)205
Начальствование над этим отрядом я не мог продолжать, кроме других причин: а) по несвоевременной и неаккуратной высылке ко мне графом Евдокимовым денег на экстраординарные расходы и b) по возобновлению генералом Забудским, помимо меня, сношений с начальниками частей войск, расположенных за Лабою.
(обратно)206
Бора, или борра — пронзительный северо-восточный ветер, дующий со стороны Кавказского хребта. Если он дует зимою, то обледеняет все мачты судов. Под названием бора этот ветер известен и на Адриатическом море и столь же опасен для иллирийских и истрийских гаваней, как для Новороссийска и других гаваней Кавказа.
(обратно)207
Не по рассказам, а как очевидец описываю здесь отчаянное положение переселяющихся в Турцию абадзехов и шапсугов. Для осмотра частей войска вверенной мне дивизии, не только расположенных по эту сторону Кавказского хребта, но и находящихся в составе Даховского отряда, действующего по берегу Черного моря, было предпринято мною в марте путешествие верхом от Хадыжей через Гойт, вниз по Туабсе до форта Вельяминовского, откуда по берегу моря до Сочи. Этим же путем я возвратился в Хадыжи, где был оставлен мой тарантас.
(обратно)208
Ни малейшего сопротивления не было оказано со стороны местного населения.
(обратно)209
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. ВУА. Ед. хр. 18296. Лл. 1–21. Барон Николай Егорович Торнау (1811–1882), юрист, исследователь мусульманского права, тайный советник, сенатор.
(обратно)210
Указом от 21 января сего 1855 г. повелено учредить особую Комиссию для очищения фарватера от Астрахани в Каспийское море. Труд этот предполагается к окончанию в 5 лет, при усиленной же работе в 3 года. Собственно из сего предположения мы должны заключить, что очищение фарватера указано по руслу р. Волги, идущей к <…> косе по ныне проходимому фарватеру, где в нескольких местах, при отсутствии юго-восточного ветра нет и 4-х футов воды; между тем, по частным сведениям, нам известно, что между другими 63-мя рукавами Волги есть русла, в которых, по всему протяжению фарватера, постоянно не менее 8 футов воды, следовательно, всегда удобные для прохождения судов, — но русла эти, в противность Своду Зак. т. х. ст. 406 и <…> общей промышленной деятельности и государственной пользы, служат единственно в частную пользу равных промышленников, устроивших и поддерживающих забои и заколы, препятствующие вполне судовому ходу.
(обратно)211
С 1715 года Петр Великий приготовлялся к войне с Персиею. В 1722 году была открыта первая кампания против Персии на Каспийском море. По мирному договору 12 сентября 1723 года Персия уступила России города Дербент и Баку с их округами и провинциями Астерабад, Мазандеран и Гилян. В царствование же Анны Иоановны означенные провинции уступлены были обратно персиянам. О предмете упомянуто в записках Русского Географического общества.
(обратно)212
Мера эта, сколько она ни кажется антифилантропическою, даже несправедливою, — вполне соответствует духу народному на Востоке и понятиям их о силе и о праве сильнейшего. Одним этим способом англичане установили нравственную силу свою над миллионами жителей в Индии. Мера ответственности целого округа или селения в воровстве и разбое, в чертах их границ исполнившихся, — существовала и в Закавказском крае. Местных жителей мера эта не удивляла и положительно способствовала всегда к открытию виновных и даже к предупреждению преступлений. Если бы мера эта оставалась в силе, то не пропал бы почтовый чемодан в р. Йорг, не была бы ограблена почта в Елисаветпольском уезде и проч. Лишь для правительственных властей наших осталось тайною, кто виновен в вышеуказанных действиях; местным же жителям виновные с положительностью известны.
(обратно)213
Местность между реками Гурганом и Карасу удобна по богатству почвы и произведений природы, по здоровому климату не только для содержания войска в 10 и 20 т. человек, но и для постоянной колонизации нескольких тысяч выходцев из России. С предоставлением земли в потомственную собственность и с льготами в податях, тысячи колонистов переселятся туда из Саратовской губернии, где многие сотни семейств, по бесплодности вновь предоставленной им земли, не видят вознаграждения трудов своих и истрачивают без пользы нажитые ими капиталы. За сим, с предоставлением свободы вероисповедания, тысяча же лиц уральского казачьего войска не откажутся от переселения. По изобилии в окрестностях строевого леса возможно впоследствии устроить близ Ахкале корабельную верфь, и наконец с принятием в откупное содержание находящихся ныне почти без всякой обработки богатых медных рудников в Мазандерани нетрудно устроить на месте и литейный завод.
(обратно)214
Пока отряд этот не занят военными действиями, необходимо употребить сколько возможно из оного сил, совместно с наемными работниками, для разработки дорог от Ордубада на запад и восток. Пути сообщения в сих местах не были поныне вовсе обработаны для военной цели.
(обратно)215
Предисловие к книге В. Миронова «Я был на этой войне. Чечня, год 1995». М., 2001.
(обратно)


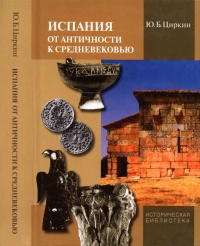
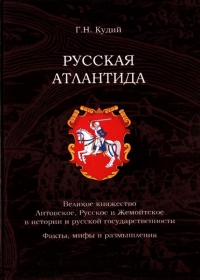
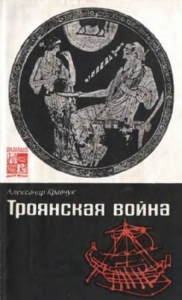
Комментарии к книге «Кавказская Атлантида. 300 лет войны», Яков Аркадьевич Гордин
Всего 0 комментариев