Кеннан Дж. Ф.
К 33 Маркиз де Кюстин и его «Россия в 1839 году» /
Перевод и ком. Д. Соловьева. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006.— 240 с.
Монография известного американского дипломата и слависта Дж.Кеннана посвящена истории написания книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году» и анализу ее значения не только для современников, но и для всей русской общественной мысли XIX и XX вв.
Книга снабжена углубленным комментарием и предназначена как для специалистов, так и для читателей, интересующихся отечественной историей.
© «Российская политическая
энциклопедия», 2006. © Princeton University Press, ISBN 5-8243-0560-91971
ПРЕДИСЛОВИЕ
В январе 1843 г. в Париже вышли в свет четыре тома книги «La Russie en 1839». Ее автор, французский аристократ Астольф Луи Леонор маркиз де Кюсгин, описал в ней свои впечатления и размышления после поездки в 1839 г. в Россию. Она сразу же стала сенсацией и всего за несколько лет была, по меньшей мере, шесть раз издана во Франции, не говоря уже о многих пиратских изданиях в Брюсселе. Вскоре последовали также немецкие и английские переводы. Хотя в то время она не только не была переведена на русский язык, но вообще запрещена в России, туда почти сразу просочились французские издания. Русские повсюду читали ее с жадаым интересом, испытывая при этом всю гамму чувств, от неохотного признания до яростного протеста. Александр Герцен назвал ее лучшей книгой о России, когда-либо написанной иностранцем, но, и это весьма характерно, его приводило в отчаяние то, что этого не смог сделать ни один русский. Император Николай I, прочитав несколько страниц, будто бы швырнул книгу на пол со словами: «Вся вина лежит только на мне, ведь я покровительствовал этому негодяю»1. Впрочем, любопытство взяло свое, и в долгие скучные вечера придворной жизни он даже читал вслух отрывки из нее для своего семейства.
Эта книга не только сильно повлияла на современников, но и оказалась весьма упорной долгожительницей. Лет через сорок, несмотря на все еще действовавший запрет, отрывки из нее стали появляться в русских исторических журналах3. А по прошествии почти семидесяти лет, в 1910 г., появился и сокращенный русский перевод[1]. Следующее издание последовало уже после Революции, но вскоре книга подверглась запрещению по причинам, о которых я скажу далее3. В 1930-х и 1940-х годах она была вновь открыта, и отрывки из нее с величайшим удовольствием читались иностранными дипломатами в Москве, в том числе и автором этих строк. Через 108 лет недавний американский посланник в Советском Союзе написал предисловие для сокращенного русского перевода, который был сделан супругой будущего посланника. (Это ни в коем случае не относится к моей персоне)[2].
Случайного знакомства оказалось достаточно, чтобы возбудить мой интерес к труду Кюстина, и когда в 1963 г. меня пригласили в качестве лектора в Белград (да еще, по моим прегрешениям, читать на сербском языке!), я за неимением лучшего избрал своей темой сравнение поездок Кюсгина в Россию и Токвиля5 в Соединенные Штаты несколькими годами раньше. Подобный опыт не только усилил мой интерес к Кюстину, но и обострил чувство некоторой таинственности, связанной с lacunae? в исторических свидетельствах о его личности и путешествии.
В 1969 г., когда я находился в Оксфорде, мне предложили прочесть там несколько лекций. Оказавшись перед проблемой выбора подходящей темы для столь ученой аудитории, я сначала снова подумал о сравнении Кюстина и Токвиля, но быстро сообразил, что угощать в Оксфорде своими рассуждениями об авторе «Демократии в Америке» это все равно, что тащить с собой в Ньюкасл мешок угля. Было решено остановиться на одном Кюстине и его книге, но с большей глубиной и подробностями. Это требовало тщательного прочтения текста и серьезных исследований как жизни самого автора, так и общего фона при написании им книги. Сами лекции не давали достаточных возможностей для представления результатов проделанного мною труда, и я посчитал уместным использовать их для монографии, которая могла бы оказаться полезной тем, кто пожелал бы узнать, что же действительно известно о Кюстине и его книге.
Такова скромная цель настоящего исследования, и читатель не должен ожидать от него чего-то большего. Книга Кюстина все еще является предметом не только споров, но даже эмоций — например, один из моих русских знакомых столь низкого о ней мнения, что упрекал меня за излишнее к ней внимание. Я посчитал уместным высказать в заключительной главе свое мнение по поводу ведущихся вокруг нее дискуссий, чтобы объяснить мотивы, побудившие меня предпринять этот труд.
Кроме материалов, почерпнутых мною из двух небольших, но весьма ценных, хоть и малоизвестных работ о Кюстине, изданных в Монако в конце 1950-х годов3, мне очень помогла докторская диссертация сорбоннского профессора Мишеля Кадо
а Marquis de Custine. Souvenirs et portraits. Textes choisis et presents par Pierre de Lacretelle. Monaco, 1956; Marquis de Lupp6. Astolphe de Custine. Monaco, 1957. (См. также примеч. 3).
«Россия и интеллектуальная жизнь Франции. 1839—1856»а. Эта замечательная работа явилась плодом упорного исследовательского труда. Хронологически она начинается с поездки Кюстина и содержит две обширных и исчерпывающих главы собственно о путешествии и самой его книге. В третьей и четвертой главах моего труда я неукоснительно следовал по пути, проложенным г-ном Кадо (собственно говоря, у меня и не было иного выбора), и я почитаю своим долгом выразить ему свою искреннюю признательность.
Мой труд ни в каком смысле не может считаться завершенным. Осталось еще немало загадок и тайн, связанных с поездкой Кюстина в Россию, да и мои собственные суждения далеко не исчерпали всех требующихся разъяснений. Тем не менее, надеюсь, что сделанное мною при всей своей неполноте поможет более молодым исследователям, не отягощенным посторонними интересами и делами, пойти дальше в своих разысканиях, чем это удалось мне.
Дж.Ф.К. Принстон, Нью-Джерси.Осень, 1970 г.
a Cadot М. L'image de la Russie dans la vie intellectuelle franfaise. Paris, 1967.
I. ЧЕЛОВЕК
Даже по строгим меркам своего времени Ас- тольф де Кюстин принадлежал к хорошему семейству. Отец его происходил из зажиточного лота- рингского рода, в котором титул маркиза передавался, начиная с первых лет восемнадцатого века. Дед приобрел фарфоровую мануфактуру в Ниде- рвиллере (Верхняя Лотарингия, ныне департамент Мозель). Там в провинциальном замке и вырос юный Астольф. Его мать происходила из рода Саб- ранов, высшей аристократии Франции1.
Детство Кюстина выпало очень беспокойным, даже трагическим. Он родился в 1790 г. на пороге самого страшного периода Французской революция, и еде, как мы увидим, можно считать жертвой Тедоора. Сравнительно молодой дед Астольфа, еще в Своих сороковых годах, симпатизировал начавшейся Революции, стал генералом республиканской армии и командовал войсками на Рейне. Но это не спасло его. В 1792 г. он был отозван, заключен в тюрьму и гильотинирован. Его не достигший еще и тридцати лет сын, отец Астольфа, смело бросился на защиту своего родителя и тоже попал на гильотину. После их казни была схвачена и брошена в камеру смертников его жена, до последнего дня навещавшая мужа в тюрьме. Ей только чудом удалось избежать его судьбы.
Когда все это произошло, Астольфу было всего два или три года. К ним в дом ворвалась революционная полиция и опечатала все комнаты. Семья лишилась всего своего состояния, но о ребенке позаботилась верная служанка, молодая лотарингская девушка, которая взяла его на кухню — единственное место, оставленное для жилья.
Мать все-таки выпустили, и она с большой решительностью, которая, в конце концов, принесла успех, принялась за поправление семейных дел. Дельфина де Кюстин, несомненно, была замечательной личностью — женщина необыкновенной красоты, очарования и силы воли, пользовавшаяся всеобщим уважением и такой репутацией, которой так никогда и не заслужил ее сын. Мадам де Сталь увековечила ее имя в названии одного из своих романов2. На протяжении долгих лет Дельфина была близким другом — и, вероятно, возлюбленной — писателя и государственного деятеля Шатобриана. С малых лет ее сын рос как бы под сенью этого выдающегося человека и считал его своим вторым отцом. К сожалению, Шатобриан был не единственным, кто летел на пламя блестящей красавицы, и, конечно, Астольфу недоставало настоящего отца.
В детские и юношеские годы он оставался предметом любви, внимания и покровительства, какие только красивая и одинокая мать могла щедро расточать своему единственному обожаемому сыну3. Нельзя осуждать ее за это — в некотором смысле он был ее единственным достоянием. Но ясно и то, что эти неуравновешенные отношения, наложив- шиеся на душевную травму от насильственной разлуки с обоими родителями в раннем детстве, несовместимы с нормальным психическим развитием. Он вырос красивым, чувствительным, но со слабым здоровьем и поначалу бессознательными, но впоследствии крайне сильно проявившимися гомосексуальными наклонностями.
Долгое время — вероятно из-за уважения к матери — Кюстину как-то удавалось сохранять внеш-
а У Кюстина был еще старший брат Гастон (1788—1792), умерший, несмотря на прививку, от оспы.
ние приличия. С наступлением Реставрации Дельфина сумела выхлопотать для него офицерский патент в одном из гвардейских полков. Несколько недель он являл собой жалкое зрелище — застегнутый в мешковатый мундир с волочившейся позади длинной шпагой. Его освободили от этой пытки и попробовали определить помощником Талейрана на Венском конгрессе. Но вскоре стало ясно, что он так же мало годится для дипломатической службы, как и для военной. Больше всего его интересовала литература. По моде того времени он стал отчаянным романтиком и восхищался великой школой немецкого романтизма. Некоторые из ее деятелей — Гейне, Варнгаген фон Энзе и его замечательная жена Рахель3 стали его близкими друзьями.
В начале 1820-х годов Кюстин без особого сопротивления уступил желанию матери, устроившей его женитьбу, после которой он с неизменной нежностью относился к своей молодой жене4, и у них даже родился ребенок. Когда в 1823 г. она внезапно умерла, он глубоко горевал, и внутри у него что-то сломалось. Он уже не смог владеть собой и следовать общепринятому образу жизни. Долго подавляемые желания прорвались наружу с непреодолимой силой.
28 октября 1824 г. последовала катастрофа — ночью он был найден в грязи на дороге из Версаля к Сен-Дени избитый, без чувств, раздетый до пояса, со сломанными пальцами. Это сделали солдаты, с товарищем которых у него было назначено свидание.
Так ли все было на самом деле или нет, не столь уж важно. Разразился вселенский скандал, подхваченный газетами. Репутация Кюстина и его положение в обществе безнадежно рухнули. С тех пор и до конца своих дней он фигурировал в сплетнях всех злых языков как самый знаменитый гомосексуалист Франции.
Его тяжкое положение лучше всех описал Пьер де Аакретель во введении к изданному им небольшому томику кюстинианы: «Маркиз де Кюстин невозмутимо переносил все шушуканья, насмешливые взгляды и едва скрываемые ухмылки, презрение одних и сочувствие других; но он стал одинаково неудобен для всех». Общество беспощадно и жестоко отвергло его. В качестве примера можно упомянуть о письме к нему маркизы де Монкальм после случившегося инцидента: она советовала ему искупить свой позор достойной смертью5.
В те же самые годы Кюстина постигла целая чреда катастроф. Сам он еще в письме к той же маркизе де Монкальм (8 января 1824 г.) писал о первом из только начинавшихся своих несчастий — 7 января 1823 г., через несколько месяцев после рождения сына, живший у них в доме на положении члена семьи старый аббат перед смертью проклял все семейство (Кюстин утверждал, что он лишился рассудка). Прошло полгода и ужасная агония свела в могилу его молодую жену. По прошествии года за ней последовал другой домочадец — старый друг семьи — и одновременно впала в безумие няня сына.
Но тогда Кюстин еще не знал всю меру предстоявшей ему трагедии. Не успел окончиться тот год, как он очутился на положении отщепенца. Потом, в первые дни 1826 г., умер сын, а через полгода за ним последовала разбитая горем его мать3.
Оставшийся в полном одиночестве, буквально затопленный унижениями и повергнутый ударами судьбы, Кюстин все-таки нашел в себе силы для внутреннего самоотречения и с достоинством (отчасти даже успешным) смирился со своим положе-
а На ее смерть маркиза де Монкальм отозвалась такими словами: «Я не верила /.../, что можно умереть от горя, но г-жа де Кюстин доказала обратное»6.
нием. Нервное возбуждение сменилось спокойствием и покорностью судьбе. Он сумел примириться с изгнанием из аристократического общества и старался найти себя в путешествиях, литературе и религии. Кюстин всегда был искренне набожен, и теперь его благочестие получило еще большее подкрепление. В величественном патернализме Римско-католической церкви он обрел не только отпущение грехов и терпимость к ненормальности своих чувств, но замену казненному отцу и ту иерархичность, которой ему так недоставало в современном французском обществе.
Тем не менее, жизнь Кюстина оставалась незаполненной и трагической. Ущербность чувств висела на нем тяжелым камнем, придавливая все надежды, мешая личным отношениям и ослабляя литературный талант. Его судьбу хорошо выразила г-жа Ансело в своих «Парижских салонах» (с. 239—240)а:
«Над всем, что бы ни делал г-н де Кюстин, витала какая-то роковая сила. Он соединял в себе величайшие дары природы и происхождения: высокий, красивый, прекрасно воспитанный и умный, достаточно богатый, чрезвычайно образованный и до кончиков ногтей настоящий аристократ, как по рождению и манерам, так и по чувствам. Но при всех этих благах его душу терзало непрестанное беспокойство, и он не мог найти для себя отдохновения, словно бы бесконечно колебаясь и теряя равновесие, что не давало ему наслаждаться радостями повседневной жизни».
а Маргарита Луиза Виржини Шардон Ансело (1792— 1875), жена литератора и академика Жака Арсена Франсуа Поликарпа Ансело (1794—1854). В соавторстве они написали Reine, Cardinal et Page (Королева, кардинал и паж) и другие произведения. Г-жа Ансело писала романы (в том числе Етегапсе, Яепёе et Varville) и пьесы для театра. Ее перу принадлежат также «Les Salons de Paris» (См. также: Ансело Ф. Шесть месяцев России. М., 2001).
Пережить все эти несчастья и создать для себя новую жизнь Кюстину очень помог его преданный английский друг Эдуард Сент-Барб, происходивший из почтенной гэмпширской семьи, чей род с его французским именем восходил ко временам Вильгельма Завоевателя. Он стал постоянным спутником Кюстина незадолго перед смертью его жены и оставался с ним вплоть до кончины в 1857 г. Сент-Барб вел его дела и домашнее хозяйство (в своих письмах Кюстин часто в шутку, но с любовью называл его l'esclaveа). Такой menage a deux[3], продолжавшийся более тридцати лет, иногда перерастал в menage a troisB, когда Кюстин распространял свое гостеприимство и покровительство еще на какую- нибудь персону мужского пола, что, естественно, возбуждало немалое злословие в парижском обществе. Но современники, знавшие Сент-Барба, единогласно признавали его чрезвычайную деликатность и выдающиеся качества: преданность, самоотвержение, чувство собственного достоинства и умение держать себя в столь щекотливом положении с необыкновенным тактом. Он посвятил свою жизнь Кюстину, благодарность которого хорошо видна из одного его письма во время серьезной болезни Сент-Барба в 1856 г.; Кюстин написал про него, что это ип homme sans lequel je ne puis vivrer. Несомненно, здесь мы видим глубокую и прочную, а во многих отношениях даже трогательную привязанность, которая была значительно сильнее тех физических влечений, столь увлеченно пересуживавшихся циничным Парижем. Именно она позволила Кюстину вынести свой позор и продолжить жизнь и литературную деятельность.
С тех пор Кюстина видели, главным образом, в литературных кругах. Парижские литературные салоны в противоположность великосветским оставались открытыми для него — отчасти это объясняется широким и роскошно-щедрым гостеприимством самого Кюстина по отношению к знаменитым литераторам3. Он был знаком со многими из великих: Виктором Гюго, Жорж Санд, Бальзаком, Стендалем, Бодлером, Ламартином, Софи Гэй7. Его допускали даже в салон мадам де Рекамье для чтения своих произведений8, чем, кстати, занимался и сам Бальзак chez Custine6. На его вечерах иногда играл Шопен.
Судя по всему, ни одно из этих знакомств не было ни достаточно близким, ни прочным, за исключением Софи Гэй. Этому, несомненно, препятствовала личная жизнь Кюстина. Верно и то, что многие, кто сохранял с ним внешне добрые отношения, не могли удержаться от злословия за его спиной. Однако не будет преувеличением назвать Кюстина известной, хотя, быть может, и
а Большой городской дом Кюстина (ул. де Ларошфуко, 6), где раньше жил скульптор Пигаль, сохранился до нашего времени, но лишь как часть главного офиса фирмы Сотрад- nie des Ateliers et Forges de la Loire. В большой гостиной с лепным ампирным потолком и наборным паркетом, где когда-то играл Шопен и читал свои произведения Шатобри- ан, теперь заседает совет директоров, а столь же роскошная столовая разделена перегородками, за которыми стучат пишущие машинки и хлопают двери от входящих и выходящих людей.
6 Chez Custine — у Кюстина (франц.).
сомнительной фигурой в литературных кругах Парижа.
Больше всего ему хотелось стать признанным мэтром современной литературы[4]. Ради удовлетворения этой амбиции он перепробовал почти все жанры: стихи, романы, драму и ни в чем не потерпел сокрушительной неудачи, но, с другой стороны, не достиг и настоящего успеха. В 1833 г. Кюстин поставил свою пьесу, но это стоило ему больших денег (пришлось закупить целый театр), да к тому же через три представления эта вещь была бесцеремонно вычеркнута из репертуара. Злые языки обвиняли его в подкупе критиков и саморекламе, но если здесь и была какая-то правда, то все это оказалось совершенно безуспешным — критика очень редко хвалила его. До появления «России в 1839 году» у Кюстина вообще не было сколько-ни- будь широкой известности. Его приятель Гейне отчасти справедливо приклеил к нему ярлык ил demi- homme des letters[5]. Только «Россия» сделала его заметной фигурой в литературе, да и то лишь благодаря успеху у публики, а отнюдь не из-за похвал критиков, которые, как мы увидим, разошлись во мнениях и не выразили особых восторгов.
По своему духу и стилю Кюстин был в глубочайшем смысле романтиком. Все написанное им проникнуто характерной для этого направления аффектацией, а его воображение вдохновлялось образами благородных, не понятых миром героев. Фигурально говоря, он тоже скрывался от мира в своей одинокой башне, лелея чувства, слишком утонченные для грубой толпы — черты, весьма характерные для романтиков 1820-х годов. Кюстин так никогда и не избавился окончательно от подобного мировоззрения, которое налагало свой отпечаток на все его произведения и просвечивало даже во многих местах «России в 1839 году».
Но, как показывает история литературы, одного только романтического духа далеко недостаточно, чтобы стать великим писателем. Для творческого бессмертия он может быть скорее помехой, будучи в некотором смысле корой или скорлупой расхожих стереотипов, через которую приходилось пробиваться, например, Байрону, Пушкину, Лермонтову или Вальтеру Скотту, черпавшим для себя вдохновение из более глубоких источников.
Однако как поэт, романист или драматург, Кюстин просто не обладал такими внутренними резервами, и лишь в одном направлении истинное вдохновение посещало его — при описании путешествий.
Он страстно любил путешествовать и потратил на это немалую часть своей жизни. По его словам, для человека, оказавшегося в разладе с эпохой, путешествия воистину une douce maniere de passer la vie3 (и мог бы добавить: «для тех, кого отвергло общество»). Кюстин сам говорил, что «прочитывает» страны как другие читают книги, и переносится не только к другим ландшафтам, но и в иные века, наблюдая l'histoire analysee dans ces resultats[6].
Я не знаком с его первыми опытами в этом жанре — очерками Швейцарии, Италии, Англии и Шотландии, где он побывал еще совсем юным, хотя опубликовал свои впечатления много лет спустя10.
Мне приходилось слышать крайне резкие нападки на это произведение, которое называли романтической галиматьей в духе оссиановских легенд11. Зато книга об Испании, вышедшая в свет всего за год до поездки Кюстина в Россию, оказалась значительно серьезнее. На мой взгляд, ее незаслуженно обошли вниманием современники и предали забвению потомки. Впрочем, судить об этом должны те, кто знает Испанию и ее историю.
Литературные способности Кюстина достигли полного развития, когда в пятьдесят два года он приступил к работе над «Россией в 1839 году». Острая конфронтация с реалиями русской жизни, пробуждавшая и до него лучшие качества западных наблюдателей на протяжении столетий, подвигла маркиза бескомпромиссно заявить свое мнение. В этом ему помогло и нравственное чутье, и понимание соразмерности вещей и сущности истинной цивилизации. Способности Кюстина, понапрасну растрачивавшиеся в других жанрах литературы из-за неполноты таланта, здесь, в столкновении с николаевской Россией, получили, наконец, возможности для плодотворного применения.
«Россия в 1839 году» явилась почти апогеем в литературной деятельности Кюстина. Он написал еще один роман, имевший весьма посредственный успех, и кое-что о своих новых поездках, главным образом, в Италию; он похоронил почти всех друзей, продал парижский дом и скоропостижно скончался в загородном имении Сен-Гратьен в 1857 г. Его смерть прошла почти совершенно незамеченной. Наследник и верный спутник Кюстина, Эдуард Сент-Барб, пережил своего друга немногим более, чем на год. Почти все бумаги маркиза пропали, как из-за превратностей обстоятельств, так и преднамеренно уничтоженные во исполнение воли покойного. С ними были утрачены единственные ключи к разгадке тайн, окружающих столь памятную поездку Кюстина в Россию, благодаря которой в памяти последующих поколений только и сохраняется его имя.
Астольфа де Кюстина нельзя назвать великим человеком. Его талант с детских лет ограничивался искусственным и узким горизонтом, внутренней робостью, которую он иногда мог скрыть, но не преодолеть, трагическими ранами его чувственной жизни и, наконец, романтически-искаженным восприятием жизни. Все это помешало ему хотя бы приблизиться к истинному величию.
Но все-таки по любым меркам Кюстин был неординарным человеком. Преобладающее влияние матери, породившее в нем некоторую женственность характера, наделило его интуицией, значительно более тонкой, чем это свойственно мужчинам; острый ум и прекрасное для того времени домашнее классическое образование сочетались с широким взглядом на мир — результат многолетних путешествий, и страстной увлеченностью языками и литературой. Несчастья личной жизни сделали его своеобразным философом, наделив чуткостью к нравственным ценностям и неприятием всяческого лицемерия и ханжества. В некоторых отношениях он обладал тем возвышенным взглядом, который поднимал его над условностями и предрассудками того времени.
II. ЗАЧЕМ НУЖНО ЕХАТЬ В РОССИЮ?
Что именно побудило Кюстина отправиться в Россию остается не вполне ясным1. Однако в этой связи заслуживают внимания три обстоятельства.
Во-первых, лишь в предыдущем, 1838 г., с вопиющим опозданием вышла в свет его четырехтомная книга об Испании — ведь путешествие в эту страну он совершил уже семь лет назад. С тех пор там уже сменился образ правления, и многое в книге явно устарело. Кюстину пришлось даже изменить название, чтобы подчеркнуть ее исторический аспект, и на титульном листе значилось: «Испания при Фердинанде VII»2. Несмотря на подобное отставание, книгу сравнительно хорошо приняла критика, во всяком случае, лучше, чем все его прежние труды3. Уже благодаря одному этому, он проникся убеждением, что именно описание путешествий — а не роман, стихи или драма — составляют его сильную сторону.
Кроме осознания наиболее свойственного ему литературного жанра в связи с испанским путешествием, у Кюстина могли быть также и сближения, относящиеся уже к самой сути дела. Он был в высшей степени западным человеком. Все его вкусы и интересы, его религия и политические убеждения, все это имело глубочайшие корни в истории и культуре его родной Франции и даже больше того — в традициях Католической церкви и Римской империи. Но Испания, по его собственному признанию, лишь отчасти принадлежала к Европе. Это путешествие явилось для него первым соприкосновением с неевропейским миром. Он и сам вполне осознавал это и весьма чувствительно относился ко всему, что отделяло Испанию от известного ему мира. Успех в выявлении и описании подобных различий и побудил его использовать этот свой талант в другой полуевропейской стране — России. Он так и написал в книге об Испании, признавшись, что ему было бы интересно сравнить Россию и Испанию, эти оконечности Европейского континента, связанные с Востоком более, чем какая-либо другая страна в Европе4.
Уже одного этого было бы вполне достаточно, чтобы объяснить путешествие Кюстина в Россию. Но возникшие таким образом побуждения должны были многократно усилиться после получения в августе 1838 г. письма от Бальзака с похвалами его испанским запискам. Это письмо вскружило бы голову даже более известному и не менее амбициозному человеку, чем маркиз де Кюстин. Легко представить, с каким обостренным наслаждением — уже никогда более не повторившемся за всю его литературную карьеру, читал он слова Бальзака:
«/.../ мало найдется современных книг, сравнимых с вашими письмами.
Пусть сказанное мной останется между нами, ведь такой труд, как «Испания», совершенно не под силу никому из профессиональных литераторов.
Ваше призвание — путешествия. То, что вы делаете, поражает меня, и мне кажется, сам я не способен написать подобные страницы».
Такие слова прославленного автора «Отца Горио» должны были звучать сладчайшей музыкой в ушах Кюстина, для которого не было ничего драгоценнее подобной похвалы, которой хватало не только на то, чтобы поддержать его, но и усилить у него вкус к путешествиям. Но Бальзак не ограничился одними только похвалами:
«Если вы предпримите то же самое и в отношении других стран, у вас появится возможность составить уникальное собрание в сем роде, и оно, поверьте мне, будет воистину драгоценно. Я сделаю все, что в моих силах, дабы привлечь вас к описанию таких стран, как Германия, Италия, Север и Пруссия. Это принесет вам великую славу»5.
Я взял на себя смелость выделить курсивом в этой цитате слово «Север», которое употреблялось тогда во Франции для обозначения России. Как видно, Кюстин получил от Бальзака не только горячую похвалу с пожеланием сделать своим metier* описание путешествий, но также и вполне конкретное предложение включить Россию в число предполагаемых для этого стран. Вряд ли возможно, чтобы на Кюстина не повлияли эти слова Бальзака, когда менее чем через полгода он начал готовиться к поездке в Россию.
Знакомство Кюстина с Бальзаком относится к началу тридцатых годов, после благоприятного отзыва Бальзака об одном из его ранних сочинений — любезность, на которую Кюстин ответил по случаю первого и единственного представления бальзаковского «Вотрена». В 1835 г. они встретились в Вене, где Кюстин познакомился с будущей женой Бальзака г-жой Ганской. Дружественные отношения продолжались до появления «России в 1839 году». Хотя Бальзака часто и предупреждали о сомнительной репутации Кюстина, он решительно не хотел принимать во внимание то, что считал его личным делом. Однако после приезда Кюстина из России Бальзак, озабоченный финансовым и политическим
а Metier — профессия, ремесло (франц.).
положением г-жи Ганской в этой стране, решил отдалиться от маркиза, вплоть до того, что запретил г-же Ганской писать ему. Когда он сам вскоре приехал в Санкт-Петербург, то некоторое время подумывал даже написать нечто вроде критических замечаний на книгу Кюстина. Однако холодность приема в России (со стороны императора — память о визите маркиза) вместе с собственными наблюдениями русской жизни, заставили его отказаться от этого намерения. Проезжая через Берлин на обратном пути в Европу, он, по донесению французского посланника, говорил о России ничуть не лучше, чем Кюстин6. Да и г-жа Ганская, в отношениях которой с официальным Петербургом не было недостатка в горечи, судя по всему, весьма ценила произведение Кюстина7.
Вторая причина для путешествия Кюстина также не может быть доказана с полной достоверностью. Речь идет о восхитившем его и, может быть, возбудившем в нем дух соперничества первом томе «Демократии в Америке» Алексиса де Токвиля, который появился в 1835 г.8 Его колоссальный успех был одним из самых выдающихся событий французской литературно-политической жизни в 1836 и 1837 гг., как раз когда Кюстин готовил свою книгу об Испании. О его глубоком впечатлении от труда Токвиля свидетельствует не только цитата на титульном листе «Испании при Фердинанде VII»a, но в высшей степени уважительные упоминания и мнения о взглядах автора «Демократии» в письме XXXI той же книги. После завершения своего труда у Кюстина должно было возникнуть желание пос-
а «Цель моя заключалась отнюдь не в восхвалении какой- либо формы правления вообще, ибо я принадлежу к числу тех, кто не верит в абсолютное благо законов».
ледоватъ примеру Токвиля. И если для этого Испания совсем не годилась, то вполне подходящей была Россия.
Есть какая-то странная симметрия — с одной стороны, полного подобия, с другой — полной противоположности, как в самих личностях Кюстина и Токвиля, так и в их путешествиях, совершенных в одно и то же десятилетие к двум великим и развивающимся авангардам европейской цивилизации: России и Америки. Оба автора принадлежали прежде всего к одинаковой семейной традиции. Оба были аристократами; семейства и того, и другого жестоко пострадали во время недавней революции. Оба, отчасти как следствие перенесенных гонений, восприняли ценности старого режима. Обоих удручал упадок аристократических институтов и все больше проявлявшееся во Франции социальное равенство.
Один из них отправился на запад, в Северную Америку, намереваясь докопаться до корней, столь угнетавших его явлений, наблюдать их самые крайние и даже отвратительные проявления. Иначе говоря, приготовившись к наихудшему. Другой поехал на восток, где, как говорили, ничего подобного вообще не бывало, а старые ценности сохранялись в полной неприкосновенности — иными словами, он мог рассчитывать на самое лучшее. Токвиль считал главной силой американской демократии местное самоуправление и ездил почти исключительно по провинциям, пренебрегая центральной властью. Он очень недолго и почти без всякого интереса побывал в Вашингтоне. Кюстин приехав в страну с небывалой и едва ли не уникальной среди христианских стран централизацией, совершенно естественно обратил свое внимание прежде всего на столицу, двор и аппарат управления.
И вот из этих совершенно противоположных наблюдений оба они вынесли почти полностью совпадающие заключения. Токвиль основывался, так сказать, на положительных примерах американской демократии, оказавшейся хоть и не наилучшей формой правления, а тем более не тем, к чему лежало его сердце, но все-таки вполне сносной, таким миром, где человек, не становясь ангелом, поднимался выше животного. Кюстин говорил то же самое, видя, быть может, не так уж много, но зато чувствуя и угадывая куда больше, особенно то, к чему может привести современный деспотизм, если он не реформируется ни влиянием аристократии, ни представительством народа.
Много ли знал каждый из них о наблюдениях другого, это мне не известно. Сомневаюсь, чтобы Кюстин хорошо представлял себе жизнь в Соединенных Штатах. Скорее всего, он почерпнул все свои сведения из Токвиля. Что касается самого Токвиля, здесь заключена некая тайна. Конечно, он не мог читать книгу Кюстина еще до написания своей собственной. В его трудах и письмах не видно како- го-либо особого интереса к России. И все же он закончил первый том своего великого труда сравнением Америки и Российской империи, и его пророческие слова с тех пор многократно повторялись. Ни один даже прекрасно знающий Россию человек не мог бы сказать лучше:
«Американец борется с препятствиями, воздвигнутыми самой природой; русскому противостоят люди. Первый сражается с дикой местностью и дикарями, второй — с цивилизацией, употребляя для сего все средства своего оружия. Завоевания американцев достигаются плугом, у русских — мечом и огнем. Англо-американец побуждается личным интересом, ему дана полная свобода приложения сил и здравого народного рассудка; русский сосредоточивает весь авторитет общества на одной только армии. Главный движитель первого — свобода, второго — рабство. Они исходят из противоположных начал, но, похоже, каждый действует по воле Небес, определяя судьбы половины земного uiapa»g.
Непонятно, откуда у Токвиля возникло подобное мнение и почему он включил его в свою книгу. Но несомненно одно — он ясно понимал не меньшую чем у Соединенных Штатов роль России в будущем мироустройстве. Вполне логично предположить, что для Кюстина, сознательно или бессознательно, эти поразительные слова послужили точкой отправления не только в его путешествии, но и в его интеллектуальной эволюции.
Я очень старался выяснить, были ли Кюстин и Токвиль знакомы друг с другом. Отрицательный ответ на это кажется с первого взгляда маловероятным. Как будто бы у них должно было быть множество общих знакомых. Например, по словам Токвиля, он рос вместе с детьми своего кузена Шатоб- риана. Кюстин, со своей стороны, говорит, что в детстве считал Шатобриана, усердного поклонника его матери, своим приемным отцом. Однако следует иметь в виду, что он был на пятнадцать лет старше Токвиля, и когда тот приехал в Париж и стал бывать в свете, Кюстина после его личной катастрофы уже не принимали в лучших парижских салонах.
В корреспонденции Токвиля я не нашел ничего, что показывало бы хоть какой-то его интерес к Кюстину, и у меня есть только одно свидетельство о их встрече, вообще, как я подозреваю, единственной. Она произошла, вероятно, в салоне мадам де Рекамье после приезда Кюстина из России, но еще до написания его книги. О ней упомянуто в письме к Варнгагену фон Энзе от 22 февраля 1841 г. При тогдашних обстоятельствах Кюстин мог представляться Токвилю лишь малоизвестной личностью, второстепенным литератором со скандальной репутацией, в то время, как сам он был наверху славы: автор знаменитой «Демократии в Америке», член Палаты депутатов, уже приобретавший вес в политической жизни. Навряд ли ему мог быть особенно интересен Кюстин. Последний же, напротив, только что возвратившись из путешествия, вполне сравнимого с токвилевским, и собираясь описать его в книге, должен был смотреть на этою прославившегося человека с напряженным интересом, что и отражено в словесном портрете, посланном Варнгаге- ну фон Энзе:
«Я познакомился с автором «Американской демократии» г-ном де Токвилем. Это тщедушный маленький человек, все еще молодой, и в нем есть даже что-то ребяческое, но вместе с тем и старческое. Среди амбициозных людей он, я думаю, самый наивный. Его выразительное лицо желчного цвета было бы привлекательно, если бы не вызывало раздражения. Сразу видно, что он говорит, имея в виду одновременно несколько смыслов, а его мнения суть всего лишь средства для достижения каких-то своих целей»10.
Я сомневаюсь, что Токвиль вообще читал книгу Кюстина или как-то заинтересовался ею. Это было совсем не в его натуре. Он обладал, как говорится, однобоким умом и всегда занимался только чем-то одним, отдавая предпочтение собственным мыслям, выяснению фактов и ничуть не заботясь о каких-то иных мнениях. Возможно, он не обратил бы внимания на книгу Кюстина, даже если и захотел бы заняться изучением России. Наблюдательный Кюстин, несомненно понял это качество Токвиля, и не исключено, что именно к нему относится одно любопытное место в его книге, хотя речь идет о Монтескье. Но здесь употреблено множественное число, и вряд ли Кюстин забыл при этом о своей недавней встрече с Токвилем: «/.../ эти великие умы видят только то, что им хочется; весь мир за- ключей только в них самих; они понимают все, кроме того, о чем им говорят»11.
Несмотря на явную симметрию жизненного опыта, все-таки нельзя не почувствовать два совершенно различных характера: Токвиль — сдержанный, отстраненный, с безупречной репутацией, счастливый в семейной жизни, всеми чрезвычайно уважаемый, более того — любимчик политической и интеллектуальной европейской элиты, человек, хотя большую часть времени проводивший в одиночестве, но отнюдь не одинокий; с другой стороны, Кюстин — с сомнительной репутацией, преследуемый неудачами, редко остававшийся наедине с самим собой, но неизменно одинокий. Токвиль по своим склонностям был интеллектуалом и человеком науки, кроме поведения людей в сообществах мало интересовавшийся в своей монументальной отрешенности тяготами или делами отдельных людей. Он явился истинным предшественником современных социологов и политологов в их наилучшем выражении. А интересы Кюстина лежали в сфере эстетики и религии. Он был очень индивидуализированным человеком, и его всегда привлекали отдельные личности, а не толпы.
Третий фактор в решении Кюстина поехать в Россию был, по некоторым мнениям, решающим, но, на мой взгляд, совершенно незначительным, хотя и документирован лучше, чем два предыдущих.
Среди польских политических эмигрантов, нашедших убежище во Франции после восстания 1830—1831 гг., был и красивый смелый юноша, которого Кюстин, начиная с 1835 г., взял на пять лет под свое крыло, поддерживал финансами и давал у себя пристанище. Речь идет об Игнации Гуровском, брате известного панслависта Адама Туровского, который впоследствии уехал в Соединенные Штаты, стал переводчиком Государственного департамента и надоедал Линкольну во время Гражданской войны своими яростными письмами12.
То, что привлекательная внешность Туровского имела отношение к дружбе и покровительству Кюстина, конечно, может быть подвергнуто сомнению. Но в Париже, естественно, давали свое толкование их отношениям. Жизнь Игнация в доме Кюстина была темой саркастических острот по поводу этого menage a troisa. Однако Игнаций отнюдь не пренебрегал и прекрасным полом, а существующие свидетельства, по крайней мере, о позднейших годах этой связи, говорят как будто в пользу отеческих чувств Кюстина, хотя и весьма тяжких для него материально.
По всей видимости, Игнаций был своего рода авантюристом: несомненно очаровательным и забавным (Кюстин часто упоминает об этом в своих письмах), но в то же время пустым, эгоистичным, холодным и вульгарным. Это стоило Кюстину, до тех пор, пока не прервалась их связь, не только немалых денег, но и множества чисто личных затруднений. Отвергнутый актрисой Рашелью, у которой он вынудил Кюстина просить ее руки (в 1842 г., уже после поездки в Россию), Игнаций впутался в историю, напав на одного почтенного пэра Франции, которого заподозрил в помехах своим брачным намерениям. И, наконец, он сбежал и даже вступил в брак с инфантой Изабеллой, племянницей королевы Испании. (Этот брак, начавшийся в бедности бельгийского изгнания продолжался долгие годы, но, как говорят, сам герой окончил свои дни испанским грандом и отцом многочисленного семейства).
а Мёпаде a trois — жизнь втроем (франц.).
Однако в 1838—1839 гг. Гуровский хотел получить разрешение возвратиться в Российскую империю и жить там, как и его брат Адам. Несомненно, Кюстин стремился помочь ему в этом (надеясь, как полагают некоторые, избавиться от него). Он предпринял для этого кое-какие шаги, в том числе, проезжая через Германию на своем пути в Россию, представил Туровского наследнику русского престола; потом, уже в Петербурге, затрагивал это дело в разговоре с императрицей, которой тоже представил своего протеже по возвращении во время одной из ее поездок на немецкие воды.
Но Гуровский оказался связан с поездкой Кюстина в Россию еще и в другом отношении — при русском дворе у него была двоюродная сестра, жена шталмейстера барона Фредерикса. Отчасти благодаря ее протекции император принял Кюстина, которому были оказаны также и другие любезности3.
Как уже говорилось, некоторые считали главной причиной поездки Кюстина именно желание способствовать возвращению Туровского в Россию, а придирчивый и критический тон его книги приписывали неудаче этой попытки. Но, по справедливому замечанию маркиза де Аюппе, при русском дворе у Туровского и так уже был влиятельный доброжелатель в лице его двоюродной сестры, и для того, чтобы привлечь внимание августейшей
а Баронесса Сесилия Фредерике, дочь графа Владислава Туровского от первого брака. Она воспитывалась вместе с будущей русской императрицей, урожденной принцессой Шарлоттой Луизой, при дворе ее отца, короля Фридриха Вильгельма III, и, как говорили, была его побочной дочерью. Она много лет находилась при императрице в качестве фрейлины. По мнению маркиза де Аюппе, положение ее и мужа весьма сильно пострадало после появления книги Кюстина.
четы к его судьбе, не было ни малейшей надобности в поездке Кюстина.
Но, признавая все недостатки и прегрешения самого маркиза, нельзя не расценивать подобные утверждения лишь как попытку принизить его достоинства путешественника, писателя и философа. «Россия в 1839 году» слишком значительное произведение, чтобы при всех огрехах, неточностях и недостатках ее можно было свести только к заинтересованности Кюстина в молодом польском друге, тем более таком, чьи изъяны в характере уже тогда не могли не быть ему известны.
Тем не менее, отношения Кюстина с Туровским имеют все-таки некоторое значение для понимания его книги, если рассматривать их в связи с теми обширными польскими влияниями, которые существовали и до, и после путешествия. Молодой Гуровский был, конечно, всего лишь одной (да и то малозаметной) фигурой среди многих других поляков, которые бежали из своего отечества после восстания 1830—1831 гг. и обосновались в Париже. Конечно, они все до единого исповедовали русофобию и, не колеблясь, предлагали себя в качестве знатоков России и специалистов по части пороков и бесчинств русских властей. Впрочем, не следует и преуменьшать их знание всего этого. Как заметил мой друг сэр Исайя Берлин, «из жертв получаются дотошные наблюдатели».
Трудно сказать, скольких поляков знал Кюстин в Париже. Его встречали в салоне княгини Чарторый- ской, чей муж, князь Адам, был самой влиятельной и значительной фигурой польской эмиграции13. Как мы уже видели, он был хорошо знаком с Шопеном и его подругой Жорж Санд. С Гейне его свел поляк Евгений Бреза, который в середине 1840-х годов опубликовал маленький томик своих писем, адресованных тоже полячке, графине Радолинской, и в заглавии этой книги имя Кюстина стоит на первом местеа. О его знакомстве с г-жой Ганской, польской пассией Бальзака, мы уже упоминали.
Можно смело утверждать, что из всех польских эмигрантов в Париже первое место по влиянию на Кюстина принадлежало великому поэту Адаму Мицкевичу. Покойный профессор Вацлав Ледниц- кий в своей книге «Россия, Польша и Запад»15 пишет, что Кюстин встречался с Мицкевичем перед поездкой в Россию и читал его стихотворения6. Вполне возможно присутствие Кюстина и на лекциях Мицкевича в Коллеж де Франс16, хотя об этом
а Этот небольшой томик, озаглавленный: Monsieur Je Marquis de Custine en 1844. Lettres addгessёes a Madame la Comtesse Josephine Radolinska par Eugene de Breza и опубликованный в 1845 г. издательством Libraire Etrangire in «Leip- sick», представляет собой величайшую библиографическую редкость. Слова par Еидёпе de Breza напечатаны на титульном листе таким мелким шрифтом, что при беглом взгляде создается впечатление, будто письма к графине Радолинской принадлежат Кюстину. В книжке без какого-либо предисловия или иного объяснения содержатся семь писем какого-то неизвестного Евгения де Бреза к также оставшейся для меня неустановленной графине Радолинской14, написанные между 1 сентября и 2 октября 1844 г. в окрестностях Женевского озера (два из Сен-Женгольфа, где часто бывал Кюстин). Несмотря на такое название, только в трех письмах вообще говорится о Кюстине. В одном месте это лишь косвенное упоминание, а в двух других автор по совершенно непонятным причинам в самых цветистых и витиеватых выражениях рекомендует Кюстина графине, которая, очевидно, не была с ним знакома. Содержание писем сугубо личное, совершенно не относящееся к Кюстину и не имеющее каких-либо литературных или иных достоинств. Читатель остается в совершенном недоумении относительно причин всей этой затеи.
6 Вероятность этого представляется мне тем более достоверной, что переводчик Мицкевича, Островский, стал впоследствии одним из благожелательных критиков книги Кюстина.
не сохранилось никаких свидетельств, равно как и о близости между ними или каком-либо влиянии на него бесед с Мицкевичем.
Такое влияние наиболее вероятно могли оказывать сочинения поэта. Первый том их французских переводов Христиана Островского появился в Париже в 1841 г., как раз ко времени начала работы Кюстина над своей книгой17. В него был включен «Отрывок», написанный в Дрездене (1832 г.), куда входил также резко антирусский «Путь в Россию». Тогда парижская слава Мицкевича была столь велика, а личная связь с ним Кюстина стала такой тесной, что навряд ли эта книга могла пройти мимо него, особенно если учесть его намерение написать о своей недавней поездке в Россию. Действительно, стоит только сравнить стихи Мицкевича с текстом Кюстина, сразу же бросается в глаза несомненная схожесть и не столько в каких-то отдельных местах, хотя и здесь есть поразительные совпадения, но прежде всего в самом их духе и идентичности содержания. Ощущение бескрайних пространств, сумрачность бесконечных русских дорог; зловещая фигура царского фельдъегеря, наслаждающегося своей властью над бесправными людьми18; однообразие изб, претензии и подражательство Петербурга и чудовищная цена постройки этого города; тяжкий исторический гнет беспощадной фигуры Петра Великого, воплощенный в его массивной конной статуе; деградация Русской Православной Церкви, подвластной царской бюрократии; раболепие дворянства и придворных — все эти и другие темы оказываются общими для обоих произведений.
33
Однако следует подчеркнуть, что хотя мы и предполагаем знакомство Кюстина с «Отрывком» Мицкевича, это могло произойти только после его поездки в Россию. Он мог узнать в строках поэта многие впечатления, вынесенные им из своего соб-
2 Дж. Ф. Кеннанственного опыта. Скорее всего, стихи Мицкевича послужили ему напоминанием о тех предметах, которые следовало затронуть; мало вероятно, что они определили хоть в какой-то степени самую сущность книги Кюстина.
III. ПУТЬ В РОССИЮ
Судя по всему, Кюстин выехал из Парижа в конце мая 1839 г. в сопровождении своего итальянского слуги Антонио и Туровского. Прошло более месяца, прежде чем он сел в Травемюнде на кронштадтский пакетбот. Не совсем ясно, где он находился в этот промежуток времени. Очевидны его старания запутать следы некоторых своих передвижений, и это ставит под вопрос достоверность того, что он говорит о всех других переездах. Однако нижеследующий маршрут можно считать приблизительно верным.
К 3 июня Кюстин и Гуровский были в Бад-Эмсе на Рейне и, конечно, отнюдь не случайно незадолго до того, как туда же приехал и российский наследник великий князь Александр Николаевич. Кюстин называет это событие фактическим началом своего путешествия в Россию. Он был очевидцем прибытия великого князя, и именно с этого начинается его книга. Он снова увидел наследника на следующий день и еще более подчеркивает среди всего прочего свое даже пугающее впечатление о способности великого князя к притворству, что, как он выражается с изрядной долей цинизма, показывает несомненные способности для обладания колоссальной властью. Но ничего не говорится о том, что он воспользовался случаем и представил наследнику Туровского.
8 июня или около этого дня Кюстин (возможно, уже без Туровского) выехал из Эмса во Франкфурт. Здесь он остановился недели на две, а затем отправился в Бад-Киссинген в шестидесяти пяти милях к востоку, куда прибыл около 24 июня. (Избрав этот путь, он следовал за великим князем, который был в Киссингене уже 18-ю). Кюстин пробыл там день или два и направился затем в Берлин, где тоже остановился на недолгое время, и 3 июля был уже в Любеке, готовясь отплыть из близлежащего Траве - мюнде.
Примечательно, что в описании путешествия он не только ничего не говорит о своих остановках во Франкфурте и Киссингене, а напротив, как бы хочет создать впечатление, что поехал из Эмса прямо в Берлин, и для подтверждения этого даже изменяет дату своего прибытия в прусскую столицу. Вполне естественно возникает вопрос о причинах такой скрытности.
В Бад-Киссингене, а, быть может, также и во Франкфурте, Кюстин встретил одного уже давно знакомого ему по Парижу русского и получил от него рекомендательные письма в Россию. Этим знакомым был человек, хорошо известный в истории русской литературы — Александр Иванович Тургенев.
Он состоял в дальнем родстве с великим романистом Иваном Сергеевичем Тургеневым и был одним из четырех сыновей второго директора Московского университета Ивана Петровича Тургенева, который принадлежал к числу образованнейших русских людей того времени. После службы в молодости в Архиве Министерства иностранных дел Александр Иванович занимал в царствование Александра I пост директора Департамента духовных дел, участвовал в деятельности Комиссии по составлению законов. После Декабрьского восстания по ряду личных и политических причин он жил большей частью за границей. Тургенев нашел себя в таком роде деятельности, который наилучшим образом подходил ему и в психологическом, и в политическом отношениях — он занялся разысканиями в иностранных архивах исторических документов о России и прежде всего тех, которые касались дипломатических связей. Это давало ему возможность годами оставаться в Европе. Он обосновался в Париже, где и проводил в конце тридцатых годов большую часть своего времени.
Этот плотный человек с постоянной одышкой и врожденной общительностью, все время куда-то спешащий, убежденный холостяк, наслаждавшийся благодаря этому полной свободой в своих знакомствах, постоянно совал нос во все дела и знал всех и вся в общественной и литературной жизни Франции и России. Александр Иванович поддерживал теплые дружеские отношения с десятками литераторов и образованных людей европейской элиты. Из оставшихся после него тысяч писем было составлено несколько сборников3, которые являются фундаментальными источниками для истории русской литературы первой половины XIX века. Кроме своих постоянных метаний из России во Францию и обратно, он с помощью самых близких своих друзей, особенно московского почтмейстера А.Я.Булга- кова и князя П.АВяземского, сделал из себя настоящую почтовую контору по обмену литературными материалами между обеими странами. Его корреспонденция наполнена упоминаниями о постоянно пересылавшихся им книгах. Фактически он исполнял в Париже роль неофициального атташе по делам культуры.
Но отношения Тургенева с режимом Николая I были сложными. Он принадлежал к той либерально-аристократической интеллигенции александров-
а Из несколько сотен, адресованных П.АВяземскому и его семейству, многие опубликованы в «Остафьевском архиве князей Вяземских» (1899—1913). Большое число писем, относящихся к молодым годам Тургенева вошли в «Архив братьев Тургеневых» (1911—1921). Обширное собрание составляют также «Письма Александра Тургенева к Булгаковым» (1939). В разное время были опубликованы в русской исторической периодике и другие собрания его писем.
ской эпохи, которая с трудом и даже болью приспосабливалась к новому царствованию. Его брат Николай, известный писатель, был замешан в заговоре декабристов, хотя в дни восстания он за границей, и ему пришлось так и остаться там на долгие десятилетия. Александр не только сохранил дружеские отношения с братом-эмигрантом, но, судя по всему, разделял в большой степени либеральные взгляды и чувства многих своих друзей — разочарование от неуспеха декабристов и подавления польского восстания и вообще неприятие гнетущего николаевского режима. И хотя было бы неправильно рассматривать его разыскания в европейских архивах всего лишь как предлог для жизни за границей, тем не менее создается впечатление, что эта деятельность также служила и благовидным оправданием долговременного отсутствия из России в наступившие трудные времена, давая возможность обойти некоторые нравственные проблемы, которые были бы неизбежны в России.
Тем не менее, у Тургенева оставались влиятельные связи в официальных кругах и совсем неплохие отношения с русскими властями. Хотя его научная работа производилась по поручению правительства, в частности Министерства народного просвещения, которое публиковало его труды, я не нашел никакого свидетельства какого-либо официального статуса[7]. Зато его отношения с российскими посольствами в Париже и других столицах были, по меньшей мере в некоторых из них, близкими и даже сердечными. Большая часть его обширной личной переписки пересылалась по дипломатической почте и, конечно, вряд ли могла избегнуть любопытствующих и недоброжелательных глаз. Но, похоже, его знал даже император и отнюдь не с неблагоприятной стороны. Наконец, как близкий друг Пушкина он присутствовал среди немногих при длительной предсмертной агонии поэта. Император избрал его в качестве того единственного человека, который должен был сопровождать тело Пушкина в его путь на санях к месту последнего упокоения под Псковом. Принимая во внимание болезненный интерес царя к знаменитому поэту, и особенно в обстоятельствах его смерти и похорон, это выглядит как свидетельство несомненного доверия.
Рекомендация, данная Тургеневым Кюстину в Киссингене 25 июня, была только частью письма к его близкому другу поэту и критику Петру Андреевичу Вяземскому, которое маркиз должен был доставить в Петербург. Тургенев писал, в частности, следующее:
«Маркиз де Кюстин, автор «Писем об Испании», «Этело», «Швейцарского пустьшника» /.../ привезет тебе отсюда это письмо и другое, от княгини (жены Вяземского — Дж.К.), с безделками богемского хрусталя. Он приятель и Шатобриана, и Рекамье, и ты его видел у ней. Рекомендую его и князю Одоевскому и от моего имени, и по желанию Фарнгагена, который с ним большой приятель. Он знавал жену его, Рахель /.../. Он пишет свои путешествия. Если поедет в Москву, то передай его Булгакову и Чаадаеву моим именем, и Свербеевой для чести русской красоты
Какое значение имело подобное письмо в связи с общим фоном путешествия и другими влияниями на взгляды Кюстина, это остается не вполне ясным — возможно, оно было не столь уж и велико. Но поскольку Кюстин беседовал о русских делах, по крайней мере, хотя бы с одним из упоминаемых лиц, а, быть может, даже и со всеми, и их отношения окутаны некоторыми интригующими тайнами, а совпадение мнений Кюстина с идеями Чаадаева было уже неоднократно отмечено еще до публикации этого письма, необходимо ближе рассмотреть личности упоминаемых персонажей.
Известный критик, поэт и интимный друг Тургенева, князь Петр Андреевич Вяземский был выдающейся фигурой в литературной жизни того времени, одним из самых близких к Пушкину друзей. Его сочинения отличались язвительным, сатирическим характером и в молодые годы, хотя и в завуалированном виде направлялись против правительства. Несомненно, что наибольший его дар заключался в критическом таланте.
В молодости он служил офицером во время войны 1812 г. (и сражался при Бородине), а потом некоторое время был адъютантом наместника Польши. Но, подобно многим другим, кн. Вяземский в последние годы царствования Александра I разочаровался в правительстве и отошел от дел. Он едва избежал участия в восстании декабристов и впоследствии, примирившись с николаевским режимом, поступил на службу в Министерство финансов. Здесь с течением лет кн. Вяземский постепенно приобрел интерес к своим официальным обязанностям, но становился при этом все более язвительным и мнительным (особенно по отношению к своему собственному положению). Его взгляды менялись в сторону большего консерватизма и защиты режима от иностранных критиков. Ко времени приезда Кюстина он занимал пост вице-директора Департамента внешней торговли.
Зимой 1838 г. кн. Вяземскому было разрешено поехать в Германию для лечения глаз, и он воспользовался этим, чтобы посетить Париж, где, несмотря на свой совершенный французский язык и многочисленные связи с французами, ему еще никогда не приходилось бывать. К огорчению Тургенева, служившему для него гидом, Вяземскому совсем не понравился Париж, и он уехал заскучавший и разочарованный. Именно тогда в салоне мадам де Река- мье он познакомился с Кюстином (скорее всего, мимоходом).
Следует особо отметить, что Вяземский учился в московском иезуитском пансионе. Еще на службе в Польше он проникся интересом и сочувствием к полякам, что, несомненно, подкреплялось и близкой дружбой с Мицкевичем, сонеты которого он переводил на русский язык. Нетрудно представить, что к концу тридцатых годов, когда не стало Пушкина, Мицкевич эмигрировал в Париж, а польское восстание еще совсем живо помнилось по всей России, для Вяземского Польша была самым чувствительным и болезненным предметом. Его собственная память и прежние связи, в том числе и католическое образование, не позволяли ему сочувствовать действиям властей в Польше. В то же время, дружба с Пушкиным, все нарастающий консерватизм и его примирение с режимом препятствовали осуждению правительства.
Князь Владимир Федорович Одоевский — первый, кому Вяземский должен был рекомендовать Кюстина — был весьма известной в Петербурге фигурой: писатель и эстет, музыковед и издатель, он, не обладая богатствами, прославился своим гостеприимством. Нам известны и другие французские писатели (среди них Мармье и юный драматург Оже), которые бывали у него как раз в эти годы. Возможно, его заметное положение радушного хозяина и деятеля культуры могло использоваться правительством или его друзьями (а может быть и обоими) для представления Петербурга в благоприятном свете.
А.Я. Булгаков занимал пост московского почтмейстера и был близким другом и Тургенева, и Вяземского. В молодости он служил по дипломатическому ведомству, а его положение начальника почты, позволяло ему, как и Вяземскому в Министерстве финансов, сохранять лояльные отношения с режимом Николая I (его брат Константин, умерший в 1835 г., занимал пост главноначальствующего Почтовым департаментом). Кроме того, должность Булгакова была весьма полезна для его друзей в отношении связей и поездок, благодаря находившимся у него в подчинении почтовым станциям и подставам лошадей, что являлось тогда главным средством передвижения состоятельных людей. Он мог оказывать весьма существенные услуги Тургеневу в быстрой пересылке его бесчисленных писем и пакетов, а может быть, и в избавлении их от досмотра. В совокупности со службой кн. Вяземского в Департаменте внешней торговли (протекция на таможне) это создавало для связей Тургенева самые благоприятные возможности. Не вдаваясь в интеллектуальные отношения Булгакова с Кюстином, можно не сомневаться в том, что он обеспечил маркиза лошадьми и другими средствами во время его поездки из Москвы в Нижний Новгород и обратно.
Второй человек, которому Вяземский должен был рекомендовать Кюстина хорошо известен каждому изучающему русскую историю и литературу — религиозный мыслитель и автор знаменитого «Философического письма» Петр Яковлевич Чаадаев.
Он являл собой наиболее разительный пример тех талантливых, разочарованных и ожесточившихся дворян, которые хотя и были связаны как личными, так и интеллектуальными отношениями с декабристами, но по тем или иным причинам избежали прямого участия в заговоре и, пережив его, как могли приспособились к жестким реалиям николаевского времени (иногда их довольно метко называли «декабристами без декабря»). Проведший последние годы жизни в уединенной отставке, Чаадаев возвышался над московским обществом, где он изредка появлялся, привлекая всеобщее внимание превосходством ума, гордой и романтической отстраненностью и неотразимым красноречием. Он представляется мне (хотя на этот счет есть разные мнения) очевидным прототипом героя великой комедии Грибоедова «Горе от ума».
Чтобы понять тот интерес, который столь часто проявлялся к возможной связи его идей и книгой Кюстина, нужно прежде всего иметь в виду суть и общий тон «Философического письма». Так принято называть первый из ряда документов, написанных им в 1829 г., как выражение его взглядов на некоторые важнейшие проблемы религиозной и политической философии, в особенности на роль религии в истории и будущих судьбах российского государства3. Списки этого первого письма ходили по рукам чаадаевских друзей в начале 30-х годов, еще до его появления в печати. Они достигли даже Парижа и распространялись там, благодаря все тому же Александру Тургеневу, с тем большим успехом, что были написаны на французском языке (которым Чаадаев владел лучше, чем своим родным русским).
Напомним, что в середине 30-х годов литературный журнал «Телескоп» совершенно неожиданно опубликовал русский перевод первого «Философического письма». Последующие события хорошо из-
а Только первый из этих документов был опубликован при жизни Чаадаева. Остальные отыскались уже в наше время и впервые увидели свет только в 1966 г.
вестны. Взбешенный царь повелел объявить Чаадаева сумасшедшим, посадить под домашний арест и подвергать каждодневному врачебному осмотру.
«Философическое письмо» после этого стало, конечно, знаменитым в анналах русской литературы и русской религиозно-политической мысли. Биограф Чаадаева М.Гершензон писал в первые годы нашего века, что его почти всегда воспринимали вне общего контекста, и поэтому возникло всеобщее непонимание чаадаевских идей. Возможно, то же самое относится и к 30-м годам прошлого века. И если Кюстин находился под влиянием идей Чаадаева, то, конечно, в общепринятом тогда понимании. Сравнение «Философического письма» с его книгой показывает их сходство не только по содержанию, сколько по тональности. Пафосу отрицания в книге Кюстина соответствует скорбный ритм чаадаевской прозы, словно плач по России, ее несчастной истории, ее недоразвитости и тщетной жизни ее одаренного народа2.
Остается лишь заметить, что Чаадаева часто подозревали в принадлежности к Католической церкви и упрекали за более терпимое и благожелательное отношение к ней, чем это было тогда принято среди образованного русского общества.
Последняя из тех, кому рекомендовали Кюстина, была Екатерина Александровна Свербеева, но она не представляет большого интереса для нашей темы. Ее муж, Дмитрий Николаевич, был старым приятелем Чаадаева, а сама она его отдаленной родственницей. Ее салон в Москве посещали многие известные москвичи, в том числе и Чаадаев. Просьба Тургенева в письме к Вяземскому представить ей Кюстина «ради чести русской красоты» — довольно странная, ведь всем были известны его вкусы в этом отношении.
Итак, в конце июня 1839 г. Кюстин приехал через Берлин в Любек, где оставался день или два, прежде чем сесть в Травемюнде на пароход, шедший в Кронштадт. На этой линии плавал тогда «Николай I», оснащенный колесной машиной и традиционными парусами. Несмотря на катастрофу в предыдущем году, когда судно загорелось неподалеку от острова Рюгена, он пользовался у состоятельных русских немалой популярностью, как быстрое и удобное средство для поездок из Петербурга в Европу.
Поэтому в трактире, где остановился Кюстин, бывало много русских, и именно там произошла одна из самых знаменитых сцен, описанных в его книге. Он разговаривал с трактирщиком, и тот удивился его желанию побывать в России. Кюстин спросил, что здесь такого необычного. По словам трактирщика у русских постояльцев как бы два лица: «Когда они сходят с корабля, направляясь в Европу, то все — мужчины, женщины, молодые и старые — выглядят веселыми и счастливыми, подобно сорвавшимся с привязи коням, или птицам, вылетевшим из клетки, или школярам на вакациях; но при возвращении те же самые люди какие-то пришибленные, унылые, смолкшие, с озабоченными лицами»3.
Ни одно другое место в книге не уязвило царя больше, чем этот разговор с трактирщиком. Никто из официозных критиков, набросившихся на Кюстина, не упустил возможности возразить на это в том смысле, что русские так радовались, сойдя на берег в Германии, лишь потому, что страдали на корабле от морской болезни, а при возвращении их удручала перспектива снова подвергнуться этой пытке.
Сев на корабль в Травемюнде, Кюстин наблюдал за прибытием еще одного пассажира, столь грузного, что его приходилось поднимать чуть ли не на руках. Вскоре он разговорился с ним, и их беседы неоднократно потом повторялись. Подробно записанные Кюстином, они стали впоследствии важным свидетельством в его книге. Маркиз был очарован личностью и обхождением князя, который во время плавания преподал ему маленький курс русской истории, остановившись, в частности, на различиях между Россией и Западом, особенностях современного российского правительства и его отношениях с церковью. Все сказанное им ни в коей мере не было русским шовинизмом, а напротив, очень прозападным, очень беспристрастным и в том, что касалось самой России — глубоко скептическим и полным пессимизма. В кратком изложении его мнения сводятся к следующему:
«От вторжений варваров Россию отделяют всего четыре столетия, в то время как на Западе они закончились уже четырнадцать веков назад: подобное различие во времени дает колоссальную разницу национальных обычаев.
Россия еще задолго до татарского завоевания приняла к себе правителей из Скандинавии, а сии последние заимствовали для себя вкусы, искусства и предметы роскоши от императоров и патриархов в Константинополе.
Блестящие фигуры святых и князей, совмещавшиеся иногда в одном лице, ярко вспыхивали в темной ночи русского средневековья, но они совсем не походили на великих деятелей Запада и напоминали скорее библейских царей с их патриархальными обычаями, чем государей рыцарских времен. Поэтому русские не прошли ту школу верности, которая сформировала рыцарские традиции средневековой Европы. У них не было таких понятий, как «честь» или «слово чести». Можно сказать, что распространение рыцарского духа на Восток не пошло дальше Польши. Поляки доблестно сражались ради одной славы. Русские тоже были воинственны, но стремились только к завоеваниям. Как воины они побуждались лишь привычкой к подчинению и корыстью. Поэтому между этими двумя нациями — Польшей и Россией — возникла глубокая пропасть, и чтобы преодолеть ее понадобятся столетия.
Пока Европа никак не могла отдышаться после своих попыток освободить Гроб Господень от неверных, русские все еще платили дань мусульманам и продолжали заимствовать у Византии не только обычаи, искусства, науки и религию, но и ее отвращение к Крестовым походам. Они переняли также от греков их хитрости и обманы в политической жизни.
Русский деспотизм, такой, как он известен теперь, возник в то время, когда по всей остальной Европе было уже отменено рабство. После нашествия монголов свободнейшие из всех народов — славяне — превратились в рабов, сначала у азиатских завоевателей, а потом и у собственных князей. Это привело к деградации всего духа русской общественной жизни»4.
Особенно поразительны были мысли князя о связи между религией и политикой в действиях русского правительства:
«Не подумайте, — здесь я дословно привожу запись Кюстина, — что гонения в Польше происходят от дурных чувств императора. Напротив, это следствие холодного и глубокого расчета. В глазах православных все эти жестокости достойны всяческой похвалы. Государя просвещает Св. Дух, возвышая его над всем человеческим, и Бог благословляет сего исполнителя Высшей Воли. Если смотреть с этой точки зрения, то чем более жестоки судьи и палачи, тем больше в них святости. Ваши легитимистские газеты сами не понимают, что говорят, когда ищут для себя союзников среди русских схизматиков. Скорее произойдет всеевропейская революция, чем российский император искренне встанет на сторону католической партии. Легче воссоединить протестантов с Папой Римским, чем сделать это по отношению к русскому самодержавию, потому что протестантам /.../ нужно поступиться всего лишь своей сектантской гордыней, в то время как император обладает вполне реальной и действенной властью, от которой он никогда добровольно не откажется. У римской церкви и всего с ней связанного нет более опасного врага, чем московит- ский самодержец, видимый глава своей собственной церкви, и я поражаюсь, как итальянцы с их природной проницательностью все еще не видят опасности, исходящей с этой стороны»5.
Нетрудно понять, что это идеи воинствующего католицизма, резко антагонистичны и к русской власти, и к русской церкви. То значение, которое придает им Кюстин в своей книге, свидетельствует о произведенном на него глубоком впечатлении.
Кюстин постарался (хотя и не слишком) скрыть имя своего необычайного собеседника и обозначил его лишь как «князь К***». Однако эта личность совершенно очевидна и заслуживает более подробного рассмотрения, не только благодаря ее значению в путешествии Кюстина, но и сама по себе.
Князь Петр Борисович Козловский вступил на дипломатическую службу в самом начале века. Он был поверенным в делах при сардинском дворе как раз в то время, когда Жозеф де Местр занимал пост сардинского посланника в Петербурге. Как и Кюстин, князь Козловский присутствовал на Венском конгрессе. В 1820 г. ему пришлось оставить службу, как говорили, из-за его донесения о политике Метгерниха в Германии, которое противоречило взглядам императора®. Но вместо того, чтобы
а Отставка Козловского может также отчасти объясняться и интригами Метгерниха.
сразу уехать в Россию, он долгие годы жил в Европе как частное лицо и возвратился только после двадцати трех лет непрерывного отсутствия. Какое- то время князь Козловский сотрудничал с Пушкиным в издании «Современника». Около 1836 г. его вновь приняли на государственную службу и послали в Варшаву к наместнику Польши фельдмаршалу Паскевичу. Там он оставался в течение трех лет, успешно занимаясь образовательными программами по введению в польских школах русской системы обучения3. Во время встречи с Кюстином он ехал обратно в Россию, и это была одна из его последних поездок. Козловский умер на следующий год в Германии, что само по себе позволило маркизу обширно цитировать его высказывания.
В дипломатических и светских салонах Европы князь был даже не знаменитостью, а скорее какой- то легендарной личностью из-за тучности, сходства его лица с Бурбонами (особенно с Людовиком XVI), доброжелательного и щедрого характера, но более всего благодаря блестящему остроумию и очаровывавшим беседам. Зачастую он изображал клоуна, чтобы притвориться, будто его тоже смешит собственная толщина. Однако все кто знал его подтверж-
а Сведения о службе Козловского в Варшаве содержатся в книге князя Щербатова «Генерал-фелвдмаршал князь Пас- кевич. Его жизнь и деятельность» (СПб., 1896. Т. 5. С. 175— 176). По характеристике Щербатова «князь Козловский, старый и замечательно образованный и умный дипломат, к которому Государь не благоволил, но который жил у князя Варшавского (т.е. Паскевича. — Дж.К) в качестве друга дома, состоя при нем по особым поручениям»6. Хотя фельдмаршал и относился к Козловскому вполне благосклонно, тем не менее, даже когда тот жил в его доме, за ним следила тайная полиция — удручающий пример атмосферы в русских правительственных кругах при Николае I. Впрочем, быть может, это делалось ради безопасности самого Козловского.
дают, что князь обладал глубоким и оригинальным умом. Специально приглашали гостей, если ждали Козловского, как это бывает с великими музыкантами, и будто бы ему довелось даже несколько вечеров подряд пересказывать сложившийся в его голове целый роман, который он ленился записать на бумаге. Я признателен слависту Джону Саймонсу за его сообщение, что князь Козловский был первым русским, получившим ученую степень в Оксфорде, даже раньше, чем царь Александр I7. Полагаю, это была награда за те его качества, которые проявлялись при беседах, поскольку он вообще писал крайне редко, утверждая, что скверные значки азбуки мешают плавному течению мыслей.
Князь Козловский был в глубочайшем смысле слова эмигрантом. Большая часть его взрослой и профессиональной жизни прошла вне России. Недаром профессор Глеб Струве назвал его биографию «Русский европеец»[8]. Действительно, с Европой у Козловского установились самые тесные связи. Уезжая последний раз в Россию, он оставил нечто вроде морганатической итальянской жены и двоих детей[9]. Кроме того, он, несомненно, был католиком (весьма важное обстоятельство для влияния на Кюстина), но не в смысле церковной набожности, но по своим убеждениям в правоте и легитимности претензий римской церкви на вселенскую духовную власть, и как католик не мог не быть противником православия и Русской Православной церкви. Все это, естественно, укрепляло его связи с Польшей, что было весьма важно в глазах Кюстина.
Во время службы в Варшаве кн. Козловский имел репутацию доброго друга поляков, за которых он неоднократно вступался перед наместником. В этой связи интересны различные гипотезы по поводу фрагмента пушкинского стихотворения, написанного, очевидно, в 1834—1835 гг., но обнаруженного только в начале нашего века8. Поэт резко нападает в нем на какого-то неназванного человека за его любовь к иноземцам и презрение к собственному народу. Он будто бы потирал от удовольствия руки при известиях о русских неудачах во время польского восстания 1830—1831 гг. Покойный профессор Вацлав Ледницкий склонялся к тому, что эти строки направлены против Чаадаева или Вяземского. Профессор Струве в своей биографии кн. Козловского убедительно доказывает, что значительно более вероятной мишенью этих упреков следует считать именно Козловского. В противоположность Чаадаеву, он не скрывал своих симпатий к восставшим полякам. А по сравнению с Вяземским князь был все-таки самоизгнанником, отчужденным от родной страны. Нам же остается добавить только то, что все трое оказались тесно связаны с поездкой Кюстина.
Если бы рассказ маркиза действительно сообщал все о его отношениях с кн. Козловским и о связи последнего с какими-то другими сторонами его поездки, мы распрощались бы уже с этой колоритной и впечатляющей личностью. Но тут снова возникают некоторые любопытные обстоятельства, и их никак нельзя не отметить, даже если на возникающие при этом вопросы нет удовлетворительных ответов.
Во-первых, выясняются связи кн. Козловского кое с кем из персонажей, упоминаемых в рекомендательном письме Тургенева. Из книги профессора Струве известно, что Александр Тургенев, его брат Николай и братья Булгаковы были давними и ближайшими друзьями Козловского, а с Вяземским, хотя и несколько позже, у него возникли теплые и близкие отношения. Именно Тургенев и Вяземский в следующем году написали его некрологи.
Во-вторых, хотя Кюстин и оставляет у читателя впечатление, что он познакомился с кн. Козловским только на корабле и даже расспрашивал о нем других пассажиров, есть свидетельства обратного: они встречались незадолго до этого, когда Кюстин останавливался в июне во Франкфурте. Некоторые разговоры, включенные в книгу Кюстина, происходили именно тогда3. Возникает вопрос — к чему вся эта таинственность и все эти недоговорки? Когда книга была готова для публикации, кн. Козловский уже три года как лежал в могиле. Ему ничто не могло
а По всей видимости, Кюстин приехал во Франкфурт 9 или 10 июня. Из корреспонденции Тургенева следует, что Александр Иванович встречался там же с Козловским 8 июня. Г-н Кадо заметил, что в конце тех мест книги Кюстина, где он ссылается на Козловского, есть загадочное подстрочное примечание (Зте ёё. Vol. I. Р. 150.), о том, что это было написано 10 июня 1839 г. Г-н Кадо заметил также, что фраза о будто бы первой их встрече на корабле, отсутствует в первом издании, а появилась только во втором и всех последующих.
Примечателен и тот факт, что один из самых давних и близких приятелей Кюстина во Франкфурте, Варнгаген фон Энзе, был связан тесными дружескими отношениями также и с Козловским. Все трое много лет назад присутствовали на Венском конгрессе. Поэтому вполне вероятно, что Кюстин все-таки встретился с Козловским во Франкфурте.
повредить. Для чего же Кюстину понадобилось скрывать их прежнее знакомство и встречу во Франкфурте? Пока на это нет никакого ответа.
В те времена судьбы людей как-то странно переплетались. Среди других пассажиров на борту «Николая I» оказался, по крайней мере, еще один, которому впоследствии пришлось сыграть некоторую роль (хотя и не столь уж заметную) в связи с книгой Кюстина. Маркизу показалось, что он угадал в этом человеке русского агента, пытавшегося разузнать о цели его поездки и выведать его отношение к России. Как это теперь подтвердилось, Кюстин не ошибся. Через три года он безжалостно поставил черную метку, рассказав в своей книге, как на корабле к нему подошел человек,
«...нечто вроде русского ученого, составителя грамматик, переводчика всех немецких сочинений и профессора не знаю уж какого коллежа /.../. Свобода его высказываний показалась мне подозрительной /.../, и я подумал, что, приближаясь к России, неизбежно встретишь ученых подобною сорта»9.
Этот случай имеет свою забавную сторону, поскольку сей господин, несомненно уязвленный словами Кюстина, стал впоследствии одним из самых ожесточенных критиков его книги. Это был весьма известный в литературных кругах человек: Николай Иванович Греч, журналист, издатель и автор ценной книги о структуре русского языка10. Судя по всему, именно в эти годы он провел много времени в Париже и действительно содействовал русской полиции в качестве источника сведений о тамошней русской колонии. Ему однако не была свойственна скрытность, поэтому о его роли осведомителя знал не только Кюстин! Парижские поляки будто бы развлекались тем, что рассылали визитные карточки с надписью: «Н.Греч. Главный шпион Его Величества Императора Всероссийского»[10]
Прежде чем вступить вместе с Кюстином на русскую землю, стоит еще раз обратиться к уже упоминавшимся персонажам, чьи отношения с ним имели более серьезный характер, нежели встреча с Гречем, и вспомнить о той общественной атмосфере, которой были окружены такие люди, как Козловский, Тургенев и другие, упоминавшиеся в рекомендательном письме.
Следует иметь в виду, что культурные и социальные реформы в России в конце XVIII в., особенно при Екатерине II, привели к появлению в первые годы нового столетия целого созвездия талантов — писателей, поэтов, публицистов, педагогов, администраторов и дипломатов. Они происходили по большей части из аристократии и поместного дворянства. Многие с воодушевлением сотрудничали с режимом Александра I во время первого, либерального периода его царствования. Однако нарастающий консерватизм императора в последние его годы оттолкнул их от власти и способствовал оппозиционной и даже конспиративной деятельности; кульминацией чего явилось восстание 1825 г. В нем участвовали и многие из этих людей, погибшие потом на виселице или в Сибири. Другие, только сочувствовавшие декабристам, подобно Пушкину, продолжали — но уже с большими трудностями николаевского режима — свою литературную или служебную карьеру.
Среди них было и немало озлобленных людей с пошатнувшейся верой в себя и подорванным юношеским энтузиазмом. Они не принимали существующий режим и сочувствовали его жертвам, нередко испытывая при этом чувство вины за то, что не оказались в их числе.
И вдобавок ко всему этому вспыхнуло польское восстание 1830—1831 гг., также жестоко подавленное. Можно предположить, что реакция этих людей была приблизительно такая же, как и у советской литературной интеллигенции после вторжения в Чехословакию в 1968 г. У них еще не утихла боль по декабристам, и они не могли не сочувствовать полякам, но в то же время было уязвлено их национальное чувство теми потоками недостоверной, а иногда и недобросовестной критики, которые изливались по поводу этих событий с Запада. Таким образом, в одной душе нередко боролись политический идеализм и русский патриотизм. Они понимали западные симпатии к полякам, но не переносили обычно связанной с ними русофобии. Это хорошо выразил Пушкин: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство»12.
Порожденные польским восстанием внутренние конфликты чувства и совести со всеми их последствиями, пожалуй, лучше всего отражены в литературных произведениях и личных отношениях двух великих поэтов: Пушкина и Мицкевича. Последний еще до польского восстания жил в Петербурге, где его чрезвычайно почитали и чуть ли не делали из него светского льва. Он поддерживал дружеские отношения со многими русскими писателями, в том числе и с Пушкиным. Но после восстания Мицкевич уехал к польским изгнанникам в Париж и опубликовал там антирусскую поэму «Дзяды». То, что он во многом не только имел в виду своих русских друзей, но даже предназначал ее для них, видно хотя бы из посвящения, обращенного к ним. А то настроение, в котором он писал поэму, явствует из разящих слов того же посвящения:
Теперь всю боль и желчь, всю горечь дум моих Спешу я вылить в мир из этой скорбной чаши, Слезами родины пускай язвит мой стих, Пусть, разъедая, жжет — не вас, но цепи ваши13.
Ничто не могло более жестоко уязвить разрывающиеся чувства русских интеллигентов, чем эти слова друга, почитавшегося чуть ли не величайшим славянским поэтом своего времени. Вся сила их реакции нашла выражение в великой поэме Пушкина «Медный всадник», в которой он с открытым забралом принял вызов Мицкевича, избрав как название и центр своего произведения статую Петра Великого, а вступление к поэме превратив в торжествующую хвалебную песнь граду Петрову, где восхвалялись не только красоты, но также богатство и красочность его жизни13а.
Когда Кюстин приехал в Россию, Пушкина уже два года как не было в живых, но эта мучительная полемика все еще разрывала интеллектуальную жизнь России и до некоторой степени даже Франции — в той мере, насколько там интересовались Россией. Это было противостояние двух взаимоисключающих взглядов: отрицательного, безнадежного, согласно которому все старания русских правителей в XVIII в. привести страну в Европу окончились неудачей и, с другой стороны, оптимистического, распространенного почти исключительно среди самих русских и основанного не столько на каких-либо разумных основаниях или реально наблюдаемых фактах, сколько на осознании эпических размеров русской трагедии и вере в то, что так или иначе безмерные страдания не могли быть совершенно напрасны, и когда-нибудь из этого воспоследует нечто положительное, соизмеримое по своему благу с катастрофизмом прежней истории3.
Следует особо подчеркнуть, что подобный конфликт разделял не только людей; часто он поселялся в душе одного человека. Создается впечатление, что среди той выдающейся литературной и чиновной интеллигенции эпохи Александра I, дожившей до конца 1830-х годов — людей уже немолодых, сильно потрепанных жизнью и во многом разочаровавшихся — нарастало неприятие западного критицизма и даже стремление защитить существующий режим от нападок иностранцев14. Этим они защищали и самих себя, свою совесть, отнюдь не только то, что пережили 1825 г., в то время как другие пострадали или погибли, а еще и свое пребывание в России в противоположность эмигрантам, таким как Герцен и Мицкевич. Этот конфликт делал их мнительными и опасливыми в отношениях с чужаками. Именно к таким людям Кюстин получил рекомендации Тургенева; несомненно, он встречал и других таких же, а не только Вяземского и Чаадаева.
Если рассматривать людей, связанных с приездом Кюстина, по их отношению к этой болезненной дихотомии, то видно, что они придерживались самых различных взглядов. Я не располагаю сведениями относительно Булгакова и князя Одоевского. Вяземский, я полагаю, был полностью на стороне Пушкина15. Чаадаев и Александр Тургенев разрыва-
а Здесь невольно вспоминаются знаменитые строки Тютчева:
Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить, У ней особенная стать — В Россию можно только верить.
лись между обеими сторонами16. Козловский, к чьим взглядам Кюстин оказался наиболее восприимчивым, безусловно поддерживал Мицкевича.
Таким образом, с самого начала своей поездки Кюстин, находившийся под сильным польско-католическим влиянием, попал в атмосферу столь различающихся и даже противоположных взглядов и мнений.
IV. КЮСТИН В РОССИИ
Кроме пространных романтических описаний Петербурга и Москвы, впечатления Кюстина о путешествии в Россию на удивление скудны. Очень мало сказано о его поездках за пределы обеих столиц. Даже то, что он видел в этих великих городах с несомненной преднамеренностью завуалировано и в общем неудовлетворительно. Однако взгляд на самые яркие события будет полезен для понимания всей книги.
«Николай I» бросил якорь на кронштадтском рейде 10 июля 1839 г. Его сразу заполонила целая армия таможенных и полицейских чиновников, и начались долгие часы изматывающих досмотров и проверок. (По этому поводу Кюстин заметил, как свое первое впечатление о России, что забота здешней администрации о minutae? отнюдь не исключает беспорядка). Затем пассажиров пересадили на мелкосидящее судно и доставили по морскому каналу в Санкт-Петербург. (Здесь Кюстин отмечает со стороны некоторых русских пассажиров, оказавшихся в атмосфере родной страны, заметное охлаждение прежнего интереса к нему).
Как только судно причалило, русские приятели Кюстина были выпущены, но его удержали для дальнейших разбирательств, хотя при этом повторялись уже задававшиеся прежде вопросы. (Он заме-
а Minutae — мелочи (лат.).
тал что для русской администрации уже один раз проделанная формальность отнюдь не исключает повторения)1.
Кюстин оставался в Петербурге немногим долее трех недель, до 2 августа. 14 июля он присутствовал (первое появление при дворе) на бракосочетании в церкви Зимнего дворца великой княжны Ольги (известной под именем Марии)3 с французским князем Максимилианом Жозефом де Богарне, внуком императрицы Жозефины2. В этот же вечер, хотя еще не представленный ко двору, он по ходатайству французского посланника получил разрешение быть на свадебном бале, где разговаривал с императором и императрицей. Этот день не был легким для Кюстина. При дворе кроме французского посланника он почти никого не знал. Облачившись по мере своих дорожных возможностей в придворный костюм, он долго ехал в наемной карете, а выйдя из нее, на глазах у сдерживаемой полицией большой толпы зацепился за какую-то неровность и потерял пряжку от туфли, которая так и болталась у него на ноге. Наемный лакей сразу же захлопнул дверцу кареты, и кучер, не мешкая, отъехал, оставив его наедине с порваной туфлей. Он почувствовал отчаяние и панический ужас от своего беспомощного положения и невозможности хоть как-то объясниться с лакеем. Пришлось идти к дворцовой лестнице, не глядя на волочившуюся туфлю. Но в этот момент пробудилась мудрость, выработанная в нем за долгие годы общественного порицания, и он успокоил себя тем, что какая бы беда не случилась с человеком, это важнее всего для него самого, а не для других людей (пример тех неподражаемых штрихов, ради которых стоит читать его книги).
а Так в тексте.
В «Евгении Онегине» (постановка Большого театра) есть замечательная сцена великосветского бала в Петербурге того времени. Здесь все мужчины на сцене одеты в роскошные придворные мундиры, кроме самого героя. Онегин, только что возвратившийся в Россию после нескольких лет отсутствия и уже потерявший связи в свете, не знает никого, кроме хозяина, и одиноко бродит по залу, одетый во все черное. Можно представить, что так же чувствовал себя и бедный Кюстин на свадебном балу. У него было арабское кольцо-талисман, подаренное дедом жениха его матери в тюрьме во время террора, когда он шел на гильотину3. Но Кюстин был слишком горд, чтобы самому привлекать к этому внимание. Стояла жаркая удушающая ночь, как иногда бывает на севере, невыносимая от расплавлявшейся толпы гостей. Кюстин вспоминает, что когда к его великому удовольствию императрица разыскала его, он нашел для себя убежище возле раскрытого окна, где можно было, вдыхая свежий воздух, любоваться городом в свете сказочной «белой ночи». И мы видим его, только что приехавшего в Россию — тщеславного, настороженного, с душевными шрамами многолетнего позора и поношений, вскидывающегося на насмешку или дерзость, но в то же время глубоко благодарного за любые искренние знаки внимания.
Кюстин присутствовал еще на двух балах, данных по случаю женитьбы принца Богарне: у сестры императора великой княгини Елены в ее Михайловском дворце4, где он снова встретился с императором и императрицей, а также на fete champetrea в загородном замке герцогини Ольденбургской5. Затем с 23 по 27 июля он был гостем августейшей четы на большом ежегодном празднике в Петергофском
а Fete champetre — сельский праздник (франц.).
дворце, где три дня царь с царицей принимали людей всех сословий, от знати до крестьян. Из-за отсутствия свободных помещений опоздавшему Кюстину отвели место в гримерной летнего театра. Унизительность подобного положения была возмещена, благодаря протекции кузины Туровского, позволением осмотреть частный «коттедж» императорской четы. Здесь, чтобы избежать сложностей придворного этикета, его ожидала сама императрица. Выслушав его ходатайство за Туровского, она не проронила ни слова, и ему пришлось проглотить эту неудачу, утешаясь лишь тем, что, быть может, у нее есть какие-то сомнения по поводу будущего для молодого поляка при русском дворе — без общественного положения, в атмосфере зависти и презрения других придворных.
Во время петергофского праздника Кюстин испросил у военного министра разрешение посетить Шлиссельбургскую крепость, расположенную на острове при истоке Невы, где она широким потоком вытекает из Ладожского озера. Просьба была сразу же передана императору и, несомненно, вызвала некоторое удивление, поскольку эта зловещая твердыня являлась местом заключения особо опасных государственных преступников. Именно здесь в середине XVIII столетия на двадцать три года заживо погребли несчастного претендента на трон Ивана VI, вплоть до его убийства охранниками в 1764 г. Кюстин питал слабость ко всему болезненному и ужасному, и, несомненно, рассказы о несчастной судьбе Ивана возбудили в нем желание увидеть это место.
Через несколько дней, накануне назначенного уже отъезда из Петербурга, разрешение было получено, но только для осмотра со стороны внешних ворот. Тем не менее, он поехал туда, и это был, возможно, самый ужасный для него день в России. Нервы его едва не срывались, и ему стало страшно за самого себя. Сопровождавший офицер уже казался его тюремщиком, и он мучил себя навязчивой мыслью: «А что если карета так и не остановится и будет ехать до какого-нибудь места ссылки в Сибири6? Ведь в Петербурге легко могут сказать, что я свалился в реку и утонул. И никто ничего не узнает!».
Впоследствии над ним очень смеялись за эти его страхи, которые действительно могут показаться нелепыми для тех, кому никогда не приходилось бывать в такой стране, где повсюду господствует тайна и ничем не ограниченный произвол. Однако, несмотря на всю свою робость, Кюстин оказался удивительно настойчив. Каким-то чудом он сумел договориться об осмотре самой крепости. Впечатления его были ужасны, и ее зловещий образ долго не давал ему покоя.
Однажды, еще в Петербурге, Кюстин побывал с визитом у какого-то «князя*", большого барина», в котором можно угадать все того же князя Козловского. Он жил один в похожем на сарай особняке своей сестры — развалившийся старик, больной водянкой — и не мог даже встать с деревянной скамьи, заменявшей ему кровать.
Но что же Вяземский и Одоевский, которым был рекомендован Кюстин? У нас нет свидетельств о его встречах с кем-нибудь из них. Можно предполагать, что он побывал у Вяземского или только делал попытки к этому, но не был принят. В своей книге маркиз нигде не упоминает никого из перечисленных в письме Тургенева, за исключением одного места о книжке Вяземского, написанной по поводу пожара Зимнего дворца7, и называет его там «придворным льстецом», впрочем, совершенно несправедливо. Из писем Вяземского к Тургеневу как и по некоторым его комментариям, написанным на книгу Кюстина спустя пять лет, видно, что он не забыл эту пренебрежительную ремарку. Кроме того, мы располагаем еще и следующим любопытным отрывком:
«Что касается приема, оказанного г-ну де Кюс- тину русским обществом, то мне об этом ничего не известно. Несомненно лишь одно: благородного маркиза никогда не видели в салонах, обьишовенно посещаемых знатными путешественниками»8.
Как все это понимать? Ведь салон Одоевского в точности соответствовал такому определению. А дом Вяземского? Значит, Кюстин не был там принят вопреки рекомендации Тургенева? Загадка остается, ясно лишь одно — после поездки Кюстина в Россию, его отношения с Вяземским становятся взаимно-недоброжелательными.
Как уже говорилось, 2 августа Кюстин отправился в Москву и ехал в своей собственной английской карете. Его сопровождал Антонио и приставленный к нему фельдъегерь, которого он вскоре возненавидел и который, судя по всему, отвечал ему тем же. Как все состоятельные путешественники и вообще все важные персоны, Кюстин пользовался перекладными лошадьми на почтовых станциях, отстоявших милях в восьми друг от друга. Его предупреждали, что как бы ни хороша была английская карета, она все-таки не годится для русских дорог, что и оказалось на самом деле. Карета ломалась, постоянно замедляя езду. Тем не менее, через пять дней, проезжая более семидесяти пяти миль в день, он, достиг Москвы и водворился в трактире англичанки мадам Говард. По его сведениям это была единственная чистая гостиница в России.
Кюстин провел в Москве девять дней, но первые три никуда не выходил из-за воспаления глаз, полученного на пыльных дорогах. Оставшееся время он усиленно осматривал город и несколько раз побывал в гостях. Москва понравилась ему больше Петербурга — воздух чище, беседа свободнее. Его пригласили на загородный завтрак в саду, где он единственный раз за все время остался доволен обществом и разговорами. Как и все путешественники, он поразился варварскому великолепию и неразберихе московской архитектуры. Кюстин предался размышлениям о том, сколь величественно было бы русское могущество, если бы средоточие его перенеслось из Петербурга в Москву, и подумал, что только тогда могут исполниться конечные судьбы России.
Неизвестно, с кем из персонажей тургеневского письма он встретился в Москве. Предполагается, что загородным завтраком его угощал или Свербе- ев, или Булгаков. Что касается Чаадаева, это уже настоящая загадка. В одном месте своей книги Кюстин упоминает человека, который не мог быть никем иным, кроме него, но в то же время он якобы не встречался с ним. С другой стороны, Свербеев в своих мемуарах утверждает обратное, а уже ему-то и карты в руки. Есть упоминание о какой-то загадочной записке Чаадаева к его кузине княжне Е.Д.Щербатовой (очевидно, невестке Свер- беевой), в которой он просит передать Кюстину се qu'il faut qu'il sachea. Значит, между ними все-таки существовала какая-то связь[11].
Наконец, есть пространное описание самого Кюстина его разговора в саду московского Английского клуба с неким русским, имя которого он не раскрывает. Весь тон этого места вызвал немало догадок о личности его собеседника. Ничто не противоречит тому, что им могли бьггь и Тургенев, и Козловский, и Чаадаев. Все они тогда были (или могли быть) в Москве. Хотя записанные Кюстином высказывания и другие признаки не вполне подходят к Чаадаеву, но все-таки более похожи на него, чем на двух других. Полагаю, что можно не сомневаться в том, что это был именно Чаадаев[12].
Мы не знаем, был ли только один такой разговор или несколько. Слишком неосторожно полагаться на то, что сам Кюстин говорит об этой беседе, но чаадаевские идеи, и в «Философическом письме», и высказанные изустно, произвели глубокое впечатление на него и, несомненно, повлияли и на его восприятие России.
16 августа Кюстин выехал в Ярославль и Нижний Новгород. Свою английскую карету он оставил в Москве и нанял для себя русскую, по заверениям друзей более прочную, что оказалось сверхоптимистичным. Эпидемия поломок и починок продолжала преследовать его.
Первая остановка была в Загорске6, где, как и многие иностранцы впоследствии, он намеревался посетить знаменитый Троице-Сергиевский монастырь. Здесь же его догнал некий господин, выехавший несколькими часами позднее него. По описанию это был ни кто иной, как Александр Тургенев. Этим летом, вскоре после приезда Кюстина, он возвратился в Россию. Достоверно неизвестно, встретились ли они, но поскольку оба были накануне в Москве, это можно считать несомненным.
При перемене лошадей Тургенев спросил о Кюс- тине, и на почтовой станции воспоследовала прелюбопытнейшая сцена, описание которой в книге Кюстина лишь усугубляет тайну их отношений. Судя по всему, до маркиза уже дошли слухи о крестьянских волнениях в Симбирской губернии10, где были расположены имения Тургенева, который будто бы подтвердил, что восемьдесят деревень сожжено бунтовщиками, но далее объяснил, что русские склонны приписывать это интригам поляков, которые хотят отвратить таким образом государя от дальнейшего снисхождения к ним, чтобы польские крестьяне не стали лучше относиться к русским. Столь хитроумное предположение вызвало возмущенную и язвительную реплику Кюстина: «Уж лучше бы русские обвинили свои жертвы и искали в их несчастиях какой-либо предлог, чтобы еще больше утяжелить ярмо на своих врагах, прежнюю славу коих почитают они за непростительное преступление».
Вы плохо понимаете нашу политику, — отвечал ему Тургенев, — потому что не знаете ни русских, ни поляков.
Это, — возразил Кюстин, — всегдашний припев ваших соотечественников, когда им говорят неприятные истины. — И затем, переходя к чему-то более для него знакомому, сказал, что поляков легко узнать, благодаря их говорливости; и он больше доверяет словоохотливым людям, которые рассуждают обо всем на свете, чем «молчальникам, вещающим только то, что никому не интересно».
3*
Не ясно, против кого именно была направлена эта инвектива. Тургенев, конечно, был совсем не скрытным человеком, но он воспринял все на свой счет и ответил:
«II faut pourtant, que vous ayez bien de la confiance en moia.
Лично вам, да, но когда вспоминаешь, что вы русский, наше десятилетнее знакомство уже не имеет значения. Я все еще упрекаю себя за легкомысленно — излишнюю откровенность.
Наверное, — с горечью заметил Тургенев, — вы не пощадите нас, когда вернетесь к себе домой.
Возможно, если я что-нибудь напишу; но, как вы говорите, я не знаю русских и поляков и поэтому остерегусь судить слишком легко об этой непостижимой нации.
Это было бы самым лучшим.
А 1а bonne Лейте[13], но не забывайте, что и самых сдержанных людей, пойманных на лицемерии, почитают уже за обманщиков».
Вместо ответа, как пишет Кюстин, «старинный мой приятель забрался в карету и ускакал галопом, а я возвратился к себе в комнату, чтобы записать сей диалог»11.
Так что же, спросим еще раз, следует из всего этого? Приведенная беседа совсем не похожа на разговор малознакомых людей, случайно встретившихся в небольшом провинциальном городе. И что все-таки делал Тургенев в Загорске, который расположен совсем не на пути в Симбирск? Куда он так торопился? Почему, в конце концов, этот старый знакомец Кюстина, написавший ему рекомендательные письма и направлявшийся по той же Дороге, не захотел ехать вместе с ним?
Тургенев, как и Кюстин, спешил, очевидно, в Ярославль. Вероятно, он приехал туда совсем незадолго до маркиза, который, похоже, рассчитывал встретиться там с ним, иначе зачем a la bonne heure? Но при всем том, читая описание приема у ярославского губернатора, встречаем вдруг такое странное место:
«Никто не ожидал меня в Ярославле. Я решился ехать этим путем только накануне отъезда из Москвы. Несмотря на все старания русских не ударить в грязь лицом, особа, у коей испросил я в последний момент рекомендацию, не посчитала меня достаточно важной персоной, чтобы послать вперед курьера»12.
Припомним еще раз все обстоятельства. 15 августа, накануне отъезда из Москвы, Кюстин неожиданно решает ехать в Нижний Новгород через Загорск и Ярославль вместо обычного пути через Владимир. Он торопится и получает от кого-то рекомендации в Ярославль; несомненно, от близкого тургеневского друга Булгакова или, во всяком случае, от такого человека, который может послать вперед нарочного курьера. Затем Кюстин выезжает из Москвы; через несколько часов оттуда же отправляется Тургенев и, встретившись с ним в Загорске, спешит дальше. Похоже, ремарка Кюстина по поводу своей незначительности для посылки курьера это всего лишь ироническое утверждение обратного.
Кюстин был очарован приемом у ярославского губернатора К.М.Полторацкого, изысканной парижской беседой его жены и жившей в их доме старой француженки-гувернантки13. Обратив внимание на элегантность посланного за ним экипажа, он поначалу опасался встретить все тех же Europeens voya- geurs, les courtisans de l'Empereur Alexandre I — les grands seigneurs cosmopolitesa, знакомых ему по Петербургу и столь для него несимпатичных[14]. Поэтому его не только приятно удивило, но даже растрогало такое общество, где он мог почувствовать себя в атмосфере своей молодости. Тем не менее, Кюстин не задержался в Ярославле и 21 августа продолжил свой путь в Нижний Новгород.
Хотя нижегородский губернатор князь М.П.Бутурлин[15] был не менее гостеприимен, чем его ярославский коллега, пребывание там оказалось для Кюстина не столь удачно. Ему не понравилось собравшееся у губернатора общество заезжих иностранцев — французов, англичан, даже американцев. Кроме того, он простудился и был вынужден лечь в постель. Призванный к нему русский доктор посоветовал, несмотря на болезнь, как можно скорее уехать из Нижнего Новгорода. Кюстин последовал его рекомендации, сразу же выздоровел и 4 сентября благополучно возвратился в Москву, где он оставался всего четыре дня. 8-го он отбыл в Петербург, снова в собственной карете, но перед этим успел еще (несмотря на советы французского консула и какого-то важного русского чиновника, возможно, все того же Булгакова) ходатайствовать за одного молодого француза, который был арестован и содержался властями без всякого сообщения с внешним миром14.
Возвратившись в Петербург, Кюстин пробыл там две недели, после чего отправился в обратный путь, на сей раз сухим путем. Его второе пребывание в столице почти совершенно не отражено в книге, кроме короткого упоминания об осмотре достопримечательностей. Двор уже уехал из города, и все погрузилось в летнюю спячку. Благодаря одному высокопоставленному знакомому, он был приглашен посетить «Арсенал» в Колпине (по-видимому, артиллерийский завод), что навело на него смертельную скуку. Музей искусств также не показался ему интересным. Впрочем, навряд ли только к этому сводилось его времяпровождение. Зная, с кем он тогда общался, можно было бы разгадать некоторые тайны, связанные с его путешествием.
Сначала Кюстин хотел возвращаться через Польшу и побывать в Вильне и Варшаве. Но он изменил свои планы и выбрал для обратного пути Восточную Пруссию. Почему? По его утверждению, у поляков есть свои изъяны. Если он самолично увидит их страдания, то, возможно, это приведет к таким заключениям, о которых впоследствии он будет только сожалеть. Его долг — говорить правду угнетателям, что может приносить даже чувство удовлетворения. Но осуждать жертву, даже по справедливости, не пожелает ни один писатель, уважающий собственное перо.
Что же случилось? Откуда эти неожиданные оговорки по поводу поляков? Может быть, в последние две недели у Кюстина были новые встречи с Козловским? Ведь князь, оставаясь другом поляков, как умный и опытный человек не мог не видеть и многих их слабостей. Возможно, Козловский посчитал неудобным для себя и для Паскевича приезд Кюстина в Польшу.
26 сентября Кюстин с огромной радостью и облегчением пересек границу в Тильзите3. Как он сам говорит, птичка, выскользнувшая из клетки, и та не могла бы быть счастливее. «Империя единообразия, формализма и всевозможных затруднений» осталась позади. Конечно, он доехал пока всего лишь до Пруссии, которую, как известно, нельзя было считать страной больших свобод. И все же, какая перемена! С первого взгляда видно, что дома выстроены прочно и каждый на свой манер, а не рабами по приказу безжалостного хозяина. Поля хорошо обработаны и радуют глаз. Люди непринужденно разговаривают. Прохода по улицам Тильзита и Кенигсберга, он чувствовал себя сравнительно с Россией, как на «венецианском карнавале». Наконец-то можно было дышать.
Многое в путешествии Кюстина остается непроясненным. Проблески, вырвавшиеся на поверхность, разрозненны и лишь раздразнивают любопытство.
Переписка Тургенева, Вяземского и Булгакова отнюдь не свидетельствует о том, что Кюстин играл в их жизни сколько-нибудь заметную роль. Несомненно, то же самое можно сказать и о Козловском. Для них маркиз был несколько странным и не вполне респектабельным иностранцем, знакомство с которым могло быть подчас не совсем удобным. Но что значили они в его жизни? И были ли еще другие, повлиявшие на его взгляды, антипатии и чувства негодования?
Существующие свидетельства не дают нам ответа. Несомненно, у этого гиперчувствительного и закомплексованного человека, уже пострадавшего от собственных несчастий, поездка в Россию не могла оставить каких-либо иных впечатлений, кроме чувств ужаса и отвращения.
а Тильзшп — ныне г. Советск Калининградской обл. {Примеч. переводчика.)
V. КНИГА
По возвращении из России Кюстин не спешил заняться своей книгой. Осень 1839 г. он посвятил вполне заслуженному отдыху на одном из немецких курортов. Потом наступил парижский сезон — неподходящее время для писания книг.
Летом следующего, 1840 г. он взял с собой в Германию Туровского и представил его российской императрице, которая лечилась на немецких водах. Очевидно, у него были еще надежды на возвращение молодого человека в Польшу. Можно предположить, что в таком случае его книга так и осталась бы ненаписанной или имела бы совершенно иной вид. Окажись Туровский на родине, он непременно пострадал бы после выхода «России в 1839 году», как это случилось с его кузиной, навлекшей на себя неудовольствие высших сфер.
Но решимость императора не впускать обратно в Империю таких людей, как Туровский, оставалась непреклонной. Впрочем, неторопливость Кюстина была отнюдь не связана с его протеже. После представления императрице Туровский сумел ввязаться в несколько скандалов, и его выходки закончились бегством вместе с испанской инфантой в Брюссель. К чести Кюстина, он не бросил молодого человека и сочувствовал изгнаннической судьбе супружеской пары. Но теперь не могло быть и речи о возвращении Туровского в Россию, и такое препятствие для книги, если оно вообще существовало, было устранено.
Итак, осенью 1841 г. Кюстин, искавший отдохновения от тягот парижской жизни в Швейцарии и Италии, вновь настроился на сочинительство и приблизительно за год 1800 страниц нового труда были уже готовы.
Книга построена в виде тридцати одного пространного письма, которые будто бы писались во время поездки или сразу же после нее. Это не было просто авторской уловкой; очевидно, еще в России он что-то написал и сумел вывезти через границу. Но все-таки большая часть текста создавалась в 1841—1842 гг., а искусственное разделение на письма, якобы из разных мест (достаточно обыкновенное для того времени), никого не могло ввести в заблуждение.
Первые три письма совершенно не связаны с Россией и вполне могли быть опущены3. В следующем письме приведена цветисто-романтическая история из русской крестьянской жизни, очевидно, кем-то ему рассказанная. Однако все остальные письма имеют вид написанных во время путешествия.
Многое в книге относится к сфере чистой эстетики: пространные описания пейзажей и архитектуры, также романтизированные по моде того времени; многочисленные рассказы и легенды, полученные из вторых рук и послужившие потом поводом для жестокой критики. Но все-таки непреходящая ценность труда Кюстина совсем в другом — в тех политических впечатлениях, которые зачастую выражены колкими афоризмами и остротами, столь
а Проезжая через Берлин, Кюстин, благодаря содействию французского посланника, получил доступ к архивным материалам о деятельности его деда на посту командующего Рейнской армией и взял их за основу для описания семейных несчастий в первых трех письмах.
привлекавшими одних и озлоблявшими других, но неизменно достигавшими своей цели. В совокупности это создавало целостную картину русского правительства и русского общества. Далее я попытаюсь дать представление о наиболее ярких местах «России в 1839 году», особенно тех, которые привлекли внимание современного нам читателя.
Понять впечатления Кюстина значительно легче, если иметь в виду те взгляды на политическое устройство, которые были у него перед началом путешествия. Как он сам говорил, они во многом совпадали с убеждениями Токвиля, когда тот отправился в Америку. Кюстина тоже беспокоил упадок французской аристократии, начавшийся еще со времен Революции. Со страхом и недоверием смотрел он на те демократические веяния, которые уже овладевали французским обществом в эпоху Луи Филиппа. Будучи проницательным монархистом (поскольку, по его понятиям, аристократия не могла существовать без монархии), он все же не был сторонником абсолютной власти.
«Как аристократ по своему характеру и своим убеждениям, я полагаю, что только аристократия может сдерживать соблазны и злоупотребления абсолютизма. И монархии, и демократии без аристократии превратятся в правления тиранические. Зрелище деспотизма невольно вызывает во мне отвращение и оскорбляет те идеалы свободы, которые проистекают из моих сокровенных чувств и политических убеждений. Деспотизм может порождаться не только самодержавием, но и беспредельным уравнительством. Власть одного человека и власть всех людей приводят к одному и тому же /...А1.
Конечно, при таких убеждениях Кюстин с подозрением относился к представительной власти. Ставить судьбы народов в зависимость от избирательного большинства, значит, опускать их до уровня посредственности. Демократическое правительство — это правительство слов, а не дел. Правление большинства всегда «робкое, корыстное и низменное»2. Поэтому он нисколько не симпатизировал конституционной монархии. В предисловии ко второму изданию своей книги Кюстин даже утверждал, что поехал в Россию «за аргументами противу представительного правления»3.
С другой стороны, он понимал, что такие взгляды уже крайне не популярны в Европе, и можно подозревать его самого в некоторой неустойчивости убеждений. Возможно, на это могла повлиять книга Токвиля «О демократии в Америке». Подобная неустойчивость была скорее порождена отсутствием у него аргументов для опровержения выводов Токвиля. Однако убеждения Кюстина в необходимости аристократии и неприятие эгалитаризма оставались неколебимо твердыми. Но должна ли монархия сочетаться с некоего рода парламентом, основанным на конституционном ограничении коронной власти, тут у него не было каких-то определенных взглядов, когда он собирался ехать в Россию.
Это хорошо отражено в описании его беседы с Николаем I, происшедшей вскоре после приезда. Можно, конечно, сомневаться в буквальной точности записанного по прошествии долгого времени, вызывающего у историка вполне естественную настороженность. Но, несомненно, здесь отражены прежде всего его собственные колебания, и это место можно считать вполне достоверным в той части, которая относится к мнениям самого Кюстина.
Император выразил сильнейшее отвращение к идее конституционной монархии и не отрицал, что его правление является единоличным деспотизмом. Но, сказал он, это соответствует духу нации.
«Я вполне понимаю республику, как законную и честную форму правления — во всяком случае, она может быть таковой. Я понимаю и абсолютную монархию, тем более, что сам стою во главе нее. Но конституционная монархия для меня непостижима. Это правление лжи, обмана и продажности. Я скорее отступлю до Китая, чем соглашусь на него».
Кюстин отвечал ему (с некоторой выспренностью):
«Государь, я всегда почитал представительное правление как неизбежный в некоторых обществах и в некоторые эпохи компромисс; но никакой компромисс не решает проблему, а лишь отлагает возникающие трудности /.../. Это своего рода перемирие между демократией и монархией, заключенное под сенью двух тиранов: страха и эгоизма. Оно поддерживается гордьшей духа, которой достаточно одного пустословия, и народным тщеславием, питаемым одними только словами»4.
Император в ответ на это горячо пожал ему руку и сказал: «Сударь, вы совершенно правы» и коснулся затем своих трудностей как конституционного монарха в Польше (возможно, имея в виду недавнее восстание 1830—1831 гг.).
Трудно сказать, насколько Кюстин был искренен и какую роль сыграли здесь вежливость и такт в столь деликатном для абсолютного монарха вопросе. Но определение представительного правления, как неизбежного компромисса (несомненно, влияние Токвиля), ясно показывает его смятенные чувства.
Здесь уместно сказать о том, что отношение Кюстина к личности императора было болезненно- противоречивым. Лишь немногие критики заметили эту неубедительную противоречивость в оценке августейшей персоны царя. С одной стороны, видно желание понравиться и польстить Николаю и даже посочувствовать ему в столь тяжком труде, как управление обширнейшей Империей, да еще с таким несчастным прошлым3.
С другой стороны, по мере того, как нарастали обвинения против русской политической системы и множились примеры неограниченной личной власти монарха, становилось невозможным снимать с царя ответственность за существующее положение. В конце книги Кюстин охарактеризовал эту ситуацию с присущими ему проникновением и язвительностью: «Если в сердце императора не больше жалости, нежели выказывает он в своей политике, тогда я сожалею о России, а ежели истинные чувства его возвышеннее реальных деяний, сожаления достоин он сам»6.
Несомненно, что Кюстина чрезвычайно, даже страстно, привлекала личность императора, и отчасти это объясняется тем притяжением, которое оказывают на окружающих люди, наделенные большой властью. Было к тому же и дело о возвращении Туровского. Но чувствуется еще и нечто вроде надежды снискать большее расположение, чем то, на которое мог рассчитывать иностранец; вызвать у императора интерес и дружеское отношение, что позволило бы оказывать некоторое влияние при дворе. Случись так, книга, скорее всего, не была бы написана; в душе все время приходилось бороться с подобной надеждой, когда его все более и более ужасало увиденное, и уже нельзя было скрывать от себя ответственности самого царя. В конце концов,
а В письме к мадам Рекамье, комментируя более благоприятные взгляды на Россию французского посланника г-на де Баранта, он пишет: «В конце концов, если надо было бы сосуществовать всю жизнь с императорской фамилией, поневоле пришлось бы полюбить Россию: она, несомненно, представляет собой все самое лучшее в этой стране»5.
Кюстин оказался перед выбором: или высказать свои впечатления, что явилось бы прямым укором императору, или вообще не притрагиваться к книге. Многие критики обратили внимание на этот внутренний конфликт, который объясняет все противоречия в оценке Николая I.
Независимо от отношения к личности императора Кюстин почти сразу отрицательно воспринял абсолютизм как политическое установление. Впрочем, он не так уж был и неподготовлен для этого. Его просвещал еще спутник на пароходе, князь Козловский. «Деспотизм у нас сильнее природы — император не только представитель Бога, он само воплощение созидающей силы»7. И все-таки то, что Кюстин увидел по прибытии, ошеломило его. Он просто не мог представить себе ничего подобного: «Сегодня на всем земном шаре ни единый человек, ни в Турции, ни даже в Китае, не обладает такой властью»8. Более всего его удручала даже не абсолютная единоличная власть над делами людей, сколько владычество над мыслями и словами — то есть душами. У него сразу же возникло впечатление, что все услышанное в Петербурге это, так сказать, своего рода линия партии, указанная сверху: «Среди сих людей, лишенных досуга и собственной воли, видишь только неодушевленные тела, но нельзя не содрогаться при мысли, что для такого множества рук и ног есть только одна голова»9. Из этого он заключил, что жертвой личной власти императора оказалось нечто значительно большее, чем просто политические права, а еще и личное достоинство и независимость. Нельзя сказать, чтобы они полностью отсутствовали — скорее, никто не мог вполне полагаться на них и почитать их само собою разумеющимися. «В России, — писал он с некоторым удивлением, — терпимость не гарантирована ни общественным мнением, ни государством; подобно всему остальному, она есть своего рода милость одного единственного человека, и этот человек завтра может отнять дарованное сегодня»[16].
Как мы уже видели, Кюстин искал основу прочной политической системы не столько в монархии, сколько в аристократии. Именно здесь ему пришлось испытать наибольшее разочарование. Будучи сам аристократом «по характеру и по убеждению», Кюстин, похоже, не любил придворную жизнь и презирал придворных9. В его понимании аристократ — это независимый grand seigneufi знатного рода, владелец земель или крупного состояния, чье положение в обществе нисколько не зависит от милости монарха. Возможно, эта нелюбовь к придворным объясняется его неудачным дебютом в молодости, когда он находился в свите Людовика XVIII. Так или иначе, но у Кюстина особенное отвращение вызывала атмосфера российского двора и характер составлявших его людей. Он определил и то, и другое как зеркальное отражение абсолютной власти императора, под тенью которого любые различия чинов и родовитости теряли всякий смысл. В других странах полученное при рождении превосходство являлось неотчуждаемым достоянием, а здесь, в России, это была лишь относительная ценность. Как и все другое, оно зависело только от милости императора. Он мог и возвысить, и низвергнуть. Кюстин вдруг понял, что все эти напыщенные придворные сами по себе суть ни что иное, как те же рабы. Их можно и создать, и уничтожить за один день. От этого общество суживается до фантастического эгалитаризма, не менее всеохватывающего и не менее одиозного для Кюстина, чем описанная Токвилем американская демократия. Во время петергофского праздника, на котором император и императрица принимали одновременно все сословия, начиная с простонародья и до высшей аристократии, Кюстину показалось, что подобно® широкое гостеприимство было не обращением к простому работнику или торговцу: «Ты такой же человек, как и я», но, напротив, оно давало понять аристократам: «Вы тоже рабы, как и они, и только я, единственный ваш бог, одинаково возвышаюсь над всеми»[17].
Но кроме постыдного положения русских аристократов по отношению к императору, многое и в их личном поведении могло вызвать у Кюстина презрение. Конечно, его наблюдения ограничивались только придворным кругом. По известным причинам двери более независимых и знатных домов в Петербурге были, видимо, закрыты для него, что, несомненно, добавило ему язвительности. За пределами столицы люди оказались гостеприимнее, и он встречал таких, у кого не мог не признать больших достоинств. Но в целом его мнение о русских равного с ним общественного положения было крайне нелестным. Он увидел у них фальшь, неискренность, отсутствие независимости характера и вкусов, непрерывную и свирепую борьбу за благосклонность монарха. Ему кололи глаза их жестокость к низшим, сочетавшаяся с самым раболепным и подчас даже бескорыстным подобострастием перед стоящими выше них[18]. Эти люди были всего лишь ипе espece d'esclaves superieurs^1^. Все что они делали как бы от самих себя в сущности направлялось извне, а их претензии на самостоятельность никого не могли обмануть. Эти люди напоминали Кюстину «кукол на слишком толстых нитях»14.
Еще более одиозными для него были старания высших классов в России подражать Западу. Он не переносил подобных карикатур, происходивших, как ему казалось, от обезьянничанья перед парижскими манерами и обычаями. Сквозь тонкий налет цивилизованности отовсюду проступали черты азиатчины. Как он говорил, русские придворные восприняли европейский лоск лишь настолько, чтобы быть «развращенными дикарями», не затронутыми культурой, подобно «дрессированным медведям, при виде которых с тоской вспоминаешь о диких зверях»15.
Постепенно Кюстин осознавал, что этот страшный разрыв между внешними претензиями и внутренней реальностью отражает нечто большее и значительное, ставшее истинным фокусом его обвинений николаевскому режиму, а именно ужасающе- циничное отношение к правде, которым насквозь пронизаны и русское правительство, и русское общество. Действия всех государственных учреждений представлялись ему направленными на культивирование грандиозных фикций, вполне осознанных как таковые, и принудительно распространяемых. На каждом шагу Кюстин сталкивался с двумя Россиями — реальной и тем ее образом, в каком она представлялась, к сожалению, не только властям. Он не мог привыкнуть к этой всеобщей циничной игре, начиная от императора до самых низов, когда ложь постоянно выдавалась за истину.
Подавленный этим культом фальши, Кюстин воспринимал уже весь фасад русской официальной и общественной жизни, как нечто выдуманное, искусственное, нереальное:
«Я приехал посмотреть на страну, а вижу перед собой театр /.../, хотя здесь все слова такие же, как и повсюду /.../. По внешности все происходит как и везде, и ни в чем нет никакой разницы, кроме самой сути всех вещей »16.
По его мнению, эта страсть русских к тому, чтобы не быть, а лишь казаться, объясняется комплексом неполноценности по отношению к Западу, ненасытной жаждой выглядеть не такими, каковы они на самом деле, что не вызывало у Кюстина ни сочувствия, ни снисхождения:
«Я не упрекаю русских за истинную их природу, но не могу не осудить их стремления непременно уподобиться нам /.../. Они не столько хотят быть цивилизованными людьми, сколько казаться ими /.../, и охотно согласились бы стать еще худшими варварами, если другие посчитали бы их более цивилизованными /.../»17.
Кюстин деже предположил, что «открыто признанная тирания явилась бы своего рода прогрессом»18.
Впрочем, и об этом его предупреждал князь Козловский, по словам которого:
«Наше правительство питается ложью, ибо истина страшна не только для самого тирана, но и для раба /.../. Народ и знать, как смирившиеся зрители сей войны противу истины, безропотно переносят весь этот позор, поелику ложь деспота /.../ всегда льстит рабу /.../.
Русский деспотизм не только почитает за ничто идеи и чувства, но и переиначивает факты, борется противу очевидного и побеждает его»19.
Кюстин мог только вторить этим мнениям: «Приходится согласиться с тем, что русские всех сословий с бесподобной гармонией соучаствуют в сем заговорю фальши и двуличия». Их «проворная лживость и природный талант к обману» искренне возмущали его чувство правдивости20 и представлялись ему «худшим из всех недостатков». Но откуда все это? Дело в том, что «отвергнув истину, дух отрекается от самого себя, и тогда повелитель унижен перед рабом, ибо обманывающий ниже обманываемого»21.
Однако, как заметил Кюстин, хотя всем все известно, каждый упорно старается не показать свою осведомленность. Атмосфера всеобщего умолчания, приглушенной опасливости, настороженности в разговорах, нежелание называть вещи своими именами, еще более поразили его при наблюдении за русской жизнью. Он называл это «немотой», которую считал всепроницающим и зловещим свойством общества22. Ее символизировала какая-то странная, даже жутковатая тишина на петербургских улицах и в общественных местах. «В России шуметь дозволяется только лошадям»23.
И об этом тоже предупреждал его князь Козловский: «Сколь скупо ни говорил бы человек в России, это всегда излишне, ведь у нас в каждом мнении скрыто религиозное или политическое лицемерие»24. На этот счет Кюстин также смог составить свое собственное мнение:
«В России повсюду господствует тайна: административная, политическая, общественная. Излишнее молчание гарантирует молчание необходимое; здесь оно в порядке вещей, подобно неосторожнос- тям в Париже. Любой путешественник сам по себе есть уже нечто нежелательное /...А25.
Это молчание тоже часть русского комплекса неполноценности по отношению к внешнему миру, но в то же время защитная реакция и весьма эффективное оружие внешней политики:
«Если действительно русские лучшие дипломаты по сравнению с самыми цивилизованными странами, причина здесь в том, что наша печать сообщает о каждом нашем предполагаемом шаге и каждом собьипии, у нас случающемся. Вместо благоразумного сокрытия наших слабостей мы с какой-то непостижимой дотошностью оповещаем о них каждое утро весь свет, в то время как византийская политика русских тщательно скрывает все, о чем они думают, что делают и чего боятся. Мы идем вперед при свете дня, они двигаются, прячась от всех. Мы ослеплены созданным ими неведением. Нас ослабляют разноречивые толки, они сильны своей скрытностью, и в этом секрет их ловкости»26.
Но Кюстин понял и то, что все подобные качества — презрение к истине, преднамеренные мистификации и расчетливые умолчания — являясь оружием режима, в то же время отражают и глубинную слабость сравнительно с Западом, свидетельствуют о признании своей отсталости, неверии в свой народ, стыде за неизбежную тиранию. Это заставляет русских страшиться честного сравнения с Европой. Именно этим объясняется навязчивый страх перед взглядом иностранца, которым пронизана вся казенная Россия.
Абсурдный экстремизм такой боязни поразил Кюстина, как и многих других европейцев до него. Он писал, что «русские — это переряженные китайцы, хотя они не хотят признать свое отвращение к иностранцам; но ежели осмелились бы, подобно настоящим китайцам, не обращать внимания на упреки в варварстве, тогда доступ в Петербург был бы для нас не менее затруднителен, чем в Пекин»27. И все с той же едкостью и лапидарностью он объясняет далее причины этого: «Чем больше я смотрю на Россию, тем более одобряю императора, запрещающего своим подданным путешествовать и всячески затрудняющего приезд в Россию иностранцев. Политическая система России не выдержит и двадцати лет свободного общения с Западом»28.
В чем же причина? Здесь у Кюстина было свое собственное мнение. Нельзя сказать, будто система не сделала ничего, достойного похвалы. Но дело в том, что это достигнуто слишком большой ценой. Механизм управления чрезмерно усложнен и неэффективен. По его словам, в России грандиозные усилия приносят мизерные результаты. И по самой природе вещей так оно и должно быть. В конце концов, деспотизм состоит из
«смеси нетерпения и лени. Немного больше терпения со стороны власти и немного больше активности народа позволили бы достичь того же самого значительно меньшей ценой. Но тогда оказалась бы ненужной тирания, и пришлось бы признать ее бесполезной. Тирания — это воображаемая болезнь народова. Тиран, прикрываясь маской врачевателя, убеждает их, что здоровье не есть природное состояние цивилизованного человека, и чем больше опасность, тем сильнее должно быть лечение. Под таким предлогом он поддерживает и продлевает болезнь»2^.
И в этом, по мнению Кюстина, главнейшая причина того, почему русская система ни для кого не пригодна в качестве образца:
«То, что вызывает мое восхищение у других, здесь для меня ненавистно /.../. Я нахожу цену этого слишком высокой. Порядок, терпение, спокойствие, изящество, уважение, естественные и нравственные отношения, которые должны существовать между теми, кто мыслит, и теми, кто исполняет, короче говоря, все, что придает смысл и очарование разумно устроенным сообществам и политическим установлениям, все здесь обезображено одним единственным чувством, проникающим все и вся — страхом»30.
Поэтому Россия не представляет собой ни малейшей ценности, как пример для других стран. И в той мере, насколько путешествие Кюстина вдохновлялось желанием найти образец благополучного общества в качестве альтернативы филистерскому и уравнительному режиму Луи Филиппа, эта идея
а La maladie imaginaire des peuples {франц.).
должна быть отвергнута. «Сообщество русских, как оно устроено, служит только своим собственным целям; il faut etre Russe pour vivre en Russiee31.
Именно так воспринимал Кюстин резкое нежелание властей, чтобы иностранцы узнали русскую жизнь, как она есть, и смогли сравнить ее с Западом. Однако он понял и то, что за презрением к правде, стремлением показывать один только фасад и всеобщим умолчанием скрывается еще и нечто иное, более субъективное — нежелание признать даже перед своим народом все безобразие российского деспотизма. Эта всеобъемлющесть обмана и лицемерия служит, по мысли Кюстина, «лишь для сокрытия столь вкоренившейся бесчеловечности»32. И еще: «Правление, жестокость которого поддерживается таковыми средствами, может быть лишь глубоко порочным»33.
Столь мрачные мысли о природе русского деспотизма приводили Кюстина и к пониманию тех качеств русского крестьянства — изворотливого упорства, озверения и скрытого до времени анархизма, — которые требовали совсем иных способов правления, чем в других странах. Подобно многим западным путешественникам, начиная с первого постоянного посланника Герберштейна34 в XVI веке[19], он не мог не задаться вопросом, насколько жестокость правления явилась неизбежным следствием национального характера, и был готов безоговорочно принять это в качестве оправдывающего обстоятельства:
«Милосердие является слабостью по отношению к народу, ожесточенному террором; такой народ умиротворяется одним только страхом; неумолимая жестокость держит его на коленях, а жалость лишь побуждает поднимать голову; никому не известно, какими способами можно образумить его, и остается прибегать к принуждению; не имея чувства чести, он неспособен и жертвовать собой, а восстает только противу мягкости и снисхождения, подчиняясь лишь жестокости, каковую почитает он за истинную силу»35.
Но даже в своих горьких размышлениях он не находил полного оправдания действиям русской власти. Ведь если этот порочный круг озверения и ответного озверения должен быть все-таки разорван, если «сия борьба обманов, предрассудков и бесчеловечности между народом и монархом» должна быть преодолена, значит, кто-то должен начать, показать пример, и это может сделать только правительство. «Конечно, никто не говорит, чтобы с сего дня Россия стала управляться так же, как европейские страны; я хочу лишь сказать, что можно избежать многих зол, если подать сверху пример некоторого смягчения обычаев и общепринятых отношений»336. Разве варварство раба не обличает, в конце концов, развращенность его хозяина?37
Но у Кюстина не было иллюзий относительно того, что власть снизойдет до подобного adoucisse- ment. Ведь ее престиж был слишком тесно связан со старыми способами правления. Их изменение было бы признанием прежних ошибок: «Они боятся дурных последствий запоздалой справедливости и усугубляют зло именно ради того, чтобы не признаваться в прошлых злоупотреблениях»38.
а L'exemple de l'adoucissements des moeurs [франц.).
Как и многие другие приезжавшие в Россию, Кюстин был поражен абсурдной монументальностью, несообразной чудовищностью всего, что делало правительство; он спрашивал себя: зачем этот символизм, что он должен утверждать? Навряд ли прошлое России, ведь оно слишком мелко и несчастливо, но отнюдь и не современность — незначительную и угнетающую. Оставалось только будущее. У столь обширных предприятий могло быть единственное оправдание — какой-либо грандиозный проект, обнимающий не одно лишь прошлое и настоящее и не одну только Россию.
Что же это такое? Здесь не находилось иного объяснения, кроме стремления к завоеваниям во имя идеологического прозелитизма и ради сокрытия и искупления внутренней несостоятельности. Именно такова, утверждал Кюстин, arriere-pensee всей российской политики. Люди совершенно бессознательно руководствовались этой arriere-pensee, и без ее понимания невозможно постичь Россию, а «ее история так и осталась бы для меня неразрешимой загадкой»39. Что такое, в конце концов, этот «Санкт-Петербург во всем его величии и грандиозности», если не «памятник, возведенный русскими их будущему могуществу?»[20]-40
Конечно, во времена Кюстина понимание идеи мирового господства, как сокровенного стержня российской политики, не представляло собой ничего нового. Уже в течение 350 лет у посещавших Россию европейцев возникали именно такие мысли и подозрения. Об этом говорил ему на пароходе и князь Козловский, у которого были на то свои объяснения. По его мнению, в давние времена Россия, как христианская страна, стояла между монгольскими ордами и христианской цивилизацией. Но сейчас положение переменилось. Сама она превратилась в полуазиатскую страну. После столетий татарского ига русские правители вдохновляются подсознательным желанием выместить его на других — и в своей стране, и за границей. Народ и государи привыкли отыгрываться на невинных жертвах, и это представлялось им свидетельством своей силы. Таким образом, теперь по отношению к Европе русские играют ту же роль, как прежде монголы для России, а место буфера между Европой и Азией перешло к полякам41.
Этот аргумент Козловского произвел на Кюстина глубокое впечатление, тем более, что сами русские подтвердили его справедливость. В Петербурге ему приходилось слышать такие мнения: «Европа идет по пути Польши — она обессиливает себя пустым либерализмом, но мы остаемся сильными именно благодаря нашей несвободе. Пусть таков наш жребий, придет время, и другие заплатят за наш позор»42.
Логика этого утверждения и собственная неспособность найти лучшее объяснение многому из увиденного наполнила Кюстина гнетущим чувством русской угрозы для Европы, которая, по всей видимости, утрачивает свои идеалы и традиции. Именно это, как мне кажется, вдохновило его на самое важное и красноречивое место в книге:
«В сердцах русского народа вызревает такое стремление, которое может зародиться только в груди угнетенных и питаться лишь несчастиями всей нации. Народ сей по самой своей сущности агрессивен и жадно корыстен из-за претерпеваемых им лишений. Позорной покорностию своей он уже заранее искупает свои намерения поработить иные нации. /.../ Дабы очиститься от унизительного и нечестивого пожертвования всеми общественными и личными свободами, раб, стоя на коленях, мечтает о мировом господстве»43.
И Кюстин спрашивает себя: можно ли серьезно воспринимать такие мечтания? Что такое эта идея завоевания, которую он назвал «тайной жизнью России»?44 «То ли мираж, предназначенный для временного усыпления неразвитых народов, или, быть может, реальность будущего?»45. По его признанию, этот вопрос все время не давал ему покоя.
«С самого приезда моего в Россию у меня сложилась мрачная картина будущего Европы Конечно, подобное мнение отвергается многими разумными и сведущими людьми. Они полагают, что я преувеличиваю силу Российской империи. По их представлениям, для каждого общества неизбежны поражения, а Россия будет распространяться на Восток, после чего распадется на части /.../а.
Однако я вижу сего Колосса с близкого расстояния, и мне с трудом верится, что Провидение сотворило его лишь ради уменьшения азиатского варварства. Похоже, он создан прежде всего дабы покарать новым нашествием развращенную цивилизацию Европы. Нам непрестанно угрожает извечная тирания Востока, и своими сумасбродствами и пороками мы можем заслужить справедливую кару»47.
Для Кюстина опасность со стороны России всегда зависела, прежде всего, от слабости Европы:
«Провидение не напрасно накапливает на востоке Европы сии громадные и бездействующие пока силы. Придет время, и спящий гигант проснется, чтобы положить конец власти нашего словоблудия
Когда наша космополитическая демократия превратит войну в нечто одиозное для всех народов, и
а Современный читатель, несомненно, обратит внимание на соотносимосгь этой мысли с советско-китайским конфликтом46.
когда сии самые цивилизованные в мире нации окончательно ослабят себя политическим развратом и впадут на позор перед всем миром во внутреннюю спячку и в своем эгоизме уже нигде не отыщут для себя союзников, тогда разверзнутся врата Севера^, и нас постигнет последнее нашествие, но на сей раз уже не невежественных варваров, но тех, кто лучше нас постиг, как должно управлять намиj»48.
Но будет ли это столь ужасно и действительно окажется концом всего? Станет ли русское владычество непереносимым? Может быть, в нем окажется своя польза? Кюстин не думал так, и его обоснования заставляют вспомнить недавнюю дискуссию вокруг Чехословакии[21]:
«Русское господство, даже если оно ограничится только дипломатическими требованиями без завоевания, представляется мне наихудшим. Мы обманываемся ролью этой страны в Европе. По принципам своего правления Россия представляется нам оплотом порядка, но по характеру народа она принесет тиранию под видом подавления анархии»49.
Таким был взгляд Кюстина на значение России для будущего Европы. Угроза? Да, несомненно и неизбежно, поскольку отсталость России, неровный ритм ее развития и невозможность обустроить самое себя не оставляют ей иного пути. Нация, неумиротворенная внутри, не может мирно сосуществовать с соседями. Однако русская угроза определяется лишь собственной слабостью Европы.
Агрессивность России происходила от недостатка тех качеств, которым она завидовала у других стран, являясь одновременно угрозой и для них, и для самой себя, потому что у нее не было достойного прошлого. А Европе угрожает опасность из-за ее неспособности уважать свою историю.
В начале этой главы мы уже упоминали о политических взглядах Кюстина до приезда в Россию. Остается лишь сказать, что именно изменилось в них ко времени его возвращения, хотя, как он сам говорил, произошло, главным образом, только смещение акцентов, а не перемена по существу.
Вспомним и его слова о том, что он поехал в Россию, «дабы отыскать аргументы противу представительного правления». Но это лишь часть его высказывания, а далее было: «однако я возвращаюсь сторонником конституций».
В других местах книги он говорит об этом подробнее:
«Во Франции мне казалось, что я согласен с апологетами старого порядка. Но, должен признаться, пожив при деспотизме, который установил военную власть над народом целой Империи, я уже предпочитаю некоторую живительную неразбериху идеальному порядку, несовместимому с самой жизнью»50. «Уехав из Франции напуганный злоупотреблениями ложной свободой, возвращаюсь с убеждением в том, что хотя представительная система с точки зрения логики отнюдь не самая нравственная форма правления, практически она все же разумнее и умереннее всех остальных, ибо, с одной стороны, предохраняет народ от демократической распущенности, а с другой — от вопиющих зол деспотизма. И я спрашиваю себя: не следует ли заглушить собственные антипатии и безропотно покориться тому необходимому, что приносит для приуготовленных к сему наций более добра, чем зла?»51.
Трудно понять, как следует оценивать подобные высказывания. Их схожесть со столь еще недавними заключениями Токвиля после поездки в Соединенные Штаты столь велика, что наводит на мысль о его сильнейшем влиянии на Кюстина. Может быть, подсознательно он хотел разделить хотя бы малую часть токвилевского успеха. Но несомненно и то, что все-таки это были его собственные убеждения, и они останутся классическим примером среди бесчисленного числа иностранцев, приезжавших и живших в России, которые примирились с несовершенством политических систем у себя на родине. Остается только напомнить сказанное Кюс- тином в самом конце его книги:
«Дабы ощутить свободу, коей пользуются европейцы в своих странах, надобно побывать в сей бесконечной пустьше, сей безысходной тюрьме, которая называется Россией.
Если ваши сыновья разочаруются во Франции, последуйте моему совету и отправьте их в Россию. Такое путешествие полезно для всякого — каждый, кто внимательно наблюдал сию страну, с радостью согласится жить в любой другой»52.
Таковы мнения Кюстина о России, которые принесли известность написанной им книге. Однако признание его проницательности и здравомыслия будет неполным, если не упомянуть и суждения маркиза о более широких проблемах международной жизни. Они, насколько мне известно, обойдены молчанием в работах, посвященных Кюстину, хотя, несомненно, тоже достойны внимания. Здесь он на десятилетия опередил свое время, и его идеи сохраняют свою актуальность даже в середине XX века.
Кюстин выступил против романтического национализма, овладевшего умами по меньшей мере трех последующих поколений не только во Франции, но и повсюду на Западе. Исходя из тех прозрений, которые стали понятны другим только после горького опьгга двух мировых войн и появления атомной бомбы, он оспорил саму концепцию национальной славы (от чего не отказался даже Токвиль); он отверг любую попытку распространения власти или идеологии среди других народов; он предпочел модель маленького государства, сконцентрированного на внутреннем улучшении, по сравнению с великими державами, стремящимися к завоеваниям; он отверг материализм, империализм и войну во всех их проявлениях. Остается одной из тайн, окружающих личность Кюстина, как он сумел пойти против самой атмосферы и даже культуры своего века, но его мнения говорят сами за себя:
«Сколь бы ни утонченна была наша религиозная пропаганда, я, тем не менее, нахожу одиозным любой политический прозелитизм, иначе говоря, сам дух насилия, софистически оправдываемый во имя славы. Сии узколобые амбиции не только не объединяют человечество, но, напротив, еще больше разделяют его»53.
«Среди самых цивилизованных стран я вижу некоторые государства, которые обладают властью только над своими подданными, да и то обретающимися лишь в небольшом числе. Государства сии не имеют никакого веса в мировой политике. Их правительства заслужили всеобщее признание не славой завоеваний, не тиранической властью над иными народами, но благодаря мудрым законам и общеполезному правлению; имея такие блага, небольшой народ не покорит, конечно, весь мир, но зато может стать для него путеводным светочем, что во сто крат предпочтительнее /.../. В нашей стране все еще живо обаяние войны и завоеваний, несмотря на уроки, полученные от Бога Небес и божества земли — своекорыстия /.../.
Я надеюсь еще дожить до ниспровержения сего кровавого идола войны и грубой силы. Любой территории и любой власти достаточно, если есть мужество жить и умереть за истину; если стремишься искоренить ложь и готов пролить кровь в защиту справедливости.
И не алчные взгляды на соседей приносят народам всеобщее признание, а лишь обращение внутрь себя и развитие самих себя духовными и материальными средствами цивилизации. Подобные заслуги столь же превосходят пропаганду меча, насколько добродетель выше любой славы.
Однако такое распространенное выражение, как «первоклассная держава» применительно к национальной политике еще долгое время будет оставаться источником бедствий для всего мира»54.
VL ОТКЛИКИ
«Россия в 1839 году» наконец-то увидела свет в мае 1843 г. — почти через четыре года после поездки Кюстина. Как уже говорилось, она сразу получила всеобщее признание. Ее официальный издатель Амио за три года выпустил четыре тиража. В Брюсселе contrefacteurs? (по выражению Кюстина) — Societe Typographique Beige — еще четыре, до того, как Амио добрался до второго издания (они были копиями первого, но с микроскопическим, почти нечитаемым шрифтом). Английские, немецкие и датские переводы последовали невероятно быстро для того времени, когда еще не существовало пишущих машин. Через два или три года Кюстин мог подсчитать, что было продано, по меньшей мере, 200 тыс. экземпляров. И подобный успех, как это ни поразительно, судя по всему, почти совсем не был связан с появившимися рецензиями[22].
Реакция периодической прессы осложнялась рядом обстоятельств. Прежде всего тем, что там, где были наиболее компетентные рецензенты, то есть в самой России, книга была официально запрещена для ввоза, продажи и публичного обсуждения. Поэтому не могло быть и речи о русских журналах.
Мнение образованной части русского общества может быть понято лишь по отдельным высказываниям в письмах или с чьих-то слов, дошедших до нас в исторических свидетельствах. Все они показывают, что лишь очень немногие восприняли книгу Кюстина без возмущения или недовольства; большинство увидело в ней смесь недостоверного с той правдой, которая всегда неприятна. Трудно сказать, что из этого было хуже. Общий ее тон раздражал, а подробности напрашивались на опровержение.
Хотя в издательском предисловии ко второму изданию и говорилось, что порядки на русских таможнях уже намного улучшились, именно благодаря злому описанию Кюстина, но все же его книга мало, а быть может, и вовсе не повлияла на власть или русское общество. Об этом свидетельствует одно из самых здравых русских мнений — невестки Николая I, второй дамы Империи, великой княгини Елены, женщины выдающегося ума и к тому же заступницы и патронессы князя Козловского. Летом 1843 г. она встретила на водах в Германии приятеля Кюстина Варнгагена фон Энзе, который в письме от 31 июня передавал ее мнение: Кюстин сильно преувеличил все дурное в России и зачастую не видел вообще ничего хорошего. «Она согласна, что во многом он прав; однако вместо того, чтобы способствовать улучшениям, книга его только озлобляет /.../. Конечно, она произведет впечатление, но более спокойная и уравновешенная картина принесла бы большую пользу»1.
В Европе лишь немногие (быть может, вообще никто) могли правильно оценить нарисованную Кюстином картину этой великой страны. В то время славистика еще не развилась настолько, чтобы хоть как-то влиять на западное научное сообщество. Не было и «экспертов» по России в современном значении этого слова. Многие, конечно, какое-то время жили там, а еще большее число приезжало как путешественники. Однако навряд ли хоть сколько-нибудь значительная часть их могла бы встать в один уровень с Кюстином по своим литературным способностям. Мало кто оставался там дольше, чем он. Приезжавшие незадолго до него уже описали свои впечатления (или только еще намеревались) и завидовали успеху его книги, не сомневаясь, что при желании могли бы сделать это много лучше.
На французские рецензии повлияли многие факторы, не относящиеся к самой книге. Различные журналы поддерживали разные направления внешней политики, в частности и по отношению к России, а при тогдашней продажности французской прессы русское правительство было далеко не последним покупателем. Наконец, следует учитывать отношение редакторов и обозревателей лично к самому автору. Почти не имея друзей, он нажил себе многих хулителей и врагов, особенно среди критиков. По собственному признанию Кюстина, его «предпочитали любить издалека»2. Репутация богача в сочетании с литературными амбициями и приписываемая ему готовность платить критикам, все это настораживало редакторов против благоприятных рецензий на его книги из опасения быть заподозренными в продажности. (Известен случай, когда один издатель признался Бальзаку, что именно по этой причине он настоял на незаслуженно отрицательном отзыве о работе Кюстина).
Поэтому вряд ли можно было надеяться на глубокие и взвешенные оценки «России в 1839 году» в европейской прессе.
Какие бы на то ни были причины — объем книги, щекотливость самого сюжета, отсутствие квалифицированных критиков (а может быть, и
4* привычная недооценка Кюстина) — но парижские редакторы не спешили откликнуться на появление «России в 1839 году»а. Первые серьезные рецензии появились только к концу 1843 г., когда брюссельские издания уже произвели фурор, и даже неторопливый Амио готовил при содействии Кюстина второе издание. Но это не значит, что вообще не появилось никаких печатных откликов. Русские, прочитавшие книгу летом 1843 г., были глубоко уязвлены, и некоторые из них, не имея возможности обратиться к своим соотечественникам, поспешили сделать все возможное, чтобы ослабить ее влияние в европейских странах. Зимой 1843—1844 гг. появилась целая серия брошюр и статей, большей частью анонимных, с нападками на Кюстина. Чаще всего их воспринимали как заказ русского правительства, и, действительно, три самые главные были написаны людьми, так или иначе с ним связанными: один из них филолог Н.И.Греч, тот самый спутник Кюстина на «Николае I», о котором мы уже говорили (см. главу III); второй — русский дипломат польского происхождения Ксаверий Лабенский, литератор- любитель (он писал французские стихи и, похоже, считал себя деятелем французской культуры), служивший по Министерству иностранных дел в Петербурге.
Третий официозный отзыв явился из-под пера известного литератора Якова Николаевича Толстого. Когда-то либерал, прикосновенный к заговору декабристов, он был вынужден эмигрировать после бунта 1825 г. и надолго обосновался в Париже. Однако в 1830-х годах Толстой примирился с царским правительством и стал агентом тайной полиции под
а При написании этой главы я по возможности следовал путем, столь ярко освещенным проф. Кадо, и кроме своей благодарности могу лишь подтвердить скрупулезную достоверность всех его материалов.
прикрытием должности корреспондента Министерства народного просвещения[23]; на самом же деле его использовали для влияния на французскую прессу3. Прежние политические связи позволяли ему выступать в качестве либерала и в этой роли пользоваться отчасти доверием многих людей, которые ничего не подозревали о его роли русского агента. (Официальное прикрытие Толстого было серьезно скомпрометировано в 1846 г. вследствие неосторожности одного полицейского чиновника, и в Париже у него возникли серьезные трудности).
Все три официозных критика играли в одном ключе, подлавливая Кюстина на множестве неточностей и неувязок. Его обвиняли в бестактности и неблагодарности, а иногда даже припоминали его сомнительную репутацию.
Греч опубликовал под своим именем брошюру Ехатеп de 1'ouvrage de М. le marqis de Custine intitule «La Russie en 1839»6. Напечатанная первоначально по-русски, она вышла в немецком переводе в Гейдельберге и на французском языке в Брюсселе (январь 1844 г.). Греч назвал книгу Кюстина «сплетением лжи, неточностей, грубейших ошибок, противоречий и клеветы». Маркиз, по его мнению, не только не знал, но и не хотел знать Россию и судил о ней, «как глухонемой об опере».
Произведение Толстого, имитируя кюстинов- скую форму, называлось: «La Russie en 1839» revee par M. de Custine ou lettres sur cet ouvrage ecrites de
Francfort* и вышло под псевдонимом JJakovlev также по-немецки в 1844 г. в Лейпциге и почти одновременно во французском издании без обозначения места и издателя, вместо которого на титульном листе были загадочные слова: Chez les princi- paux librairesi[24].
Нападение Толстого более всех других затрагивало личности, было злее, язвительнее и, очевидно, предназначалось для того, чтобы выставить Кюстина на посмешище и тем уничтожить его, а не перечислять для этого все его ошибки. Как и Греч, Толстой не удержался от соблазна припомнить ему гомосексуализм и даже особо написал об инциденте 1824 г. (уже двадцатилетней давности), проявив тем самым наибольшую жестокость. Согласившись, что в книге есть места, где видны «изящество и талант», он все-таки заклеймил ее как написанную преднамеренно «в духе лжи и злосердечия» ради того, чтобы под новыми сенсациями похоронить память о «некоем скандальном приключении». Русские могут почитать для себя немалой удачей, что столь злонамеренный человек не смог отыскать ничего иного для нападения на них со своей клеветой и ложью.
Брошюра дипломата Лабенского также появилась анонимно (за подписью «Русский») под названием: Un mot sur I'ouvrage de M. le marquis de
Custine intitule «La Russie en 1839»й. Почти сразу же последовал и английский перевод (Лондон, 1844 г.) под редакцией некоего ДжБредфильда, который написал предисловие, ничуть не уступающее всему содержанию по язвительности нападок на Кюстина.
Монография Дабенского была наиболее серьезной и лучше других написанной. Он, как и Толстой, не стал распространяться по поводу отдельных ошибок, а решил выставить Кюстина в смешном виде. Но по сравнению с другими его тон был спокойнее и даже учтивее. Многие считали все эти три брошюры лишь выполнением оплаченного заказа со стороны русского правительства, однако на самом деле это было не совсем так. Хотя Толстой, похоже, получил деньги от полиции за свои, по его словам, расходы на издание, а Греч очень надеялся на такое же вознаграждение[25]; все-таки инициатива исходила, скорее всего, от самих авторов. Но по зрелом размышлении русское правительство решило, что чем меньше будет слышно о Кюстине, тем лучше0. В письме к Гречу одного из высших полицейских чинов говорилось, и, несомненно, с ведома самой высшей власти, что правительство не видит причин, почему бы российские литераторы сами не взяли на себя почин защитить свою страну от клеветы извне, как это делается в других государствах. И далее: «Однако искать таковых литераторов и протежировать оным отнюдь несовместно с достоинством нашего правительства, хотя оно и будет благодарно тем, кто трудится в его интересах по собственному побуждению /.../»4.
Все три брошюры, особенно английский перевод опровержения Дабенского, получили широкую известность (менее прочих работа Толстого) и остались не без влияния на рецензентов и непосредственно на читателей* Но в общем была слишком заметна их очевидная пристрастность и слишком сильный отпечаток официозности. Весьма показательно, что, прочитав труд Греча, Александр Тургенев жаловался в письме к Булгакову на отсутствие до сих пор «дельного и чистого критика» Кюстина5.
Французские рецензии, по большей части неблагоприятные, начали появляться только в конце 1843 г. Одна из них в журнале «La Presse», основанном талантливым, но беспринципным Эмилем де Жирарденом[26].
В архивах русской полиции найдется немало интересного об этом человеке, и, несомненно, если ему и не платили, то, во всяком случае, в течение долгих лет поощряли его неизменно прорусскую ориентацию. В конце 1830-х годов Яков Толстой в своем донесении рекомендовал «La Presse» как журнал вполне достойный негласной финансовой поддержки, но архивы подтверждают и то, что к 1843 г. Третье отделение стало с подозрением относиться к Жирардену, как к человеку сомнительной репутации и ненадежному. Для шантажа, на случай каких-либо неожиданностей с его стороны, тщательно сохранялись некоторое его сообщения. Тем не менее, с ним продолжали заигрывать, а он придерживался прорусского направления то ли в благодарность за уже полученное, то ли в надежде на будущие субсидии® В подобном контексте никак нельзя считать рецензию в «La Presse» совершенно непредвзятой.
Труднее объяснить злую рецензию в «Revue de Paris», написанную молодым поэтом Жаком Шоде- Эпо, нападки которого на Кюстина были жестокими и сугубо личными, вплоть до высмеивания его прежних, не столь успешных произведений. По оценке критика книга Кюстина принадлежит к жанру la litterature confidentielleP и была бы по-своему привлекательная, если бы ее написал ип homme illustre?. «Est-оп illustre, — риторически вопрошал рецензент, — pour avoir ecrit des romans tels que 'Aloys" /.../?»г После такого вступления нападение сосредоточивалось, главным образом, на литературных качествах книги. Многое, по утверждению г-на Шоде-Эпо, было заимствовано у других, лучших писателей. Политические и религиозные идеи туманны и по-детски несерьезны. В результате получился «расплывчатый и незначительный памфлет»7.
Конечно, Шоде-Эпо был вполне респектабельной фигурой в мире литературы, и навряд ли он поставил свое имя под тем, что вышло из-под чужого пера. Тем не менее, в донесении русского посланника в Париже министру графу Нессельроде (июль 1843 г.) находим такие интригующие слова: «Вследствие предпринятых мною шагов присланное ко мне опровержение книги г-на де Кюстина должно появиться в «Revue de Paris», а затем в фельетоне или приложении к «Ouotidienne»Q. Самым безобидным для Шоде-Эпо можно считать то, что он только воспользовался присланными из русского посольства материалами. Во всяком случае, очевидно, что русское правительство, не заботившееся об опровержениях из России, отнюдь не оставило попыток повлиять на французскую прессу.
Возможно, эти неблагоприятные рецензии уравновешивались в глазах Кюстина двумя другими относительно благосклонными, которые появились в «Journal des Debats». Они принадлежали другому Жирардену — Сен-Марку — критику, профессору литературы, известному защитнику поляков. Несомненно, выбор такого автора отражал политическую линию журнала, отрицательно относившегося к франко-русскому сближению. Однако, как говорили, «Journal des Debats» был единственным французским изданием, которое регулярно читал сам император. По этой причине, а также вследствие официозного статуса журнала, его оценка книги Кюстина приобретает особое значение.
В отношении анализа Сен-Марк Жирарден оказался навряд ли более глубоким, чем враждебные Кюстину рецензенты. В первой из его статей, появившейся 4 января 1844 г., он пишет о трудности для любого иностранца составить близкое знакомство с Россией, и его мнение само по себе можно считать классическим и достойным быть спасенным от забвенияа. Далее автор высмеивает анонимные или инспирированные брошюры, в особенности их
а См. примеч. 8 к настоящей главе.
потуги объяснить наблюдения любекского трактирщика морской болезнью. Вторая статья фактически была опровержением Греча, а не рецензией на книгу Кюстина. Сен-Марк Жирарден подловил Греча на его абсурдной аналогии русской цензуры и отверг обвинения в недоброжелательности кюстина к императору Николаю.
Интересным побочным следствием статей Сен- Марка Жирардена явилось появление в ответ на них, лучшего, быть может, из отрицательных отзывов на книгу Кюстина, хотя и оставшегося, к сожалению, незавершенным и неизданным. Профессор Кадо обнаружил в московском архиве и впервые опубликовал автограф тридцатитрехстраничной статьи П.АВяземского, озаглавленной: «Еще несколько слов о труде г-на де Кюстина «Россия в 1839 году», по поводу статьи в «Journal des Debate» от 4 января 1844 года»10.
Общий фон ответа Вяземского и причина того, почему он не завершил его, остаются до сих пор не выясненными3. Тургенев, как и в августе 1843 г., спрашивал в письме его мнение, но Вяземский, очевидно, не внял его просьбе и ничего не ответил даже на повторный вопрос, поскольку даже в декабре Тургенев жаловался Булгакову: «Без причины он бы не молчал, а я, кажется, повода не подавал, ибо люблю его по-прежнему; а может ценю и более прежнего, хотя в мнениях все так же не согласен, как и был в последнее время»11.
Но мнение Вяземского хотел знать не один только Тургенев, который в письме к нему цитировал слова маститого поэта Василия Андреевича Жуковского (находившегося тогда в Париже):
«Если этот лицемерный болтун выдаст новое издание своего четырехтомного пасквиля, то еще
а По мнению проф. Кадо, это объясняется отрицательным отношением к ней со стороны властей.
можно будет Вяземскому придраться и отвечать, но ответ должен быть короток; нападать надобно не на книгу, ибо в ней много и правды, но на Кюстина; одним словом, ответ его должен быть просто печатная пощечина (не за правду ли, добрый Жуковский?) «в ожидании пощечины материальной». Не смею делать замечания на Жуковского, но, пожалуйста, не следуй его совету»12.
Судя по всему, Вяземский взялся за перо еще до получения этого письма, и таким образом появилась та самая рукопись, которая была извлечена на свет профессором Кадо.
Статья Вяземского в своем незавершенном виде отнюдь небезупречна. Временами автор слишком увлекается обличениями парламентского режима во Франции и французской прессы — с чем, я думаю, сам Кюстин охотно согласился бы. И вообще, подобно другим антикюстиновским памфлетам, он излишне злоупотребляет аргументом tu quoqueа — кто вы такие там, в Европе, чтобы критиковать Россию? Вряд ли это можно отнести на счет Кюстина. Как и Шоде-Эпо, Вяземский не удержался от насмешек над весьма скромным успехом прежних произведений автора «России в 1839 году» и перечисления всех неточностей в отношении превосходнейшего корабля «Николай I», что при всей своей справедливости мало относится к основной идее книги. И, наконец, Вяземский утверждает, что Кюстин сказал о России не более того, что: 1) она управляется абсолютным монархом; 2) большинство русских крестьян пребывают в состоянии крепостной зависимости; 3) в России есть придворные6. Это, конечно, было грубым искажением самого духа кюстиновской книги, содержавшей куда более тонкие и проницательные наблюдения.
Но все же при всех своих недостатках статья Вяземского во многих отношениях оказалась лучшей из всего написанного русскими против Кюстина, и нигде столь полно не было отображено отношение к ней русской литературной интеллигенции.
В Англии два крупных журнала выступили с неблагоприятными отзывами. Поэт и политик Ричард Монктон Милне написал пространную анонимную статью для «Edinburgh Review». В ней рассматривалась не только книга Кюстина, но и упомянутая уже брошюра Лабенского, а также еще одна, некоего М.А.Ермолова: Encore quelques mots sur l'ouvrage de M. de Custine «La Russie en 1839» par M."*a.
Милне был серьезным автором, и его большая рецензия не лишена достоинств, к которым следует отнести то, что он столь же строг к антикюсгинов- ским брошюрам, как и к самому Кюстину. Например, такое характерное для него суждение:
«Чувствительность его, несомненно, весьма возбудима и в большинстве случаев совершенно неуместна: он теоретик и обобщитель (generalizer. — Д.С.) в самом диком роде, к тому же полностью лишенный критического таланта, а приводимые им факты не могут приниматься на веру. Однако у нас нет никаких оснований подозревать его в преднамеренных искажениях или злостном пренебрежении истиной. Он прямодушен, хотя эта искренность не всегда самою чистого свойства, а усердие испорчено излишним самомнением; добросовестность его отражается лишь в отрывочных впечатлениях /...А.
С другой стороны, Милне, как и большинство критиков, в некоторых отношениях был неправ. Он заимствовал из брошюры Лабенского упрек Кюсти- ну за обнародование мнений его спутника на «Николае I», личность которого или была им обоим неизвестна, или же они ничего не знали о его смерти. По мнению Милнса, Кюстин должен был заранее понять, что при его аристократических предрассудках и «католической неприязни к эрастианской ереси»14 Россия не понравится ему, а поэтому нечего было туда и ехать — весьма странное мнение, согласно которому только те люди должны путешествовать, кто уже наперед знает, что их ожидают одни только восторги. Ощущается у него и нечто вроде зависти и раздражения успехом книги Кюстина. Сам Милне, далеко небезызвестный писатель, совсем недавно побывал в Константинополе, и чувствуется, насколько он переполнен своим путешествием, описание которого на его взгляд более объективно, глубоко и намного достойнее внимания публики. Его статья наполнена брюзгливой критикой за неумеренное внимание Кюстина к недостаткам русского общества и правительства, которые, по мнению Милнса, вообще присущи всему Востоку.
Вторая английская рецензия была опубликована (также анонимно) в «Quarterly Review». Благодаря настойчивым исследованиям профессора Кадо, можно предполагать, что ее написал Родрик Импи Марчисон, занимавшийся в 1839 г. геологическими исследованиями в России и, конечно, повидавший в ней куда больше, чем Кюстин15. Его суждение, пересыпанное острыми (и наименее достоверными) цитатами из Кюстина, было ни отрицательным, ни благоприятным: Кюстин, «человек, привыкший блистать в салонах, вертит пером, как языком, всегда ради того, чтобы произвести впечатление или подтвердить какую-то свою мысль, но отнюдь не заботясь об истине». Не каждый день в Англии или
Франции встречается «столь занимательная и поучительная книга», хотя это отнюдь не искупает всех ее погрешностей. «Все существенное, относящееся до фактов и наблюдений, уже давно сказано, а всяческие домыслы не достойны даже упоминания».
В этих последних словах квинтэссенция викторианского восприятия, которая объясняет почти мгновенное исчезновение книги Кюстина с горизонта английской и американской публики, несмотря на произведенный ею вначале фурор. Ясно, что английский читатель искал в подобных книгах только «факты и наблюдения». Философские и политические прозрения — то, что составляет величайший интерес для наших современников — совершенно не воспринимались викторианцами. Анализ этого явления относится скорее к задачам историков, а не критиков Кюстина. Возможно, объяснение заключается в тех особенностях темперамента, которые отвращали викторианских читателей от всего изящного и глубокого, что было в культуре XVIII века, к которой по сути дела принадлежал Кюстин, но которая уже теряла свое значение и смысл в век наступающего материального прогресса.
Критика отнеслась к «России в 1839 году» с достаточной строгостью, а что касается тех ее аспектов, которые в то время более всего интересовали рецензентов, она была не так уж несправедлива. Преимущественно нападали на содержавшиеся в ней многочисленные ошибки и несуразности. Однако Кюстин заранее отвергал все подобные обвинения, предвидевшиеся им еще при написании книги:
«Не упрекайте меня за противоречия и несообразности — обращался он к воображаемому адресату своих писем, — я сам заметил их прежде вас, но не имел ни малейшего желания исправлять, ибо они соответствуют природе вещей. Будь я не столь откровенен, вы нашли бы меня более последовательным»16.
Что сказать на это? Разве историк, сталкивающийся с противоречиями большинства исторических свидетельств, не подвергается искушению «улучшить» связность и убедительность своих построений, для чего приходится закрывать глаза на несоответствия в исходном материале или, по крайней мере, смягчать их? А ведь Россия — это классическая страна противоречий. Конечно, критики были правы, обращая на них внимание, но и столь откровенно заявленная защита также имеет право на существование.
Кюстин был особенно чувствителен к обвинениям в неточной передаче подробностей и заранее предвидел возражения русских: «Что можно понять за три месяца? Действительно, я плохо видел, но зато хорошо угадал»17.
Справедливы оба мнения. Конечно, Кюстин повинен в неточностях. Однако и его критиков можно обоснованно обвинить в одной фундаментальной ошибке — за его погрешностями они не заметили самого главного в книге — ее прозрений. Ведь именно Кюстин привлек внимание к трагическому противоречию между политическими и социальными претензиями русского правительства и скрывающейся за ними действительностью. Более того — он предположил, что тенденция к самообману объясняется не только ошибками и несовершенством режима, но глубоко коренится в историческом опыте русского народа и чревата роковыми опасностями для российского государства. Как показала вся последующая история, он вполне оправданно усомнился в официальной русской идеологии и убеждениях многих образованных русских относительно самой сущности их страны. Литературная критика должна была не только указать на множество неточностей и противоречий в его книге, но также вникнуть в ее основополагающие тезисы. Этого, к сожалению, так и не было сделано.
Среди различных откликов на труд Кюстина остается еще отметить и отношение того человека, который более всех других был лично заинтересован в его поездке. Речь идет, конечно, об Александре Тургеневе.
Ко времени выхода книги в свет (середина мая 1843 г.) он возвратился в Россию и по странной случайности 12 апреля был призван к главе полиции для объяснений по поводу его участия в парижском издании некоей книги, вызвавшей царский гнев. Судя по всему, это было отнюдь не произведение Кюстина (хотя о неблагонамеренном содержании последнего русские власти уже знали), а совсем другое, написанное молодым князем П.В.Долгоруковым[28]. Тургенева подозревали в передаче ему некоторых компрометирующих документов, однако после соответствующих объяснений он был отпущен с миром. Вызванный из Парижа князь Долгоруков имел неосторожность исполнить повеление и по прибытии на родину подвергся аресту, а впоследствии был выслан в провинцию*1.
К середине лета Тургенев снова был в Европе, на сей раз в Мариенбаде. 10 августа один русский знакомый принес ему четвертый том «бельгийского Кюстина», и он пытался переслать экземпляры Булгакову и Вяземскому[29]. Через десять дней он писал последнему:
«Откликнись на Кюстина. О тебе я постараюсь образумить его9. Книга читается всей Европой; пожалуйста, напиши свое мнение не о фактах, qu'il faut mepriser сотте tell&, но о принципах, о впечатлениях, переданных откровенно».
За следующие четыре или пять месяцев переписка Тургенева изобилует упоминаниями о книге Кюстина. Он неукоснительно пересылал своим друзьям все рецензии и все нападки на нее, попадавшиеся ему под руку. 24 декабря он писал Булгакову:
«Вчера принесли мне новую брошюру: Цпсоге quelques mots sur Custine par М.в на сорок страниц. Автора не знак?. И он нападает на твоего поганого Кюстина и защищает даже чины/ Но довольно скромно, хотя сам ошибается во многом. Главных вопросов он и не касается, а выежжает более на Петре I и на других эксожёрациях* К-на, упрекая ему и за нарушение юстеприимства: лучший бы ответ чье-то словцо: «on aurait du lui montrer le dos: cela lui aurait fait plaisir»3*.
Подобные суждения вынуждают снова задаваться вопросом об отношении Тургенева к Кюстину и его путешествию. Позволим себе отступление, чтобы сравнить все имеющиеся свидетельства. Тургенев в течение нескольких лет был знаком с Кюс- тином в Париже, хотя, может быть, и довольно поверхностно. В июне 1839 г. он встречался с ним во Франкфурте, а вскоре еще раз, в Киссингене. Он дает Кюстину рекомендательное письмо к своим самым близким друзьям, у которых были достаточно сложные отношения с правительством. (В книге Кюстин скрыл свои встречи с Тургеневым, а никто из друзей последнего ни словом не обмолвился о его письме). Повидавшись во Франкфурте и Киссингене, оба поехали в Россию, но разными путями. Через несколько недель они встретились снова при весьма странных обстоятельствах на почтовой станции неподалеку от Троице-Сергиевского монастыря, хотя Кюстин всего литтть накануне решил ехать этой дорогой, а Тургенев, куда-то спешивший, выехал из Москвы вскоре после него. Несомненно, Кюстин подозревал, что Тургенев был послан курьером с целью предупредить кого-то о его приезде. Во время короткой остановки оба горячо спорили, в том числе и о Польше. Из рассказа Кюстина явствует ухудшение их личных отношений и политического взаимопонимания. По всему тону разговора чувствуется, что это была уже не первая их встреча в России.
Через четыре года вышла в свет книга Кюстина. Теперь у Тургенева не нашлось ни одного доброго слова для ее автора, который стал в его глазах «поганым Кюстином». И вообще для русских лучше повернуться к нему спиной (странное предположение, если вспомнить, что именно он рекомендовал маркиза своим друзьям). Тургенев уже вполне согласен с хором казенных критиков, которых называет «нашей стороной», а саму книгу в отношении фактов — недостойной даже презрения. Но все-таки он старается побудить Вяземского высказать свое мнение по более широким проблемам, затронутым в сочинении Кюстина. Видно, что Тургенев, не желая сам выражать согласие с суждениями автора, в то же время находится под их впечатлением и хотел бы знать оценку Вяземского.
В своем труде профессор Кадо упомянул об интересной гипотезе: Тургенев, Козловский, Чаадаев, а, может быть, еще и другие, воспользовались приездом Кюстина для того, чтобы познакомить европейское общество с положением дел в России, чего сами они по понятным причинам не могли сделать22. Если это так, их могли напугать зловещие краски получившейся из этого картины, что совершенно не соответствовало их замыслу. Но историку остается лишь констатировать: весь сюжет русских знакомств Кюстина, а особенно его отношения с Тургеневым, и до сих пор окружен интригующими загадками и требует немалых усилий для будущих исследований.
VII. МАРКИЗ ДЕ КЮСТИН: РЕТРОСПЕКТИВА
Вскоре после моих оксфордских лекций о Кюс- тине я получил из Англии записку от одного моего русского знакомого, в прошлом ученого, Игоря Виноградова, к которому всегда относился с большим уважением за его познания в русской истории. Он не слышал самих лекций, но читал часть моих заметок к ним. Предостерегая меня от слишком серьезного отношения к Кюстину и его взглядам на Россию, он утверждал, что маркиз был «истеричным, скомпрометированным клеветником, напичканным мифологией парижских поляков и «либеральным», то есть бонапартистским или франко-националистическим rancunesа». За одно только предсказание ужасов сталинизма нельзя доверять его мнениям о царствовании Николая I. Хотя неприкрытые обманы в его книге не так часты, как дикие обобщения, основанные на полуправде или четверть правде, но «безумные фактические неточности» уже сами по себе ставят на нем крест как на серьезном свидетеле. Он просто воспользовался расхожими антирусскими предрассудками, преобладавшими тогда в Англии и Франции. В этом весь секрет его популярности среди современников.
Далее г-н Виноградов высказал свое мнение о Николае I, которое безусловно заслуживает внимания при любом взгляде на книгу Кюстина. По его
а Rancune — злопамятством (франц.).
словам, многое может быть сказано в пользу императора:
«Он верил в святость своей клятвы соблюдать права других людей, как свои собственные, доказательством чего служат Польша до 1831 г.1 и Венгрия в 1849 г.2 В душе он ненавидел крепостничество, хотел бы уничтожить его и испытывал отвращение к тирании остзейских баронов3
Конечно, он любил муштровать солдат, так же как и вообще самолично заниматься чуть ли не всеми делами Империи, вплоть до последней мелочи, поскольку доверял лишь очень немногим из своего окружения. Но не следует забывать, что его министром просвещения был Уваров /.../, который невероятно много сделал для образования всех классов общества4; благодаря царю, несмотря на свои булавочные колкости, мог творить Пушкин; Николай восхищался даже «Ревизором». В его правление расцвела великая литература. А все эти польские шовинисты /.../, бонапартистские последыши, все эти хозяева британских потогонных фабрик и индийские набобы5, разве им судить и высмеивать императора? Но ведь именно они подстрекали тот огромный поток антирусской литературы, который с таким восторгом заглатывали новые буржуа в Англии и Франции».
С большинством и, быть может, даже со всем этим я могу согласиться, особенно в части несправедливости либеральных историков, не говоря уже о коммунистах, к личности Николая I. Такое мнение интересно само по себе, как современный русский взгляд на путешествие и книгу Кюстина. Но я остановился на нем, главным образом, в качестве свидетельства того, что даже более чем через сто лет не спадает накал страстей вокруг «России в 1839 году», которая и до сих пор остается не менее актуальной. А раз так, никто из пишущих сейчас об этой книге не может и не должен обходить молчанием ее непреходящее значение.
Несомненно, труд Кюстина отражал, и отнюдь не в лучшем отношении, те влияния, под действием которых автор находился до, во время и после своей поездки. Трагедия польского восстания 1830— 1831 гг. так или иначе затронула почти всех, с кем ему приходилось встречаться. Ортодоксально-католическая среда, где он вращался в Париже, испытывала сильнейшее воздействие со стороны выдающихся и красноречивых деятелей новой польской эмиграции. Эти люди хотя и могли говорить со знанием дела о России, но не в их интересах было представлять объективную картину. С другой стороны, в России Кюстину приходилось встречаться с защитной мнительностью прежних, уже поблекших русских либералов, переживших декабрь 1825 г., чья вера в свое отечество подверглась испытанию польским восстанием. Такое состояние духа, замешанное на утрированном чувстве превосходства и самодостаточности по отношению к европейцам, не позволяло этим людям свободно и беспристрастно обсуждать русские проблемы. Особенно несносной для Кюстина была столь свойственная им смесь скрытности и выспренных претензий. И, наконец, еще и то несчастное обстоятельство, что его сомнительная репутация уже дошла в Россию, где дворянство с куда меньшей, чем в Париже терпимостью относилось к подобным человеческим слабостям, и он не мог не замечать те взгляды и перешептывания, которыми обменивались за его спиной. Все это искажало его восприятие страны, затушевывая хорошие стороны и выпячивая, даже к его удовольствию, отрицательные.
Поэтому следует начать с признания справедливости многого из сказанного неблагожелательными критиками (особенно русскими) о недостатках книги Кюстина. В фактическом отношении она оказалась ужасающе, даже позорно недостоверной. С полной беззаботностью, ничуть не утруждая себя хоть сколько-нибудь серьезной проверкой, он адресовал читателю все дошедшие до него толки, пересуды и сплетни. Думаю, Кюстин хотел лишь оживить свой рассказ и дать примеры того, что приходится слышать европейцу, приехавшему в Россию, но отнюдь не ставил это в качестве обоснования более серьезных рассуждений. Но, не сделав необходимых пояснений касательно сотен подобных плохо проверяемых и зачастую с легкостью опровергаемых мест, он повредил своей книге и сыграл на руку недобросовестным критикам.
Но и этим не исчерпываются недостатки его книги, если рассматривать ее как комментарий к царствованию Николая I. Те отрывочные впечатления, которые Кюстин мог вынести за время своего короткого путешествия, были, конечно, совершенно недостаточны для вполне объективного мнения о качествах русского народа и общества. Ошибки и слабые места книги отчасти объясняются его предрассудками там, где он плохо видел и неверно истолковывал; но значительно чаще они происходили от умолчаний, когда его взгляд переставал вообще что-либо замечать. Ведь он наблюдал только официальную и светскую оболочку русского общества. Это была «одна Россия». Но существовала и другая, более того — еще несколько других, которые он так и не заметил.
Возьмем, например, его взгляд на русскую лите- ратуру. Конечно, он увидел кое-что из остатков ожесточившейся интеллигенции александровского царствования (да и то слишком недооценил их), но совершенно незамеченной осталась новая плеяда литераторов, которые уже выходили тогда на первый план. Было бы чрезмерно требовать, чтобы он знал о существовании в Инженерном училище в Петербурге некоего Федора Михайловича Достоевского как раз в то время, когда Кюстин был в русской столице; что младший кузен того самого Александра Ивановича Тургенева, давшего ему рекомендательное письмо, уже созревал в одного из великих писателей XIX в.; или что в двухстах милях к югу от Москвы в одном из поместий подрастал ясноглазый живой мальчик Лев, которому суждено было стать одним из самых великих, если не величайшим, романистом всех времен. Кюстин, конечно, не мог знать об этом в фактическом смысле, но если бы он лучше понимал Россию, то, возможно, почувствовал бы их появление в недалеком будущем.
Он прекрасно понял в России лицемерие и претенциозность бюрократии и высшего общества, особенно в их отношениях с Западом, отсталость народа, слишком поздно познавшего плоды европейской цивилизации, однако от него совершенно ускользнула острота постижения всего этого, присущая многим более неприметным, но и более восприимчивым русским умам. Он не понял ни противостояния в России тем тенденциям и явлениям, которые вызывали у него такую неприязнь, ни тем более судьбоносную по своим трагическим последствиям борьбу между двумя Россиями: Россией властной и циничной и Россией духа и веры.
Именно это, а не порицание грехов официальной Империи вызывало негодование многих русских, обвинявших его в непонимании их душевных страданий. Вяземский в одной неопубликованной статье прекрасно выразил эти чувства:
«Я совсем не говорю, что у нас все прекрасно; /.../. Мы знаем наши грехи лучше наших критиков и обвинителей; нам известны все свои недостатки, как дочерней нации великого европейского сообщества. Мы понимаем, что нам еще предстоит большая работа над собой, а тем более для того, чтобы исполнились наши надежды и не пропали даром наши усилия. Мы не намерены предлагать себя на место главы цивилизации и тем более не претендуем на роль учителей других народов. Но и у нас есть свое место под солнцем и не г-ну Кюс- тину лишать нас его»6.
И если поставить вопрос в такой форме, как он ставился многими современными Кюстину критиками: можно ли получить из его книги достоверную картину русского общества и узнать сильные и слабые стороны русского народа, то ответ на него будет отрицательным. Согласимся с критиками. Книга Кюстина далеко не из лучших о России Николая I. В ней рассмотрены и с безжалостной резкостью показаны некоторые претензии и фальшивые ужимки правительства и высшей бюрократии. Но, если, подобно образованным викторианцам7, вы захотите получить нечто вроде компендиума достоверной фактической информации, или, более того, анализ интеллектуальных или духовных качеств русского народа, вас, несомненно, ждет разочарование.
Возможно, именно такими были те упреки, которые адресовали книге Кюстина многие современники. Но у их потомков 1960-х и 1970-х годов возникли и другие недоумения. Даже если допустить, что книга оказалась далеко не лучшим произведением о России 1839 г., перед нами возникает необъяснимый феномен того, что она оказалась прекрасной, а, может быть, и лучшей книгой, показывающей Россию Иосифа Сталина, и далеко не худшей о России Брежнева и Косыгина.
Нужно ли доказывать этот факт? Он был признан практически всеми, кто знал сталинскую Россию и читал хотя бы сокращенный вариант «России в 1839 году». В ней, словно бы написанной лишь вчера (но лучшим и более выразительным языком, чем у большинства из нас) показаны все столь знакомые черты сталинизма: абсолютная власть одного человека не только над делами, но и над мыслями людей; непрочность и эфемерность всех чинов и положений — мгновенное падение с высот власти в опалу и небытие; позорное единение раболепия снизу и жестокости сверху; абсолютное закрепощение и беспомощность народных масс; невротическое преследование невинных людей за те преступления, которые они не совершали, но якобы могли совершить3; шизофрения в отношениях с Западом; патологический страх перед иностранными наблюдателями; шпиономания; всеохватывающая секретность; систематические мистификации; всеобщее молчание запуганных людей; главенство показного над реальным; культ лжи как политического оружия и, наконец, переписывание истории. То, что лишь неясно представлялось сознанию Кюстина в виде обрывков страшного сна, все это воплотилось в феномене сталинизма, как очевидная и полнокровная реальность, уже не полуприкрытая и не заставлявшая краснеть ее создателей, но бесстыдно утверждаемая при свете дня в качестве политической доктрины, как неотъемлемое орудие для того, чтобы вести русский или любой другой народ по широкому пути утопического социализма. И все это сочетается с полурелигиозным мессианизмом, с претензиями на универсальность официальной русской веры и подавлением соседних народов — поляков в 1831 г. и чехов в 1968-м, конечно же, ради внутренней безопасности российского государства.
Следует ли понимать эту странную аномалию в том смысле, что ночному кошмару 1839 г. было
а См. La Russie, Lettre 14, II, 132: «Амбициозным русским всегда приятно уничтожить человека. «Уж лучше на всякий случай удавить его, — говорят они, — и тогда одним все- таки будет меньше. Как-никак, а лишний человек всегда может перейти дорогу, такова природа людей»8.
суждено осуществиться в 1939-м или 1969-м? Ответ на это следует искать на всем протяжении русской истории от времен Кюстина до эпохи Сталина. В течение трех четвертей столетия после выхода книги Кюстина русская политика определялась, главным образом, противостоянием трех сил: 1) твердокаменных реакционеров, которые не хотели никаких реформ и составляли основу партии бюрократов, поместного дворянства и высших офицеров армии; 2) либералов и демократических социалистов, стремившихся к постепенным реформам и мирному органическому прогрессу; их было небольшое число в правительстве, среди провинциального дворянства, и, конечно, они составляли элиту новой интеллигенции; 3) революционных анархистов и социалистов, стоявших вне правящих кругов и ориентированных на насильственные перемены — революцию, а не эволюцию. Следует отметить сходство между первой и третьей силами в том, что ни та, ни другая не хотели приспособления существующего режима к требованиям современности и его развития в сторону либерализации и народною представительства; такие цели ставили перед собой только либералы.
Из этих трех сил Кюстин отчетливо различал лишь первую, которая по преимуществу и попала в его книгу. Отчасти и весьма туманно он как бы ощущал третью силу. У него есть интересные рассуждения о революционных тенденциях в России и вероятности их успеха. Знал он и о заговорах и тайных обществах, стремившихся свергнуть существующий режим. Все это, по его мнению, было в самой природе русского общества и имело перед собой длительную перспективу. Огромная протяженность Империи благоприятна как для бунта, так и для угнетения.
Он полагал также, что понял кое в чем саму природу будущих революционеров: их бесклассовое положение и социальную неукорененность (среди них, как он верно угадал, будет много сыновей священников); их бессистемное и незаконченное образование, атеизм и отсутствие этических принципов наряду с философской путаницей в головах — иллюзией полной свободы вместе со снятием каких- либо нравственных ограничений в борьбе за утопические цели.
Кюстин не считал, что правительство будет свергнуто народным бунтом, во всяком случае, до тех пор, пока оно останется последовательно безжалостным. Достаточно вспомнить его пессимистические рассуждения:
«Ничто не может уронить правительство в глазах народа, для которого повиновение есть жизненная необходимость /.../. Милосердие при таких условиях — ни что иное, как признак слабости, а самое действенное оружие — это страх. Неумолимая жестокость повергает людей на колени, а снисхождение, напротив, позволяет им поднять голову; не умея убеждать, прибегают к подавлению /...А9.
Однако народное восстание это не единственный способ свержения правительства, и Кюстин почувствовал, что отречение русского дворянства от своего истинного предназначения — быть бастионом против тирании, неминуемо приведет к революции. Он не мог назвать сроки и сомневался, что внуки его современников доживут до переворота. Но неизбежность революционного взрыва он ощущал как нечто, витающее в воздухе.
Конечно, Кюстин не предвидел ничего доброго от подобного развития событий. Эта революция будет намного ужаснее недавно сотрясавшей Европу, поскольку она произойдет во имя религии и завершится слиянием Церкви и Государства — небесного и земного. И он был не совсем неправ в этом, хоть и не угадал сущности такой религии. В конечном итоге ею оказалось не греческое православие, которого так опасался Кюстин, а новое светское правоверие — марксизм-ленинизм, принципиально отличный в своих философских основах, но весьма схожий с Русской Православной церковью по отношению к светской власти. Он претендовал на роль откровения свыше и создал свой собственный сонм святых, ангелов, мучеников и дьяволов, свою иконографию и даже свои мумии. Это вероучение отличалось от предшествующего лишь сосредоточенностью на материальных благах и стремлении перенести из загробного мира на землю и обетование рая, и реальность ада.
Как видим, в туманно уловленных Кюстином революционных тенденциях русского общества были и вполне достоверные элементы. С другой стороны, если он хоть как-то и понимал первую и третью силы, которые определяли будущее России в последующие десятилетия, им совершенно не принималась во внимание вторая из них — русский либерализм. Не удивительно, что интерес к его книге почти исчез к концу века. Он не понял либеральных настроений и не предвидел, насколько они повлияют на смягчение самодержавия. Но за семьдесят пять лет, вплоть до революции, русская жизнь под напором либералов коренным образом переменилась. Благодаря отмене крепостного права, к концу этого периода в сельском хозяйстве произошли многообещающие сдвиги. Была заложена основа местного самоуправления — неслыханное для России дело. Реформе подверглась судебная система, возникло понятие о гражданских правах. В значительной мере удалось завершить программу всеобщею начального образования. Наконец, появился даже парламент, хотя и с ограниченными полномочиями, но все-таки в какой-то мере уравновешивавший самодержавие. И, как вершина всего, расцвела русская культура — особенно литература, музыка, драма, но также наука и интеллектуальная жизнь в целом, поставив Россию на один уровень с великими нациями Запада.
Ничего этого ни в каком смысле не было в кюс- тиновской книге. Если бы кто-нибудь из его критиков, например Вяземский, дожил до 1914 г., то, конечно, мог бы вполне основательно опровергнуть прогнозы Кюстина о будущем России и указать на то, что все поразившие его отрицательные стороны суть лишь пережитки прошлого, последовательно преодолевавшиеся по мере развития, а те явления, которые играли наиболее важную роль, остались вовсе им не замеченными. И это было бы, конечно, вполне справедливо, если бы подобная либеральная тенденция продолжалась и после 1914 г.; тогда в 70-х и 80-х годах XX в. мы просто забыли бы об этой неудачной попытке Кюстина понять Россию Николая I.
Но 1917 г. и все последующее радикально изменили картину. Странное и трагическое стечение обстоятельств: изнуряющая война; слабый и неразумный царь; влияние нового романтического национализма на нерусские области Империи — все это привело к обвалу царизма при самых неблагоприятных условиях. Либералы были парализованы из-за своей приверженности к войне, которая озлобляла крестьян, разлагала армию и вообще играла на руку всяческим экстремистам левого и правого толка. Как известно, радикальные революционеры с легкостью захватили власть. Своих противников: реакционеров и либералов, они уничтожили с беспощадной жестокостью, столь же бескомпромиссно свергнув при этом и все либеральные ценности, но кое-что заимствовали для себя у реакционеров; в еще более жестоких формах восстановили принципы и методы управления, существовавшие в России задолго до Николая I. Возвращение центра власти из Петербурга в Москву возродило дух и обычаи Великого Княжества Московского: нетерпимую ксенофобию и чувства религиозного правоверия и превосходства, разрыв отношений с Западом, мессианские видения Москвы как Третьего Рима10, ужасные репрессии и удушающую атмосферу кремлевских интриг.
Но ведь как раз эти архаические черты политического лица России и выступают на первый план в книге Кюстина. Он почувствовал в этой стране увядающие отблески старой Московии, все еще сохранявшиеся хотя бы как пережитки. Но после 1937 г., и особенно с триумфом Сталина в конце двадцатых годов, фанатизм и нетерпимость большевиков снова воскресили эти черты и сделали их основополагающими принципами на политическом Олимпе. Именно поэтому книга Кюстина получила репутацию достоверности, которой у неё никогда не было при жизни автора.
В настоящее время наиболее взвешенное мнение (в том числе и автора этой книги) заключается в том, что русская революция была все-таки достаточно случайным событием, явившись результатом нескольких внезапно совпавших обстоятельств, в стечении которых не просматривается никакой логической связи. Многие из них, если бы не игра случая, вполне могли происходить совершенно иначе, в том числе и так, чтобы не произошла, по крайней мере, вторая революция 1917 г. Тогда, и это легко представить, Россия успешно продвигалась бы по либерально-демократическому пути, а кошмарные видения Кюстина безвозвратно уходили бы в прошлое. Так, повторяю, могло бы быть, хотя это всего лишь одна из возможностей. Но все происходило по воле случая, и, значит, случаен и посмертный триумф Кюстина, что не делает такой уж большой чести его проницательности.
Но все-таки именно о России, а не о какой другой стране, он высказал все эти мнения, получившие свое подтверждение через сто лет. И что бы ни говорили про Кюстина, и как бы справедливы ни были указания на его недостатки, наши современники должны признать, что в своих мимолетных взглядах на Россию он прозрел именно те качества власти и общества, признание и исправление которых помогли бы русским обезопасить себя, если бы они отбросили навязчивую идею о каких-то адских силах, якобы из века в век угрожающих извне их родине.
И, наконец, еще два замечания. Кюстина справедливо упрекали за то, что хотя немало из увиденного им в России действительно существовало, многое прошло и мимо него. Ведь была и «другая Россия» — антипод жестокости, бездушия, убожества духа, которые так отталкивали его.
Следует особо подчеркнуть — если в России 1970 г. возобладал негативный полюс, это вовсе не означает, что уже нигде в онемелых глубинах русского народа не сохранилось противоположного ему начала. Конечно, за последние пятьдесят лет большевикам удалось изгнать из страны целый слой гуманных и либеральных людей, которые жили там еще во время революции. Остатки русских либералов перетекли в другие страны, обогатив жизнь других наций и, соответственно, обездолив свой народ.
Однако созидательные силы не исчезли бесследно, и нельзя отвергать возможность их воссоздания. Следует помнить, что в конце XIX в. и в начале XX в. они возникли из тирании, убожества и деградации. Их корни росли в неплодородной почве. То, что они выжили и, в конце концов, проявили себя, доказало неистребимость веры в ценность человеческой личности и осмысленность развития человека.
Затронутые Кюстином проблемы должен решать не весь русский народ в целом. И не призраки пра-
5 Дж. Ф. Кеннан1 ол вителей 1839 г., которым история уже вынесла свой приговор (более благоприятный, чем суждения маркиза). Это должны сделать сами нынешние правители России, политические наследники сталинской системы, хотя они и не нашли в себе достаточно мужества или понимания, чтобы отвергнуть доставшееся им смертоносное наследие. На них, как на соучастниках, лежит ответственность и за эпоху Сталина, и за свое время. Но именно они, и, прежде всего они, должны ответить на вопрос: состоятельны или нет те построения, которые сделал Кюстин в своей книге.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
П.А.Вяземский
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТРУДЕ г-на де КЮСТИНА «РОССИЯ в 1839 году».
ПО ПОВОДУ СТАТЬИ В «JOURNAL DES DEBATS»
4 января 1844 г.
«Я опускаю голову и закрываю лицо руками в припадке отупляющего отчаяния».
(Г-н де Кюстин, «Россия в 1839 году». Письмо 8-е).
Уже давно «Journal des Debats» обещал нам анализ сочинения г-на де Кюстина о России, однако исполнение обещанного откладывалось на неопределенный срок. Удивительно ли это? Ведь в Париже немало других дел, чтобы тратить время на чтение и комментарии четырех наводящих скуку пухлых томов. Прежде всего, скажем со всей откровенностью: г-н де Кюстин сумел (и это придает ему даже некоторую оригинальность) соединить в своем произведении тяжеловесный слог, злословие и скуку; книга его дурно скроена, наполнена повторами, переливанием из пустого в порожнее, выспренной риторикой, противоречиями, сталкивающимися на каждом шагу, и совершенно бессвязными мыслями.
Вдумчивый и просвещенный путешественник озаботился бы прежде всего тем, чтобы изучить страну, о которой он хочет поведать своим читателям. Но имевший в виду совершенно иную цель г-н де Кюстин, истинный последователь г-жи Ленор-
мана, предпочел гадать о России в четырех объемистых талмудах, напичканных пересказом снов и галлюцинаций, черной и белой магией. Одним словом, благородный маркиз вместо книги произвел на свет лишь собрание праздных измышлений. И поэтому труд его вызвал скорее скандал, нежели сенсацию, и мало кем читался. Я настолько в сем убежден, что приглашаю всех добросовестных читателей уведомить меня, достало ли им терпения дочитать все до конца. Должен признаться, и я сам, заглушив голос патриотизма, не раз откладывал сию книгу, скорее не из чувства негодования, а более от обыкновенной скуки. Но труд сей насквозь враждебен России, которая ныне является целью того самого delenda est Carthago[32] всех катонов воинствующей прессы; кроме сего написан он в духе зложелатель- ства и очернения с единственным желанием произвести скандал, а посему возникает множество поводов для того, чтобы поднять шум! Мы отнюдь не отрицаем, что книга сия, как говорят, явилась чуть ли не целым событием®. Но не таковы ли и выпуски «Парижских тайн»1? Однако скажет ли хоть кто- нибудь, что они показывают Париж, каков он есть на самом деле?
Si Peau d'Ane m'etait conte Jy prendrais un plaisir extreme, говорит Лафонтен2, и в этом отношении все мы похожи на почтенного баснописца; но если свет любит сказки, то еще больше он обожает скандал и шум. Это превосходный корм для бездельников, простодушных и людей доверчивых.
Удивительно ли, что произведение, написанное лишь с целью подольститься и поддержать сиюминутные политические антипатии, вызвало такой шум? Именно этого и следовало ожидать. Но поднялась ли сама книга на высоту ее успеха и, с другой стороны, показана ли там Россия именно такой, какова она есть в действительной жизни?
Однако, упомянув «Парижские тайны» в связи с книгой, озаглавленной «Россия в 1839 году», я должен объясниться, дабы г-н Сю по справедливости не оскорбился подобным сравнением.
Разница между Эженом Сю и г-ном де Кюстаном в том, что первый, обладая незаурядным умом и талантом, остался романистом, а второй возымел смехотворную претензию выступать в роли Тацита и Монтескье; если один с излишней, возможно, серьезностью воспринял свое ремесло, то второй совершенно сбился с толку, намереваясь превратить в роман или спектакль для «Амбипо ла Порт С.-Мартен »а то, что должно было оставаться строго в границах реального и исторического. С каким бы восторгом и восхищением ни возвещали фанфары о появлении труда г-на де Кюстина, за сим должны были следовать какие-то более серьезные проявления, ибо совершенно недостаточно одной только журнальной рекламы. Договор был заключен в 1843 г., и в первые же дни 1844 г. в «Journal des Debats» уже сообщалось о появлении на свет после
а «Амбипо ла Порт Сен-Мартен» — название парижского театра. (Примеч. переводчика.) мучительных родов сего столь ожидаемого произведения.
Заслуженная литературная репутация г-на Сен- Марка-Жирардена3 уже предопределяла для сей статьи немалый интерес, в том числе и касательно того, как автор, совершенно не знакомый с существом спора, оценит специальный труд, представляющий собой интеллектуальную и нравственную картину абсолютно неведомой ему страны. Говорили, что, быть может, столь проницательный критик лучше угадает не виданный им оригинал, чем сам художник, который столь плохо и превратно понял его. Но сие ожидание и сие любопытство завершились великим разочарованием. Критик ограничился лишь перифразами из сочинения путешественника. Это своего рода школьное упражнение, служащее для приготовления тронной речи перед Палатой депутатов. Я принадлежу к тем, кто охотно соглашается, что Хартия4 прекрасная вещь, и это подтверждено речами французского короля перед Палатой. Как миролюбивый и благожелательный наблюдатель, я желал бы Палате не увязать в бесплодной и беспредметной критике, а ограничиться лишь перифразами тронной речи. Самое достойное для Палаты — лояльное и просвещенное содействие видам искусной политики Людовика Филиппа, направленной к счастию Франции и спокойствию в Европе, чему он уже давал неоднократные доказательства.
Но если Хартия — это истина, из сего вовсе не следует, что такова же и книга г-на де Кюстина. Окажись она ложной, в какой роли будет выступать тогда простодушный ее пересказчик, доверившийся букве и духу сего произведения? Вместо того, чтобы быть независимым судьей и арбитром, не унизится ли он до положения обманутого (да простит мне г-н Сен-Марк-Жирарден это слово) фокусника и некроманта, который на глазах изумленной публики раскладывает весь свой набор чудес и великих тайн, завезенных из дальних стран?
И вот, что из сего получилось. Этот несчастный любекский трактирщик, этот предвестник бедствий, который для г-на Сен-Марка-Жирардена, как и для благородного маркиза, есть «оракул более верный, чем Калхаса», назвал Россию дурной страной, и приговор его, как святыня, перенесся и в книгу путешественника, и в статью «Journal des Debats». Странный человек этот трактирщик! Я всегда полагал, что трактирщики сего города, расположенного на полпути и столь зависящего от проезжающих, должны почитать для себя Россию землей обетованной. Но я ошибался. Один из них с блеском опроверг сей жалкий расчет домашней экономии. Одержимый чувством бескорыстия, в припадке русофобии, сей достойный человек предпочел остаться при пустом табльдоте и незанятых комнатах, чем поощрять поездки несчастных сих путешественников в эту Богом проклятую страну.
Но если бы г-н Сен-Марк-Жирарден читал труд г-на де Кюстина столь же внимательно, как и я, у него, возможно, явились бы некоторые сомнения касательно смысла и верности слов нового сего Ла- фатера5, судящего о людях по выражению лица и аппетиту. Во-первых, как мне кажется, нашему путешественнику вообще не везет с трактирщиками: должно быть, лицо его чем-то непривлекательно для них. После любекского, который отнюдь не возрадовался такому постояльцу, следует петербургский, и этот, только завидев его, не хотел впускать еще одного гостя (Письмо IX). Неприятно, но что же делать? Подобные антипатии невозможно объяснить6. Во всяком случае, сие смягчающее обстоятельство
а Калхас — персонаж «Илиады», прорицатель, сопровождавший Агамемнона во время Троянской войны. (Примеч. переводчика.) заслуживает внимания. А вот и другие, также не лишенные некоторого веса: я не припоминаю, чтобы в рассказе нашего путешественника говорилось о том, что, как и любекский трактирщик, он примечал на лицах русских пассажиров «Николая I» выражение печали и грусти. Напротив, автор рисует картину веселости всех этих князей и княгинь, сих несчастных узников, освободившихся на день и возвращавшихся в свою роковую тюрьму. Но ведь кто-то из двоих был неправ — автор или трактирщик, и если последний искусный физиономист, значит, г-н де Кюстин плохой наблюдатель. Надобно убрать или приговор, отдающий запахом харчевни, или розово-жасминовые собственные его наблюдения.
Касательно парохода «Николай I» мне представляется уместным сделать небольшое отступление, которое, впрочем, вполне укладывается в мой сюжет. Г-н де Кюстин претендует на неукоснительную правдивость, и критику из «Journal des Debats», по всей видимости, не приходит в голову усомниться в этом. Прояснение только одного факта дает возможность доказать, что он или лжец, или простофиля. Едва наш путешественник вступил даже не на землю России, а всего лишь на российский корабль, как у него начинается умопомрачение, и он впадает в неточности и грубейшие ошибки, кои уже не покидают его до самого отъезда из России. Доказательством тому служит все, что он говорит о пожаре и крушении этого парохода7; здесь правдив только сам факт. Все остальное преувеличено или искажено. Я был тогда одним из пассажиров и могу говорить со знанием дела. Во-первых, катастрофа случилась не в октябре, а в мае. История с молодым французом совершенно ложная8. На борту не было никакого француза из посольства в Дании, а все приписываемое ему не более, чем чистый вымысел.
Вместе с этой сказочкой испаряются и все стенания по поводу неблагодарности тех, кто даже не подумал осведомиться об имени человека, спасшего стольких несчастных* При жестоком сем испытании каждый исполнял свой долг, не претендуя за это на премию Монтиона[33].
Император не отставил капитана, к тому же не русского, а англичанина, служащего частной компании, которая сама уволила его — вот и все. Он узнал о катастрофе, находясь в Берлине, куда я приехал с сей новостью одним из первых; он прислал на место своего адъютанта князя Васильчикова с деньгами и аккредитивами для помощи потерпевшим, как русским, так и иностранцам. Сгоревший пароход не был переделан, вместо него в Лондоне построили совершенно новый. Из всего этого следует, что панический страх и мнительность благородного маркиза были напрасны и столь же мало основательны, как и все прочие переживания, испытанные им в России.
Указанные мною неточности не имеют сколько- нибудь существенного значения. Они и не заслуживали бы серьезного опровержения, если бы преподносились с оговоркой: «как говорят», что позволяет не брать на себя ответственность, и я уж конечно, не стал бы даже упоминать о них. Однако наш путешественник безоговорочно и категорически утверждает, что все приводимые им подробности безупречно верны (письмо IV); с самого начала своего повествования он провозглашает себя непогрешимым и хочет внушить читателям абсолютное к себе доверие. Посему я не мог отказать себе в удовольствии объяснить, как надобно понимать утверждения г-на де Кюстина, тем паче, что непогрешимость его одинакова на всех страницах этих пухлых четырех томов. И в правде, и в заблуждении его не оставляет убежденность учителя и пророка, хоть он и спотыкается на каждом шагу.
Вернемся однако к столь снисходительному пересказу в «Journal des Debats» и посмотрим, как критик попадется во все ловушки, расставленные нашим путешественником для доверчивых читателей.
Дабы согласовать многочисленные свои противоречия (каковые и сам он неоднократно признает); дабы хоть как-то упорядочить разброд мнений и сведений, маркиз изобретает для себя некое объяснение. И сколь бы неуклюжим оно ни было, г-н Сен-Марк-Жирарден, не колеблясь, принимает его. Автор хочет уверить нас, что в России он писал письма двоякого рода: хвалебные, предназначенные для почты, и правдивые, уничтожающего содержания, которые из страха перед полицией держал у себя в портфеле. Странный способ прятаться, храня при себе компрометирующие бумаги, особенно когда останавливаешься в трактирах и за тобой следит шпион, непременная тень пишущего путешественника («Journal des Debats»). И не проще ли было бы в сем случае переслать эти письма курьерской почтой через французское посольство? При всем варварстве и деспотизме нашего правительства (по мнению г-на де Кюстина) я что-то не слыхивал о нарушении тайны дипломатической переписки.
Ну что ж, и я тоже хочу дунуть на сей карточный домик, составленный из подобных уловок на забаву детям... или благосклонным критикам («Journal des Debats»)a.
В этом и есть вся разгадка.
а «(Кюстин) по возвращении в Европу только посмеялся над всеми своими восторгами в письмах, которыми он кормил полицию, и опрокинул их как карточный домик, построенный на потеху детям или шпионам». (Примеч. автора.)
Если самому приходится хоть немного заниматься сочинительством, если хоть сколько-нибудь знаком с интеллектуальной и механической стороной дела, иными словами, с самим ремеслом, легко различить произведение искреннее, спонтанное от такого, которое по тем или иным причинам переделывалось и перекраивалось. Первое может быть сильно своими принципами, парадоксально, ошибочно, но оно несет на себе печать личной убежденности, и если автор и вводит вас в заблуждение, то, по крайней мере, сам почитает сие за истину, вследствие постигшего его ослепления. В произведениях второго рода мы видим, как он неловко и скованно барахтается между двумя принципами и нарушает при этом оба; возмущение его чисто риторическое, относящееся к разряду выспренной декламации. Именно таков случай г-на де Кюстина, а г-н Сен- Марк-Жирарден слишком умный и слишком искушенный в литературных делах человек, чтобы обманываться на сей счет. Автор, хотя и проведший слишком мало времени в России, дабы получить нужные для добросовестной и поучительной книги документы, мог бы приметить то, что видят почти все и почти повсюду: добро рядом со злом; пороки и добродетели; благие намерения, искаженные при исполнении; глухую и непрестанную борьбу между слабостями и страстями сердца человеческого и незыблемыми принципами истины, добра и красоты — борьбу, которая оборачивается преимуществом то одной, то другой стороны. Человек умный и обладающий чувством меры мог бы вынести глубокие заключения из рассмотрения учреждений, нравов и обычаев русского общества, хотя оные и нелегко поддаются восприятию при неведении существа вещей, коренящихся в самой истории и наптих традициях.
Хвале и порицанию, критике и снисхождению надлежало найти свое место под пером наблюдателя, записывающего впечатления сразу по горячим следам. В меру ума и таланта г-на де Кюстина таковые впечатления могли бы доставить ему пищу для сотни любопытных и интересных страниц.
Таков багаж, который наш благородный маркиз мог бы привезти из России, но, оказавшись в Париже, после нескольких лет колебаний, когда друзья находили письма его, как сказано в «Journal des Debats», слишком скучными, бледными, лишенными какого-либо интереса, автор решился придать труду своему окраску политическую. Он возмущается и подогревает себя на холодную голову; противореча самому себе, добавляет к своим воспоминаниям всяческий вздор, слышанный им в России от пошлых остряков и проходимцев; повторяет клевету и обвинения людей озлобленных; из всего этого он извлекает сбивающие с толку заключения, с пафосом пускаясь в сдобренные сплетнями рассуждения о морали и безнравственности, философии и религии, политике и истории.
Поскольку литературная репутация г-на де Кюстина невелика, и он не пользуется большой известностью, не сотрудничает в каком-либо одном журнале, поэтому и не решился он на издание отдельных выпусков или брошюр, которые, несомненно, прошли бы незамеченными; ему пришлось расползаться и раздуваться до четырех томов, дабы свалить в одну кучу все «за» и «против», неточности и противоречия. А вину за всю эту невероятную смесь, эту арлекинаду, он свалил на голову российской полиции.
Критик, который неотступно следует за своим проводником, истолковывает на его манер слова любекского трактирщика, поелику приходится постоянно возвращаться к сему пророку, витающему над всей книгой, подобно року у древних. «Не скука гонит русских из своей страны, — пишет он, — а стремление к правде», и затем следуют рассуждения о том, что человеку правда нужна так же, как воздух и т.д., и т.д., и т.д. Но, по совести говоря, разве нет иного объяснения сему вкусу к путешествиям, каковой все более и более распространяется среди наших соотечественников? Может быть, это такое же стремление к истине, привлекающее на континент тысячи англичан? И что это за правда, которую мы якобы ищем? Где ее родина, ее средоточие, ее обетованная земля? В детстве мне говорили, будто правда лежит на дне колодца. Уж не хочет ли почтенный критик уверить нас, будто она перенеслась оттуда во Францию к свету свободной прессы и при тысячегласных ее кликах?
Во всяком случае, Франция отнюдь не страна единой, но многих истин самого разнообразного цвета, которые радикально противостоят друг другу. И если называть вещи своими именами, то какая из них нужна нам: из «Journal des Debats», «Gazette de France», «National» или, быть может, из «La Presse», которая пишет в одном из своих последних номеров: «Станем ли мы когда-нибудь серьезным народом? Прекратим ли, наконец, ребяческое предпочтение формы содержанию? У нас государственные установления ничего не гарантируют, будучи не более, чем детскими погремушками. Не остается ничего не опороченного преувеличениями, заблуждениями или злоупотреблениями».
Я не хочу придираться ни к публичности, ни к тому или иному образу правления. Боже упаси! Отнюдь нет. Но, как беспристрастный судья, более всего ценю содержание, а не форму, и поэтому, отвергая мнение г-на Сен-Марка-Жирардена, будто в России молчание прерывается только ложью, возражаю на это: противоречащие друг другу истины суть истины ложные. Шум провозглашаемых во Франции истин столь велик, что уже не слытттно ни единой из них. Впрочем, для начала необходимо объясниться. Все, что касается политики, относительно и меняется ото дня ко дню. Во Франции это известно лучше, чем где-либо. Однако истины нравственные неизменны; взращенные совестью человеческой, они создают силу, чье могущество далеко превосходит все то, что порождают конституции и органические статуты. Именно они дают жизнь личностям и народам. Истины конституционные возникли только вчера, и доказательством того, что конституции и представительное правление не порождают истин, служит сама Франция, вся истина которой заключена только в одном 1830 году[34].
Что касается истин нравственных, то они возникли вместе с христианством, и не в обиду для г- на де Кюстина будет сказано, мы тоже не лишены их.
Остается понять, почему г-н Сен-Марк-Жирарден оказался на стороне благородного маркиза. Мы далеки от предположения, что столь просвещенный человек разделяет слепые и враждебные предрассудки французского журнализма. Невозможно и то, чтобы он подозревал нас в намерении завоевать весь мир, задавить цивилизацию и превратить Европу в лагерь казаков и башкир. Банальные сии обвинения, бродящие по редакциям и улицам Парижа, годны лишь для развлечения праздношатающихся зевак. В крайнем случае, они сгодятся для песенок Беранже*, которым мы сами аплодируем прежде других, поскольку тоже не лишены вкуса к доброй шутке, да и для поэзии простительны многие вольности.
Г-н Сен-Марк-Жирарден — человек серьезный и добросовестный. Кто же мог подтолкнуть его на роль апологета такого литератора, который не обладает ни тем, ни другим качеством? Может быть, приведенные выше замечания в «La Presse» дают нам ключ к разгадке? Полагаю, что именно так оно и есть.
Г-н Сен-Марк-Жирарден, как и многие достойные люди во Франции, находится под влиянием некоей навязчивой идеи: и для него форма тоже важнее содержания. Г-н де Кюстин покидал Париж с сердцем и умом, не слишком очарованным конституционным правлением {«Journal des Debats»). Из Петербурга он возвратился почти готовый самолично избираться в Палату депутатов и занять там место между г-ми Берье и Ледрю-Ролленом12. Вот и все объяснение. Как же не принять в объятия сего блудного сына, раскаявшегося в своих заблуждениях и возвратившегося с публичным покаянием? Хотя критик и не говорит об этом напрямую, сразу видно, что для него истина — это представительное правление. Ну, а цивилизация? Опять же представительное правление. Без него несть спасения. Так же, как г-н де Кюстин признает только одну религию — римское католичество. Если для одного мы не можем обладать ни истиной, ни цивилизацией лишь потому, что у нас нет ни Палаты депутатов, ни Национальной гвардии, точно так же и второй с непробиваемым апломбом невежественного и надменного вояжера скажет вам, что московитские /реки13 лишены в своем культе дара слова (письмо XV7i)a; что в русских храмах не проповедуют Евангелие, ибо оно открыло бы славянам путь к свободеР. На сие можно ответствовать цифрами: 1) числом экземпляров Евангелия, переведенного на народный язык, не говоря уже о славянском, который легко понятен русским всех сословий; 2) опубликованными и продолжающимися изданиями проповедей для 40 тыс. приходов Империи. Дабы оконча-
а Custine A. de. La Russie en 1839. Т. 1. P. 314.
6 Ibid. Т. 3. P. 132. (Lettre XXI.) тельно исчерпать сей вопрос, мы хотели бы спросить со всем смирением у нашего католика: много ли читателей Евангелия среди низших классов французского общества, и разве в самих католических странах, таких как Италия и Испания, чтение Библии не воспрещено для народа14?
Я хотел бы спросить у г-на Сен-Марка-Жирар- дена, почему он полагает, что западная цивилизация является для русских запретным плодом? И почему это они нападают на нее, высмеивают ее, в то же время завидуя и подражая ей? {«Journal des Debats»).
Если под западной цивилизацией он понимает не одну только конституционную цивилизацию, тогда на чем основано его мнение?
Пусть г-н Сен-Марк-Жирарден сделает нам удовольствие и посетит нас, но не на поводке у маркиза, а полагаясь лишь на свою голову, свои глаза и свои уши, дабы составить обо всем собственное мнение, не слушая ничьих подсказок; пусть он познакомится с нашими научными, учебными и благотворительными заведениями, больницами, мастерскими и мануфактурами; пусть он побеседует с нашими государственными мужами и литераторами, и тогда ему станет понятно, что мы идем вперед размеренным шагом по тому пути западной цивилизации, который открылся для нас при победном громе полтавских пушек и еще более мощном гласе Петра Великого.
Я не хочу сказать, что все у нас в наилучшем виде, и нам уже не осталось ничего иного, как наслаждаться нашим благополучием. Мы знаем собственные недостатки лучше наших хулителей и клеветников и видим все нам недостающее, как дочерней нации великой европейской семьи. Мы знаем, что еще придется много работать над собой и еще многого добиваться для исполнения вожделенных наших желаний. Мы не претендуем на место во главе цивилизации и не намерены поучать и командовать другими народами. Но и у нас есть свое место под солнцем, и не г-ну Кюстину лишать нас его. Так о чем же идет речь? Вопрос в том, находимся ли мы в состоянии упадка или движемся вперед. Я говорю здесь не о политическом могуществе нашего правительства, а об интеллектуальной и нравственной силе нации. Изучайте на месте величайшую проблему рабства крепостных, сие наследие прошлого, которое и поныне поддерживается существующим порядком вещей. Убедитесь, что порочное состояние юридического права смягчается в жизни такими установлениями, которые гарантируют слабого противу насилия, благодаря вкоренившимся за последнее время нравам и постоянно улучшающимся отношениям между владельцами и крепостными. Убедитесь, что таковые отношения, само действие цивилизации стремятся все умиротворить и отчасти возмещают молчание закона, подготавливая пути легальной и безопасной эмансипации, в то время как писаный и несвоевременный закон явился бы лишь сигналом к беспорядкам и бедствиям.
Мы знаем, что социальные реформы медленны, а революции быстры; но они скоры на разрушение и непригодны для созидания. Действительно, у нас не менее крестьян имеют дурные дома, чем жители Шампани, и столь же бедных, как в Ирландии, но зато есть селения и целые губернии, где они живут в добротных домах в два этажа, теплых и просторных; у нас есть крестьяне, владеющие мастерскими и даже большими мануфактурами; крестьяне, заплатившие годовую пошлину в 20—60 франков и ведущие коммерцию на сотни тысяч. Не пользуясь политическими свободами, они имеют свободу личную15, которой могут лишиться только из-за злоупотреблений, каковые, как нам хорошо известно, не есть принадлежность лишь правления монархического.
Вот пример того, что влияние цивилизации уже ощущается и проникает в отношения владельца и крепостного. Вы скажете, что один случай ничего не доказывает, но ведь и все избранное г-ном де Кюстином также не есть общее правило. Я знал одного помещика, который, будучи как-то в деревне, был приглашен своим крестьянином в гости на чай. За круглым столом, во главе которого восседала хозяйка дома, тоже крестьянка, беседовали о том и о сем, и муж ее обратился к помещику с такими словами: «Дозвольте, господин, представить вам такое мое соображение — батюшка ваш был очень добр к нам, но вы, как мне кажется, и того добрее. Быть может, происходит сие, благодаря прогрессу цивилизации ? »16.
Я весьма сожалею, что случай не свел г-на де Кюстина с такими крестьянами, а вместо этого он увидел в России, по его выражению (письмо XXIX), кремлевских ловеласов, ветхозаветных донжуанов и элегантных ямщиков, с которыми он пил шампанское посреди оргии, от описания которой мог бы и воздержаться из уважения к читательницам. Лучше бы узнал он, что эти, как он их называет, «живот- ные»а, если и не искушены в науке цивилизации, по крайней мере, наделены инстинктом оной. Да, ведь цивилизация — это закон доброжелательства между личностью и нацией, как религия есть закон любви и милосердия. Истинно цивилизованными можно назвать людей доброй воли, которые призывают мир на землю, дабы восславить Всевышнего на небесах, а нецивилизованные испускают злобные вопли, и уста их осквернены бранью и клеветой. С легкомысленным и смехотворным самомне-
а Custine A. de. La Russie en 1839. Т. 3. P. 76.
нием выступают они в роли публичных обвинителей и верховных судей целой нации, каковую почитают для себя известной только потому, что побывали в ее городах и ездили по ее большим дорогам.
Мы не боимся расследований со стороны людей цивилизованных. Пусть судят они о нас со строгостью и даже с особливым западническим пристрастием — мы не только согласны, но и сами желаем этого, как соответствующего нашей же пользе. Однако в таковом случае мы по праву требуем добросовестности и знания предмета, ведь мы тоже люди и граждане, достойные непредвзятых и компетентных судей. Или, быть может, хотят, чтобы нас судил первый встречный, который, еще не ступив на нашу землю, уже ставит похоронное клеймо на целую нацию? Достаточно нескольких гребцов, не пришедшихся ему по вкусу из-за недостатка элегантности и щеголеватости, и сразу же поднимается вопль: «Видя их лица и представив себе, какова жизнь сих несчастных, я вопрошаю, чем же провинился человек перед Богом, чтобы 60 миллионов подобных Ему существ были приговорены быть рус- скими?» (Письмо VII)a. Всего через несколько часов, едва ступив на берег, маркиз мог бы со спокойной совестью забрать обратно свои чемоданы и возвратиться к себе во Францию, поелику он уже вынес свой приговор: «Про русских как высших, так и низших сословий, можно сказать, что они опьянены рабством» (Письмо VIII)[35].
Повторим еще раз: да, мы любим западную цивилизацию, мы подражаем и даже завидуем ей, хотя и не в состоянии стать такими же; но от всего сердца, всеми своими чувствами мы обвиняем и выставляем на посмешище ту ложную цивилизацию, к коей принадлежит г-н де Кюстин — цивилизацию распущенности и развратной прессы.
Когда эта пресса бесстыдно превращается в инструмент партий и выступает как поджигатель раздоров, вместо того, чтобы быть главнейшим звеном в социальной связи наций, тогда мы не признаем ее авторитет и предпочитаем наше безмолвие, раз уж вам хочется называть так все то, где нет скандала и шума. Будем откровенны, и тогда мы лучше поймем друг друга. Для вас цивилизации заключены в узком кругу какого-либо политического мнения. Но мы понимаем их совершенно по-другому и признаем за ними более возвышенную и более обширную сферу, не приписывая им в то же время абсолютной ценности. В своем невежестве и ослеплении мы даже позволяем себе спросить г-на Сен-Марка- Жирардена и все собрание господ пэров и депутатов Франции: разве французская цивилизация дожидалась рождения Хартииа для того, чтобы распространиться по всей Европе. Весь век Людовика XIV, все великие писатели XVIII столетия, разве они появились благодаря абсолютной монархии или принципу разделения властей? Может быть, Расин или Мольер заседали в Палате депутатов? Или Монтескье был выборщиком? А все эти ученые, поэты, моралисты, прославившие Францию, числились ли они в списках Национальной гвардии? Простите мне и такое конституционное богохульство: не кажется ли вам, что г-н Тьер17 принес бы более пользы Франции и всей цивилизации, оставаясь простым литератором, вместо того, чтобы употреблять свои незаурядные таланты и свое время на критику правительства, будучи в рядах оппозиции и критикуя сию последнюю, коль скоро в его руки переходило кормило правления?
А г-н де Аамартин18? Не лучше ли было ему оставаться поэтом, а не привносить политику в поэзию и поэзию в политику?
Шамфор, Ривароль, Жозеф Мари Шенье — все это люди выдающегося ума и незаурядных талантов19. Они имели определенный престиж и некоторое влияние на общество, но что бы сказали о них, если бы ради публикации нескольких блестящих произведений им вздумалось стать государственными деятелями? Сен-Ламбер и Делиль20 были талантливыми поэтами, но они превратились бы в посмешище, если бы сочиняли стихи, задавшись целью получить министерские портфели. Однако сегодня никто и не почувствовал бы смехотворность таковых притязаний. Из журнала или из /.../а муз теперь переносятся прямо на парламентскую трибуну, а оттуда, используя дар слова — сразу в министерское кресло.
Обратите внимание — я совсем не касаюсь политики, не нападаю на тот или иной образ правления — каждая страна имеет такой, который соответствует потребностям времени. Всякое сильное правительство есть благо, если это не грубая физическая сила, а сила нравственная. Я хотел лишь показать, что политика, как ее сегодня понимают некоторые во Франции, не имеет ничего или почти ничего общего с цивилизацией; что можно способствовать цивилизации, не становясь под то или иное политическое знамя. Не сомневаюсь я и в том, что лихорадочная сия политика излишне будоражит умы, отвлекая многих от истинного их призвания, и поэтому цивилизация только выиграет хотя бы от немного большего спокойствия и умеренности.
Конечно, весьма любопытно наблюдать сие не лишенное величественности зрелище, когда в словесных бурях воздвигаются, но столь же быстро и угасают выдающиеся и благородные умы. Но плодотворны ли таковые бури? В эпохи великих перемен — да. Однако в повседневной жизни народов сия зыбкая арена начинает сотрясаться при первом же порыве ветра, в то время как глубокие и мирные труды мысли вдали от политики и эфемерной публичности приносят свои благие плоды, порождая благодарность и восхищение будущих поколений.
В свое время было много теологических диспутов, весьма утонченных и отличавшихся внешним блеском, однако какова польза от сего для религии? Неужели вы думаете, что все ваши бесконечные споры по поводу таких загадок парламентского сфинкса, как: король царствует, но не правит; парламентское правительство и многие им подобные, приведут к какому-то иному результату? Или вы, быть может, надеетесь, что сей сфинкс не пожрет всех одураченных им?
Заблуждение г-на Сен-Марка-Жирардена и многих читателей г-на де Кюстина заключается в том, что будто бы сей вояжер явился у нас предметом какого-то особенного внимания, благодаря чему имел возможность видеть и узнавать Россию лучше всех прочих путешественников. Но если г-н де Кюстин получил свободный доступ ко двору, то лишь потому, что оказался в Санкт-Петербурге во время празднеств и торжеств, когда императорский дворец открыт для всех. Предупредительность и любезность к нему суть лишь следствия нашего добродушия ко всем приезжим иностранцам, имеющим хоть какую-нибудь репутацию в качестве литераторов, художников или просто светских людей. Не вдаваясь в подробности, упомянем имя Ораса Берне21, который, несмотря на его политические симпатии, был принят с куда большей открытостью, чем г-н де Кюстин.
Мне неизвестно, какие впечатления вынес г-н Берне от своих поездок в Россию, и какие суждения сложились у него о нашей стране. Но как честный человек он должен признать, что здесь никто не был враждебен к нему и ему предоставлялись все возможности видеть Россию от высших сословий до низших во всех ее проявлениях. О приеме, оказанном г-ну де Кюстину в свете, мне ничего не известно, да, впрочем, и не только мне одному. Несомненно лишь то, что его не видели ни в одном из тех столичных салонов, которые обычно посещают знатные путешественники. Правда, г-н де Кюстин пишет в своем труде, будто он тщательно избегал общества русских. Ну, и на здоровье! Это превосходный способ узнать страну, но тогда лучше последовать примеру Альфиери, который в припадке мизантропии не пожелал никого видеть в России, и в своих мемуарах на целую страницу излил желчь противу московитов, но все-таки воздержался от наполнения оной четырех томов22. Вспомним еще и г-жу де Сталь. В своих «Десяти годах изгнания» она уделила России всего несколько страниц23. И, конечно, ее симпатии и политические мнения были более определенными, а убеждения много глубже кюстиновских. Но именно потому, что ум ее постигал несравненно большее, заметьте, с какой проницательностью она угадала нас при своей скоропостижной поездке. И сколь различные впечатления производят одни и те же вещи! Благородного маркиза преследовала его неотвязная идея: подобный удушающему кошмару страх за себя и за весь свет. Вежливость русских крестьян между собой показалась ему тоже лишь следствием страха. Но г-жа де Сталь увидела здесь совсем иную причину.
Чтобы покончить с г-ном де Кюстином и его произведением, попробуем подвести некоторые итоги и перечислим те открытия в Новом Свете, кои сей Колумб преподносит любознательному читателю.
Что узнал он сам и что хочет сообщить нам?
Что Россия управляется на принципах абсолютизма — истина неоспоримая и содержащаяся во всех даже самых простейших книгах, ради которой не было смысла ехать так далеко;
что большая часть сельских работников прикреплена к земле — еще одно откровение, достойное школьных учебников географии;
что в России есть придворные — оно и не удивительно при наличии двора. — Но если бы двора и не было, придворных отнюдь не убавилось бы, поелику в каждой стране независимо от формы правления оные всегда существуют при ком-то или при чем-то. Заметим попутно, что сам г-н де Кюстин, обвиняющий всех подряд, ничуть не упускает возможности самому выступить в роли льстивого придворного и вымещает свое плоское угодничество заспинными оскорблениями.
Таковы основополагающие идеи его труда, все остальное в нем произвольно и случайно.
Что касается подтверждений сих трех истин, то они на самом деле фактически ложны, искажены или преувеличены; его выводы суть лишь пустые общие места, доводимые подчас до абсурда. Как говорится в пословице: излишние доказательства ничего не доказывают, и труд г-на де Кюстина новое тому свидетельство.
Мы зашли бы слишком далеко, если бы стали перечислять все ошибки и противоречия, в которые, вольно или невольно, он впадает. Пришлось бы снова просматривать всю книгу страница за страницей, и, признаюсь, у меня не достало бы для сего терпения. К тому же, за меня это не раз уже сделано другими. Было бы занятно опубликовать перечень ошибок сего произведения, замеченных русскими и иностранными критиками; да и после этого осталось бы еще весьма многое. Но подобное занятие слишком неблагодарно и приличествует скорее школьному ментору, исправляющему огрехи неучей. К тому же от сего никому не будет никакой пользы. Провинившийся автор скажет, что его мнение неизменно, иначе говоря, рукопись уже продана, и ему безразличны все поправки.
А публику мало интересуют исправления, исходящие из-за границы, они кажутся ей подозрительными.
Многие читатели доверяют только книгам, изданным в своей стране и, более того, в соответствии их понятиям духе. Среди всех прочих французская публика в высшей степени разделяет верования своего околотка и идеи своего листка.
Приведу весьма характерный пример. В тот год, когда холера опустошала Москву3, я находился со своим семейством в деревне неподалеку от города, и у нас жил один француз, воспитатель моего сына[36]. Все мы страшно беспокоились и тревожились, однако сей француз, имея нрав весьма нервический и склонный к ипохондрии, был угнетен более всех других. Со временем получавшиеся нами бюллетени стали все успокоительнее, и, наконец, эпидемия совершенно прекратилась. Приободрившись, мы вздохнули свободнее, но однажды утром является ко мне наш учитель, весь бледный, и дрожащим голосом говорит: «Холера возобновилась с новою силою — каждый день умирают сотнями». Испугавшись, я спросил его: «Да откуда вы взяли все это?» — «А вот из этого листа», — отвечал он, показывая номер «Journal des Debats». При сих словах панический ужас сменился у меня безумным хохотом, и я старался успокоить его страхи, хотя и безуспешно, доказывая, что московские новости из Парижа по меньшей мере доходят только через шесть недель. Но бедняга стоял на своем и твердил, что «не верит официальным сообщениям, a «Journal des Debats» всегда пишет правду».
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Мишель Кадо ОБРАЗ РОССИИ ВО ФРАНЦИИ1
Начиная с 1790 г., множество противников Революции и Империи эмигрировали вплоть до самых глубин России, а через пятьдесят лет наоборот уже русские стали покидать свою страну по политическим причинам. Это новое явление ознаменовало собой начало движения, непрерывно продолжающегося вплоть до наших дней. С 1840 г. мы слышим о русских, не желающих возвратиться к себе на родину, несмотря на требования их правительства. Более того, они оповещают об этом во французских журналах, пишут брошюры, обличающие темные пятна политического режима и социального устройства своего отечества. Вскоре у них завязываются отношения с самыми радикальными революционными кругами Европы в Париже, Брюсселе, Женеве, Ницце и Лондоне. На какое-то время устанавливаются интеллектуальные и политические связи между Бакуниным и Марксом, Герценом и Прудо- ном, но возникают и иные отношения, не менее интересные для понимания того, как французы воспринимали тогда русскую проблему. Конечно, внимание к этим русским спонтанно и неустойчиво. Тем не менее, именно Франция первой стала местом постоянных встреч, по крайней мере, до 1849 г., и первая осознала значение этого явления. Начиная с 1848 г., демократическая солидарность распространяется также и на Россию.
Французам представилось любопытное зрелище двух разновидностей русских, которые одновременно жили в Париже, но демонстративно игнорировали друг друга. Русский князь не потеснил английского лорда, однако создал ему серьезную конкуренцию и на скачках, и у дам полусвета, и в уважении хозяев гостиниц. Его образ преобладал во Франции вплоть до 1917 г.: часто и в самой России не воспринимали ничего иного, кроме этого карикатурного типажа, а другие слои русского общества были известны у нас лишь по изредка заезжавшим путешественникам. Поражала свобода манер, заносчивость и показная роскошь этих аристократов, столь не похожих на наших, хотя они изо всех сил тянулись усвоить себе парижский тон, что удавалось им значительно легче, чем другим иностранцам, попадавшим во французское общество при Луи Филиппе. Но мало-помалу стало проясняться, под каким пристальным наблюдением своего правительства находятся эти русские даже за пределами отечества при всей их показной независимости. С одной стороны, политические эмигранты разоблачили такого полицейского агента, как Яков Толстой, с другой — неуклюжие и топорные опровержения книги де Кюстина дискредитировали не менее известного Николая Греча. Подозрения заходили еще дальше: русских обвиняли даже в промышленном и коммерческом шпионаже. Однако некоторые дома оставались вне подозрений. Не только русских дам принимали в высшем свете, но и сами они открывали салоны, куда стекались государственные деятели, писатели, артисты, аристократы и даже духовные лица2. Правда, во многих случаях эти женщины по чисто личным причинам порвали со своей страной. Например, переход в католичество стоил им императорской опалы.
Таким образом, не выезжая за границу, французы могли составить некоторое мнение о русских. Поскольку общественное устройство России не претерпело до 1917 г. никаких кардинальных изменений3, в их представлении можно выделить два постоянных и основных типа: политический эмигрант, сначала нигилист, потом анархист и, наконец, большевик, чему незабвенным примером служит Бакунин; второй тип — это русский аристократ, для которого Россия источник доходов, а Париж — то место, где эти доходы приятнее всего тратить.
К счастью, такое упрощенное и банальное представление было далеко не единственным. Ездившие в Россию привозили оттуда более разнообразные, хотя и противоречивые представления. Если говорить о путешественниках-«интеллектуалах», оставивших описания увиденного, то обычно их взгляд на Россию оказывается довольно ограниченным, для чего было несколько причин. Лишь совсем немногие знали русский язык, некоторые прожили там всего несколько недель или месяцев и, наконец, большинство видели всего два—три больших города, где встречались только с аристократией. Учитывая все эти недостатки, становится ясно, что большая часть свидетельств благоприятна для страны в целом — туда ездили люди, уже заранее расположенные в пользу ее порядков. В частности, Гакстга- узен и Ле Пле4, единственные доставившие тогда точные сведения о сельском мире, заметно идеализировали картину жизни и предлагали ее Западу как пример патриархальности, где, по их мнению, личность ограждена от деморализации и обнищания, которые грозят Европе будущими катастрофами. Хотя и в небольшом числе, но эти путешественники-ученые оказали устойчивое влияние вплоть до трудов Мэкензи Уоллеса и Леруа-Болье5.
Самая распространенная разновидность среди путешественников — это, конечно, туристы. Для них более характерна своя манера видеть, независимо от социальной принадлежности. Например, Бальзак, привлеченный перспективой жизни в помещичьем доме на Украине и будущим супружеским счастьем, подходит под категорию туристов, благодаря ею «Письму из Киева»6, сравнимым по своей поверхностности и красивости с повествованиями Мармье, виконта д'Арлинкура или Сен-Жю- льена7. Другие едут в Россию за успехом, которого они не смогли достичь во Франции. В этом случае все происходит так, словно либеральная и католическая пропаганда против николаевской России, несмотря на ее бурный и настойчивый характер, все- таки не повлияла на общественное мнение во Франции. В глазах этих французов Россия сохраняла привлекательность новой страны, хотя и грубой, но гостеприимной, где вопреки ее политической системе больше ценятся достоинства личности, чем в нашем буржуазном обществе, разделенном непроницаемыми перегородками. По всей видимости, художники и писатели встречали у русской аристократии больше открытости и понимания по сравнению с Францией эпохи Луи Филиппа. Жизнь в этом рафинированном обществе, основанном экономически на крепостном праве по своей привлекательности была в какой-то мере похожа на тогдашнюю жизнь в южных штатах Америки.
Конечно, некоторые путешественники возвращались из России с не столь радужными впечатлениями. Если легитимисты закрывали глаза на положение всех других классов, кроме аристократии, и восхищались политической эффективностью режима, то либералы a priori считали неприемлемой такую систему, где слепое поклонение монарху заменяло политическую жизнь. И еще один примечательный факт: наиболее критические свидетельства принадлежат путешественникам, дольше пробывшим в России. Их опыт был более многосторонен, и они значительно отличались от обыкновенных туристов. Исключением здесь является принцесса Матильда, чье положение не могло не сделать ее снисходительной по отношению к родине ее мужа8. Барант и д'Андре — дипломаты, последний занимал свой пост в течение тринадцати лет9; супружеская пара Оммер де Гель10 много ездила по Средней России в условиях, близких к спортивным; пастор Pop и англичанин Хеннингсен11 оба обладали незаменимым знанием русской жизни изнутри. К сожалению, книга последнего, как и книга Лакруа12, в которой содержится свидетельство д'Андре, вышла уже после «России в 1839 году». Хотя обе они вследствие этого и оказались как бы в тени, но, тем не менее, сохраняют собственную ценность. Произведения де Ланьи и Леузона-Ледюка13 достаточно подозрительны своей конъюнктурной русофобией.
Все эти книги в конечном счете еще более подтверждают значение труда де Кюстина, появление которого Сен-Марк-Жирарден считал «почти событием». «Россию в 1839 году» сравнивали с «Демократией в Америке», и, несомненно, Кюстин старался воспользоваться хотя бы частью того интеллектуального авторитета, который имел Токвиль. Но особенность «России» заключается в совершенно непредсказуемой и полной перемене взглядов ее автора. Если Токвиль, подобно Шатобриану, предвидит для демократии уравнение по американскому образцу — судьбу, уготованную нашей цивилизации, которая и не хотела, и не умела сохранить аристократию, то Кюстин, уехав убежденным сторонником абсолютизма, возвращается, как и Бальзак, адептом конституционных систем. Токвиль смиряется с демократией, Кюстин приезжает примиренным с правлением Луи Филиппа. Теперь, по прошествии ста лет, уже очевидно, что именно Ток- вилю удалось подойти к истинной проблеме, в то время как Кюстин все еще тешил себя дилеммой, уже разрешенной временем. Тем не менее, его книга, хотя и ненадолго, встряхнула общественное мнение сильнее, чем «Демократия в Америке».
Кюстин тщательно скрыл своих истинных осведомителей, не желая компрометировать их. Он намеренно перепутал хронологию своего пребывания в Германии и только для самых знающих из читателей намекнул на князя Козловского, уже три года как умершего ко времени публикации книги в 1843 г. Главным информатором Кюстина мы считаем А.И.Тургенева; в частности, именно он рекомендовал его тем русским, которые лучше всего могли помочь ему в «угадывании»: Вяземскому, Свербееву, Булгакову, Чаадаеву и еще другим. Соединяя сведения, полученные от этих русских, обреченных на молчание, пользуясь также указаниями французских дипломатов, приученных к не меньшей сдержанности — Аа Ферроне14, д'Андре, Баранта — Кюстин сумел создать у читателей впечатление, будто они впервые открывают для себя Россию.
Интересны отклики на книгу маркиза в Англии, Германии и России. Похвалы и вражда почти уравновешиваются в них, но здесь разделение оказалось достаточно простым. На стороне обвинителей, естественно, консерваторы, так и не уразумевшие радикальную перемену во взглядах Кюстина. Его строго осудили «La Quotidienne», «Quarterly Review», «Gazette d'Augsbourg». Во Франции в этот концерт примешивались еще и другие голоса, но они не показались нам безупречно чистыми. Конечно, энергичнее всех реагировали в России. С самого начала русское правительство организовало неуклюжие опровержения, многочисленность которых только снижала их воздействие. Наконец, всем было приказано умолкнуть: и Оже15, и Бальзаку, и Вяземскому, и Мещерскому16. Но было уже поздно. Сен-Марк- Жирарден пригвоздил к позорному столбу в «Debats» Н.И.Греча — «главного шпиона Его Величества», а немцы аплодировали книге де Кюстина, которая так не понравилась самозванным покровителям Германии. Да и среди самих русских «Россия в 1839 году» пользовалась немалым успехом. Герцен сравнивал ее с «выстрелом в ночи», как он называл «Философическое письмо» Чаадаева, и многие в частных беседах подтверждали, что произведение де Кюстина отнюдь не сплетение лжи и вопиющих ошибок. Поэтому после 1843 г. никто в Европе уже не мог писать о России так, как это делалось раньше. Кюстин назвал ее «царством фасадов», и все вплоть до 1854 г.17 уже не могли не задаваться вопросом, что именно скрывается за этими декорациями.
Французы почти единодушно осуждали русскую администрацию, ее неповоротливость, неэффективность и, прежде всего, ее продажность. Чины напрямую сравнивали с китайскими нравами, когда, например, директор петербургских театров имел тот же иерархический ранг и те же привилегии, что и генерал-лейтенант, вице-адмирал, сенатор, тайный советник или архиепископ. Вслед за Кюстином многие считали разрастание мелкого и скудно оплачиваемого чиновничества немалой опасностью для общественного порядка в России.
161
Ни министры, ни императорская фамилия не привлекали особого внимания ни приезжавших, ни журналистов. Министры не покидали Россию и, судя по всему, занимались только скрупулезным исполнением воли императора. Стендаль18, Кюстин, Гюго делали эскизные наброски к портретам наследника, императрицы, брата государя. И, естественно, личность самого Николая I, столь крепко державшего в своих руках руль российского корабля, не могла не вызывать множества противоречивых мнений, от восхищения Бальзака19 до поношений Мишле20; его сравнивали с Людовиком XIV, Наполеоном, Петром Великим и даже с Павлом I, задушенным за свое чрезмерное тиранство. Часто
б Дж. Ф. Кеннанвосхищались его мужской представительностью, непоколебимой твердостью, чувством долга, но упрекали за жестокость, упрямство, недалекий ум, выражавшийся в неумеренной любви к парадам и военным уставам. И, наконец, немало восхваляли внешний блеск русской монархии, особенно при сравнении с нашей буржуазной пошлостью. Однако ревностность, с которой неизменно отмечались действительные или воображаемые слабости России, свидетельствует о страхе, а подчас и зависти.
К нашему удивлению, в публикациях, касающихся России этого периода, почти не видно интереса к русской религии. Россию считали прежде всего могущественной державой, не отличающейся глубокой религиозностью. Замечали суеверия, механистическую набожность, слишком низкий уровень духовенства, почти полное отсутствие мистического горения, стремления к чистоте нравов, милосердия. Начавшаяся в 1852 г. полемика21 показала прежде всего непонимание православной религиозной жизни западными католиками, которые основывались на одних только немецких свидетельствах. И лишь по истечении длительного времени, благодаря Толстому, Достоевскому, Владимиру Соловьеву, а впоследствии Мережковскому и Бердяеву, Запад открыл для себя столь разнообразные формы русской духовности.
Не меньшее разочарование ждет и читателя, надеющегося увидеть вразумительную картину русской истории. Полное неведение далекого прошлого России отнюдь не удивительно, ведь в то время наши познания даже о своих средних веках находились только в зародыше. Непонимание таких полурелигиозных, полусоциальных явлений, как, например, раскол, влекло за собой тяжелые последствия. Все еще оставался незаменимым добросовестный Левек22, переизданный с некоторыми комментариями в 1812 г., и ограничивались чтением Карамзина и примитивных сочинений чисто информационного характера. Такие беспорядочные попытки, как, например, де Шарьера23, лишь еще больше обнажили полное невежество французов в этой области. До 1856 г. оставалась неизвестной и чешская славистика, несмотря на упоминания о ней Мицкевичем в Коллеж де Франс. Такое положение ничуть не улучшалось и в дальнейшем. Великие государи, создававшие русское могущество, чаще всего вопреки чаяниям своего народа, вдохновляли, главным образом, абсурдные сочинения — водевили, романы, поэмы, трагедии, даже эпос, свидетельствовавшие в своем большинстве о легкомыслии и невежественности их авторов.
В области литературы баланс еще неутешительнее, поскольку переводчики менее всего заботились о верности оригиналу. Учитывая все трудности, можно было бы отнестись к ним со снисхождением, если бы их жертвами не стали такие имена, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Тургенев. Французы лишь мало-помалу открывали гениальность этих авторов, отображавшихся для них в кривых зеркалах. Предыдущее поколение могло читать только Крылова и кое-какие фрагменты из других писателей, а последующее — преимущественно воинствующих литераторов-публицистов: Герцена (с 1850), Чернышевского, Кропоткина и лишь впоследствии Толстого, Тургенева, Достоевского, кое-что из Гончарова, Салтыкова-Щедрина и Островского. Время с 1837 по 1855 гг. (мы отклонились от заявленного периода, чтобы включить сюда и год смерти Пушкина) весьма важно в этом постепенном признании русской литературы, потому что оно совпадает с появлением блестящих произведений, а для французов отмечено двадцатилетней деятельностью Проспера Мериме, настоящего искателя сокровищ изящной словесности. При всех недостатках его переводов, он сильнейшим образом повлиял на распространение у нас великих произведений русской литературы, благодаря престижу своего имени вместе с выдающимся качеством работы24. Весьма плодотворным оказалось и сотрудничество Луи Виардо25 с И.С.Тургеневым, стараниями которых во Франции познакомились с таким шедевром Гоголя, как «Тарас Бульба».
Каков бы ни был интерес к самым выдающимся явлениям русской литературы, несомненно, что эта страна занимала французов, главным образом с политической точки зрения. Но прежде чем рассматривать отводившуюся ей роль по отношению к Европе, необходимо было как-то разобраться в польской проблеме, значительно более сложной, чем может показаться на первый взгляд: возникают кроме поляков другие славянские нации в их связях с Россией, хотя главное место принадлежало все-таки Польше. Нам представляется, что, начиная с 1839 г., религиозный элемент стал играть большую роль, чем в годы непосредственно после Польского восстания 1830—1831 гг., когда оно как бы сливалось с июльской революцией26, и Лафайет27 олицетворял собой это единение. Но вскоре стало ясно, что июльская монархия не сделает для поляков ничего существенного — их защищали только такие республиканцы, как Франсуа Распай, Эммануэль Араго28 и другие, а также несколько выдающихся католических ораторов, подобно Монталам- беру29. Только новые преследования белорусских униатов30 вызвали волну негодования и симпатий к Польше, над которой нависла угроза потери не только независимости, но и своей религии. Такое движение, начавшееся в 1839 г., к 1848 г. значительно расширилось. Это требовало новой оценки сложившейся ситуации, поскольку вхождение Ламар- тина в правительство, официозная миссия Сиркура в Берлине31 и события 15 мая32 провоцировали радикальные перемены во французской политике, хотя так же, как и в 1830—1831 гг. не было и речи о какой-то реальной помощи полякам, и дипломатические усилия князя Чарторыйского не принесли никаких конкретных результатов. Присутствие в Париже множества польских эмигрантов-демократов, с одной стороны, связывало интересы Польши с французскими республиканцами, а с другой — после 15 мая — все больше возбуждало подозрения умеренных и реакционных элементов.
Было бы неправильным считать, что все это время у России были одни только обвинители. Так называемый русский панславизм представляли Адам Гуровский, Гольдман33 и Шарьер, которые без обиняков говорили, что Польша безвозвратно умерла и что руководство Центральной Европой по праву перешло к России. Подобное направление имело больший успех, чем можно было ожидать a priori: к нему безоговорочно присоединился Кобден в Англии34 и Арман Лефевр35 из «Revue des Deux Моп- des», и это не вызывало сколько-нибудь сильных протестов. Начиная с 1846 г., проблема отношений России с остальным славянским миром рассматривается уже в более сложном контексте, сначала Сиприеном Робером, затем Ипполитом Депрезом36: последний впервые познакомил французов с тем, как показан славянский мир у Коллара37, а С.Робер, скромный преемник Мицкевича в Коллеж де Франс, противопоставлял «русскому панславизму» «панславизм славянский». В 1840—1844 гг. Мицкевич уже просветил французскую публику относительно единства славянской расы и разнообразия форм ее культуры. Однако мессианизм Товянского и Вронского38 во многом исказил в ее глазах славянскую идею. Тем не менее, в 1843 г. Мицкевич заговорил о примирении с русскими, и это получило широкий отклик. Через четыре года, 29 ноября 1847 г., Бакунин призвал к примирению и освобождению русских, поляков и всех славян, а после
Пражского конгресса39 он повторил свое воззвание в «Призыве к славянам», в то время как Мицкевич, Прудон, Герцен, Сазонов, Головин40 и другие продолжали борьбу за демократию. Однако неудача революций41 положила конец всем надеждам панславистов. Депрез подвел неутешительные итоги, хотя Мишле и пытался еще оживить демократический пыл славян. /.../
За десять лет, предшествовавших революции 1848 г., неоднократно возникал вопрос о будущей роли России в мире в свете предвидений Токвиля, и многие считали неизбежным противостояние молодой России и молодых Соединенных Штатов с одной стороны и старой Европы с другой. Одинаковый пессимизм объединил Токвиля, Кюстина и Тьера: великое время западной цивилизации прошло, последние удары нанесет ей уравнительная демократия Америки и экспансионистский абсолютизм в его русской форме. Возможно, это произойдет даже без широкомасштабной борьбы. В подобной атмосфере преобладали две темы: выгоды соглашения и угрожающая опасность. Первую патронировали такие знаменитости, как Шатобриан еще в 1840 г., но до 1848 г. ее сторонниками выступали подозрительные и незначительные анонимы. Прудон также относился к их числу (1847), но хранил свое мнение у себя в рукописях. Зато тема русской угрозы развивалась целым хором выдающихся имен, таких как Гюго42, Мицкевич и Кюстин.
Последующий период принес большие перемены. Хотя контрреволюционная политика Николая I вызывала яростные протесты и политические призывы либералов и демократов, тем не менее, у Ме- риме, Сен-Марка-Жирардена, Ромье43 и Опоста Конта мы видим смесь страха, восхищения и даже благодарности русскому императору, как единственному охранителю порядка среди европейского хаоса. Противоположная сторона также переходит на новые принципы: провал революции заставляет некоторых, например, Герцена, Кердеруа44 и Бруно Бауера45, желать уничтожения буржуазного порядка в Европе посредством русского завоевания, как единственной возможности огнем и мечом уничтожить отжившие порядки дряхлеющего Запада. Обе стороны заявляют о своей позиции в «Revue des Deux Mondes»'. Маркс яростно отмежевывается от Герцена, а Рибейроль46 обвиняет Кердеруа, точно так же, как Филарет Шаль47 или Сен-Рене Тайлан- дье48 разоблачают софизмы Бауера. /.../
При этом с разных сторон обращают внимание на симптомы революции в самой России. Лавер- дан49, Герцен, Мишле в 1850—1852 гг. настоятельно указывали на внутренние слабости этого гиганта и предрекали русскую революцию, победа которой явится триумфом цивилизации и демократии.
Французское общественное мнение довольно спокойно принимало перспективу войны с Россией. В 1854 г. влиятельный журналист Леон Фоше50 с цифрами показал, что Россия неспособна выдержать более двух военных кампаний из-за одного только плохого состояния ее финансов. Поэтому невысказанное, но жгучее желание взять реванш у победителя 1812 г. соединялось с уверенностью, что прежний триумфатор не сможет бесконечно противостоять двум великим державам, обладающим значительно большими экономическими и финансовыми ресурсами. Наполеон III расчетливо избрал в качестве главного врага того, кто вызывал вражду демократов, недовольство католиков, неблагодарность благонамеренных и желание реванша со стороны вообще всех французов. В этом смысле можно согласиться с Е.В.Тарле, что такая война была популярна. Абсурдная по своему смыслу и ничтожная по конкретным результатам, она на какой-то момент объединила общество вокруг императора французов и явилась в конечном итоге неким актом изгнания нечистой силы. В 1856 г. после преодоления значительно большего сопротивления, чем предполагалось, Франция избавилась наконец от страха перед Россией, давившим на нее в 1831— 1851 гг. Теперь открывался новый путь для русско- французских отношений: углублялись интеллектуальные связи, и не будь несчастных польских событий 1863 г.51, Наполеон III смог бы на целые четверть века раньше заключить драгоценнейший для французов союз на Европейском континенте52.
С другой стороны, можем ли мы считать, что в это время ближе узнали русскую культуру? Исчерпывающий ответ тем более неясен, что трудно определимо само понятие культуры. Если по отношению к личным контактам, впечатлениям от поездок, различным учреждениям и различным слоям общества баланс в целом, несмотря на множество пробелов и ошибок, представляется положительным, этого нельзя сказать о духовной жизни. В особенности непонятыми и даже искаженными остаются религия и история — чрезвычайно важные сферы, когда речь идет о стране с совершенно иными духовными традициями и другим прошлым. Судя по всему, наименее пострадала здесь литература, но заметно, что французов интересовали лишь те произведения и жанры, которые несут на себе самую поверхностную экзотику: Крылов, рассказы о Сибири, Кавказе и казаках. Наиболее значительные пробелы, почти полное неведение, относятся к проблемам, волновавшим русскую интеллигенцию: критика Белинского, споры вокруг естественных наук, оценка русского прошлого в противостоянии западников и славянофилов, православно-националистические взгляды Хомякова и Самарина, короче говоря, все то, что составляло идеологический фон русского общества сороковых годов. Этим объясняются взаимные упреки: в 1847 г. Герцен возмущен узким политиканством французских республиканцев и таких его друзей, как Сазонов и Бакунин, а Мишле пренебрежительно отметает «так называемую русскую литературу», в которой видит литтть бесплодное подражание Западу. И тем не менее, отдельные озарения пробиваются сквозь этот мрак. Хотя и нельзя утверждать, что французы действительно поняли и оценили во всей полноте русский гений, они все-таки хотя бы отчасти угадали его, а некоторые из них даже насладились этими новыми для Запада плодами.
ПРИМЕЧАНИЯ3
ПРЕДИСЛОВИЕ
В 1845 г. приехавший в Неаполь Николай I рассказывал кавалеру де Кюсси о де Кюстине: «Да, в Петербург он явился с незавидной репутацией, а рекомендательные письма были у него от довольно сомнительных особ. Тем не менее, я не мог выказать неуважения ни к рекомендациям, ни к тем, кому они были адресованы. Я принял его, хотя, признаться, и с некоторой неприязнью, но нимало сего не выказал а, напротив, был весьма хорош с ним. Вам известно, как он отблагодарил меня». (Chevalier de Cussy. Souvenirs. Paris, 1909. Т. 2. P. 239).
Николаевская эпоха. Воспоминания французского путешественника маркиза де Кюстина. М., 1910.
Николаевская Россия. М., 1930.
Ошибка автора. В журнале «Русская Старина» (1886. Т. LI, июль; 1890. Т. LXV, февраль; 1891. Т. LXIX, январь) был опубликован перевод Н.К.Шильдера «Россия и русский двор в 1839 году» — дневника полковника Гагерна, приезжавшего в Петербург в свите принца Александра, старшего сына принца Оранского.
Алексис Шарль Анри Клерель де Токвиль (1805—1859) — французский политолог, историк и политический деятель. Убеждение в том, что Франция будет развиваться не по пути конституционной монархии английского образца, а как демократическое общество американского типа, побудило его отправиться в США, где он провел девять месяцев (1831—1832). В результате наблюдений, дискуссий с многими выдающимися американцами и чтения появилась книга, принесшая ему всеевропейскую известность: De la йётоагаИе en Ame- rique («Демократия в Америке», 1835, русский перевод 1897). Его приветствовали как нового Монтескье, он был награжден орденом Почетного Легиона и избран во Французскую Академию (1841). Вторая, заключительная часть «Демократии в Америке» появилась лишь через пять лет, в ней Токвиль исследовал влияние равенства на общества. В 1839 г. он был избран в Палату депутатов, где занял независимое положение. Революцию 1848 г. он предсказал за несколько недель до ее начала. Несмотря на неприятие социалистических идей, Токвиль с июня по октябрь 1849 г. занимал пост министра иностранных дел, а в 1850 г. был избран вице-президентом Учредительного собрания. Арестованный на короткое время при государственном перевороте 1851 г., он лишился всех должностей из-за отказа присягнуть новому режиму, после чего вновь обратился к литературной деятельности. В 1856 г. появилась его книга L'Ancien R£gime et la Revolution («Старый режим и революция», русский перевод 1896). Теперь будущее Франции как заложницы своего прошлого, представлялось ему уже не столь демократическим. Эта книга вновь вывела его на арену общественной жизни, и он был с триумфом встречен в 1857 г. в Англии, однако уже через два года Токвиль скончался, не завершив свой труд о Французской революции.
«Репутация Токвиля достигла апогея в первое десятилетие после его смерти, когда Европа готовилась к всеобщему избирательному праву, а во Франции началось возрождение либерализма. Издание десятитомного собрания его сочинений (1860—1866) было встречено как наследие мученика свободы. В Англии Токвиля постоянно упоминали при обсуждении избирательной реформы, а в Германии — в спорах о федерализации. Но после 1870 г. его имя стало постепенно стушевываться, и к началу нового века он был почти забыт, а его труды рассматривались как устаревшая классика. Новому поколению, верившему только в позитивное знание, они казались слишком абстрактными
и умозрительными. Кроме того, предсказанная Токви- лем демократия, казалось, так и не достигнута — он не предвидел ни глубину нового неравенства, ни те конфликты, которые были вызваны индустриализацией, национализмом и империализмом. В Европе так и не появилось бесклассовое общество, а шовинизм и империализм проникли даже в Америку. /.../
Тоталитарные режимы XX в., бросившие вызов самому существованию свободных институтов, породили «токвилевский ренессанс». На первый план вышло его стремление защитить свободу общества, анализ скрытых тенденций его развития, а также плодотворные философские и социологические гипотезы. /.../ Снова, как и в 1850-х и 1860-х годах, Токвиль оказался на вершине популярности. /.../ Несомненно, что и в будущем он останется авторитетом для всех, кто отрицает статичные авторитарные порядки и разделяет его веру в неизбежное исчезновение классовых различий и его понимание свободы, как высшей политической ценности».
(The New Encyclopaedia Britannica. Macropaedia, 1980. Vol. 18. P. 470).
6 В 1956 г. в Монако издательством Editions du Rocher был издан небольшой том Marquis de Custine. Souvenirs et portraits. Textes choisis et presentes par Pierre de Lacre- telle с весьма интересным биографическим введением (62 стр.) составителя этого сборника. В следующем году к столетию смерти Кюстина тот же издатель выпустил в свет первую его биографию, написанную маркизом де Люппе, который не только собрал коллекцию кюстинианы, но и широко использовал переписку Кюстина и другие документальные свидетельства из архивов приятелей и знакомых маркиза. Автор уже давно интересовался Кюстином и лет за тридцать до того опубликовал его письма к маркизу де Лагранжу. Помимо всех обстоятельств путешествия в Россию (в связи с этим для меня была чрезвычайно ценной работа проф. Кадо), по отношению к чисто биографической стороне я прежде всего обязан своими сведениями именно книгам, опубликованным в Монако.
I. ЧЕЛОВЕК
1 Мать Кюстина упоминается во многих источниках, но особенного внимания заслуживает книга Bardoux B.J.A Madame de Custine, d'apres des documents inedits. Paris, 1888. О ее отношениях с Шатобрианом см.: Chedieu de Robethon Е. Chateaubriand et Madame de Custine. Paris, 1893.
Примеч. переводчика: Луиза Элеонора Мари Дельфина де Кюстин (1770—1826) по словам ее биографа прожила бурную жизнь и «была близкой приятельницей нескольких самых значительных людей своего времени. Хотя прямота ее характера и душевное благородство привлекали к ней многочисленные симпатии, однако живость чувств и пламенное воображение принесли ей больше страданий, чем радостей. Но все эти нравственные противостояния в душе г-жи де Кюстин суть ничто по сравнению с пережитым ею в молодые годы, когда на смену идиллии пришла трагедия. Именно в то время она ярчайшим образом выказала настоящий героизм». (Bardoux. Madame de Custine. P. I—II). О романтических наклонностях Дельфины де Кюстин свидетельствует имя ее сына: Ас- тольф (Астольфо) — сказочно-героический персонаж поэмы Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд».
2* Имеется в виду первый роман г-жи де Сталь «Дельфина», в котором романтическая героиня восстает во имя чувств против общепринятых норм морали.
3* Карл Август Варнгаген фон Энзе (1785—1858) — немецкий писатель и дипломат, литературный критик, автор книг биографического жанра, «был одним из лучших стилистов своего времени и отличался тонким критическим чутьем»а. В чине капитана русской службы участвовал в кампании 1813 г. против Наполеона.
Рахель Антония Фридерика Варнгаген фон Энзе (урожд. Левин-Маркус, 1771—1833). «Кто же была эта Рахель, одна из самых оригинальных личностей прусского общества? Дочь обогатившегося ювелира, еврейка (что весьма угнетало ее), эта привлекательная дур-
а Энциклопедический словарь Брокгауз—Ефрон. СПб., 1892. Т. V. С. 537.
нушка с темными глазами, живая, подвижная, интеллигентная, мало надеявшаяся на замужество, да еще и бедная (после смерти отца она получала лишь небольшое пособие от братьев), которая, тем не менее, сумела завоевать для себя совершенно особое место в берлинском обществе /.../. Три молодые еврейки, Генриетта Демос, дочь врача португальского происхождения, Доротея Мендельсон и Pax ель Левин, ввели моду на совершенно новые салоны, успех которых заключался в том, что они не принадлежали ни к одному слою общества, и там могли происходить ни к чему не обязывающие встречи. /.../ Самая молодая из них, незамужняя Рахель, принимала у себя в мансарде за чашкой чая и с неслыханной свободой обращения. Она подружилась с братьями Гумбольдтами, Генцем (советником Меттерниха) и принцем Людвигом Фердинандом Прусским; частые визиты принца де Линя, появление мадам де Жанлис и мадам де Сталь и особенно дружеское расположение Гёте, все это задавало неповторимый тон ее приемам. Она умела создать интимную атмосферу, обладала искусством слушать и гордилась тем, что ее салон называли республикой духа. И все- таки, несмотря на все успехи, Рахель тяготилась недоступностью для нее традиционного общества из-за своего еврейского происхождения. Но именно такое положение сблизило ее впоследствии с Кюстином, которого она сумела понять как никто другой. /.../ Ей помогла влюбленность молодого Варнгагена фон Энзе, который, испытав в начале своей карьеры нужду, стал секретарем, а потом и доверенным лицом прусского премьер-министра фон Гарденберга, человека либерального, освободившего крестьян и эмансипировавшего евреев. Достигнув должности дипломатического советника, Варнгаген добился руки Рахель, бывшей старше него на четырнадцать лет. Ко времени знакомства с Кюстином уже крестившаяся Рахель стала женой дипломата и сделала свой салон менее богемным, придав ему большую политическую окраску. Гейне, издевавшийся над чопорностью берлинских салонов XX годов, часто бывал у Рахели и даже хотел надеть на себя собачий ошейник с надписью: «Я принадлежу г-же Варнгаген». (Muhlstein A. Astolphe de Custine. 1790—1857. Le dernier Marquis. Paris, 1996. P. 139—142).
4* Леонтина де Сен-Симон де Куртоме — «/.../ богатая, из прекрасной нормандской фамилии, совсем молодая, с мягким и легким характером, и, наконец, предел мечтаний — круглая сирота. (У нее) было все, чтобы привлекать к себе симпатии. Бракосочетание состоялось 15 мая 1821 г.» (Ibid. Р. 158—159).
Levis-Mirepoix Е. de. Correspondance de la Marquise de Montcalm. Paris, 1949. P. 70.
Loc. cit.
Софи Гэй. Дельфину (де Кюстин) и Софи Гэй связывала хоть и недавняя, но очень важная для Астольфа дружба. Софи, женщина весьма предприимчивая, воплощала в себе наступившие новые времена. Она завоевала Дельфину своей нежностью к ее сыну, сохранявшейся на протяжении пятидесяти лет. Софи родилась в 1776 г. в семье финансового служащего и в пятнадцать лет вышла замуж за биржевого маклера на двадцать лет ее старше и очень богатого. В эпоху директории она бросила его ради молодого любовника, Жана Сигизмона Гэя, сделавшего карьеру в императорских финансах, благодаря протекции маршала Дюрока. Софи изобрела для себя совершенно новую профессию — литературного агента. Она постоянно ездила в Англию и покупала там стихи, комедии и романы и весьма преуспела, а к тому же пользовалась еще и репутацией весьма галантной дамы. Тем не менее, Софи очень следила за воспитанием двух своих дочерей, а также невестки Элизы. Муж ее зарабатывал столько денег, что никто не сомневался в его близости к государственным деньгам. Когда в
г. он был отправлен в отставку, за дело принялась Софи — она сочиняла романы и песни и сумела даже пробиться со своей пьесой на сцену «Комеди Франсез», не оставляя при этом деятельности литературного агента.
8* Жюли Рекамье (1777—1849) — жена парижского банкира; ее салон был модным политическим и литературным центром оппозиции Наполеону I, который в
г. выслал ее из столицы. В 1819 г. она переселилась в монастырь Аббе-о-Буа, где у нее собирались политические деятели, литераторы и ученые.
9 La Russie en 1839. Т. 1. P. 162.
Memoires et voyages. Lettres icrites a diverses epoques, pendant des courses en Suisse, en Calabrie, en Angleterre et en Ecosse. Paris, 1830. 4 vol.
* Оссиановские легенды — цикл устных преданий, запи
санных не позднее XII в., о легендарном воине и барде ирландских кельтов Оссиане (III в. н.э.). В 1765 г. Дж.Макферсон издал «Сочинения Оссиана, сына Фингала», которыми увлекались особенно в Германии поэты «Бури и натиска» И.Гердер и И.В.Гёте. Однако впоследствии было доказано, что эти «Сочинения» являются талантливой подделкой.
II. ЗАЧЕМ ЕХАТЬ В РОССИЮ?
1* Объяснение самого Кюстина содержится в его письме от 7 августа 1855 г. (как сказано в публикации, к Machko (?):
«Я не намеревался как-то особенно изучать Россию; в эту страну меня случайно привела страсть к путешествиям; я приехал без каких-либо предубеждений, с единственной целью увидеть ее и был поражен тяготами и страданиями большинства тамошних жителей; несмотря на незнание языка, я уловил привлекательные черты народа, глубокое лицемерие в высших классах и распространенное повсюду двуличие. Два— три осведомленных человека сообщили мне кое-какие сведения, коими я не преминул воспользоваться; внимательные наблюдения и логические выводы окончательно поставили меня на истинный путь; благодаря отвращению ко лжи и любви к людям, мне удалось угадать все остальное. Вот и вся история сей книги, произведшей столь неожиданную для меня сенсацию. Независимость характера, смелость и чистосердечие всегда везде являют собой совершенное новшество, однако в России значительно более, нежели в какой- либо иной стране». (Marquis de Custine. La Russie en 1839. Paris, 1990. T. 2. P. 485).
2 L'Espagne sous Ferdinand VII. Paris, 1838. 4 vol.
3* «/.../ его прежние труды»-. «Алоис, или монах Сен-Бер- нара» (Aloys ои religieux de Mont S.-Bernard, 1829), психологический роман, продолжающий традиции «Адольфа» Б.Констана и «выдерживающий еще до сих пор испытание чтением»; «Воспоминания и путешествия, или письма разного времени, относящиеся к поездкам по Швейцарии, Калабрии, Англии и Шотландии» (Memoires et voyages, ои lettres icrites a diverses epoqu.es pendant des courses en Suisse, en Calabre, en An- gleterre et en Ecosse, 1830); «Беатриса Ченчи» (Beatrix Cenci), пьеса в стихах, поставленная в театре «Пор- Сен-Мартен» в 1833 г.
L'Espagne sous Ferdinand VII. Bruxelles, 1838. Vol. 2. P. 212.
Balzac H. de. Correspondance. Paris, 1964. Vol. 3. P. 424— 426.
6* При всем желании Бальзак не смог бы найти худшего времени для приезда в Петербург (июль—сентябрь 1843 г.) — всего полгода назад в свет вышла книга Кюстина. Нижеследующие сведения взяты из исследования ЛГроссмана «Бальзак в России» (Литературное наследство. М, 1937. Т. 31—32. С. 202, 204, 205, 220, 221).
Бальзак хотел проявить лояльность по отношению к русским властям и отрицательно отзывался о «России в 1839 году»: «/.../ для любопытных Петербург и Москва исчерпывают всю Россию. Они торопятся осмотреть обе столицы, соединенные превосходной дорогой в шестьсот верст, и воображают, что осмотрели Россию. А между тем они видели Россию как те, кто, побывав в Кантоне, видели весь Китай; по возвращению в их описаниях на одно правильное наблюдение приходится сотня вымыслов о государстве более обширном, чем римская империя эпохи Августа. Таково мое мнение о знаменитом произведении г-на де Кюстина». Тем не менее, и двор, и высшее общество отнеслись к нему демонстративно холодно. («Я получил пощечину, предназначавшуюся Кюстину»).
«Не подлежит сомнению, что Бальзак уезжал из Петербурга глубоко разочарованным. Письма к Ганской по пути в Париж совершенно недвусмысленно свидетельствуют о резкой перемене его воззрений на Россию. Даже сравнение с антипатичной Бальзаку Пруссией — не в пользу Петербурга. «Необходимо признать, что для приезжего из России Германия имеет особый, неопределимый вид, который не объясняется еще пока волшебным словом свобода, но который можно передать выражением свободные нравы или свобода в нравах. /.../ Бальзак не скрывал в берлинском обществе своего отрицательного впечатления от николаевского Петербурга. Герцогиня Дино, племянница Талейрана, с которой писатель встретился у французского посла Брессона, писала 16 октября 1843 г., что Бальзак отзывается о России «так же зло, как и Кюстин; /.../». Не пощадил он и самого императора: «В наши дни император Николай — единственный представитель власти, как ее изображает «Тысяча и одна ночь». Это калиф в мундире. Падишах Стамбула в сравнении с русским царем — простой супрефект».
Тем не менее, 14 ноября 1843 г. Бальзак писал Ганской: «Здесь ходят слухи, что я напишу опровержение Кюстина, и что я вернулся нагруженный серебряными рублями. Я отрицаю только рубли». (Balzac Н. de. Оеи- vres posthumes. Lettres a l'Etrangere. Paris, 1906. Т. 2. P. 225).
7* Эвелина Ганская (урожд. Ржевусская, 1800—1882) — жена Бальзака (с 1850 г.). Имеется в виду дело о наследстве ее покойного мужа Вацлава Ганского, рассматривавшееся в Государственном совете и благополучно для нее решенное 17 января 1844 г.
Alexis de Tocqueville. De la democratic en Amerique. Paris,
1835—1840.
Alexis de Tocqueville. De la dimocratie en Amerique, i3me id. Paris. 1850. Т. 1. P. 504—505.
Письмо от 22 февраля 1841 г. См.: Pierre de Lacretelle. Souvenirs et portraits. Monaco, 1956. P. 219.
La Russie en 1839. Т. 1. P. 120.
12* Адам Туровский (1805—1866) — польский публицист. Принимал активное участие в восстании 1830—1831 гг. и много писал против России, однако в эмиграции переменил свои взгляды. В книге La virite sur la Russie (Правда о России, 1835) он уже возлагал на Россию миссию панславизма. Император Николай I разрешил ему вернуться, но в 1848 г. он переселился в Северную Америку. Свои идеи Гуровский развивал в книгах La civilisation et la Russie (Цивилизация и Россия, 1840), Russia as it is (Россия как она есть, 1854) и др.
«Адам Гуровский считал, что польский язык устарел: он изо всех сил призывает русифицировать Польшу. В доказательство своей благонамеренности, по прибытии в Петербург представляет список лиц, подозреваемых во враждебном отношении к России. Но он так и не смог получить желаемую должность, поскольку его считали человеком ненадежным. В 1840 г. Гуровский издает книгу La Civilisation et la Russie — первый манифест официального панславизма. Ему удалось уехать из России, и в Италии он пишет труд le Panslavisme. В 1849 г. Гуровский переезжает в США, где сотрудничает в нью-йоркской газете «Tribune» и одновременно сближается с Уолтом Уитменом. Во время Крымской войны выступает на стороне России. /.../ До конца жизни он так и не изменил своего мнения о Польше: «Польша — это всего лишь кровавый призрак, преследующий правительства и народы; тень китайского фонаря, которой демагоги развлекают безумцев».
[Marquis de Custine. La Russie en 1839. Paris, 1990. Т. 1. P. 505). (Примеч. М.Парфенова).
13* Адам Юрий Чарторыйский (1770—1861) — польский и русский государственный и политический деятель, один из ближайших друзей Александра I, член Негласного комитета. В 1804—1806 гг. министр иностранных дел. С 1815 г. сенатор Королевства Польского. Во время Польского восстания 1830—1831 гг. глава национального правительства, затем в Париже, где объединил вокруг себя консервативно-монархическую эмиграцию, которая объявила его «королем де-факто».
14* Жозефина Радолинская — возможно, жена Владислава Радолинского (ум. в 1879 г.), получившего графский титул в Пруссии.
15 Lednicki W. Russia, Poland and the West. Essays in Literary and Cultural History. New York, 1953.
16* В 1838 г. по ходатайству друзей Мицкевича для него была образована в парижском Коллеж де Франс кафедра славянских литератур. Вступительную лекцию он прочел 22 декабря 1840 г. Мицкевич крайне идеализировал древнепольский государственный бьгг, противопоставляя его московско-российским порядкам, основанным, по его мнению, на расчетливом эгоизме. Утверждая, что поляки богоизбранный народ для обновления христианства, он порицал в то же время формализм Католической церкви. Лекции Мицкевича продолжались до 1852 г., когда после воцарения Наполеона III он вместе с ЖМишле и Э.Кине был уволен в отставку.
О французских переводах произведений Мицкевича см.: Lorentowicz J. La Pologne en France. Essay d'une bibliographic raisonee. Paris, 1935.
Приведем для сравнения два отрывка из текстов Мицкевича и Кюстина:
Мицкевич:
Но мчится кибитка и все перед ней Шарахнулось в сторону: пушки, лафеты, Пехота и полк кирасир-усачей, Начальство свои повернуло кареты.
Кибитка несется. Жандарм кулаком Дубасит возницу. Возница кнутом Стегает наотмашь солдат, свирепея. Беги, или кони собьют ротозея!
Кто едет в кибитке? — Не смеют спросить. Жандармы сидят в ней, и путь их — в столицу. То царь приказал им кого-то схватить. «Наверное, взят кто-нибудь за границей? /.../».
(Мицкевич Адам. Собр. соч. Т. 3.
М., 1952. С. 256. Перевод ВЛевика).
Кюстин:
«Немного далее увидел я, как курьер, может быть, фельдъегерь или какой-то из подлых слуг правительства вылез из своего экипажа, подбежал к одному вознице и принялся бить его кнутом, палкой и кулаками /.../». (La Russie en 1839. Зте id. Т. 2. P. 200).
«Фельдъегерь — это человек, обладающий властью; он везет приказ повелителя; он одушевленный телеграфный провод /.../. Те из них, кого мне пришлось видеть, олицетворяют собой пустыню, в которую они должны углубиться. В своем воображении я вижу места их назначения: Сибирь, Камчатка, солончаковые пустыни /.../». (Ibid. Р. 87—88).
III. ПУТЬ В РОССИЮ
Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 4. С. 79.
Можно привести множество мест из «Философического письма» для иллюстрации этого утверждения. Ограничимся только одним, вполне типическим:
«Я спратттиваю вас: где вы видели наших мудрецов и наших мыслителей? Кто и когда думал за нас и думает сегодня? А ведь находясь между двумя великими частями света, между Востоком и Западом, прикасаясь, с одной стороны, к Китаю, а с другой, к Германии, мы должны были бы объединить в себе два великих принципа мыслящей природы: воображение и разум и таким образом воплотить в своей цивилизации историю всего земного шара. Но не такую роль предопределило для нас Провидение. Совсем напротив: похоже, что оно нисколько не заботилось о нашей судьбе и оставило нас всецело на волю собственных наших средств, не желая вмешиваться в наши дела и хоть чему-нибудь научить нас, для которых нипочем опыт долгих веков; столетия и поколения промелькнули мимо и исчезли без следа. Можно подумать, что всеобщий закон человечества писан не для нас. Одинокие во всем мире, мы не дали ему ничего и ничему у него не научились; мы не прибавили ни единой идеи к совокупности идей человечества и ничего не принесли для человеческого духа, а то, что досталось нам от его развития, мы лишь обезобразили. С самого первого мгновения общественного нашего бытия ничего не пришло от нас ради блага людей; бесплодная почва нашего отечества не взрастила ни единой мысли; в нашей среде не зародилось ни одной великой истины; мы даже не дали себе труда хотя бы вообразить что-нибудь, а из того, что родилось в других умах, мы заимствовали только обманчивые внешности и бесполезную роскошь. /.../
Мы растем, но не созреваем. Мы двигаемся вперед но все как-то окольными путями, не ведущими нас к цели. Мы подобны детям /.../, все понятия которых лежат на поверхности, а душа пребывает вне их существа. /.../
Чтобы мир заметил нас, нам пришлось распространиться от Берингова пролива до Одера».
(Гершензон М., Чаадаев П.Я. Жизнь и мышление. СПб., 1908. С. 215).
La Russie en 1839. Т. 1. P. 97—98. Примеч. переводчика: Это подтверждается также мнением И.С.Тургенева в его письме к А А Фету от 30 апреля 1860 г.: «До сих пор русский действительно с умилением видит границу своего отечества /.../, когда выезжает из него». (Тургенев И.С. Письма. М.—Л Т. 4. С. 72).
La Russie en 1839. Т. 1. P. 140—145.
Ibid. P. 146—147.
6* В книге князя Щербатова содержится также и такой текст; «Козловский, старый и весьма образованный чиновник, был указан Головиным, как наиболее способный деятель для предстоящей по учебной част реформы. Несмотря на лестные отзывы Головина о Козловском, фельдмаршал относился к нему с некоторым недоверием. Козловский был католик, и в делах, относящихся до католического духовенства, он действовал не вполне согласно с видами правительства. /.../ Тем не менее, фельдмаршал признавал возможным употреблять на службе несомненные способности Козловского /.../». (Ibid. Р. 185—186).
7 Simmons J.S. Turgenev and Oxford. «Oxoniensia». Т. XXXI (1966). P. 146.
8* Имеется в виду черновой (неоконченный) набросок стихотворения АСПушкина:
Ты просвещением свой разум осветил, Ты правды лик увидел, И нежно чуждые народы возлюбил, И мудро свой возненавидел Когда безмолвная Варшава поднялась И бунтом опьянела, И смертная борьба началась, При клике «Польска не згинела!» Ты руки потирал от наших неудач, С лукавым смехом слушал вести, Когда бежали вскачь, И гибло знамя нашей чести. Варшавы бунт
По никнул ты (главой) (?) и в дыме горько возрыдал, Как жид о Иерусалиме.
(Пушкин АС. Полн. собр. соч. 1948. Т. 3 (1). С. 444).
9 La Russie en 1839. Т. 1. P. 191—193.
10* Пространная русская грамматика, 1827—1830, за которую Н.И.Греч был избран член-корреспондентом Петербургской академии наук. Также: Начальные правила русской грамматики, 1828, И изданий; Чтения о русском языке, 1840.
п* Это подтверждается и свидетельством А И.Тургенева в письме к П.А. Вяземскому из Парижа от 5/17 сентября 1843 г.: «На улице встретил Греча. Сперва не вспомнил, кто он и оттого подал руку. /.../ Русские думают, что /.../ он здесь по особым поручениям для русских же; впрочем, о ком этого не думают!» (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 4. СПб., 1899. С. 368).
12* Из письма АС.Пушкина к П.АВяземскому от 27 мая 1826 г., которое значительно острее, нежели приведенная цитата: «Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда /.../. Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь». (Поли. собр. соч. Изд. 3-е. М., 1965. Т. 10. С. 208).
13* Мицкевич А Собр. соч. М., 1952. Т. 3. С. 286. Перевод В.Левика.
14* Весьма характерно в этом отношении высказывание Ф.И.Тютчева по поводу книги Кюстина: «Апология России... Боже мой! Эту задачу принял на себя Мастер, который выше нас всех и который, мне кажется, выполнял ее до сих пор довольно успешно. Истинный защитник России — это История; ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу». (Барсуков Н. Жизнь и труды М.П.Погодина. Т. 8. СПб., 1893. С. 287).
15* «Вяземский, я полагаю, был полностью на стороне Пушкина» — ошибочное предположение, о чем свидетельствует следующая запись в дневнике Вяземского, относящаяся к стихотворениям Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», а также к стихотворению Жуковского «Старая песня на новый лад»:
«Пушкин в стихах своих: Клеветникам России кажет им тттитп из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем к ней. Народные витии, если бы удалось им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи подобные вашим.
Мне так уж надоели эти географические фанфаронады наши: От Перми до Тавриды и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст, что физическая Россия — Федора, а нравственная — дура. /.../
Неужели Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть. Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы? Хорошо иногда в журнале политическом взбивать слова, чтобы заметать глаза пеною, но у нас, где нет политики, из чего пустословить, кривословить? Это глупое ребячество или постыдное унижение. Нет ни одного листка »Journal des Debats», где не было бы статьи, написанной с большим жаром и с большим красноречием, нежели стихи Пушкина. В «Бородинской годовщине» опять те же мысли, или то же безмыслие. Никогда народные витии не говорили и не думали, что 4 миллиона могут пересилить 40 миллионов, а видели, что эта борьба обнаружила немощи больного, измученною колосса. Вот и все: в этом весь вопрос. Все прочее физическое событие. Охота нам быть на коленях пред кулаком. И что опять за святотатство сочетать Бородино с Варшавою? Россия вопиет против этого беззакония. Хорошо «Инвалиду» сближать эпохи и события в ка- лендарских своих калейдоскопах, но Пушкину и Жуковскому кажется бы и стыдно».
(Запись 22 сентября 1831 г. См.: Вяземский П.А. Записные книжки (1813—1848). М., 1963. С. 214—215).
См. также о настроениях Пушкина этого периода в статье М.Д.Белова «Польское восстание по письмам Пушкина к Е.М.Хитрово» в «Трудах Пушкинского дома». Вып. XI. Т. VIII. Л, 1927. С. 257—300.
16* Отношения АИ.Тургенева и П.А.Вяземского в определенной степени проясняются из их переписки:
«Жуковский очень доволен длинным письмом твоим ко мне, которое я сообщил ему /.../. «Вяземского письмо — прелесть. Его мысли о религии разительно справедливы. Жаль, что недокончил он статьи против Кюстина» (а я не жалею, ибо люблю Вяземского более, нежели его минутный пыл, который принимает он за мнения)».
(Из письма АИ.Тургенева к П.АВяземскому от 15/27 апреля 1844 г. из Парижа // Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 4. СПб., 1899. С. 277—278).
IV. КЮСТИН В РОССИИ
1 Вот его описание производившегося допроса: «— Что вы намерены делать в России?
Осматривать страну.
Это не причина для путешествия.
Но у меня нет никакой другой.
Кого вы намерены посетить в Петербурге?
Всех, кто удостоит меня своим знакомством.
Как долго вы намереваетесь пробыть в России?
Не знаю.
Скажите хотя бы приблизительно.
Несколько месяцев.
Есть ли у вас какие-либо дополнительные поручения?
Нет.
Секретные поручения?
Нет.
Какая-нибудь научная цель?
Нет.
Вы посланы вашим правительством для наблюдения за политическим положением в нашей стране?
Нет.
Может быть, коммерческим предприятием?
Нет.
Значит, вы путешествуете совершенно независимо и только из любознательности?
-Да.
Почему вы избрали для этого именно Россию?
Затрудняюсь ответить... и т.д., и т.д.
Есть ли у вас рекомендательные письма к кому- нибудь в нашей стране?
(Меня предупреждали о неудобствах, связанных с откровенным ответом на этот вопрос, и я упомянул только письмо моего банкира)».
2* Великая княжна Мария Николаевна (1819—1876) вступила в супружество с герцогом Максимилианом Лейх- тенбергским (1817—1852), сыном пасынка Наполеона I Евгения Богарне. Великая княжна Ольга Николаевна (1822—1892) — вторая дочь императора Николая I. В 1846 г. вступила в брак с вюртембергским наследным принцем, впоследствии королем Карлом I.
3* Арабский талисман — имеется в виду восточное кольцо, переданное перед казнью в 1794 г. генералом Александром Богарне Дельфине де Кюстин. Александр Богарне, дед герцога Максимилиана Лейхтенбергского, был осужден по процессу деда Кюстина, командовавшего Рейнской армией.
4* «/.../ у сестры императора великой княгини Елены Павловны в ее Михайловском дворце» — ошибка автора. Хозяйкой дворца была жена брата Николая I Михаила Павловича (1798—1848) великая княгиня Елена Павловна (урожд. принцесса Вюртембергская Фриде- рика Шарлотта Мария, 1806—1873). Михайловский дворец в Петербурге — построен К.И.Росси в 1825 г. для великого князя Михаила Павловича (в настоящее время там находится Русский музей). Сестра императора великая княгиня Елена Павловна (1784—1803) — в замужестве принцесса Мекленбург-Шверинская.
5* «/.../ в загородном замке герцогини Ольденбургской» — имеется в виду дворец Ольденбургских на Каменном острове в Петербурге.
б* Не столь уж фантастическое предположение, если вспомнить судьбу популярнейшего в свое время немецкого драматурга и романиста Августа Коцебу (1761—1819). В 1800 г. он задумал поехать в Петербург, где в кадетском корпусе воспитывались его сыновья, но был арестован на границе и сослан в Сибирь. (См.:
Коцебу А Достопамятный год моей жизни. Воспоминания. М., 2001).
7* «Монография Вяземского по поводу пожара Зимнего дворца» — имеется в виду записка П. А Вяземского 1п- cendie du Palais d'Hiver a St.Pitersbourg, изданная в Париже в 1838 г.
8 Cadot. P. 276. (См. статью П.АВяземского в Приложении I к настоящей книге).
Ныне городу возвращено его первоначальное название — Сергиев Посад.
10* Крестьянские волнения в Симбирской губ. — исследователями крестьянского движения каких-либо существенных волнений в эти годы в Симбирской губ. не отмечено. (См., например: Игнатович ИИ. Борьба крестьян за освобождение. Л.-М., 1924. С. 170—171; также: Крестьянское движение в России в XIX — начале XX веков. М., 1963).
La Russie en 1839. Т. 4. 3Cfne lettre.
Ibid. (3me id.). T. 4. P. 59—60.
13* Речь идет об эмигрантке г-же де Нуазевиль, близкой приятельнице бабки Кюстина. Впоследствии он встречался с ней в Париже. (См.: Marquis de Custine. La Russie en 1839. Paris, 1990. T. 2. P. 513. Примеч. М.Парфенова).
14* «/.../ ходатайство за одного молодого француза /.../» — речь идет о путешественнике Луи Перне, который при невыясненных обстоятельствах был арестован в Москве. После отказа французского консула г-на Вейе вмешаться в это дело де Кюстин по приезде в Петербург сразу же обратился к посланнику барону де Баранту, и ЛПерне был освобожден (уже после отъезда де Кюстина), хотя и без каких-либо объяснений о причинах его ареста. (См.: Custine. La Russie en 1839. Т. 4. P. 361—376, 381—388).
V. КНИГА
La Russie en 1839. T. 2. P. 61.
La Russie en 1839. Т. 1. P. 138. Во французском оригинале: «Imposer aux nations le gouvernement des majoritis, c'est les soumettre a la mediocrite. Si tel n'est pas votre
but, vous avez tort de vanter le gouvernemant de la parole. La politique de grand nombre est presque toujours timide, avare, et mesquine».
La Russie en 1839. Т. 1. P. XIX.
La Russie en 1839. T. 2. P. 46, 47.
Rubino A.M. Alia Ricerca di Astolphe de Custine. Roma, 1968. P. 153.
La Russie en 1839. T. 3. P. 338.
La Russie en 1839. Т. 1. P. 189.
La Russie en 1839. T. 2. P. 114.
La Russie en 1839. Т. 1. P. 253—254.
Ibid. P. 273.
La Russie en 1839. T. 2. P. 109—110.
La Russie en 1839. Т. 1. P. 6.
Ibid. P. 5.
La Russie en 1839. T. 2. P. 133.
Ibid. P. 328: «Се sont des ours fagoruiis qui me font re- gretter des ours bruts; ils ne sont pas encore des hommes cultives, qu'ils sont deja sauvages gates»; Ibid. Т. 1. P. 303: «Alors je me dis: voila des hommes perdus роит l'etat sau- vage et manques pour la civilisation /.../».
Я взял на себя смелость объединить здесь два отрывка из книги Кюстина, относящееся к театру см.: La Russie en 1839. Т. 2. P. 369] остальное — Ibid. Т. 1. P. 288.
Здесь также соединение отрывков: первое предложение — La Russie en 1839. Т. 1. P. 303, второе — Ibid. Т. 2. P. 209; третье — Ibid. Т. 1. P. 191.
8La Russie en 1839. T. 2. P. 121.
Эти высказывания взяты из того, о чем говорил князь с Кюстином на пароходе; я только изменил их порядок. Первое предложение — La Russie en 1839. Т. 1. P. 143, второе — Ibid. P. 184; третье — Ibid. P. 183.
La Russie en 1839. T. 2. P. 119.
Ibid. P. 134—135.
Ibid. P. 134.
Ibid. P. 157.
La Russie en 1839. T. 1. P. 143.
La Russie en 1839. T. 2. P. 321.
Ibid. P. 244.
Ibid. Р. 321.
La Russie en 1839. Т. 1. P. 321.
Ibid. P. 254.
La Russie en 1839. T. 2. P. 119.
La Russie en 1839. Т. 1. P. 288.
La Russie en 1839. T. 2. P. 382.
Ibid. P. 383.
344 Барон Зигмунд (Сигизмунд) Герберштейн (1486— 1566) — немецкий дипломат и путешественник. Дважды возглавлял посольство в Москву (1516—1518 и 1526—1527). В 1549 г. выпустил книгу Re rum Moscovi- ticarum Commentarii (Записки о московитских делах, русский перевод 1908).
La Russie en 1839. Т. 3. P. 337.
Ibid. P. 58.
La Russie en 1839. T. 2. P. 364.
Ibid. P. 313.
La Russie en 1839. T. 1. P. 267—268.
Ibid. P. 313.
Полное изложение взглядов кн. Козловского на русскую историю см.: La Russie en 1839. Т. 1. P. 140—147.
La Russie en 1839. T. 4. P. 355.
Ibid. P. 354.
La Russie en 1839. T. 2. P. 314.
Loc. cit.
Cm. Wishnick E. Mending Fences, 1984.
La Russie en 1839. T. 2. P. 314—317.
La Russie en 1839. Т. 1. P. 148—149. Я позволил себе поменять здесь последовательность отрывков. Первый находится в оригинале на Р. 149, второй — на Р. 148.
Ibid. Р. 152.
Russia. Abridged from the French of Marquis de Custine, London. 1854. P. 499.
Ibid. P. 493.
La Russie en 1839. T. 4. P. 490.
Ibid. P. 80—81.
Ibid. P. 193—195.
VI. ОТКЛИКИ
Cado. Р. 251.
Fleury S. Custine et Madame de Recamier // Revue des Etudes Historiques, 1929. Janv.—mars. P. 187.
Теперь, зная о полицейских связях Толстого, после его инвективы против кюстиновского определения некоторых русских чиновников как «шпионов» и совершенно справедливою указания на то, что нельзя так называть открыто действующего слугу правительства, забавно читать следующие строки:
«Шпион, милостивый государь, есть тот, кто скрывает свои намерения и, надевая маску честного человека, дабы втереться в доверие, подбирает все беспечно оставленное другими и сдабривает свои доносы острыми приправами ради придания себе важности и возвышения презренного своего ремесла. И государи, и публика иногда используют таких людей, забавляясь при сем их измышленными разоблачениями. Однако же оные никогда не удостаиваются уважения». (Yakov- lev О. La Russie en 1839 revee par M. de Custine. Paris, 1844. P. 46).
Из этого отрывка, написанного всего лишь за год до разоблачения автора, чувствуется, что бедный Толстой не так-то уж был и доволен своими отношениями с полицией.
Лемке М.К. Николаевские жандармы. СПб., 1909. С. 147.
Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 268. (Письмо от 26 декабря 1843 / 7 января 1844).
Pelletan Е. Compte rendu de La Russie en 1839 // La Presse, 1843. 12 dec.
1 Revue de Paris, 1843. Vol. 24, serie 4-me.
Гроссман Л. Бальзак в России // Литературное наследство. М., 1937. Т. 31—32. С. 155.
Самое трудное в России — смотреть на все собственными глазами. Если вы хотя бы в малейшей степени путешественник привилегированный, значит, вас будут повсюду сопровождать, чтобы вы видели только то, что дозволено. Вы хотите осмотреть дворец? К вам приставят управляющего, и он проводит вас по всем залам. Или вам хочется посетить военный лагерь? Вас будет сопровождать офицер или даже генерал. Может быть, крепость? К вашим услугам сам комендант. Школа? Общественное учреждение? Директора или инспектора предупредят о вашем визите, и они будут ожидать вас во всеоружии. /.../ Такова судьба для vo- yageurs proteges*. Ну, а все прочие? Они просто ничего не увидят. Ни одна дверь не открывается без особливого разрешения и высшей санкции, и поэтому невозможно увидеть Россию dans son dishabille. /.../ Она всегд а затянута в мундир и стоит перед вами навытяжку.
/.../ Следует упомянуть также и о том соглядатае, который сопровождает каждого путешественника даже из неблагородного сословия, если его заподозрят в излишнем любопытстве, и таковой спутник абсолютно обязателен при путешественнике-писателе. Он отнюдь не будет мешать вам, он даже предупредителен и готов ко всяческим мелким услугам, каковые можно принимать, не почитая себя за то в каком-либо смысле обязанным; к тому же, он еще и ваш гид — покажет вам все достопримечательности и расскажет занимательные истории /.../. Но если у вас доброе сердце, не злоупотребляйте вопросами. «Шпион, — справедливо замечает г-н де Кюстин, — занят только выслеживанием, и если вы не попались в его сети, он вообразит, что сам оказался у вас на крючке».
10* Cadot. Р. 265—278. Рукопись статьи Вяземского хранится в РГАЛИ (Ф. 195. Ед. хр. 1036). См. Приложение I.
Письма Александра Тургенева к Булгаковым. М., 1939. С. 263—264. (Письмо к А Булгакову от 11/23 декабря 1843).
Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 4. С. 277. (Письмо АИ.Тургенева к П.АВяземскому от 15/27 апреля 1844 г. из Парижа).
13* Edinburgh Review, 1844. April. № 160. P. 351—395.
Ричард Монктон Милне (1809—1885) — английский поэт и литератор, член Палаты общин (с 1837) от консервативной партии. В 1842—1843 гг. совершил путешествие по Египту и Ближнему Востоку, которое описал в книге стихотворений Palm Leaves (Пальмовые листья, 1844). Часто бывал на континенте и встречался с Токвилем, Ламартином и др. «У Милнса было множество друзей, однако привязанности его отличались скорее широтой, чем глубоким чувством. Его изящные стихотворения не поднимаются выше уровня посредственности; главным его занятием была светская жизнь и посещение модных салонов, где он блистал как послеобеденный собеседник. Но во всем оставался дилетантом, не давая себе труда выработать знания, превосходившие уровень поверхностности». (Dictionary of National Biography. London, 1894. Vol. 38. P. 21).
14* Эрастианская ересь — доктрина о верховенстве государства над церковью, названная так по имени развивавшего ее немецко-швейцарского теолога Томаса Эрастуса (1524—1583).
15* Quarterly Review. 1844. Vol. 73. P. 324—327.
Родрик Импи Марчисон (1792—1871) — английский геолог, автор фундаментального труда по геологии европейской России: The Geology of Russia in Europe and the Ural Mountains (1845), явившегося результатом двух научных путешествий по России в 1840—1841 гг. Марчисон был многократным президентом Геологического и Географического обществ в Лондоне. «/.../ нравственная связь М. с Россией не прерывалась — до самой смерти он всегда выказывал искреннюю любовь к России и глубокое уважение к русскому народу. Во время восточной войны М. во главе немногих англичан осмелился публично выступать, хотя и без успеха, в защиту России и против войны с ней. В 60-х годах, когда успехи русского оружия в Средней Азии вызвали в Англии сильное возбуждение против России, М снова выступает нашим защитником, и на этот раз спокойным беспристрастным разъяснением дела успевает потушить волнение». (Энциклопедический словарь Брокгауз—Ефрон. СПб., 1897. Т. 20. С. 220).
16 La Russie en 1839. Т. 3. P. 94.
La Russie en 1839. 3-me ed. T. 4. P. 371.
Для восприятия де Кюстином критики весьма показательны его высказывания в письмах к Варнгагену фон Энзе в 1843—1844 гг.:
«Моя «Россия» появится недель через шесть или через два месяца. Мне как-то страшно; ведь это такая унылая страна, что надо иметь более моего таланта, дабы не занудить читателя сим четырехтомным путешествием. Я уже жалею, что из чувства долга взялся за подобное дело. Сам сюжет дает пищу многим и весьма серьезным размышлениям при изрядно скудных описаниях. Это пугает меня, ведь какой читатель не полагает себя ныне умнее автора?
Недоброжелатели укоряют меня за неблагодарность: «Такая неблагодарность после столь радушного приема!» Однако будь он хуже, я был бы еще несвободнее; остается только заключить, что надобно быть вовсе не принятым, дабы позволить себе откровенность. Это какой-то абсурд. Но многие все-таки согласны со мной и одобряют мою, как они говорят, смелость, чего, впрочем, у меня отнюдь не было, просто я не мог писать как-то иначе. Несмотря на целых четыре тома, книга продалась за два месяца, и теперь приходится уже заниматься новым изданием, где многое надобно исправить и кое-что вовсе убрать, дабы как-то сгладить неизбежные в жанре путешествия повторения.
/.../ захваченное врасплох интересом публики, издательство не может удовлетворить спрос. Париж полон русских, которые кричат как орлы, вернее, как гуси — судите сами о поднявшемся шуме!! Это заставило всех читать книгу.
193
Вы упрекаете меня за утрированную недоброжелательность; я сам сознавал в себе сие чувство, когда занимался книгой, но никак не мог побороть его, ведь легче ударять со всего размаха, чем бить точно в цель. К сожалению, в наше время, чтобы быть услышанным, приходится наносить удары изо всех сил. К тому же, мне это простительно, ведь в России все столь огромно, что даже злоупотребления, едва заметные в других странах, сразу бросаются в глаза. Согласитесь и с тем, что вы знаете только показную сторону русских; приезжая к нам, они стараются принарядиться и непременно разукрасят вам свою страну, будучи в полной уверенности, что вы не поедете проверять их; единственное здесь исключение — это князь Козловский, которого вы правильно угадали. Но даже лучшие из них не лишены склонности к гасконадам, и более всего
7 Дж. Ф. Кеннан
меня поражает в них то, что это делается не ради любви к своей стране, а просто из тщеславного самолюбия и желания принизить других. В России множество тайных обществ, и, несомненно, с ними связаны лучшие умы; я никого не знал из них, хотя и прилагал к сему немалые старания, проехав по центральной части Империи — через Москву, Ярославль, Нижний и т.д., и т.д., и т.д. Уверяю вас, в рассказах приезжающих русских предостаточно пустого бахвальства. Мне говорили, что в Москве есть выдающиеся литераторы, редакторы просвещенных журналов — я так и не нашел оных, а все люди из образованного общества лишены корней и самобытности.
Публикуя первое издание, я боялся, что книга канет в воду, подобно камню, скрытая лукавым молчанием тех на кого нападал Но теперь можно успокоиться — их неуклюжая ярость превзошла все мои ожидания. Что касается возражений на частности, они не помешают главному — передаче моих внутренних ощущений».
Lettres du Marquis A de Custine й Vamhagen d'Ense et Rachel d'Ense. BruxeUes, 1870. P. 446—447, 455—456, 460—461, 470—471.
18* Имеется в виду изданная в Париже под псевдонимом comte d'Almagro Заметка о главных фамилиях России (Notice sur les principales families de Russie. Paris, 1842), в которой наряду с родословными приводятся сведения, компрометирующие Петра I, Екатерину I и др.
Князь Петр Владимирович Долгоруков (1816/1817— 1868) — публицист, издатель, историк. Автор генеалогических трудов, не утративших своего значения до настоящего времени (Российский родословный сборник. Т. 1—4. СПб., 1840—1841; Российская родословная книга. Ч. 1—4. СПб., 1854—1857; Dictionnaire his- torique de la noblesse russe, BruxeUes, 18583). За публикацию «Заметки» был сослан в Вятку. Не занимая официальных постов, активно участвовал в подготовке реформы 1861 г. С 1859 г. в эмиграции, где выпустил ряд обличительных произведений (Правда о России. Париж, 1861 и др.). Издавал несколько журналов: «Бу-
а Исторический словарь русской аристократии. Брюссель, 1858.
дущность», 1860—1861, Лейпциг—Париж; «Листок», 1862—1864, Брюссель—Лондон; «Правдивый», 1862, Лейпциг. В 1864 г. участвовал в редактировании «Колокола». Автор неоконченных «Записок» (выборочная публикация «Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны». М., 1909).
Письма Александра Тургенева к Булгаковым. М., 1939. С. 261. (Письмо к АБулгакову от 30 июля/11 августа 1843 г.).
Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 4. С. 256.
Письма Александра Тургенева к Булгаковым. С. 265.
Cadot. Р. 208.
VII. МАРКИЗ ДЕ КЮСТИН: РЕТРОСПЕКТИВА
1<г «/.../ Польша до 1831 г. /.../» — имеется в виду государственное устройство Царства Польского в составе Российской империи как конституционной монархии. Конституция 1815 г. обеспечивала свободу личности и печати, представительную законодательную власть (Сейм) и Государственный совет, без которого наместник не мог принимать важных решений. Кроме того, предусматривались выборность и несменяемость судей. В 1829 г. Николай I короновался в Варшаве и скрепил присягою свое обязательство соблюдать Конституцию. После восстания 1830—1831 гг. был обнародован Органический статут (1832), упразднивший Сейм, польское войско и передававший законодательную власть всецело в компетенцию императора.
2* «/.../ Венгрия в 1849 г.» — возможно, имеется в виду подавление русскими войсками венгерского восстания во исполнение соглашения 1833 г. между Россией, Австрией и Пруссией о взаимопомощи в политических кризисах, хотя ослабление Австрии и соответствовало бы геополитическим интересам России.
3* «/.../ тирания остзейских баронов» — после освобождения крестьян в Курляндской (1816) и Эстляндской (1817) губерниях без права собственности на землю они находились в полной зависимости от помещиков, обладавших, в том числе и полицейской властью.
А* Сергей Семенович Уваров (1786—1855) — президент Академии наук (1818—1855) и министр народного просвещения (с 1833). Способствовал развитию науки (основание Пулковской обсерватории, возобновление командировок молодых ученых за границу и т.д.)- В 1849 г. вышел в отставку вследствие строгих мер по отношению к учебным заведениям после революционных событий в Европе.
5* «Индийские набобы» — так в Англии иронически называли людей, разбогатевших в Индии.
6* Источник этой цитаты не найден, и она приводится в переводе с английского.
7* Викторианцы — имеются в виду современники английской королевы Виктории (1819—1901), царствовавшей в 1837—1901 гг.
8* Цитируется по книге Кеннана (р. 124—125) в переводе. Приводимая автором ссылка (le Russie, Letter 14, II, 132) в доступных переводчику изданиях не найдена.
9* La Russie en 1839. Т. 5. P. 85—86.
10* «Мессианские видения Москвы как Третьего Рима»:
«Уже в конце XV в. мы встречаем полное развитие знаменитой теории о всемирно-исторической роли Московского государства, — о «Москве — Третьем Риме» — в посланиях игумена одного псковского монастыря, Филофея. «Церковь старого Рима пала неверием аполлинариевой ереси®, — пишет Филофей Ивану III, — второго же Рима — константинопольскую церковь иссекли секирами агаряне. Сия же ныне третьего нового Рима — державного твоего царствия — святая соборная апостольская церковь — во всей поднебесной паче солнца светится. /.../ Блюди же и внемли, благочестивый царь, что все христианские царства сошлись в твое единое, что два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть /.../». (Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 2. 3-е изд. СПб., 1902. С. 23).
а Аполлинариева ересь — учение епископа Аполлинария Лаодикейского (ум. ок. 390) о Христе как совершенном Боге, но не совершенном человеке.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
«Парижские тайны» — имеется в виду роман французского писателя-социалиста Эжена Сю (1804—1857) Mystires de Paris (1842—1843), который имел сенсационный успех и даже вызвал дебаты в Палате депутатов. Роман издавался отдельными выпусками по мере написания.
2* Источник этой цитаты не найден, и перевод ее вне контекста неясен.
3* Сен-Марк-Жирарден (1801—1873) — французский писатель, член Академии и Палаты депутатов. Профессор Сорбонны. В критических статьях придерживался строго ортодоксальных принципов и нравоучительных тенденций.
4* Хартия — имеется в виду Конституционная хартия — законодательный акт, изданный Людовиком XVIII 4 июня 1814 г. после реставрации династии Бурбонов. Хартия определяла государственное устройство Франции как конституционной монархии. Законодательная власть принадлежала назначавшейся королем Палате пэров и Палате депутатов, избиравшейся населением с ограничением по цензу возраста (с 30 лет) и собственности. Устанавливалась свобода вероисповеданий при сохранении католичества как государственной религии.
5* Иоганн Каспар Лафатер (1741—1801) — швейцарский писатель, известный своими идеями о физиогномике, т.е. определении характера, жизни и судьбы человека по чертам его лица.
6* Русские свидетельства подтверждают мнение де Кюстина о гостиницах в России: «Для человека, прокатившегося по Европе, очень разительна в Петербурге вся нелепость его притязаний быть городом европейским. Даже в вещественном смысле он уже и потому не европейский город, что ровно ничего в нем нет для удобств житейских. Все в нем дорого, в три раза дороже дорогого Лондона, и все неудобно: нет ни одного порядочного трактира не только английского, но даже московского. Вонь, грязь и беспокойство». (Из письма А.С.Хомякова к протоиерею Е.И.Попову
от марта 1848 г. Соч. А.С.Хомякова. М., 1900. Т. 8. С. 430).
7* «/.../ пожар и крушение этого парохода» — в ночь с 18/30 на 19/31 мая 1838 г. «Николай I» загорелся и сгорел в открытом море на расстоянии одной мили от рейда Травемюнде. На борту было 33 члена экипажа и 32 пассажира. При катастрофе погибло 5 человек.
8* «История с молодым французом» — «Также сообщалось о героическом поступке одного француза, который спас из воды пять или шесть женщин, после чего скрылся от их благодарностей с такой поспешностью, что даже не успели узнать его имя. /.../ Император велел разыскать этого человека, оказавшегося причисленным к посольству в Дании. Сей храбрый юноша успел пересесть на другое судно, дабы возвратиться к месту своей службы. Он был чрезвычайно удивлен, узнав, что награжден русским крестом при рескрипте, где воздается должное его мужеству». (Histoire de la vie et du гёдпе de Nicolas I-ег, em- perem de Russie, par Paul Lacroix. T. 8. Paris, 1873. P. 18—19).
94 Антуан Оже де Монтион (1733—1820) — французский филантроп, пожертвовавший большую часть своего состояния на благотворительность и для поощрения научных исследований. Наиболее известны названные его именем «премии за добродетель».
10* «/.../ Франция, вся истина которой заключается только в одном 1830 году» — имеется в виду революция 1830 г., свергнувшая Бурбонов и возведшая на престол Орлеанскую династию (король Луи Филипп), что сопровождалось расширением компетенции Парламента, ответственным правительством, понижением избирательного ценза и введением суда присяжных по делам печати.
п* «Песня казака» Беранже (Chant du cosaque) — приводим для представления об этом стихотворении следующий отрывок:
Tout cet iclat dont 1'Ешоре est si йёге, Tout се savoir qui ne la defend pas, S'engloutira dans les flots de poussiere Qu'autour de moi vont soulever tes pas.
Efface, efface, en ta course nouvelle Temples, palais, moeurs, souvenirs et loi^
(Oeuvres competes de PJ.Biranger.
T. 2. Paris, 1851. P. 75).
12* Пьер Антуан Берье (1790—1868) — французский адвокат и политический деятель. Член Палаты депутатов, где после революции 1830 г. примкнул к династической оппозиции, выступавшей против Луи Филиппа. Александр Опост Ледрю-Роллен (1808—1874) — французский политический деятель. Как член Палаты депутатов был одним из немногих представителей республиканской партии, выступивших не только против правительства, но и против династической оппозиции. Придерживаясь социалистических убеждений, активно участвовал в революции 1848 г. и недолгое время занимал пост министра внутренних дел, но после неудачного восстания 1849 г. эмигрировал в Англию, где оставался до 1870 г. В Париже ему поставлен памятник.
13* «/.../ московитские греки /.../» — имеются в виду русские православные по их принадлежности к Греко- российской церкви.
14* Иерархическое устройство и состояние русской церкви резко критиковал священник и писатель по цер- ковно-общественным вопросам Иоанн Степанович Беллюстин (1820—1890):
«И чего же требовать от большинства сельских иереев? Лет десять—двадцать живши в деревне, до того они отвыкают от работы головой, что уже не проповедь, а написать простую записку, письмо — для них невыносимая тяжесть. /.../ Само собой разумеется, что большая часть слушателей бегут из церкви при самом начале проповеди; оставшиеся с досадой, со скукой, с отвращением и к проповеднику, и к самим проповедям
а Скачи, мой конь! Топчи дворцы и храмы, Сотри во прах Европы мудрость, славу, Не защитившие ее от ярости твоей. Пусть под копытами погибнут навсегда И память, и закон, стоявшие века!
(Перевод Д Соловьева).
дожидаются конца». (/И.Беллюсгин/. Описание сельского духовенства в книге: «Русский заграничный сборник». Т. IV. Берлин; Париж; Лондон, 1858. С. 134).
В письме к М.П.Погодину от 22 мая 1857 г. он писал:
«/.../ теперь из ста крестьян — десять, — и это maximum, умеющих прочитать, разумеется без малейшего смысла и понимания, Символ Веры и две—три коротенькие молитвы; заповеди знают из тысячи много что двое—трое; о женщинах и говорить нечего. И это — православная Русь! — Стыд и позор! — И наши фарисеи дерзают кричать во всеуслышание, что только в России сохранилась вера неизменною, — в России, где две трети не имеют ни малейшего понятия об вере: о, Иудино окаянство!» (Барсуков Н. Жизнь и труды М.П.Погодина. СПб., 1901. Т. XV. С. 121—122).
15* «/.../ они имеют свободу личную /.../» — «До нее (реформы 1861 г. — А С.) Россию можно было называть Русским государством только в условно преувеличенном смысле. Это не было государство русского народа®. Россия и в XIX в. оставалась невольничьей страной; только верхние классы ее населения, дворянство, духовенство и городской состав были полноценны в тогдашнем размере русского полноправия, составляли pays 1ёдаР Русского государства. Сельское податное население не имело прав, точно определенных законом. Крепостные были совсем бесправны, сами государи называли крепостное состояние, каким оно было на самом деле, рабством, хотя и стыдились пользоваться этим словом (названием) в своих законодательных актах» (Ключевский В.О. Соч. М., 1958. Т. V. С. 463).
1б* Во французском оригинале этот апокрифический монолог производит еще более комическое впечатление: «Permettez-moi, Monsieur, de vous soumettre une remar-
a «Один администратор того времени, принявши в расчет численное неравенство между свободными и несвободными людьми, рассчитал, что, так как правительственные учреждения ведают только вполне свободными людьми, то Русское государство по количеству свободных людей в 45 раз меньше Франции». (Ключевский. С. 274). 6 Pays legal — правовое государство (франц.).
que que j'ai faite. M. votre рёге 6tait tr£s bienveillant pour nous, mais il me semble que vous l'etes encore davantage. N'est ce pas aux progrds de la civilisation qu'il faut l'at- tribuer?» (Cadot. P. 273).
1?* Луи Адольф Тьер (1797—1877) — французский государственный деятель, историк, член Академии. Автор фундаментальных работ: «История Французской революции» (русский перевод 1874—1875) и «История консульства и Империи» (русский перевод 1846—1848). В 1832—1836 гг. министр внутренних дел, затем возглавлял правительство (1836—1840). После восстания 1848 г. был одним из лидеров монархической Партии порядка и поддерживал кандидатуру Луи Наполеона на пост президента Республики. Выступал против идей социализма. В 1871 г. глава исполнительной власти, подавил Парижскую Коммуну. В 1871—1873 гг. президент Республики.
18* Альфонс Мари Луи де Ламартин (1790—1869) — французский поэт-романтик, историк, политический деятель, член Академии. Автор «Истории жирондистов» (русский перевод 1871—1872, 1910) и компилятивной «Истории России» (1855). Член Палаты депутатов (с 1833), где сначала примкнул к роялистской оппозиции, а затем перешел на сторону либералов. Во время революции 1848 г. занимал пост министра иностранных дел.
19* Никола Себастьен Рок Шамфор (1741—1794) — французский писатель, получивший известность своей книгой афоризмов «Макисмы и мысли. Характеры и анекдоты» (1795, русский перевод 1966). Антуан Ривароль (1753—1801) — французский публицист монархического направления; в резких памфлетах выступал против революции. Жозеф Мари Шенье (1764—1811) — французский драматург, поэт и публицист. Автор трагедий в духе революционного классицизма («Жан Калас», «Гай Гракх» и др.). Член Якобинского клуба, депутат Конвента.
20* Жан Франсуа де Сен-Ламбер (1716—1803) — французский салонный поэт, член Академии, стоявший близко к энциклопедистам и впоследствии совершенно забытый. Жак Делиль (1738—1813) — французский поэт и переводчик, член Академии. Автор пространных описательных поэм классического направления («Сады»,
«Сельский житель» и др.). Сторонник монархии Бурбонов.
21* Эмиль Жан Орас Берне (1789—1863) — французский портретист и исторический живописец-баталист. Пользовался колоссальным успехом, благодаря сочетанию парадности, натурализма и романтических эффектов. «Хвастливым прославлением французского оружия он немало способствовал поддержке духа шовинизма в своих соотечественниках». (Энциклопедический словарь Брокгауз-Ефрон. СПб., 1892. Т. VI. С. 45). Будучи бонапартистом, находился сначала в натянутых отношениях с Бурбонами, которые впоследствии признали его. В 1836 г. и 1842—1843 гг. Берне работал в России и посетил Кавказ. Император Николай I был чрезвычайно к нему благосклонен. По свидетельству французского посланника в Петербурге барона Баранта «/.../ этот удивительно теплый прием, оказанный Орасу Берне, эта близость к императору и жизнь чуть ли не в кругу царской семьи, все это, совершенно невозможное в другом месте, поразительно даже здесь». (Из письма к АТьеру от 1 августа 1836 г. Souvenirs de baron de Barante. 1782—1866. Paris, 1895. Т. V. P. 449).
«Первая поездка в Россию была непродолжительна. Берне посетил С.-Петербург и Москву. /.../ Императору хотелось внушить художнику сожаление о слишком кратком пребывании в столице, и чтобы побудить его приехать в ближайшее время снова, он заказал ему картину «Наполеон I принимает парад гвардии в Тюильри», за которую заплатил 25 тыс. фр.». [Dayot A Les Vernet. Joseph, Carle, Horace. Paris, 1898. P. 140—141). О втором приезде Opaca Берне в Россию его биограф пишет:
«Не успел он приехать в Петербург, как августейший его покровитель привязал, фигурально говоря, художника к своей персоне, пригласив в свиту для путешествия на Украину, в Тавриду, Бессарабию, Польшу и т.д. Он побывал в Туле, Орле, Курске, Екатери- нославе, Москве, Варшаве, Гродно, Вильне... и т.д., занимая почетное положение в императорском кортеже и наблюдая за триумфальным шествием царя по улицам городов под звон колоколов и залпы пушечных салютов /.../.
И хотя на время этого удивительного путешествия Берне должен был расстаться с кистью, он дал зато полную свободу своему перу, которое неустанно день за днем повествовало в целой серии писем о живых и занимательных впечатлениях художника.
Это чрезвычайно интересная картина, обнимающая все стороны русской жизни3. В ней есть все — царь, его двор, природа, народ... Несомненно, письма Ораса Берне можно считать самым значительным из всего им написанного, и писатель в них далеко превосходит живописца, поднимаясь иногда на уровень историка-пророка. Вот в качестве примера фрагмент его письма к жене из С.-Петербурга от 31 октября 1842 г.:
«Что бы ты ни говорила, но мои чувства к императору совсем не таковы, как тебе кажется. Я отдаю ему справедливость — это человек необыкновенный, но все-таки еще далекий от совершенства. Он обладает всем, чтобы завоевывать сердца людей, от него независимых; но когда у него есть хоть наималейшая власть, жестокость его такова, какой я еще не встречал ни у одного человека. Правда, для поддержания всеобщего повиновения он и не может вести себя иначе. Русские во всех слоях общества настолько склонны к беспечности, что их можно сдерживать только страхом. Если русский не дрожит от страха — это самый никчемный человек в свете. Здесь все устроено на военную ногу, начиная от кухонь и до верховного суда. Привычка постоянно изрекать приговоры (при сем обвиняемый должен всегда стоять навытяжку) сделала императора неприметно для него самого столь грубым, что она погубит его, когда внушаемый ею ужас сменится безразличием и усталостью.
Все сии великолепные учреждения, о которых я писал тебе, нигде в таковом виде отнюдь не существуют. Казалось бы, они созданы ради общего блага. Но нет, образование для всей массы юношества совсем не помогает продвигаться — после обучения они должны оставаться в первоначальном своем состоянии, ни возвышаясь, ни опускаясь. Солдатские дети никогда не поднимутся выше унтер-офицеров. Так зачем же учить
а Vernet Н. Lettres intimes. Paris, 1856.
их и прививать им такие вкусы, кои они все равно не смогут удовлетворить? /.../ Вот, моя дорогая, как все устроено в России. Здесь трудятся, не заботясь об урожае. Прививают апельсины к елям и надеются на добрые плоды. Дворяне готовы отдать все свое состояние, лишь бы не попасть в Сибирь». (Ibid. Р. 156—158).
«ЖФ.Тарн уточняет, что Кюстин был знаком с Орасом Берне с 1833 г. Можно вполне основательно считать, что художник, пользовавшийся расположением царя и часто бывавший в России, также был одним из его «информаторов». (Marquis de Custine. La Russie en 1839. Paris, 1990. T. 2. P. 501. Примеч. М.Парфенова).
22* Випипорио Альфиери (1749—1803) — итальянский поэт и драматург, создатель национальной трагедии классицизма, автор около 200 сонетов. В 1770 г. побывал в Петербурге, о котором, как и вообще о России, крайне отрицательно отозвался в своей автобиографии:
«/.../ все то, что я видел, приехав в Петербург, при моем пламенном воображении, часто приводившем меня к разочарованию, заставляло меня сильно волноваться и ждать каких-то чудес. Но, увы, едва я оказался в этом азиатском лагере, с правильно расположенными казармами, как мне живо вспомнились Рим, Генуя, Венеция, Флоренция, и я не мог удержаться от смеха. Все, что я узнал затем здесь, лишь подтверждало мое первое впечатление, и я пришел к тому важному заключению, что эта страна вовсе недостойна посещения. Все в ней так противоречило моим вкусам (кроме лошадей и бород), что в продолжение шести недель, проведенных мною среди этих варваров, наряженных европейцами, я ни с кем не познакомился и даже не захотел ближе повидаться с двумя или тремя молодыми людьми из высшего общества, моими товарищами по Туринской академии. Я отказался быть представленным знаменитой императрице Екатерине II; не поинтересовался и взглянуть на эту государыню, которая в наши дни заставила так много говорить о себе. Когда впоследствии я старался открыть причину такого бесцельного, дикого поведения, то пришел к заключению, что это была явная нетерпимость непреклонного характера и естественное отвращение к тирании вообще, вдобавок воплощенной в женщине, справедливо обвиняемой в самом ужасном преступлении — измене и убийстве безоружного мужа». («Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим». М.( 1904. С. 110—111).
23* Анна Луиза Жермена де Сталь-Гольишейн (1766— 1817) — французская писательница, автор философских трактатов «Опыт о вымышленном» (1795), «О влиянии страстей на счастье личностей и народов» (1796). Весьма большое влияние оказала ее книга «О литературе в ее отношениях с общественными установлениями» (1800). Широкой известностью пользовались романы «Дельфина» (1802) и «Коринна, или Италия» (1807), в которых романтические героини отстаивают свое право на свободу чувств и взглядов. В 1802 г. она была выслана Наполеоном из Парижа, после чего путешествовала по Германии и Италии. К этому периоду относится ее книга очерков «О Германии» (1810), конфискованная по приказу Наполеона вследствие неблагоприятных для Франции аналогий. В 1812 г. проездом в Швецию г-жа де Сталь остановилась в Петербурге, где ей было оказано широкое гостеприимство, и она была очарована приемом со стороны императора Александра I. Свои достаточно поверхностные и апологетические впечатления о России г-жа де Сталь описала во 2-й части книги «Десять лет изгнания» (Dix annies d'Exil, 1821), которую высоко оценил АС.Пушкин («Московский телеграф», 1825. № 12). Он же описал ее появление в русском обществе в романе «Рославлев» (1831). См. также: Трачев- ский А Г-жа де Сталь в России // Исторический Вестник, 1894. № 10.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Перевод заключительной главы из книги Кадо М. L'image de la Russie dans la vie intellectuelle frcmgaise. 1839—1856. Paris, 1967. P. 537—546. (Образ России в интеллектуальной жизни Франции. 1839—1856).
Мишель Кадо (род. 1926) — французский литературовед-славист. Профессор Сорбонны (1970—1994). Кроме указанного труда им написаны также следующие книги: Jules Michelet. Ldgendes dimocratiques du Nord (Мишле Жюль. Демократические легенды Севе- pa, 1969. 2-е изд. 1980); Les cosaques de 1'Ukraine (Украинские казаки, 1995).
2* «Замечательно, что последними представительницами этого искусства (умения держать салон. —Д. С.) в Европе едва ли не по преимуществу были русские дамы: княгиня Дивен, княгиня Багратион, г-жа Свечина»3. Наиболее значительным являлся, несомненно, салон С.П.Свечиной (1782—1859), обратившейся в католичество под влиянием гр. Ж. де Местра. Сама Свечина пользовалась широкой известностью в клерикальных кругах Парижа, и ей посвящена обширная французская литература, например, ее письма выдержали пять изданий. Есть сведения о влиянии идей Свечиной на А. Де Токвиля (См.: Andri Jardin, Alexis de Toqueville. 1805—1852. Paris, 1984. P. 54). На русском языке см.: Мордовцев Д.Л. Русские женщины нового времени. СПб., 1874; также: Северная Пчела. 1860. № 47, 70; Наше Время. 1860. № 1; Русский Вестник. 1860. № 7, 8; Современник. 1860. № 6. АИ.Тургенев писал о салоне Свечиной: «Приятно было для меня видеть и возобновить в памяти моей превосходство умной и любезной Свечиной над ее подругами. И здесь она не теряет права своего на первенство в первом обществе. И здесь блестит умом, глубокомыслием, с любезное- тию и со вкусом соединяемым».
Следует отметить также салон гр. Генриетты Разумовской (?—1827), жены гр. Г.К.Разумовского (1759— 1837): «Ее салон в Париже был известен всему Парижу; его посещали: Гизо, Ремюза, Кузен, Вильям, Августин Тьерри, Ройе-Коллар, Дежерандо и др. Она была в дружбе с Каподистриею и как бы сестрою для Тургеневых (Николая, Александра и Сергея); на руках ее и умер Сергей Тургенев. Она также была лружна с ВАЖуковским»в. Среди русских хозяек парижских салонов выделялась и ip. Анастасия Семеновна Сир- кур (урожд. Хлюстина), собиравшая у себя избранное интеллектуальное общество.
3* «/.../ общественное устройство России не претерпело до 1917 г. никаких фундаментальных изменений» — очевидно автор забыл (?!) о великих реформах эпохи императора Александра И.
4* Август Гакстгаузен (1792—1866) — прусский писатель по аграрным вопросам и исследователь России. В 1843 г. при материальной поддержке русского правительства совершил путешествие по центральным губерниям, Украине, Поволжью и Кавказу, после чего опубликовал труд Studien iiber die inneren Zustande, das Volksle- ben und insbesondere die landliche Einrichtungen Russlands, Bd. 1—3. Hannover—Berlin, 1847—1852 (Исследования внутреннего состояния, народной жизни и в особенности земельного устройства России), в котором выступал за постепенную отмену крепостного права на основе патриархальной общины во главе с помещиком. Даже идейные противники монархических взглядов Гакстгаузена (КМаркс, АИ.Герцен, Н.Г.Чернышевский) признавали ценность содержащегося в его труде огромного фактического материала.
Фредерик Ле Пле (1806—1882) — французский социолог, первоначально профессор металлургии, затем посвятил себя изучению причин процветания и упадка народов. Россию посетил восемь раз и издал в 1839— 1849 гг. на основании собранного им очень большого статистического материала книгу Voyage dans la Russie miridionale et la Crimde (Путешествие по Южной России и Крыму). Русскую жизнь Ле Пле относил к средневековому типу устройства общества.
5* Дональд Мэкензи Уоллес (1841—1919) — английский писатель о России. «В 1870 г. уехал в Россию, где жил попеременно в Петербурге, Москве и Ярославле, неоднократно предпринимал путешествия по стране и в течение шести лет наблюдал учреждения, социальный и политический строй России, для чего изучил русский язык, знакомился с русской литературой и даже имел терпение прочесть всю многотомную историю Соловьева. Результаты своих наблюдений он изложил в книге, выдержавшей в Англии 10 изданий и вышедшей под заглавием Russia (В 2-х тт. Лондон, 1877, русский перевод 1880—1881). /.../ В общем книга Уоллеса производит такое впечатление, что она написана как бы под влиянием приятного разочарования в справедливости представления о России, как о стране сплошного варварства. В то же время Уоллес видимо поражен хаотичностью нашей жизни и называет Россию страною чудовищных контрастов» (Энциклопедический словарь Брокгауз—Ефрон. СПб., 1891. Т. V. С. 423).
Лнатоль Анри Жан Батист Леруа-Балъе (1842— 1912) — французский публицист, профессор истории. С 1872 по 1881 гг. совершил четыре путешествия по России. Его книга L'Empire des Tsars et les Russes (1881—1889, Империя царей и русские), наиболее обстоятельное исследование того времени государственного и общественного строя России. Кроме того он написал: Un homme d'itat russe. Etude sur la Russie et la Pologne pendant le regne d'Alexandre II (1884, книга посвящена H.А.Милютину: «Русский государственный деятель. Россия и Польша в царствование Александра И»), а также La France, la Russie et ГЕигоре (1888, Франция, Россия и Европа).
6* «Письмо из Киева» (Balzac Н. de. Lettre sur Kiew. Fragment inidit // «Cahiers balzaciens», 1927. № 7).
«За время своего пребывания в Верховне® Бальзак несколько раз посетил Киев. Судя по его переписке, он был здесь осенью 1847 г., зимой и весной 1849-го, в январе—феврале 1850-го; по другим указаниям он был здесь и в апреле 1850 г. перед самым отъездом во Францию. /.../ Эта неоконченная работа («Письмо из Киева». —Д.С.) представляет для нас особый интерес, как единственная его попытка дать целостное представление о современной России. Оно выдержано в тоне живой и быстрой беседы, с беглыми зарисовками, мелькающими анекдотами, сценками, остротами. Путевые впечатления здесь перемежаются с размышлениями автора о немецкой флегме, о русском послушании, о парижских поляках, о галицийских евреях, о польских магнатах и украинских крепостных». (Гроссман А Бальзак в России // Литературное наследие. М., 1937. Т. 31—32. С. 250).
а Верховня — украинское поместье Ганских неподалеку от Бердичева. В 1850 г. в Бердичеве Бальзак обвенчался с Э.Ганской. [Примеч. переводчика.)
7* Ксавье Мармье (1809—1892) — французский писатель и путешественник. Долго жил в Германии. Совершил многочисленные путешествия по всей Европе, Америке, Алжиру и Ближнему Востоку. Путешествие по России описал в книге Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne (Письма о России, Финляндии и Польше, 1843, 1848).
Шарль Виктор Прево д'Арлинкур (1789—1856) — французский писатель и публицист монархического направления, автор исторических романов.
Шарль Сен-Жюльен (?—1869) — французский поэт и литератор, автор следующих работ, относящихся к России: 1) Guide de voyageur a Saint-Petersbourg /.../ (Путеводитель по Санкт-Петербургу /.../. СПб., 1840); 2) Pouchkine et le mouvement litt£raire en Russie depuis quarante ans (Пушкин и литературное движение в России за последние сорок лет, «Revue des Deux Mondes», 1847, l-ег oct. P. 42—7% 3) La litterature en Russie. Le comte W.Sollohoupe (Литература в России. Граф В.Соллогуб. Ibid., 1851, 1-ег oct. P. 67—100); 4) La littSrature en Russie. Ivan Andiievitch Kriloff. Polnoe Sobranie Sotchininii /.../ (Литература в России. Иван Андреевич Крылов. Полное собрание сочинений /.../. Ibid., 1852, 1-ег sept. Р. 866—890); 5) Voyage pictoresque en Russie, suivi d'un Voyage en Siberia par R.Bourdier (Живописное путешествие по России с приложением Путешествия г-на Р.Бурдье по Сибири. Париж, 1853); 6) Souvenirs du Caucase (Воспоминания о Кавказе. «Revue de Paris», 1866, 15 mai et 15 juin. P. 149—165, 286—307).
Сен-Жюльен преподавал французскую литературу в Петербургском университете (1831—1836). В 1836т— 1846 гг. библиотекарь Румянцевского музея. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1846). В 1851 г. совершил большое путешествие по России (Москва — Нижний Новгород — Казань — Астрахань — Кисловодск — Тифлис — Крым — Одесса).
8* Летиция Вильгельмина Матильда (1820—1904) — дочь брата Наполеона I Жерома Бонапарта. С 1841 г. жена кн. Анатолия Демидова Сан-Донато. Ее дом был одним из литературных центров Парижа. Английский биограф пишет о пребывании принцессы Матильды в Петербурге (1841—1845), по всей вероятности, с ее слов:
8 Дж. Ф Кеннан
«Принцесса натура артистическая, а Санкт-Петербург один из самых прозаических городов Европы, за исключением Невы — единственной поэтической его части. Но демидовская казарма (дом Демидовых нельзя назвать как-то иначе) весьма от нее удален. Легко понять, что эта столица сразу же не понравилась принцессе Матильде. К тому же, она вступила в новое свое отечество, когда оно пребывало под гнетом самой безжалостной и неограниченной тирании нашего времени. Император и высшие чины государства ненавидели ее мужа, а равные и нижестоящие завидовали его богатствам». (La princesse Mathilde (Dimidoff—Bonaparte) par J.Abbot. Londres et Bruxelles, 1866. P. 58\.
См. также ее воспоминания: Souvenirs des annees d'exil. A la cour de Nicolas I-er. (Годы изгнания. При дворе Николая I. «Revue des Deux Mondes», 1928, 15 janv.).
Амабль Гийом Проспер Брюжьер ge Баракт (1782— 1866) — французский государственный деятель, дипломат и историк. Наибольшую известность получила ею «История герцогов Бургундии из дома Валуа» (13 т. 1824—1826). В 1835—1842 гг. был посланником в Петербурге. Восемь томов изданных его наследниками «Мемуаров» (Souvenirs de baron de Barante. 1782—1866. Paris, 1895) содержат только переписку и не являются публикацией воспоминаний. Сын Баранта, Эрнест (1818—1859), известен своею дуэлью с Лермонтовым, которая, по словам поэта, произошла в связи со спором о национальной чести русских.
д'Андре (J.-M.-A. й'Апёгё), французский дипломат, занимал должность секретаря посольства в Санкт-Петербурге (1833—1844).
10* Игнас Ксавье Моран Оммер де Гель (1812—1848) — французский инженер-строитель. С 1838 г. в течение пяти лет находился в России, посетил Таганрог, Астрахань и Севастополь, что было описано им в соавторстве с женой в труде: Les steppes de la mer Caspieruie, la Caucase, la Crimee et la Russie miridionale (Прикаспийские степи, Кавказ, Крым и Южная Россия. 3 тт. 1844—1847), за который он получил премию Французского Географического общества. В 1846 г. был направлен с географической и исторической научной миссией на Черное и Каспийское моря. Находясь в Персии, умер от лихорадки.
114 Пастор Pop — Жан Жоффруа Pop (1815—1889), протестантский теолог, находившийся в России (преимущественно в Москве) в 1838—1846 гг. в должности гувернера в княжеском семействе. По его словам, приехал, как «миссионер свободы», видя в России «рычаг, способный перевернуть мир». Пытался пропагандировать в московских гостиных некие «республиканские идеи». Автор анонимной трехтомной книги Un Mis- sioimaire republicain en Russie (Республиканский миссионер в России. Париж, 1852). О нем см.: Revue de litterature сотрагёе. 1956. Т. XXX (2). Р. 219—231; Вопросы литературы. 1958. № 8. С. 201—202; Литературное наследство. 1952. С. 694—696.
Чарльз Фредерик Хеннипгсен — автор книг: Revelations of Russia, or the Emperor Nicholas and his Empire in 1844, by one who has seen and describes (Правда о России, или император Николай и его Империя, описанная очевидцем, 1844) и Revelations of Russia in 1846 by an English resident (Правда о России в 1846 году, написанная англичанином, жившим в России, 1846).
12* Поль Лакруа (1806—1884) — чрезвычайно плодовитый французский историк и автор исторических романов. За незаконченный труд Histore de la vie et du regne de Nicolas I, empereur de Russie (История жизни и царствования императора Николая I, 1864—1875) получал пенсию от русского двора.
13* Жермен де Ланьи — автор книги Le knout et les Russes. Moeurs et organisation de la Russie (Кнут и русские. Нравы и устройство России. Париж, 1853; переведена на немецкий, английский и шведский языки). Продолжительное время жил в Петербурге (1840-е годы). Придерживался консервативных взглядов, был поклонником императора Николая I, но критически относился к государственному устройству России.
Луи Антуан Леузон-Ледюк (1815—1889) — французский писатель и журналист. Совершил несколько путешествий по Северу Европы и России, автор книг: La Russie contemporaine (Современная Россия, 1853); L'Empereur Alexandre II (Император Александр II, 1855 и 1867) и др.
8*
14* Пьер Луи Опост Феррон де Ла Ферронье (1777— 1842) — французский дипломат и государственный деятель. Во время Революции и Империи находился в
211
эмиграции. В 1812 г. послан графом Прованским (будущим Людовиком XVIII) с миссией к Александру I и оставался в России до 1814 г. Затем посланник в Петербурге (1819—1826). С 1827 до 1829 г. занимал пост министра иностранных дел.
15* Ипполит Никола Жюст Оже (1796—1881) — французский романист, драматург и журналист. Последователь идей Сен-Симона. В 1844 г. приехал в Петербург, где некоторое время занимался постановками в императорских театрах и служил цензором, однако вследствие ипе maladresse? вынужден был покинуть Россию. Написал несколько романов из русской жизни: Avdotia (Авдотья, 1846); Ivan IV ои la fortresse de Schlisselbouig (Иван IV, или Шлиссельбургская крепость, 1825) и перевел труд Нарышкина «История кампании 1805 года». Его мемуары были опубликованы в 1891 г.
16* Злим Петрович Мещерский (1808—1844) — поэт, переводчик, публицист и дипломат. Первый русский культурный атташе в Париже. Автор анонимных коррес- понденций для «Журнала Министерства Народного Просвещения» (1834—1837). Несмотря на идеи о мессианском предназначении России, был завсегдатаем парижских католических салонов кн. Е.Мещерской, С.П.Свечиной и гр. Сиркур. Переписывался с ГХЯ.Чаа- даевым. После Польского восстания 1830—1831 гг. выступил с апологетической брошюрой Lettres d'un Russe /.../ (Письма русского /.../. Ницца, 1832), о которой пренебрежительно отозвался П.А.Вяземский (см. «Русский архив», 1868. Кн. 2. Стлб. 621).
17* Имеются в виду первые поражения русских войск в битвах при Альме и Инкермане (8/20 сентября и 24 октября/4 ноября 1854 г.) во время Крымской (Восточной) войны 1853—1856 гг.
18* Известны следующие высказывания Стендаля, относящиеся к России:
«Весь свет ополчился на г-на де Виллеля, но мне он нравится — это хороший финансист и противник русских». (Запись 1824 г. Stendhal. Milanges de politique et d'histoire. Paris, 1933. Т. l.P. V).
a Une maladresse — какой-то неловкости {франц.).
«Лишь немногим более ста лет тому назад на месте Петербурга, красивейшей из столиц, было пустынное болото, а вся окружающая местность принадлежала шведам /.../. Со времен Петра Великого русские всегда считали, что к 1819 г., если у них достанет на то смелости и воли, они станут властелинами Европы, и тогда Америка будет единственной державой, способной сопротивляться им. /.../
У Наполеона были все основания стремиться к тому, чтобы остановить Россию. Война с ней явилась благоразумнейшим из всего случавшегося. /.../
В России никого не удивишь деспотизмом. Он вполне согласуется там с религией, а поелику сам деспот человек в высшей степени мягкий и деликатный, им возмущаются лишь немногие философические головы из числа путешествующих».
[Stendhal. Oeuvres computes. Т. XVII. Napoleon. Paris, 1953. P. 123, 127).
«В Москве 400 или 500 дворцов, украшенных с изысканной роскошью, невиданной в Париже и известной только в счастливой Италии. Но все очень просто. Под деспотическим правлением находится восемьсот или даже тысяча человек, имеющих от 5 до 1500 тыс. ливров дохода. Что им делать с такими деньгами?
Ехать ко двору? Какой-нибудь гвардейский сержант, удостоенный царской милости, будет унижать их и отправит в Сибирь, чтобы завладеть их великолепными каретами и лошадьми. У сих несчастных остается лишь одна радость — роскошь и наслаждения /.../».
(Из письма к Полине Перье-Лагранж от 15 октября 1812 г. из Пресбурга. Campagnes en Russie. Sur les traces de Henri Beyle dit Stendhal. Paris, 1995. P. 31—32).
Запись, сделанная в Нанте 1 июля 1837 г.:
«/.../ возле Биржи я встретил одного морского капитана, с которым плавал когда-то на Мартинику. Он три года пробыл на Балтике и в Санкт-Петербурге.
Так превратимся ли мы в казаков? — спросил я.
Император Н... разумный человек и в качестве частного лица был бы выдающейся личностью. Сей монарх самый красивый мужчина во всей Империи и один из храбрейших; но он как лафонтеновский заяц — его снедает страх. Во всяком умном человеке,
каковых немало в Петербурге, он видит врага; трудно иметь столько силы воли, чтобы противостоять искушению абсолютной власти.
Царь возмущен Францией и вне себя от существующей у нас свободы печати, но чтобы утолить свой гнев ему недостает каких-то двадцати миллионов франков. /.../
Императору не угодно, чтобы в России были обманутые мужья. Если молодой офицер слишком часто посещает какую-нибудь привлекательную женщину, его призывают в полицию и велят прекратить эти визиты, а в случае неповиновения он отправляется в ссылку, так что страстная любовь может довести и до Сибири. Это более всего раздражает молодых дворян. /.../
В России много умных людей, и их самолюбие уязвлено отсутствием Хартии®, хотя Бавария и даже Вюртемберг (величиной с ладонь) имеют оную. /.../ В России свободу понимают совсем иначе, чем у нас; дворяне осознают, что рано или поздно они лишатся (к счастью) своих крестьян, но их унижает невозможность ездить в Париж и то, что в самом захудалом французском журнале их трактуют как варваров. Я не сомневаюсь, — продолжал капитан, — что не пройдет и двадцати пяти лет, и у русских будет какое-то подобие Хартии, а парламентских ораторов корона купит крестами».
[Stendhal. Oeuvres computes. Т. VII. Memoires d'un touriste. Т. I. Paris, 1952. P. 259—260).
В «Истории итальянской живописи» можно найти несколько весьма хвалебных для России замечаний, например: «Осмелюсь ли сказать, но в русских избах я видел куда большую любовь к отечеству и куда большее величие. Религия — это их Палата Общин. И поэтому мысль о том, что в 1840 г. русские станут властителями Италии, отнюдь не пугает меня». (Campagnes en Russie. Sur les traces de Henri Beyle dit Stendhal. Paris, 1995. P. 52).
19* «/.../ восхищение Бальзака /.../» — вряд ли можно сомневаться в том, что оно было притворным (см. примеч. 5 к Главе II).
а См. примеч. 4 к Приложению I.
20* «/.../ поношения Мишле» — «(Император, —Д.С.), обращающий в свою веру железом и благословляющий кнутом, /.../ явил за последние двадцать лет неслыханные притязания на роль божества. /.../ Он запретил времени быть временем и, отменив астрономию вкупе с математикой, навязал старый календарь, уже отвергнутый остальным миром. Он запретил цене быть ценой и повелел, чтобы три рубля почитались отныне за пять. Он запретил разуму быть разумом, и когда в России обнаружился вдруг здравомыслящий человек, его заперли в дом сумасшедших»3. (Legendes dimocratiques du Nord, par J.Michelet. Paris, 1854. P. 257—258).
21* По поводу этой полемики ВлСоловьев писал:
«В 1853 г. учитель церкви (славянофильской) Хомяков начал печатать в Германии и Франции ряд блестящих полемических брошюр против западных исповеданий. Вся сила этой полемики состоит в следующем весьма простом приеме. Берется западная религиозная жизнь в ее конкретных исторических явлениях, односторонность и недостатки в этих явлениях обобщаются, возводятся в принцип, и затем всему этому противопоставляется «православие», но не в его конкретных исторических формах, а в том идеальном представлении о нем, которое создали сами славянофилы. Это идеальное представление резюмируется в формуле: «церковь как синтез единства и свободы в любви», — и эту-то отвлеченную формулу славянофилы выставляют в обличение действительного католичества и действительною протестантства, старательно умалчивая или затейливо обходя те явления в религиозной истории Востока, которые прямо противоречат такой формуле. Западные христиане беспощадно осуждаются за то, что живут в своих тесных, дурно построенных и частью разоренных храминах; им предлагается огромный и великолепный дворец, которого единственный недостаток состоит в том, что он существует
а П.Я.Чаадаев за публикацию «Философического письма» (1836) был объявлен повредившимся в рассудке и подвергнут домашнему аресту на несколько месяцев с обязательными визитами врача. {Примеч. переводчика.)
только в воображении». (Национальный вопрос в России. Собр. соч. СПб., б.г. 2-е изд. Т. 5. С. 188—189).
22* Пьер Шарль Левек (1737—1812) — французский историк. По рекомендации Дидро был вызван в Петербург и назначен преподавателем в кадетском корпусе, где оставался до 1780 г. Собирал в архивах материалы для русской истории, на основании которых написал His- toire de Russie, tiree des chroniques originales, des pieces authentiques et des meillieurs historiens de la nation (История России, основанная на оригинальных хрониках, подлинных документах и произведениях лучших историков сей нации, 1782—1783).
23* Эрнест Шарьер (1805—1875) — французский писатель. В 20-х годах переселился в Россию, где провел десять лет и изучил русский язык, а также быт и историю славянства. Опубликовал ряд статей о русской жизни и литературе в журнале «Мегсиге de France». Ему принадлежит обширный труд Politique de I'histoire (Политика в истории, 1841—1842) и другие политические работы, а также переводы на французский язык сочинения АИ.Левшина «Описание киргиз-казачьих или кир- гиз-кайсацких орд и степей» и «Записок охотника» И.С.Тургенева.
24* Проспер Мериме (1803—1870) — переводил произведения А.С.Пушкина (в том числе «Пиковую даму»), Н.В.Гоголя («Ревизор»), И.С.Тургенева. Опубликовал цикл статей об этих писателях, а также исторические работы, посвященные Смутному времени, Степану Разину, Богдану Хмельницкому и Петру I. Был лично знаком с П.АВяземским и И.С.Тургеневым.
25* Луи Виардо (1800—1883) — французский литературный критик, искусствовед и переводчик. Муж певицы Полины Виардо. Автор фундаментального труда Musies d'Europe (Музеи Европы. 5 т.т. 1860). С помощью И.С.Тургенева, двадцать лет жившего с ним в одном доме, много переводил с русского (произведения АС.Пушкина, НВ.Гоголя и И.С.Тургенева).
26* Июльская революция 1830 года привела к свержению Бурбонов, отречению Карла X от престола, на который был возведен герцог Орлеанский Луи Филипп. По новой конституции («Хартия 1830 года») были снижены возрастной и имущественный избирательные цензы.
27* Мари Жозеф Поль Ив Рок Жильбер Мотье де Лафай- ет (1757—1834) — французский военный и политический деятель. Участвовал в американской войне за независимость (1775—1783). На следующий день после взятия Бастилии 14 июля 1789 г. назначен командующим Национальной гвардией. С началом войны 1792 г. во главе одной из армий; после свержения монархии бежал и до 1797 г. находился в плену у австрийцев. При Наполеоне отошел от политической деятельности. После Реставрации один из лидеров оппозиции, с началом Июльской революции 1830 г. вновь назначен командующим Национальной гвардией и способствовал сохранению монархии.
28* Франсуа Венсан Распай (1794—1878) — французский политический деятель республиканского и демократического направления; химик, биолог и журналист. Один из лидеров революции 1848 г. и до 1854 г. находился в заключении, затем эмигрировал. Вернулся во Францию в 1863 г. Член Законодательного корпуса (1869) и Палаты депутатов (1876).
Франсуа Виктор Эммануэль Араго (1812—1896) — французский государственный деятель, адвокат и драматург. Депутат Учредительного и Государственного собраний (1848), посланник в Берлине (1848). Один из непримиримых противников Наполеона III. После восстановления Республики министр юстиции и член правительства (1870). Затем член Национального собрания и сенатор. Как левый республиканец пользовался большим влиянием.
29* Шарль Форб де Трион, граф де Монталамбер (1810— 1870) — французский писатель, оратор и политический деятель. Член Палаты пэров при Луи Филиппе, а после революции 1848 г. лидер католической партии в Учредительном и Законодательном собраниях. Автор нескольких исторических трудов.
304 «/.../ преследования белорусских униатов» — Брестская Уния 1596 г. о слиянии Православной и Католической церквей была поддержана частью духовенства Белоруссии, входившей в состав католической Польши, после раздела которой в 1772 г. Екатерина II проводила политику нестеснения разных вероисповеданий. Преследования униатов начались в царствование Николая I. Был образован секретный комитет по униатским делам (1835), и чтобы сломить сопротивление белорусского духовенства принимались полицейские меры против священников: перевод из одной епархии в другую, лишение приходов, ссылка в великорусские губернии и заключение в монастыри. С 1839 г. в Полоцке епископами и высшим духовенством был подписан «Соборный акт» о воссоединении униатской церкви с Православной. Униаты оставались еще до 1875 г. в некоторых польских губерниях.
31* «Миссия Сиркура в Берлин» — Адольф Мари Пьер де Сиркур (1801—1879), французский дипломат и журналист. В 1835 г. совершил длительное путешествие по Германии и России. С 1837 г. салон Сиркуров был одним из центров интеллектуальной жизни Парижа. Ламартин, возглавив в 1848 г. Министерство иностранных дел, направил Сиркура с конфиденциальными инструкциями в Берлин, чтобы установить тесные отношения с Пруссией и нейтрализовать Австрию и Россию. После революции 1848 г. Сиркур придерживался монархических взглядов. Вел переписку с П.Я.Чаадаевым. «Он знал истории и литературы всех стран, говорил на множестве языков, и не было ни одной хоть сколько-нибудь значительной книги, которую бы он не прочел». (Dictioruiaire de biographie frangaise. Paris, 1959. Т. 8. P. 1320).
32* «Событие 15 мая» — имеется в виду эпизод революции 1848 г. в Париже, когда огромная толпа пыталась разогнать Национальное Собрание и провозгласить временное правительство; одновременно другая толпа овладела ратушей. Однако силами Национальной гвардии мятеж был подавлен.
33* Иозеф Иоахим Гольдман (1782—1852) — польский религиозный деятель. Епископ Сандомирский (с 1834), сохранял лояльное отношение к русскому правительству. Был награжден орденом Станислава 1-й степ. (1842).
344 Ричард Кобден (1804—1865) — английский политический деятель, член Палаты общин, идеолог движения в пользу свободной торговли, пацифист. Отстаивал принципы неограниченной конкуренции. Выступая в 1850 г. на митинге против заема для России на строительство железной дороги Петербург—Москва, он сказал: «Господа капиталисты, подумайте и не забывайте о том, что в семье царя не живут подолгу, и его сын совершенно неспособен к правлению. Поэтому вы кладете свои деньги на вулкан, и рано или поздно они пропадут среди всеобщего разорения, как неизбежного следствия жестокости, деспотизма и угнетения». [«Journal des Debats», 1850, 20 juin).
35* Арман Эдуард Лефевр (1807—1864) — французский дипломат, посланник в Мюнхене и Берлине. Затем на высших должностях в Министерстве иностранных дел. Автор многочисленных исторических и политических статей в журнале «Revue des Deux Mondes».
з6* Сиприен Робер (1807—?) — французский писатель и литературовед, профессор славянских языков и литературы в Коллеж де Франс. Автор трудов Les deux panslavismes (Два панславизма, 1847); Le monde slave, son passe, son etat prdsent, son avenir (Прошлое, настоящее и будущее славянского мира, 1851) и др.
Феликс Ипполит Депрез (1819—1898) — французский писатель и дипломат. Автор описания своих путешествий по Австрии, Венгрии и Румынии. С установлением Второй Империи служил в Министерстве иностранных дел и участвовал в Венской конференции 1855 г., затем был полномочным посланником на Берлинском Конгрессе 1878 г. и посланником в Риме (1880—1882).
37* Ян Коллар (1793—1852) — чешский и словацкий поэт, деятель культуры, священник. Профессор славянской археологии в Венском университете (с 1849). Автор трактата «О литературной взаимности славян» (1836). Содержащиеся в его произведениях идеи патриотизма и единения славянских народов оказали большое влияние на чешское и словацкое общество.
З8* Анджей Товянский (1799—1878) — польский мистик- мессианист. В Польском восстании 1830—1831 гг. не участвовал. Своей миссией считал реализацию слова Божьего на Земле. Приехав в 1840 г. в Париж, исцелил маниакальную жену Мицкевича и своим мистическим учением покорил самого поэта. Пользовался большим влиянием в кругах польской эмиграции. Товянский проповедовал эмансипацию женщин, освобождение крестьян, общинное землевладение, отмену смертной казни; передовыми нациями он считал французов и поляков по их христианскому предназначению. Относительно России переходил от надежды к разочарованию: то в обращении к Николаю I (1844) говорил о ее панславянской роли, то считал ненависть к ней патриотическим долгом каждого поляка. Как богослов, он неоригинален и развивал учение о покаянии и жертве.
Иозеф Вронский (настоящая фамилия Гене, 1778— 1853) — польский мистик и математик. В 1794— 1797 гг. служил офицером в русской армии. Затем десять лет изучал в Германии историю философии и математику. С 1811 г. в Париже занимался научной деятельностью. Основной его идеей являлся мессианизм, согласно которому вести человечество к абсолютной истине призваны славяне. Сам он был горячим приверженцем католичества. В области науки теории Вронского по предсказанию Лагранжа могли произвести коренной переворот. Среди его трудов: Philoso- phie de l'infini (Философия бесконечного, 1814), Proligomenes de messianisme ou le destin de la France, de l'Allemagne et de la Russie (Пролегомены к мессианизму, или судьба Франции, Германии и России, 1843), Philosophie absolue de lhistoire (Абсолютная философия истории, 1852).
39* Пражский конгресс — эпизод борьбы чешского народа за автономию в составе Австрийской империи. Чехи бойкотировали выборы в общегерманский парламент (1848), в связи с чем наместник Чехии граф Тун назначил выборы в чешский Сейм на 17 мая 1848 г., и 2 июня в Праге был созван съезд всех австрийских славян, в котором участвовали также поляки и несколько русских (среди них и Бакунин). Предполагалось обсудить будущую земскую конституцию и положение славян. Однако 12—16 июня в Праге произошло спровоцированное радикалами восстание, которое было подавлено, а созыв национального Сейма отменен и народный комитет распущен.
404 Николай Иванович Сазонов (1815—1862) — публицист и эмигрант. Член кружка А И. Герцена, после разгрома которого уехал за границу, где сотрудничал в журналах и газетах. С 1855 г. один из редакторов библиографического журнала «L Athinium Francais». Автор анонимного памфлета «Правда об императоре Николае. Интимная история его жизни и царствования, написанная русским» (1854). К концу жизни Сазонов отошел от революционного движения.
Иван Гаврилович Головин (1816—1890) — публи- цист-эмигрант. Служил в Министерстве иностранных дел, но вскоре уехал за границу и перешел в английское подданство (1845). Известен многочисленными сочинениями о России на французском и немецком языках: La Russie sous Nicolas I (Россия при Николае I, 1845), Histoire d'Alexandre 1-е) (История Александра 1-го, 1859), Alexandre II et la Pologne (Александр II и Польша, 1863). Автор брошюры Discours sur Pierre le Grand. Refutation du livre de M. de Custine «La Russie en 1839» (Речь о Петре Великом. Опровержение книги г-на де Кюстина «Россия в 1839 году, 1844).
41* «Неудача революций /.../» — имеется в виду поражение революций 1848—1849 гг. в Австрии, Германии и Италии, подавленных вооруженной силой, также и русскими войсками в Венгрии (1849).
42* Отношение Виктора Гюго к России отражено в одном из его стихотворений (1853):
О, русские! Народ, бредущий в тундре снежной,
В Санкт-Петербурге — раб, раб в тундре безнадежной;
Сам полюс для него стал черною тюрьмой!
Россия и Сибирь, — о, царь! Тиран кровавый!
Два края скорбные чудовищной державы:
Один — Насилие, Отчаянье — другой!
[Гюго В. Избранные произведения. М., 1928. С. 61.)
43* Опост Ромье (1800—1855) — французский писатель и публицист, автор водевилей и антиреспубликанских памфлетов.
44* Жан Шарль Кердеруа (1825—1862) — французский политический деятель-социалист, с 1849 г. находился в эмиграции. Автор книги Hurrah! ои la rivolution par les cosaques (Ура!!! или революция, принесенная казаками, 1854, 1977), в которой утверждалось, что Запад находится в состоянии вырождения, и его может спасти только социализм, пришедший от славян. Под конец жизни Кердеруа страдал душевным расстройством.
45* Бруно Бауер (1809—1882) — немецкий философ-гегельянец. Историк XVIII и XIX веков. России посвящены его публицистические брошюры: De la dictature occi- dentale (О западной диктатуре, 1855), La Russie et la germanisme (Россия и германизм», 1847), La situation actuelle de la Russie (Современное положение России, 1855), L'Allemagne et la Russie (Германия и Россия, 1855), La Russie et l'Angleterre (Россия и Англия, 1855). Бауер пессимистически смотрел на будущее германской культуры и видел в России страну грядущей цивилизации.
46* Шарль де Рибейроль (1812—1861) — французский публицист, при Луи Филиппе сотрудничал в оппозиционных изданиях. С 1849 г. в эмиграции. Жил на о-ве Джерси и редактировал еженедельную газету «L'Homme».
47* Виктор Эфимион Филарет Шаль (1798—1873) — французский исторический писатель и литературный критик, профессор Коллеж де Франс. Автор книги La psy- chologie sociale des nouveaux peuples (Социальная психология новых народов, 1875).
48* Реке Гаспар Эрнест Сен-Рене Тайландье (1817— 1879) — французский литератор, журналист, член Академии. Профессор литературы в Университете Монпе- лье (1843—1846), затем профессор Сорбонны. Занимался изучением русской литературы, ему принадлежат, в частности, следующие труды: Allemagne et Russie, etudes historiques et littiraires (Германия и Россия, исторические и литературные этюды, 1856) и Poete du Caucase ои la Vie et les oeuvres de Michel Lermontoff (Поэт Кавказа или жизнь и труды Михаила Лермонтова, 1856).
49* Габриэль Дезире Лавердан — неустановленное лицо.
504 Леон Фоте (1803—1854) — французский государственный и политический деятель, журналист. Член Палаты депутатов (1846) и Учредительного собрания (1848), где поддерживал Луи Наполеона. Министр внутренних дел (1848—1849). Затем член Законодательного собрания.
51* «/.../ несчастные польские события 1863 г. /.../» — имеется в виду национально-освободительное восстание 1863—1864 гг., охватившее Королевство Польское, Литву, а также частично Белоруссию и Правобережную Украину. В подавлении восстания Россию поддерживала Пруссия, с которой была заключена конвенция о сотрудничестве против повстанцев. Враждебную России позицию заняли Англия, Франция и Австрия, что, впрочем, ограничилось только дипломатическими протестами, и лишенное поддержки восстание заглохло. Уже осенью 1863 г. польский вопрос более чем на пятьдесят лет исчез с международной арены.
52* «/.../ драгоценнейший для французов союз /.../» — речь идет о русско-французском соглашении 1892 г., предусматривавшем вступление России в войну при нападении Германии на Францию.
БИБЛИОГРАФИЯ
Кеннан Дж.Ф. Маркиз де Кюстин: путь в Россию // Новый журнал. 2002. № 4. С. 143—170.
Кийко Е.Е. Белинский и Достоевский о книге Кюстина «Россия в 1839 году» // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1974. Т. 1.
Кюстин А. де. Николаевская эпоха. Воспоминания французского путешественника — маркиза де Кюстина. М.г 1910.
Кюстин А де. Николаевская Россия. М., 1930.
Кюстин А де. Россия в 1839 году: В 2 т. М., 2000.
Струве Г. Русский европеец. Сан-Франциско, 1950.
Bardoux ВJ.A. Madame de Custine, d'aprds des documents in6dits. Paris, 1888.
Bonnerot J. Sainte-Beuve et le marquis de Custine // Mercure de France. 1958. Sept.
Cadot M. L'image de la Russie dans la vie intellec- tuelle frangaise. 1839—1856. Paris, 1967.
Chaudes-Aigue J. Compte rendu de La Russie en 1839 // Revue de Paris. 1843. Vol. 24. Serie 4.
Chedieu de Roberton E. Chateaubriand et Madame de Custine. Paris, 1893.
Custine A Lettres к Vamhagen d'Ense et Rachel Vamgagen d'Ense. Bruxelles, 1870.
Custine A. Lettres in^dites к marquis de La Grange. Paris, 1925.
Didier B. Voyage et autobiographie dans «La Russie en 1839» // Omaggio a Custine. Palermo, 1992.
Dumaine A Le marquis de Custine et la Russie // Revue de Paris. 1922. 1-er f6vr. P. 476—502.
Fleury S. Custine et Madame Rfcamier // Revue des Etudes Historiques. 1929. Janv.—mars.
Gassouin O. Le Marquis de Custine ou le Courage d'etre soi-meme. Paris, 1987.
Gretch N. Examen de l'ouvrage de M. le marquis de Custine intitule La Russie en 1839. Traduit du russe par Alexandre Kouznetzoff. Paris, 1844.
Grimm W. Marquis von Gustine und seine Werk Russland in Jahre 1839. Eine critische Beleuchtung /.../. Leipzig, 1844.
Grudzinska Gross I. The Scar of Revolution. Custine, Tocqueville and the Romantic Imaginations. Berkeley; Los Angeles, Oxford, 1991.
Hopper B. Custine and Russia — a Centuiy after. A Review Essay // American Historical Review. 1952. Vol. 57. Jan. P. 384—392.
Hubmann J. Ein Blick auf Russland, das wirkliche, und Russland des Marquis Custine in Jahre 1839. Dresden—Leipzig (s.a.).
Iermolov MA Encore quelques mots sur l'ouvrage de M. de Custine La Russie en 1839, par*". Paris, 1843.
Jercke K.E. Custine und seine russischer Kritiker. «Historisch-politische Blatter fur katolische Deutschland», 1843. Т. XII. P. 486—504; 1844. Т. XIII. P. 746—771.
Labinski Fr. Xav. A Russian Reply to the Marquis de Custine's Russia in 1839. London, 1844.
Labinski Fr. Xav. Ein Wort uber Marquis de Custine's «Russlend in Jahre 1839», von einem Russen. Berlin, 1844.
Labinski Fr. Xav. Un mot sur l'ouvrage de M. le marquis de Custine intitule «La Russie en 1839», par un Russe. Paris, 1843. 2me 6d. 1845.
Lednicki W. Chaadaev, Mickiewicz, Pushkin, Lermon- tov and Custine // Lednicki W. Russia, Poland and the West. Essay in Literary and Cultural History. New York, 1953. P. 21—104.
Legras J. «La Russie de 1839» du marquis de Custine // Monde Slave. 1932. Mai. P. 187—200.
L6vis-Mirepoix Е. Correspondance de la Marquise de Montcalm. Paris, 1949.
Liechtehan Fr.D. Astolphe de Custine, voyageur et philosophe. Paris, 1990.
Lupp6 A, Astolphe de Custine. Monaco, 1957. Marquis de Custine, Souvenirs et portraits. Textes choisis et presentes par Pierre de Lacretelle. Monaco,
Milnes R.M. 1. La Russie en 1839. Par le Maiquis de Custine; 2. Un Mot sur l'ouvrage de M. de Custine, intitule «La Russie en 1839». Par Un Russe; 3. Encore quelques Mots sur l'ouvrage de M. de Custine, «La Russie en 1839». Par M"\ Edinburgh Review. 1844. April. № 160. P. 351—395.
Muhlstein A Astolphe de Custine. 1790—1857. Paris, 1996.
Oubril S.P. A propos de La Russie en 1839 par M. de Custine // Democratie pacifique. 1843. 17 et 18 dec.
Pelletan E. Compte rendu de La Russie en 1839 // La Presse. 1843, 12 d€c.
Rubino A.M. Alia Ricerca di Astolphe de Custine. Roma, 1968.
Saint-Beuve C.A Jugement en dix lignes sur La Russie en 1839, «Revue Suisse» et «Chroniques parisiennes» (3 juin 1843). Paris, 1876. P. 62.
Saint-Marc Girardin. Compte rendu de La Russie en 1839 // Journal des D6bats. 1844. 4 janv. et 24 mars.
Tarn J.F. Le Marquis de Custine ou les Malheurs de 1'exactitude. Paris, 1985.
Tissot L. Custine et la Russie // Pensee frangaise.
Nov.
Yakovlef J. La Russie en 1839 iev6e par M. de Custine, ou lettres sur cet ouvrage 6crites de Francfort. Paris, 1844. Traduction allemagne. Leipzig, 1844.
Джордж Фросг Кеннан родился в 1904 г., после окончания Принсгонского университета служил в Государственном департаменте. Был направлен в Германию, где изучал русский язык, историю и культуру (1929—1931). Затем занимал должность третьего секретаря американского посольства в Москве (1933—1938), откуда его перевели сначала в Прагу, а затем в Берлин, и он находился там до 1942 года. С 1944-го и до 1946 г. Кеннан был советником посольства в СССР. Его докладная записка о послевоенной политике, где впервые выдвигалась доктрина сдерживания и противодействия коммунистической экспансии, доставила ему место директора отдела планирования Государственного департамента, а в 1952 г. — пост посланника в Москве, но он не получил аккредитации со стороны советского правительства. После отставки работал в Институте высших исследований Принсгонского университета. За книги «Россия выходит из войны» (1956) и «Мемуары» получил Пулитцеровские премии.
Несомненно, что в формировании антисоветских взглядов Кеннана немалую роль сыграл труд де Кюстина, и он был убежден, что советские руководители развивают во многих отношениях наследие Российской Империи, но в еще худшем варианте. Поэтому пока существует сталинский режим, все переговоры с ними бесполезны. Таким образом, «Россия в 1839 году» оказалась среди тех редких книг, которые, хотя и косвенно, но все же повлияли на ход истории.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Август (Augustus), Гай Юлий Цезарь Октави- ан — 177 Адан (Adam), Жюльетта — 105
Александр /, император — 36, 40, 48, 50, 54, 57, 69, 70, 179, 205, 212, 221 Александр Николаевич, вел. кн., впоследствии император Александр II — 30, 35, 36, 161, 207, 208, 211, 219, 221
Александр, принц Оранский — 170 Александра Федоровна, императрица — 30, 60, 61, 62, 73, 81, 161 Альфиери (Alfieri), Витто-
рио — 151, 204, 205 Амио (Amyot), Фердинанд —
6, 17, 97, 100 д'Андре (d'AndrS J.) — 159, 160, 210 Ансело (Ancelot), Жак Арсен
Франсуа Поликарп — 13 Ансело (Ancelot), Маргарита Луиза Виржини Шар- дон — 13 Антонио, слуга А. де Кюстина — см. Ботти, Антонио. Аполлинарий Лаодикей-
ский — 196 Араго (Агадо), Франсуа Виктор Эммануэль — 164, 217
Ариосто (Ariosto), Лудови-
ко — 173 д'Арлинкур (d'Arlincourt), Шарль Виктор Прево —
209
Багратион, Екатерина Павловна — 206 Байрон (Byron), Джордж
Гордон Ноэль — 17 Бакунин, Михаил Александрович — 155, 157, 165, 169, 220
Бальзак (Balzac), Оноре — 15, 21, 22, 32, 50, 99, 157,
160, 161, 177, 178, 190, 208, 214
Барант (Barante), Амабль Гийом Проспер Брю- жьер — 60, 78, 159, 160, 187, 202, 210 Барант (Barante), Эрнест — 210
Барду (Bardoux), Бенжамен Жозеф Ажено — 173, 224 Барсуков, Николай Платон о-
вич — 183, 200 Бауер (Bauer), Бруно — 167, 221, 222 Беделл-Смит (Bedell-Smith),
Уолтер — 6 Бейль (Beyle), Анри Мари —
см. Стендаль. Белинский, Виссарион Григорьевич — 168, 224 Белов, М.Д — 185
Беллюстин, Иоанн Степанович — 199, 200 Беранже (Вёгапдег), Пьер
Жан — 142, 198, 199 Бердяев, Николай Александрович — 162 Берлин (Berlin), Исайя — 31 Берье (Вепуег), Пьер Анту-
ан — 143, 199 Богарне (Beauharnais), Александр — 186 Богарне, Евгений — см. Лейхтенбергский, герцог, Евгений Богарне (Beauharnais), Максимилиан Евгений Жозеф Наполеон — см. Лейхтенбергский, герцог, Максимилиан Евгений Жозеф Наполеон Бодлер (Baudelaire), Шарль
Пьер — 15 Бонапарт(Bonaparte),
Жером — 209 Боннеро (Bonnerot), Жан — 224
Ботти (Botti), Антонио — 35, 64
Бредфильд(Bradfield),
Генри — 103 Брежнев, Леонид Ильич — 122
Бреза (Breza), Евгений — 31 Брессон (Bresson), Шарль —
23, 74, 178 Булгаков, Александр Яковлевич — 37, 42, 57, 65, 69, 70, 72, 104, ИЗ, 114, 193 Булгаков, Константин Яковлевич — 42 Булгаковы — 37, 52, 190, 191, 195
Бурбоны (Bourbons) — 49, 197, 198, 202, 216
Бургундские, герцоги — 210 Бурдье (Burdier), Рауль —
Бутурлин, М.П., нижегородский губернатор — 70 Бутурлины — 70
Валуа (Valois), династия —
Варнгаген (Фарнгаген) фон Энзе (Vamhagen von Ense), Август (Карл Август) — 11, 26, 27, 39, 98, 173, 174, 192, 194, 224 Варнгаген (Фарнгаген) фон Энзе (Varnhagen von Ense), Рахель — 11, 39, 52, 173, 174, 194, 224 Васильчиков, адъютант имп.
Николая I — 137 Вейе (Weyer), французский консул в Москве (1839) — 187
Берне (Vemet), Карль (Анту-
ан Шарль Орас) — 202 Верне (Vemet), Клод
Жозеф — 202 Верне (Vemet), Эмиль Жан Орас — 150, 151, 202—204 Верне (Vernet), жена
предыдущего — 203 Виардо (Viardot), Луи — 164, 216
Виардо (Viardot), Полина — 216
Виктория Александрина, королева Англии — 196 Виллель (Vlllele), Жан Батист — 212 Вильгельм I Завоеватель, король Англии — 14 Вильям, неустановленное
лицо — 206 Виноградов, Игорь — 117
Виишик (Wishnick, Е.) — 189 Вронский (Гене Вронский, Hoene Wronski), Иозеф — 165, 220 Вяземская, Вера Федоровна — 39 Вяземские — 181, 183, 185,
191, 195 Вяземский, Павел Петрович — 153 Вяземский, Петр Андреевич — 37, 39, 40—42, 44, 51, 52, 57, 63, 64, 70, 72, 80, 107—109, 113—115, 116, 121, 127, 131, 160, 183— 185, 187, 191, 212, 216
Гагерн (Gagem), Фридрих — 170
Гакстгаузен (Haxthausen),
Август — 157, 207 Ганская (Hanska), Эвелина — 22, 23, 32, 177, 178, 208
Ганские (Hanski) — 208 Ганский (Hanski), Вацлав — 178
Гарденберг (Hardenberg),
Карл Август — 174 Гассуен (Gassouin), Оливье — 225 Гейне (Heine), Генрих
(Гарри) — 11, 16, 31, 174 Генц (Gentz), Фридрих — 174
Герберштейн (Herberstein), Сигизмунд (Зигмунд) — 87, 189
Гердер (Herder), Иоганн
Гстфрид — 176 Герцен, Александр Иванович — 5, 57, 155, 161, 163, 166—168, 207, 220
Гершензон, Михаил Осипович — 44, 65, 182 Гёте (Goethe), Иоганн
Вольфганг — 174, 176 Гизо (Guizot), Франсуа Пьер
Гийом — 206 Говард (Howard), хозяйка
трактира в Москве — 64 Гоголь, Николай Васильевич — 163, 164, 216 Головин, Евгений Александрович — 182 Головин, Иван Гаврилович — 166, 221 Гольдман (Goldmann), Иозеф
Иоахим — 165, 218 Гончаров, Иван Александрович — 163 Гракх (Gracchus), Гай — 201 Греч, Николай Иванович — 53, 54, 100—102, 104, 107, 156, 160, 183, 225 Грибоедов, Александр Сергеевич — 43 Гримм (Grimm), Вильгельм — 225 Гроссман, Леонид Петрович — 177, 190, 208 Грудзинская Гросс (Grudzin-
ska Gross), Ирена — 225 Гумбольдт (Humboldt), Александр и Вильгельм — 174 Гуровская (Gurowska), Изабелла — 29, 73 Гуровский (Gurowski), Адам —
28, 30, 165, 178, 179 Гуровский (Gurowski), Владислав — 30 Гуровский (Gurowski), Игна- ций — 28—31, 35, 62, 73, 78
Гэй (Gay), Дельфина — 175 Гэй (Gay), Жан Сигизмон — 173
Гэй (Gay), Изаура — 175 Гэй (Gay), Софи — 15, 16, 175
Гэй (Gay), Элиза — 175 Гюго (Hugo), Виктор — 15, 161, 166, 221
Дайо (Dayot), Арман — 202 Дежерандо (Degdrando),
Жозеф Мари — 206 Делиль (Delille), Жак — 149, 201
Демидов Сан-Донато, Анатолий Николаевич — 159, 209, 210 Демидова Сан-Донато, Матильда Легация Вильгель- мина — 158, 159, 209, 210 Демидовы — 210 Депрез (Desprez), Феликс
Ипполит — 165, 166, 219 Дидро (Diderot), Дени — 216 Дидье (Didier), Беатрис — 224
Дино (Dino), Доротея — 178 Долгоруков, Петр Владимирович — 113, 194 Достоевский, Федор Михайлович — 120, 162, 224 Дюмэн (Dumaine), Альфред — 224 Дюрок (Duroc), Мишель, герцог Фриульский — 175
Екатерина I, императрица — 194 Екатерина II, императрица — 54, 204, 217 Елена Павловна, вел. кн., принцесса Мекленбург- Шверинская — 286 Елена Павловна, вел. кн., жена вел. кн. Михаила Павловича — 61, 98, 286
Ермолов, Михаил Александрович — 109, 114, 225
Жанлис (Genlis), Мадлен Фелисите Дюкре де Сен- Обен — 174 Жарден (Jardin), Андре — 206
Жирарден (Girardin), Эмиль —
104, 105 Жозефина Мария Роза, императрица Франции — 60 Жуковский, Василий Андреевич — 107, 108, 183, 184, 185, 206
Иван III, царь — 196 Иван VI, царь — 62, 212 Игнатович, Инна Ивановна — 187 Йерке (Jercke К.Е.) — 225 Изабелла, инфанта — см. Туровская, Изабелла. Иисус Христос — 196
Кадо (Cadot), Мишель — 7, 8, 52, 65, 100, 107, 108, 110, 142, 149, 153, 155, 172, 187, 190, 191, 195, 201, 205, 224 Калас (Calas), Жан — 201 Каподистрия (Kapodistrias),
Иоаннис — 206 Карамзин, Николай Михайлович — 162 Карл I, наследный принц и король Вюртемберг- ский — 186 Карл X, король Франции — 216
Катон Старший (Цензор), (Marcus Procius Cato Major) — 132 Кердеруа (Coeurderoy), Жан Шарль — 167, 221
Кийко, ЕЕ. — 224 Кине (Quinet), Эдгар — 180 Ключевский, Василий Осипович — 206 Кобден (Cobden), Ричард —
165, 218 Козловский, Петр Борисович — 45, 48—52, 54, 58, 63, 66, 71, 72, 79, 83, 84, 89, 90, 98, 116, 160, 182, 188, 189, 193, 224 Колер (КоЫег), Филлис
Пени — 6 Колер (Kohler), Фой — 6 Коллар (Collar), Ян — 165, 219
Колумб (Columbus, Colombo, Colon), Христофор — 152 Констан де Ребек (Constant de Rebfcque), Бенжамен Анри — 176 Константин Павлович, вел.
кн. — 40 Конт (Comte), Опост — 166 Косыгин, Алексей Николаевич — 122 Коцебу (Kotzebue), Август Фридрих Фердинанд — 186, 187 Кропоткин, Петр Алексеевич — 163 Крылов, Иван Андреевич —
163, 168, 209 Кузен (Cousin), Виктор — 206
Кузнецов, Александр — 225 Кюсси (Cussy), Фердинанд?) — 170 Кюстин (Custine), Адам Филипп — 9, 74, 186 Кюстин (Custine), Арман — 9, 13
Кюстин (Custine), Гасгон — 10
Кюстин (Custine), Дельфина (Луиза Элеонора Мари Дельфина) — 9—11, 19, 26, 61, 173, 175, 186, 224 Кюстин (Custine), Леонти-
на— 11, 12, 14 Кюстин (Custine), Энгер-
ран —11, 12 Юостины, семейство — 9
Лабенский, Ксаверий Ксаве- рьевич — 100, 102—104, 109, 110, 225 Лавердан (Laverdant), Габриель Дезире — 167, 222 Лагранж (Lagrange), Жозеф
Луи — 220 Лагранж (de la Grange), Эдуард — 172, 224 Лакретель(Lacretelle),
Пьер — 7, 12, 172, 178, 225 Лакруа (Lacroix), Поль —
159, 198, 211 Ламартин (Lamartine), Альфонс Мари Луи — 149, 164, 192, 201, 218 Ланьи (de Lagny), Жер-
мен — 159, 211 Лафайет (La Fayette), Мари Жозеф Поль Ив Рок Жильбер Мотье — 164, 217
Лафатер (Lavater), Иоганн
Каспар — 135, 197 Ла Ферроне (La Ferronnays), Пьер Луи Опост Фер- рон — 160 Лафонтен (La Fontain),
Жан — 133 Левек (Levesque), Пьер
Шарль — 162, 216 Левик, Вильгельм Вениаминович — 180, 183
Леви-Мерипуа (Levis-Meri- poix), Эммануэль — 175, 226
Левин-Маркус (Levine-Mar- cus), отец Рахели Варнгаген фон Энзе — 174 Левин-Маркус (Levine-Marcus), сыновья предыдущего — 174 Левшин, Алексей Ираклиевич — 216 Легра (Legras), Жюль — 225 Ледницкий (Lednicki), Вацлав — 32, 51, 179, 225 Ледрю-Раллен (Ledru-Rollin), Александр Опост — 143, 199
Лейхтенбергский, герцог,
Евгений — 186 Лейхтенбергский, герцог, Максимилиан Евгений Жозеф Наполеон — 60, 61, 186
Лемке, Михаил Константинович — 190 Лемос (Lemos), Генриетта — 174
Ленорман (Lenormant), Мари Анна Аделаида — 131, 132 Ле Пле (Le Play), Фредерик — 157, 207 Лермонтов, Михаил Юрьевич — 17, 163, 210, 222, 225
Леруа-Болье (Leroy-Beaulieu), Анатоль Анри Жан Батист — 157, 208 Леузон-Ледюк (Leouzon- Leduc), Луи Антуан — 211 Лефевр (Lefebvre), Арман
Эдуард — 165, 219 Ливен, Дарья (Доротея) Христофо ровна — 206
Линкольн (Lincoln), Авраам — 29 де Линь (de Ligne), Шарль
Жозеф — 174 Лихтеан (Liechtehan), Фран-
сина Доминика — 226 Лорентович (Lorentowicz),
Ян — 180 Луи Филипп (Людовик Филипп), король Франции — 75, 86, 134, 156, 158, 159, 198, 199, 216, 217, 222 Людвиг Фердинанд, принц
Прусский — 174 Людовик XIV, король Франции — 148, 161 Людовик XVI, король Франции — 49 Людовик XVIII, король
Франции — 80, 197, 212 Людовик Филипп — см. Луи
Филипп Люппе (Luppe), Альбер — 7, 16, 30, 172, 226
Макферсон (Macpherson),
Джеймс — 176 Мария Николаевна, вел.
кн. —^186 Маркс (Магх), Карл — 155,
165, 207 Мармье (Marmier), Ксавье —
41, 158, 209 Марчисон (Мурчисон) (Миг- chison), Родерик Импи — 110, 192 Матильда Летиция Виль- гельмина — см. Демидова Сан-Донато, Матильда Летиция Вильгельмина. Мендельсон (Mendelssohn),
Доротея — 174 Мережковский, Дмитрий Сергеевич — 162
Мериме (Мёпшёе), Про-
спер — 163, 166, 216 ge Местр (de Maistre),
Жозеф — 48, 206 Меттерних-Виннебург (Met- temich-Winneburg), Кле- менс Венцель Лотарь — 48, 174
Мещерская, Е., хозяйка салона в Париже — 212 Мещерский, Элим Петрович — 160, 212 Милне (Milnes), Ричард Монктон — 109, 110, 191, 192, 226 Милюков, Павел Николаевич — 196 Милютин, Николай Алексеевич — 208 Михаил Павлович, вел.
кн. — 161, 186 Мицкевич (Mickiewicz), Адам — 32—34, 41, 55—58, 163, 165, 166, 179, 180, 183, 219, 225 Мицкевич (Mickiewicz), Целина — 219 Мишле (Michelet), Жюль — 161, 166, 167, 169, 180, 205, 215
Мольер (МоИёге), Жан Батист Поклен — 148 Монкалш (Montcalm), маркиза — 12, 175, 226 Монталамбер (Montalam- bert), Шарль Форб де Трион — 164, 217 Монтескье (Montesquieu), Шарль Луи де Секонда, барон де ла Бред — 27, 133, 148, 171 Монтион (Montyon), Антуан Оже — 137, 198
Мордовцев,Даниил
Лукич — 206
Мэкензи Уоллес — см. Уоллес Дональд Мэкензи.
Мюльстейн (Muhlstein), Анка — 174, 226
Наполеон I, император Франции — 161, 173, 175, 186, 202, 205, 209, 213, 217
Наполеон III (Луи Наполеон), император Франции — 167, 168, 180, 201, 217, 222
Нарышкин, историк — 212
Нессельроде, Карл Васильевич (Карл Роберт) — 106
Николай I, император — 5, 23, 30, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 54, 60—62, 67, 73, 76— 79, 81, 82, 85, 106, 107, 117, 118, 127, 137, 161, 166, 170, 178, 183, 186, 195, 198, 202—204, 210, 211, 213— 215, 217, 219—221
Николай II, император — 127
Нуазевиль (Noiseville), гувернантка в доме ярославского губернатора КМ.Пол- торацкого — 69, 187
Одоевский, Владимир Федорович — 39, 41, 57, 63, 64, 70
Оже (Auger, Аидё), Ипполит Никола Жюст — 41, 160, 212
Ольга Николаевна, вел. княжна — 60, 186
Ольденбургская, герцогиня, Терезия Вильгельмина Фридерика Изабелла Шарлотта — 61, 186
Ольденбургские, герцоги — 186
Оммер де Гель (Hommaire de Hell), Жанна Луиза Аделаида — 159, 210 Оммер де Гель (Hommaire de Hell), Игнас Ксавье Моран — 159, 210 Оссиан (Ossian) — 176 Островский, Александр Николаевич — 163 Островский (Ostrowski), Христиан — 32, 33
Павел I, император — 161 Парфенов (Parfenov), Мишель — 179, 187, 204 Паскевич, Иван Федорович — 49, 51, 71, 182 Пеллетан(Pelletan),
Эжен — 190, 226 Перне (Pemet), Луи — 70, 187
Перье-Лагранж (Perier-La-
grange), Полина — 213 Петр I Великий, император — 33, 56, 114, 144, 161, 194, 213, 216, 221 Петр II, император — 195 Петр III, император — 204 Погодин, Михаил Петрович — 183, 200 Полторацкая, Софья Борисовна — 69 Полторацкий, Константин
Маркович — 69 Попов, Евгений Иванович — 197
Прудон (Proudhon), Пьер
Жозеф — 155, 166 Пушкин, Александр Сергеевич — 17, 39, 40, 41, 49, 54—57, 118, 163, 182—185, 205, 209, 216, 225
Радолинская (Radolinska),
Жозефина —32, 179 Радолинский (Radolinski),
Владислав — 179 Разумовская, Генриетта — 206
Разумовский, Григорий Кириллович — 206 Расин (Racine), Жан — 148 Распай (Raspail), Франсуа
Венсан — 164, 217 Рашель (Rachel), Элизабет
Рашель Феликс — 29 Рекамье (Recamier), Жюли Бернар — 15, 26, 39, 41, 78, 175, 190, 225 Ремюза (Remusat), Жан Пьер
Абель — 206 Рибейроль (Ribeyrolles),
Шарль — 167, 222 Ривароль (Rivarol), Антуан —
149, 201 Робер (Robert), Сиприен —
£19
Ройе-Коллар (Royer-Collar),
Антуан Атанас — 206 Ромье (Romieu), Опост —
221
Pop (Rbhr), Жан Жофф-
руа — 159, 211 Росси, Карл Иванович — 186
Рубино (Rubino), Анна Мария — 188, 226
Сазонов, Николай Иванович — 166, 169, 212 Саймоне (Simmons), Джон — 50, 182
Салтыков-Щедрин, Михаил
Евграфович — 163 Самарин, Юрий Федорович — 168 Санд (Sand), Жорж — 15, 31
Свербеев, Дмитрий Николаевич — 44, 65, 160 Свербеева, Екатерина Александровна — 39, 44, 65 Свечина, Софья Петровна — 206, 212 Сен-Жюльен (Saint-Julien),
Шарль — 158, 209 Сен-Ламбер (Saint-Lambert),
Жан Франсуа — 149, 201 Сен-Марк-Жирарден (Saint- Marc-Girardin), (наст, имя Марк Жирарден) — 106, 107, 132, 134, 135, 138— 144, 148, 150, 159, 160, 166, 197, 226 Сен-Рене Тайландье (Saint- Rene Taillandier), Рене Гас- пар Эрнест — 167, 222 Сен-Симон (Saint-Simon),
Клод Анри — 212 Сенш-Барб (St.Barbe), Эдуард — 14, 18 Сент-Бев (Saint-Beuve), Шарль Опостен — 224, 226
Сиркур (Circourt), Адольф
Мари Пьер — 164, 218 Сиркур (Circourt), Анастасия Семеновна — 206, 207, 212
Сиркуры (Circourts) — 218 Скотт (Scott), Вальтер — 17 Соллогуб, Владимир Александрович — 209 Соловьев, Владимир Сергеевич — 162, 213 Соловьев, Сергей Михайлович — 207 Сталин (Джугашвили), Иосиф Виссарионович — 122, 128 де Сталь-Гольштейн (de Stael-Holstein), Анна Луиза
Жермена — 10, 151, 173, 174, 205 Стендаль (Stendhal) — 15,
161, 212—214 Струве, Глеб Петрович —
50—52, 224 Qo (Sue), Эжен — 133, 197
Талейран-Перигор (Tal- leyrand-Perigord), Шарль Морис — 178 Тарле, Евгений Викторович — 167 Тарн (Тат), Жюльен Фредерик — 204, 226 Тацит (Publius Cornelius Tacitus), Публий Корнелий — 133 Тиссо (Tissot), Луи — 226 Товянский (Towianski), Анд-
жей — 165, 219 Токвиль (Tocqueville), Алексис Шарль Анри К\ере — 6, 7, 23—28, 75—77, 81, 94, 159, 166, 170—172, 178, 192, 206, 225 Толстой, Лев Николаевич —
121, 162, 163 Толстой, Яков Николаевич — 100—104, 156, 190 Трачевский, Александр Семенович — 205 Тун -Гогенштейн (Thun-Ho- henstein), Леопольд Лео — 220
Тургенев, Александр Иванович — 36—43, 52, 54, 57, 63, 64, 66—70, 72, 101, 104, 107, 113—116, 121, 160, 183, 185, 190, 195, 206 Тургенев, Иван Петрович — 36
Тургенев, Иван Сергеевич — 36, 121, 163, 164, 182, 216
Тургенев, Николай Иванович — 38, 52, 206 Тургенев, Сергей Иванович — 206 Тургеневы — 37 Тьер (Thiers), Луи Адольф —
148, 166, 201, 202 Тьерри (Thierry), Опостен — 206
Тютчев, Федор Иванович — 57, 183
Убри, Сергей Петрович — 226
Уваров, Сергей Семенович — 118, 196 Уитмен (Whitman), Уолт — 179
Уоллес (Wallace), Дональд Мэкензи — 157, 207, 208
Фарнгаген фон Энзе, Август — см. Варнгаген фон Энзе.
Фердинанд VII, король Испании — 20, 23, 176, 177 Феррон де Ла Ферронье (Ferronne de La Fer- roniere), Пьер Луи Опост — 211, 212 Фет, Афанасий Афанасьевич — 182 Филофей, монах — 196 Фингал (Fingal), Фин Мак-
Куммал — 176 Флери (Fleury), Серж — 190, 225
Фоте (Faucher), Леон —
167, 222 Фредерике, Петр, барон,
шталмейстер — 30 Фредерике, Сесилия Владиславовна — 30, 62, 73
Фридрих Вильгельм III, король Пруссии — 30
Хеннингсен (Henningsen), Чарльз Фредерик — 159, 211 Хитрово, Елизавета Михайловна — 185 Хмельницкий, Богдан (Зиновий) Михайлович — 216 Хомяков, Алексей Степанович — 168, 197, 198, 215
Хоппер (Hopper, В.) — 225 Христина (Мария Христина), королева Испании — 29
Христос — см. Иисус Христос
Хубманн (Hubmann J.) — 225
Чаадаев, Петр Яковлевич — 39, 40, 42—44, 51, 57, 65, 66, Щ 161, 182, 212, 215, 218, 35 Чарторыйская (Czartoryska),
Анна — 31 Чарторыйский (Czartorysky), Адам {Орий — 31, 165, 179 Ченчи (Cenci), Беатриса — 177
Чернышев, Александр Иванович — 62 Чернышевский, Николай Гаврилович — 163, 207
Шаль (Chasles), Виктор Эфи- мион Филарет — 167, 222 Шамфор (Chamfort), Никола Себастьен Рок — 149, 201 Шарьер (Charriere), Эрнест — 163, 165, 216 Шатобриан (Chateaubriand), Альфонс — 10, 26, 39, 159, 166, 173
Шедье де Робетон (Chddieu de Robethon), Пьер Жюль Эмиль — 173 Шеиье (Ch6nier), Жозеф
Мари — 149, 201 Шильдер, Николай Карлович — 6, 170 Шоде-Эпо (Chaudes-Aigues), Жак Жермен — 105, 106, 108, 224 Шопен (Chopin), Фредерик — 15, 31
Шталь (Stahl), капитан парохода — 137
Щербатов, автор биографии «Генерал-фельдмаршал
кн. Паскевич», СПб., 1888—1894 — 49, 182 Щербатова, Елизавета Дмитриевна — 65
Эббот (Abbot J.), Дж. — 210 Эрастус (Erastus), Томас — 192
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 5
Человек 9
Зачем нужно ехать в Россию?20
Путь в Россию35
Кюстин в России59
Книга73
Отклики97
Маркиз де Кюстин: Ретроспектива117
Приложение I131
Приложение II 155
Примечания170
Библиография 224
Об авторе 227
Указатель имен228
Кеннан Дж. Ф.
МАРКИЗ ДЕ КЮСТИН И ЕГО «РОССИЯ В 1839 ГОДУ»
Художественное оформление А К. Сорокин Технический редактор В.А Юрченко
АР № 066009 от 2107.1998. Подписано в печать 17.05.2005. Формат 84x108'/52. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Усл. печ. л 12,60. Уч.-изд. л 13,2.
Издательство «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
117393, Москва, Профсоюзная ул., д. 82.
Тел. 334-81-87 (дирекция) Тел/Факс 334-82-42 (отдел реализации).
Тираж 1500 экз. Заказ № 1168
Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП РМЭ «Марийский полиграфическо-издательский комбинат», 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 112
а «Русская Старина», 1891. Т. LXIX. Статья Н.К.Шиледе-
а L'esclave — раб {франц.).
письмо к Софи Гэй после успеха «России в 1839 году»: «У меня только одна амбиция в жизни — найти себе место
среди достойных писателей нашего времени и почитаться ими за равного». (Astolphe de Custine. P. 236).
а Une douce maniere passer la vie — приятный способ вре
зультатах»9 {франц.). Здесь и далее все ссылки приводятся
по второму изданию Амио (1844)
а Сан-Франциско, издательство «Дело», 1950. Все приво
димые мной сведения о жизни и личности кн. Козловского
Профессор Калифорнийского университета Струве внес выдающийся вклад в политическую и литературную историю,
возродив из небытия эту интересную фигуру, которая могла так и остаться в полном забвении.
а Се qu'il faut qu'il sache — то, что он должен знать [франц.).
6 В то время это место называлось иначе9, но больше оно известно по названию монастыря. Тем не менее, для удобства я употребляю обозначение «Загорск».
а II faut pourtant, que vous ayez bien de la confiance en
moi — но мне вы должны все-таки доверять (франц.).
а Еигорёет voyageurs, les courtisans de l'Empreur Alexan
dre I — les grands seigneurs cosmopolites — всеевропейских
странствователей, куртизанов александровской эпохи, всех
в виду Вяземского, а может быть, также Одоевского и Тур
в Бутурлины не были княжеского рода. (Примеч. перево
дчика.)
а II faut etre Russe pour vivre en Russie — надо быть русским, чтобы жить в России (франц.).
а Arriire-pensee — подоплека (франц.).
а В то время слово «Север» часто употреблялось для обозначения в общем смысле России, как теперь можно называть ее «Востоком».
8 Contrefacteurs — в данном случае: пиратские издатели {франц.).
a Официальные обязанности Толстого заключались в доставлении исторических документов из французских архивов и в этом отношении были аналогичны занятиям Александра Тургенева. Действительно, когда Тургенев уехал насовсем из Парижа в 1844 г., некоторая часть его работы была передана Толстому для завершения.
a «Россия в 1839 году», приснившаяся г-ну де Кюстину, или письма о сем труде, написанные во Франкфурте» {франц.).
а «Слово о книге маркиза де Кюстина, озаглавленной
«Россия в 1839 году» (франц.).
6 Греч весьма повредил себе своей болтливостью, из-за которой в одной немецкой газете появилось сообщение о правительственном заказе на опровержение Кюстина. В результате, вместо денег он получил из Петербурга жестокий выговор.
в Брошюра Дабенского была даже, как будто, задержана на петербургской таможне при доставке ее в Россию.
а Небезынтересно, что почти через сорок лет Эмиль де Жирарден уже к концу своей долгой карьеры публициста и издателя предоставил свой другой журнал »Gaulois» в качестве трибуны для непримиримой французской шовинистки Жюльетгы Адан, которая старалась подтолкнуть правительство к союзу с Россией. Может быть, и тогда еще продолжались денежные вливания из русской казны?
а Tu quoque — и ты тоже (лат.).
а Мария Анна Аделаида Ленорман (1772—1843) — известная парижская гадательница на картах. (Примеч. переводчика.)
а Custine A. de. La Russie en 1839. Т. 1. P. 236.
6 Ibid. P. 265.
а Сентябрь 1830 г. (Примеч. проф. Кадо.)
а Дополнения, сделанные переводчиком, обозначены зна
ком \
а Voyageurs protigis — привилегированные путешествен
ники (франц.).
а «Русский архив», 1873. Кн. 2. Сглб. 2144.
1
(обратно)2
Имеется в виду Journey for our Time, N.Y., 1951, сокращение книги Кюстина, перевод Филлис Пенн Колер, основанный на третьем издании Амио с предисловием генерала Уолтер Беделл-Смита, посла в Москве с 1946 по 1949 гг. Г-жа Колер была супругой Фон Колера, также посла в Советском Союзе.
в Lacunae — пробелы (лат.).
(обратно)3
Menage a deux — жизнь вдвоем (франц.).
в Мёпаде a trois — жизнь втроем {франц.).
г Un homme sans lequel je ne puis vivre — человек, без которого я не могу жить (франц.).
(обратно)4
а Маркиз де Люппе в биографии Кюстина цитирует его
(обратно)5
Un demi-homme des letters — «полулитератор» (франц.).
(обратно)6
L'histoire analysee dans ces resuitats — «историю в ее ре
(обратно)7
а Иногда он упоминался с официальным титулом «государственного секретаря», но я полагаю, что такое обращение было принято и после ухода в отставку.
Собрание материалов Тургенева вышло в свет в 1841— 1842 гг. как издание Археографической комиссии Министерства народного просвещения: «Акты исторические, относящиеся до России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек АИ.Тургеневым» под соответствующим латинским титулом: Historica Russiae Monumenta ex antiquis extera• rum gentium archivis depromapta ab AJ.Turgenevio.
(обратно)8
взяты из этой небольшой, но весьма ценной биографии.
(обратно)9
Среди многих любопытных, хотя и незначительных деталей, которые косвенно как бы связывают главных персонажей этой истории, можно вспомнить и то, что его дочь стала второй пассией Бальзака.
(обратно)10
а Это не должно принижать Греча как литератора; также не следует преувеличивать его заслуг перед полицией. Если он выступал в роли осведомителя даже ради денег, то все- таки считал это своего рода службой императору. Его можно обвинять скорее в угодничестве, чем в злом умысле. Полиция, зная о болтливости Греча, не доверяла ему и держала на достаточном расстоянии. Его прекрасно написанная, но неоконченная автобиография («Записки о моей жизни», 1856) является одним из основных источников для истории литературы того времени.
(обратно)11
Очевидное упоминание о Чаадаеве есть в Resume du Voyage (La Russie en 1839. Vol. IV. C. 378—381). Указание в мемуарах Свербеева приведено у Cadot. С. 215. Записка Чаадаева к Щербатовой опубликована М.Гершензоном (Чаадаев П.Я. Сочинения и письма. М., 1913. Т. 1. С. 239).
3 Дж. Ф. Кеннан
(обратно)12
а К тому есть несколько причин. Лестные выражения, которые употребляет Кюстин по отношению к своему собеседнику, весьма схожи с тем, что говорится несомненно о Чаадаеве в Resume du voyage, и, как мы вскоре увидим, они навряд ли могли относиться к Тургеневу. Далее, по словам самого Кюстина, этот человек представил его в Английском клубе. Чаадаев был членом Клуба и часто бывал там. Упомянув о своих католических симпатиях, он, тем не менее, исповедовал православие (сказал, что завидует религии Кюстина). Это исключает Козловского, которого Кюстин знал как набожного католика.
(обратно)13
A la bonne heure — в данном случае это выражение
(обратно)14
Можно с полным основанием предполагать, что он имел
(обратно)15
генева.
(обратно)16
а Например, приведенное выше высказывание о «курти- занах императора Александра» или его презрительное упоминание о Вяземском, как «придворном льстеце».
6 Grand seigneur — большой барин, вельможа (франц.).
(обратно)17
а Une espice d'esclaves superieurs — своего рода высокопо
(обратно)18
ставленные рабы (франц.).
(обратно)19
См. его известное замечание о России: «Неизвестно, или народ по своей загрубелости требует себе в государи тиранна, или от тираннии Государя самый народ становится таким бесчувственным и жестоким». (Барон Сигизмунд Гер- берштейн. Записки о московитских делах. СПб., 1908. С. 23).
(обратно)20
Un trophee eleve par les Russes a leur puissance д venir (франц.).
(обратно)21
Имеются в виду события вокруг Чехословакии в 1968 г., когда для подавления либеральных действий ее правительства туда были введены советские войска. (Примеч. переводчика.)
(обратно)22
Сам Кюстин с присущей ему тонкой иронией отчасти приписывал популярность первого издания полному молчанию самых известных парижских журналов.
4 Дж. Ф. Кеннан
(обратно)23
«Рассмотрение труда маркиза де Кюстина под названием «Россия в 1839 году»» (франц.).
(обратно)24
Chez les principaux libraires — главные издательства (франц.). Любопытно, что и Греч, и Толстой постарались создать впечатление, будто их брошюра написана во Франкфурте по-русски и сначала появилась в немецком переводе, а затем уже во французском, как бы в качестве побочного следствия. Причины такой уловки оставляю на суд самих читателей.
(обратно)25
а Монография Дабенского была включена в пиратское издание 1844 г., выпущенное издательством Sociiti Туро- graphique Beige.
(обратно)26
La litterature confidentielle — литература доверительного содержания (франц.).
в Un homme illustre — знаменитый человек (франц.).
г Est-оп illustre pour avoir ecrit des romans tels que «Aloys»! — Но разве можно прославиться такими романами, как «Алоис»? (франц.).
(обратно)27
а «Еще несколько слов о труде г-на де Кюстина «Россия в 1839 году»»». Сочинение М.*** (франц.).
(обратно)28
а К загадочным сплетениям сюжета относится и тот факт
(обратно)29
(возможно, существенный, а, может быть, и не имеющий значения), что князь Долгоруков, кажется, тоже был спутником Кюстина на «Николае I». А упоминавшиеся нами письма Тургенев передал маркизу в доме Вяземского уже в Петербурге.
(обратно)30
а Это, вероятно, относится к стараниям Вяземского побудить Кюстина убрать из последующих изданий упоминание о нем, как о «царедворце».
6 Кои, как таковые, достойны только презрения (франц.).
(обратно)31
в Еще несколько слов о Кюстине, соч. г-на М. (франц.).
г Автором этой брошюры был М.АЕрмолов, русский ученый и переводчик, тесно связанный с французской культурой.
д Эксожерация — преувеличение (от франц. ехадёгайоп).
ж Надо было бы показать ему спину, чтобы ему же доставить удовольствие (франц.).
(обратно)32
Delenda est Carthago — Карфаген должен быть разрушен (лат.). В переносном смысле означает настойчивое напоминание, неустанный призыв к чему-нибудь. По преданию, Катон Старший о чем бы ни говорил в Сенате, всегда заканчивал свою речь словами: «А кроме того, я полагаю, что Карфаген не должен существовать». (Примеч. переводчика.)
в Сен-Марк-Жирарден. «Debats», 4 января 1844 г., первая фраза. (Примеч. автора.)
(обратно)33
а Custine A. de. La Russie en 1839. Т. 1. P. 117—118. (Let- tre IV.)
(обратно)34
а «Песня казака» Беранже. (Примеч. проф. Кадо)и.
(обратно)35
а См. примеч. 4 к настоящей главе.
а Пропуск в рукописи. {Примеч. проф. Кадо.)
(обратно)36
Павела Петровича Вяземского (1820—1888). (Примеч. проф. Кадо.)
(обратно)37
Оба издания представляют собой чрезвычайно сжатые сокращенные варианты. Первое полное издание: Астольф де Кюстин. Россия в 1839 году: В 2-х т. М.: «Терра», 2000. {Примеч. переводчика.)
(обратно)38
Dans son deshabille — в неприбранном виде (франц.).
(обратно)39
Тургенев А И. Хроника русского. Дневники (1825— 1826 гг.). М—Л, 1964. С. 316.
в Русский биографический словарь, СПб., 1910. Т. При- твиц-Рейс. С. 448.
(обратно)

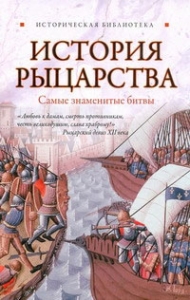



Комментарии к книге «Маркиз де Кюстин и его «Россия в 1839 году»», Джордж Фрост Кеннан
Всего 0 комментариев