Посвящается Джейн
ВВЕДЕНИЕ
Сентябрьское утро, коридор гостиницы в центре Берлина — что может быть обыденнее? Пока мы на смешении английского и немецкого обменивались приветствиями с сотрудником отеля, я взял из чашки возле кассы яблоко и засунул его в свой рюкзачок. Через несколько часов, проголодавшись, я решил перекусить в Тиргартене. Виды и звуки этого большого городского парка увлекли меня, и я едва не упустил из виду, что на моем ланче прикреплена крошечная наклейка, сообщающая, что это яблоко — «продукт Новой Зеландии».
Телевизоры из Тайваня, салат из Мексики, китайские рубашки, индийские инструменты встречаются настолько часто, что к этим вывертам коммерции мы уже привыкли. Но что лучше символизирует эпическую роль глобальной торговли, чем мое яблоко, выращенное на другой стороне земного шара, которое я ем в тот момент, когда его спелые европейские сородичи красуются рядом, на ветках?
Тысячелетия назад с континента на континент перевозили только самые дорогие товары: шелк, золото и серебро, пряности, драгоценные камни, фарфор и лекарства. Сам факт того, что вещь привезена издалека, придавал ей высокий статус, окружал ее романтическим ореолом таинственности. К примеру, для Римской империи III века н. э. таким товаром был китайский шелк. Римские императоры запомнились в истории великими завоеваниями, архитектурными сооружениями, сводами законов. А вот Гелиогабал, который правил в 218-222 годах, запомнился (насколько он вообще запомнился) разнузданным поведением и пристрастием к мальчикам и шелку. За время своего правления он успел потрясти много повидавшее население древней столицы целой чередой скандалов — от бесстыдных выходок до изощренного убийства детей. Впрочем, ничто так не привлекало внимание римлян (и не вызывало такой их зависти), как гардероб императора и то, как он носил его, удалив с тела все волосы и раскрасив лицо красным и белым. Хотя любимой его тканью был так называемый sericum — смесь шелка и льна, — Гелиогабал был первым европейским правителем, чьи одежды были полностью шелковыми.{1}
Только представители правящих классов могли себе позволить оплатить доставку из Восточной Азии к римским гаваням ткани из коконов маленьких беспозвоночных Bombyx mori — шелковичных червей. Современный читатель, избалованный недорогими, мягкими, практичными синтетическими тканями, должен понять, что одежду тогда делали, в основном, из трех видов материала: дешевых, но тяжелых и теплых звериных шкур, колючей шерсти и мятого белого льна. (Хотя хлопчатник выращивался в Египте и Индии, но производство хлопка было сложным, поэтому и выходил он дороже шелка.) В условиях такого ограниченного набора материалов мягкое, почти невесомое прикосновение шелка к коже не могло не покорить всякого, кто его испытал. Нетрудно представить, как первые торговцы шелком в каждом порту или караван-сарае, на своем долгом пути, раскатывали перед богатыми покупательницами разноцветные рулоны: «Госпожа, чтобы понять, это нужно почувствовать».
Ювенал приблизительно в 110 году жаловался на женщин, погрязших в роскоши:
Вот те, что потом исходят в тончайших кикладах. Что раздражаются даже от шелковой ткани нежнейшей.{2}Даже боги не могли устоять. Исида изображается облаченной в одежду «…многоцветную, из тонкого виссона, то белизной сверкающую, то, как шафран, золотисто-желтую, то пылающую, как алая роза. Но что больше всего поразило мое зрение, так это черный плащ, отливавший темным блеском».{3}
Хотя римлянам был известен китайский шелк, Китай им известен не был. Они верили, что шелк растет прямо на тутовых деревьях, не допуская мысли, что листья этих деревьев служат домом и кормом червям шелкопряда.
Как товары из Китая попадали в Рим? Очень долгим и опасным путем, в несколько трудных этапов.{4} Китайские торговцы загружали в южных портах свои корабли шелком и отправлялись в долгий путь вдоль побережья Индонезии, вокруг полуострова Малакка, через Бенгальский залив, к портам Шри-Ланки. Там их встречали индийские купцы, которые переправляли ткани в тамильские порты, на юго-западный берег субконтинента: Музирис, Нелкинду и Комару. Далее через множество арабских и греческих посредников товар передавался на остров Диоскордия (Сокотра), где будто в котле бурлила жизнь арабских, греческих, индийских, персидских и эфиопских предпринимателей. С Диоскордии на греческих кораблях груз плыл ко входу в Красное море — Баб-эль-мандебскому проливу («Врата Скорби», араб.) и к главному порту Египта Беренике, а затем — через пустыню, на верблюдах — к Нилу. Оттуда товары везли вниз по реке в Александрию, где корабли греко-римлян (ромеев) и итало-римлян перевозили его через Средиземное море в крупные римские порты Путеолы (Поццуоли) и Остия. Как правило, китайцы не ходили западнее Шри-Ланки, индийцы — севернее входа в Красное море, а итальянцы — южнее Александрии. Этой возможностью пользовались греки, которые свободно разъезжали от Индии до Италии, по большей части всего маршрута.
На каждом из долгих и опасных этапов этого путешествия шелк, переходя из рук в руки, многократно вырастал в цене. Если в Китае он уже был недешев, то в Риме он оказывался в сотни раз дороже — на вес золота, настолько дорогим, что цена нескольких его унций составляла годовой достаток среднего человека.[1] Только богатейшие люди, такие как император Гелиогабал, могли позволить себе целую тогу из шелка.
Другой дорогой в Рим стал знаменитый Великий шелковый путь, впервые открытый посланниками императоров династии Хань во II веке н. э., он шел по суше через Среднюю Азию. Эта дорога была гораздо более сложной, а цены на товар сильно колебались, в зависимости от политических и военных событий на всей территории от южной стороны Хайберского прохода до южных пределов Сибири. И если на морских путях доминировали греческие, эфиопские и индийские торговцы, то в сухопутных торговых «портах» — крупных городах: Самарканде (в Узбекистане), Исфахане (в Иране) и Герате (в Афганистане) — заправляли еврейские, армянские и сирийские перекупщики. Кто же может винить римлян за то, что они считали, будто шелк производится у двух разных народов — у серов, на севере, откуда он поставляется сухим путем, и у синов, на юге, откуда его возят морем?
Морской путь был быстрее, дешевле и безопаснее, чем переправка посуху, к тому же позволял обойти небезопасные нестабильные районы, что для древнего мира было большим преимуществом. Изначально шелк доставлялся в Европу по суше, но постоянное расширение Римской империи сделало Индийский океан более удобным звеном, связующим Восток и Запад, в том числе и для поставок шелка. Хотя во II веке римская торговля с Востоком пошла на спад, морской путь до самого VII века оставался открытым, пока преградой на нем не встал ислам.
Шелковой торговлей управлял сезонный маятник муссонных ветров. Из-за муссонов от момента загрузки тканей на корабли в Южном Китае до его выгрузки в Путеолах и Остии проходило не менее 18 месяцев. Смертельные опасности поджидали купцов на каждом этапе пути, особенно опасными были Аравийское море и Бенгальский залив. Люди, суда и грузы гибли в пути так часто, что если о них вообще упоминали, то лишь короткой записью: «Пропал со всем экипажем».
Сегодня самые обычные грузы преодолевают подобные расстояния, лишь немного возрастая в цене. Примечательно уже то, что целесообразность трансконтинентальной доставки дешевых товаров не кажется чем-то особенным.
Наши дорогие товары облетают мир почти со скоростью звука в специально оборудованных самолетах, а по прибытии такси доставляет их к четырехзвездочным отелям. Да и суда для перевозки ширпотреба с их видеосалонами и полными продуктов подсобками предоставляют своим командам такие удобства, о каких и помыслить не могли древние моряки. Команды сегодняшних кораблей и самолетов — умелые профессионалы, но никто не назовет их торговцами или купцами. Мало кто ассоциирует эти слова и с международными торговыми корпорациями.
Раньше определить купца было легко. Он покупал за свой счет и продавал небольшие количества товаров и повсюду сам сопровождал их. На корабле он нередко спал на своем товаре. Хотя о большей части таких торговцев записей не сохранилось, окном в мир древней коммерции служит собрание средневековых документов, обнаруженное в хранилище старой главной синагоги Каира. Иудейский закон требует, чтобы ни один документ, содержащий имя Бога, не уничтожался, даже обычные семейные или деловые письма. А поскольку под это требование подходит большая часть средневекового письменного материала, огромное количество таких записей складывалось в генизах — хранилищах при местных синагогах. Еврейское население Каира процветало в атмосфере терпимости и изобилия мусульманской империи Фатимидов в Х-XII веках, а сухой климат позволил документам сохраниться до наших дней. (В основном, они написаны на арабском языке, но еврейским письмом.) Повседневная переписка между родственниками и деловыми партнерами, от Гибралтара до Александрии и Индии, позволяет заглянуть в этот неторопливый, опасный, безжалостный, изнуряющий быт торговцев, которые покупали и продавали товары.
Подготовка к путешествию была еще труднее самого путешествия. Купец не выезжал за границу без рекомендательных писем к тем, с кем ему предстояло иметь дело, и без писем, которые могли обезопасить его от притязаний правителей, через владения которых проходил путь. В противном случае ему грозили неизбежный грабеж, унижение или смерть. Более того, в средневековом мусульманском мире у каждого путешественника должен быть рафик — товарищ, обычно тоже купец. Торговец и его рафик полностью доверяли друг другу в вопросах личной безопасности. Нет большей беды в дороге, чем смерть рафика, потому что местные власти тут же обвинят путешественника в присвоении денег и имущества рафика, а это неминуемая конфискация и пытки. Отправить гостей или родственников в путь без рафика считалось бесчестьем.{5}
В таком мире гораздо быстрее, дешевле, надежнее и удобнее было путешествовать морем, чем сушей. Однако «быстрее», «дешевле», «надежнее» и «удобнее» — понятия относительные. До XV столетия, когда в Европе появились каравеллы, а на Иберийском полуострове — каракки, суда, передвигавшиеся, в основном, под парусом, были тесными и вмещали мало груза. Самые ценные товары перевозились гребными судами, считавшимися более надежными и быстрыми. 150-футовая галера могла вместить до 500 гребцов, не считая остальной команды, помощников капитана и пассажиров. Скопление такого количества людей на таком тесном пространстве неизбежно приводило к антисанитарии, превращая судно в одну плавучую клоаку. «Я страшно страдал от недомоганий моих спутников и исходящих от них омерзительных запахов, — сообщал безвестный купец, ходивший по Нилу. — Дошло до того, что трое из них умерли, и последний из умерших пролежал на судне полтора дня, пока не начал разлагаться».{6} Капитан отказывался пристать к берегу и похоронить покойного в день смерти, как того требовали строгие мусульманские обычаи, ссылаясь на опасности, которые подстерегают команду и пассажиров на берегу.
Даже если забыть о нормах гигиены, капитан и команда часто сами становились источниками опасности. Грабежи и убийства на борту случались нередко, а подкупленные чиновники входили в долю. Но и заплатив должностному лицу презренный подушный налог, перед тем, как покинуть порт, наш путешественник по Нилу пребывал в подозрениях, что тот же самый чиновник готов обтрясти его еще раз.
Покинув лодку, я отправился вперед, нагнал ее в Эр-Румайле, где снова взошел на нее. Оказалось, мои подозрения справедливы. Едва я отчалил, появился страж, чтобы вновь арестовать меня.{7}
Такими трудностями и опасностями отличались не только мусульманские суда. Даже если египетские торговцы выбирали путешествие на римских или византийских судах, это не давало им ни дополнительной безопасности, ни удобств. Любое судно могло быть ограблено, захвачено или поражено болезнью, и тогда дрейфовало по течению, без всякого управления. Эти «корабли-призраки», в особенности в далеких водах Индийского океана, свидетельствовали о том, что их команда и пассажиры отдали свои жизни по пути за пряностями.
Но и такое затратное, неприятное и опасное средневековое плавание торговцы предпочитали путешествию по суше. Даже на больших дорогах в сердце египетской империи Фатимидов охранная грамота не могла защитить от нападения бедуинов. Несколько недель качки на шаткой, ненадежной палубе все же лучше, чем несколько месяцев оглядываться с крупа верблюда или осла, не показались ли разбойники.
В документах Каирской генизы описывается и дороговизна наземного транспорта. В большинстве описанных историй главным предметом торговли были ткани. Доставка одного тюка «пурпура» (верблюд с грузом ткани весом приблизительно 500 фунтов) от Каира до Туниса обходилась в 8 золотых динаров. На эти деньги средняя небогатая семья в средневековом Египте могла жить около четырех месяцев. Половина этой суммы уходила на оплату сравнительно короткого, 120-мильного пути от Каира до Александрии, а вторая половина — на 1200-мильный путь морем, от Александрии до Туниса. Так, если посчитать по милям, наземный путь обходился вдесятеро дороже водного.{8} Из-за огромной затратности, риска и неудобства сухопутных дорог торговцы пользовались ими только в том случае, когда не было возможности доставить товар морем. К примеру, зимой Средиземное море было «закрыто».
Но даже если торговец сумел благополучно добраться сам и довезти свой груз, капризный, изменчивый рынок мог разорить его в любой момент. Цены вели себя непредсказуемо, часто следуя пословицам «Нужда цены не ждет» или «Торг без глаз, а деньги слепы».{9},[2] Почему же все-таки люди соглашались рисковать жизнью, здоровьем или имуществом ради путешествия, которое на годы отрывало их от родных и любимых ради какой-то призрачной выгоды? Ответ прост. Тяжелая жизнь торговца была лучше, чем еще более тяжелая жизнь крестьянина, а на полях в те времена трудилось до 90% населения. Годовой доход в сотню динаров — сумма, достаточная для того, чтобы поддерживать жизнь представителя верхней прослойки среднего класса — делал торговца богачом.[3]
Адам Смит писал об «определенной склонности человеческой природы, которая отнюдь не имела в виду такой полезной цели, а именно склонности к торговле, к обмену одного предмета на другой».{10} Немного найдется исторических трудов, которые о мире, в котором мы живем, смогут поведать столько, сколько рассказывают исследования возникновения мировой торговли (конечно, если ставить вопросы правильно). К примеру, на заре эпохи письменных документов существовала оживленная торговля зерном и металлами между Междуречьем и Южной Аравией. А если заглянуть еще дальше в прошлое, то археологи обнаружили доказательства того, что в доисторические времена большие расстояния преодолевали такие стратегические материалы, как обсидиан и камни для изготовления инструментов. Животные, особенно приматы, ухаживают друг за другом, делятся пищей, но систематический обмен предметами, в особенности подразумевающий их перемещение на большие расстояния, встречается только у Homo sapiens. Что же заставило древних людей заняться торговлей?
Антропологи, которые придерживаются теории эволюции, отмечают появление первых признаков человеческого поведения в Восточной и Южной Африке около 100 000 лет назад.{11} Одной из особенностей этого поведения как раз и является склонность к «торговле и обмену», в результате которых растет количество и разнообразие приобретаемых человеком вещей. Мировая торговля развивалась в тандеме с совершенствованием сухопутного и водного транспорта, но еще большее влияние на нее оказывала политическая стабильность. К примеру, вскоре после того, как Октавиан разгромил войска Антония и Клеопатры в 30 году до н. э. в битве у мыса Акций (западная Греция), аппетиты Римской империи принялись расти, и Рим наполнили восточные товары: перец, экзотические животные, слоновая кость и драгоценные камни. Из таких товаров самым известным был китайский шелк, хотя большинство жителей Апеннинского полуострова никогда в жизни не встречали китайца, а если посмотреть на древнеримские карты, мы легко поймем, что их составители имели смутное представление о том, где расположен Китай. Затем так же быстро, как некогда развернулась торговля Рима с Востоком, она угасла с упадком Древнего Рима после смерти Марка Аврелия в конце II века. Шелка Гелиогабала могут служить редким примером импорта предметов роскоши в этот период.
Резкий рост количества дальних торговых путешествий после битвы при Акции и их сокращение через два столетия не остановили развития мореплавания. Конечно, римские, греческие, арабские и индийские купцы, пересекавшие Индийский океан, после смерти Марка Аврелия не растеряли своих умений.
Давайте рассмотрим вклад торговли в сельскохозяйственное изобилие нашей планеты. Попробуем вообразить себе итальянскую кухню без томатов, высокогорные долины Дарджилинга без чайных плантаций, американский стол без пшеничного хлеба и говядины, отсутствие кофе во всем мире, кроме его родины — Йемена, или немецкую кухню без картофеля. Таков был мир до «Колумбова обмена» — засева миллиардов акров плодородных земель культурами, привезенными с других континентов за несколько десятилетий после 1492 года. Как и почему это произошло и какие выводы мы можем сделать из этого о природе торговли?
За семь веков, что прошли со смерти пророка Мухаммада до эпохи Возрождения, в Европе, Азии и Африке появились и возвысились над христианским миром мусульманские государства. Последователи Пророка доминировали в торговле на дальних расстояниях от Западной Африки до Южно-Китайского моря. Затем, за несколько десятилетий после того, как Бартоломеу Диаш и Васко да Гама обогнули мыс Доброй Надежды, европейцы с головокружительной быстротой отвоевали себе главенствующее положение на восточных торговых путях. Нужно ли пояснять, что эти события играли в истории торговли решающую роль?
Торговую деятельность Европы возглавили могучие национальные организации, прежде всего Английская и Голландская Ост-Индские компании. Таким образом, торговля превратилась в сферу почти исключительно принадлежащую корпорациям, которые к XX веку стали международными. Сегодня эти организации, обеспечившие западное и, в особенности, американское экономическое превосходство, часто вызывают враждебность и негодование. Каковы же корни современных международных корпораций-гигантов и можно ли считать сегодняшние межкультурные столкновения, связанные с торговлей, и антиамериканские настроения новым явлением?
Растущая зависимость мира от надежности товарно-денежных потоков делает нас одновременно и обеспеченными, и уязвимыми. Крупные сбои в интернете способны пошатнуть международную экономику — любопытное обстоятельство, актуальное всего лишь последний десяток лет. Развитые страны зависят от поставок горючего из самых нестабильных стран, и самый крупный поток проходит через узкую горловину, ведущую в Персидский залив. Предлагает ли нам история торговли какие-нибудь ориентиры, чтобы пройти эти опасные воды?
Современные средства коммуникации и транспортная революция конца XX века привели к тому, что государства всего мира пустились в экономические состязания друг с другом. Следует, однако, заметить, что такое положение дел не ново. Столетиями ранее подобные мировые потрясения рождали своих победителей и неудачников, которые стремились, соответственно, следовать или противиться новым процессам. Какие решения подскажет нам история торговли сегодня, в условиях титанической политической борьбы за глобализацию?{12}
Что же изменилось со времен Великого шелкового пути и документов Каирской генизы, когда труд торговца был так тяжел и опасен, что имело смысл перевозить только самые дорогие товары, до нынешних времен мировых корпораций, чилийских вин, корейских машин и новозеландских яблок?
* * *
Стабильные государства — торговые государства. Торговля между Римом и Восточной Азией расцвела после сражения у мыса Акций и процветала почти два столетия относительного мира на торговых путях Средиземного и Красного морей. В то время римляне контролировали, по крайней мере, западную треть маршрута от Александрии до Индии, но их влияние ощущалось далеко за Гангом.
Редко случалось, чтобы одни и те же купцы сопровождали товар всю дорогу от Индии до Рима, но прямые дипломатические контакты Рима с различными индийскими государствами редкостью не были. За несколько лет правления Октавиана Августа индийские государи почтили его изысканными посольствами и удивительными дарами: змеями, слонами, драгоценными камнями и гимнастами, которые давали представления при императорском дворе. В самой Индии в его честь строили храмы. И что еще важнее, римским гражданам было даровано право свободного проезда по значительной части субконтинента. При археологических раскопках Пондишерри в 1945-1948 годах были обнаружены следы римской колонии, которая существовала около 200 года до н. э.{13}
В Индии товары приобретались за золотые и серебряные монеты, каждая из которых была отмечена изображением императора. Клады из таких монет до сих пор находят в южной Индии, позволяя нам посмотреть на валюту давностью в две тысячи лет. Среди них — золотые и серебряные времен правления Августа и Тиберия (27 до н.э. — 37 н. э.), что наводит на мысль о значительных объемах товара. После смерти Тиберия состав индийских кладов меняется. Основную их часть занимает золото, но не серебро. На монетах изображены Калигула, Клавдий и Нерон (37-68 гг.). Историк Эрик Герберт Уормингтон считает отсутствие серебряных монет признаком того, что в этот период торговля велась преимущественно предметами роскоши. После смерти Марка Аврелия (180 г.) римские монеты попадаются совсем редко.{14} Когда, наконец, около 200 года и римская, и ханьская власть ослабли, торговля с Востоком почти совсем прекратилась.
Другое крупное преимущество коммерции этого периода заключалось в том, что греческие моряки ходили под летними юго-западными муссонами, характерными для западной части Индийского океана. Сначала греки шли под муссонами, которые выносили их в открытое море, подальше от пиратов персидского побережья. Но к 110 году до н. э. моряки научились в летнее время проходить по глубокой воде напрямую, через Персидский залив, от Баб-эль-мандебского пролива и до южной оконечности Индии. Этот путь занимал у них всего 6 недель, причем магнитный компас китайцы изобрели только тысячу лет спустя. Легенда рассказывает о мореплавателе по имени Гиппал, который открыл в Персидском заливе «торговые ветры», хотя они, несомненно, уже были к тому времени знакомы арабским и индийским морякам. Готовность греков пуститься в бескрайние просторы Индийского океана, по воле грозных муссонов, вместо того, чтобы тащиться вдоль бесконечных тысяч миль береговой линии, сыграла решающую роль в распространении морской торговли на дальние расстояния.
Поздней весной или поздним летом моряки проходили на восток через Баб-эль-мандебский пролив, дальше их нес попутный ветер. Если целью пути были страны долины Инда (современный Пакистан), нужно было править к северу. Если корабль шел к Малабарскому побережью, на юго-запад Индии, капитан правил к югу. В середине лета, в период особенно яростных бурь, старались в море не выходить. Малабарский путь грозил еще одной опасностью — легко было пропустить южную оконечность субконтинента.
Возвращаться с прохладным и более спокойным северо-восточным муссоном было безопаснее. Возможность сбиться с курса и не попасть в Баб-эль-мандебский пролив не слишком пугала. Отклонившись к северу или югу, можно было найти пристанище и пополнить запасы на побережьях Аравии или Восточной Африки.
У греческих торговцев эллинистического Египта имелось особое преимущество. Мастерство в обработке металлов, которого достигли в этих краях, позволяло сшивать деревянные суда железными гвоздями. (Доски древних индийских и арабских кораблей сшивались между собой кокосовым волокном, которое часто не выдерживало напора стихии.) Для путешествия с юго-западными муссонами крепление корпуса на гвоздях оказалось важным, потому что сильный шторм иногда разбивал даже самые прочные суда. Сезонные циклы муссонов — юго-западных летом и северо-восточных зимой — определяли годовой пульс торговли через Индийский океан.
Если вполне естественное стремление человека бросить вызов морской стихии приносило хорошие дивиденды, то на суше подобная борьба со стихией, когда нужно не дать заснуть большому медлительному беззащитному верблюду, тоже давала плоды. Уже вышедшие из употребления в Северной Америке и быстро выходящие в Евразии, верблюды 6000 лет назад ценились только за их молоко. И только через 25 столетий, около 1500 года до н. э., люди научились использовать способность верблюдов носить на спине сотни фунтов груза по местности, которую иначе не преодолеть. Если бы человек не приручил верблюда, торговые пути, по которым через Азию доставлялся шелк, а через Аравию благовония, просто не появились бы.
Существует такой малоизвестный факт. Прародитель современного верблюда (также как и лошади) происходит из Северной Америки. По сухопутной перемычке через Берингов пролив он перебрался в Азию. Хотя группы верблюдов и лошадей проделывали такое опасное путешествие за десятилетия, это переселение все-таки гораздо более быстрое, чем понадобилось бы растениям, чтобы перебраться из одной климатической зоны в другую. Маловероятно, чтобы выжили североамериканские растения, случайно перенесенные океанскими течениями с одного материка на другой или чтобы они перенесли многотысячелетнюю миграцию из своей климатической зоны через суровый климат в районе перешейка и до областей в Евразии, где климат похож на привычный. Таким образом, если во время ледникового периода животные могли переправиться через Берингов пролив, то плодоносные растения не могли.
Все изменилось в 1493 году, со вторым путешествием Христофора Колумба, которое перевернуло сельское хозяйство да и всю экономику и Старого, и Нового Света. 17 кораблей Колумба стали иберийским Ноевым ковчегом, перевезя в Новый Свет 1300 колонистов и почти весь европейский набор сельскохозяйственных культур и домашних животных. Эти виды начали распространяться, как пожар. Даже привезенные взамен, из западного полушария «малые» культуры: кабачки, тыква, папайя, гуава, авокадо, ананасы и какао — а также целый ряд плодовых и ореховых деревьев из Европы — очень сильно повлияли на экономику.
Из всех животных и растительных пассажиров второй экспедиции Колумба никто не проявил себя так быстро, как свинья. По своему виду и характеру она гораздо больше походила на сильного быстрого и худого дикого кабана, чем на хрюшку с современной фермы. Зато 20% ее веса составляли белки (для сравнения, у крупного скота только 6%), и эти плодовитые всеядные охотно поедали траву, плоды и коренья Нового Света. Вскоре после прибытия первых американцев в Северной и Южной Америках почти не осталось крупных хищников, серьезные болезни здесь свиньям тоже не грозили. Очень скоро свиньи расплодились в этом раю, сбежали от свинопасов и расселились не только на Эспаньоле (цель экспедиции 1493 года, современный остров Гаити, на котором расположены Республика Гаити и Доминиканская Республика), но и на Кубе, Пуэрто-Рико и множестве мелких Карибских островов. Вскоре испанцы обнаружили, что если на необитаемый, перспективный для заселения остров высаживать пару свиней, то через несколько лет этот остров обеспечивал колонистов свининой. Таким же образом, без человеческого вмешательства разводили не только свиней, но и лошадей, и крупный скот. С этих хорошо обеспеченных баз на Гаити и Кубе испанцы нападали на материковую Америку. Их колонны лошадей карибской породы и служебных собак сопровождали бесчисленные стада свиней, настоящее «копытное интендантство».{15} Эта жуткая конная военная машина, вооруженная ружьями и стальными клинками, истребляла местных обитателей почти безнаказанно.
На протяжении нескольких десятков лет после завоеваний Кортеса и Писарро поголовье крупного скота в Испанской Америке росло так быстро, что удваивалось каждые 15 месяцев. От Мехико до аргентинских пампасов бескрайние просторы Нового Света были черны от пасущихся стад. Один француз с удивлением писал из Мехико: «Здесь повсюду раскинулись бескрайние плоские равнины и повсюду пасется скот».{16}
Немногочисленное местное население съедало очень немного говядины, почти все туши павших животных оставались гнить. С них снимали только самое ценное — шкуру и копыта. К 1800 году одна только Аргентина экспортировала миллион шкур ежегодно.
Изобретение кораблей-рефрижераторов в конце XIX века изменило ситуацию и обеспечило Европу дешевой говядиной. Европейские поставщики мяса остались в убытке. Похожая история произошла и в XX веке, когда Америку затопил поток дешевых азиатских тканей и электроники, разорив местных производителей. Если бы Томас Фридман, колумнист «Нью-Йорк таймс», писал в 1800 году, то он не сумел бы объяснить европейским кожевенникам преимущества «плоского мира» для развития мировой торговли, равно как и европейским скотоводам в 1900 году.
Изобилие часто оборачивается трагедией. Тысячи лет европейцы жили в относительной близости с определенными видами домашних животных и приобрели иммунитет ко многим их болезням. А население Америки оказалось к ним очень чувствительно. Меч и мушкет работали бок о бок с оспой и корью, которые нередко на много сотен миль опережали прибытие белых людей. Один испанец заметил, что «индейцы мрут, как рыба в ведре».{17} Серьезный урон потерпели и местные экосистемы, сменившись однообразными европейскими полями, на которых выращивалось несколько культур, вытеснивших местные виды.
Коренное население сажало, в основном, картофель и кукурузу. Эти две культуры гораздо калорийнее, чем пшеница. Картофель растет на бедных почвах, почти в любых условиях, от уровня моря до высоты в 10 000 футов. Кукуруза более прихотлива, требует хорошей почвы и продолжительного теплого сезона, но может расти в переходном климате, слишком сухом для риса, но слишком влажном для пшеницы. Под эти условия отлично подходят оскудевшие пастбища Южной Европы, от Португалии до Украины. К 1800 году эти территории стали одним из крупнейших в мире зернопроизводящих регионов.
Кукуруза и картофель не только позволили Европе избежать голодной мальтузианской западни. Они прямо стимулировали торговлю. На заре промышленной революции эти культуры обеспечили Европе излишек продуктов для обмена на продукцию мануфактур и освободили часть крестьян для работы на фабриках. В свою очередь, растущие урожаи требовали удобрений, которые поставлялось с островов Латинской Америки и Тихого океана, покрытых птичьим пометом (гуано). А введение в Китае таких культур, как ямс, кукуруза, табак и арахис, позволило новой династии Цин укрепить влияние в XVII-XVIII веках.{18}
Глобализация оказалась не событием и даже не цепью событий. Это процесс, который медленно развивается уже долгое-долгое время. Мир вовсе не стал «плоским» с изобретением интернета, а корпорации в мировой торговле возобладали не вдруг. Начало этому было положено на заре истории, вместе с ценными торговыми грузами, которые постепенно вытеснялись все более дешевыми, более употребительными и менее долговечными товарами, пока рынок Старого Света мало-помалу не стал более интегрированным. С первыми европейскими переселенцами в Новый Свет этот процесс интеграции ускорился. Сегодняшние огромные корабли-контейнеровозы, грузовые самолеты, интернет и развивающаяся сеть производства и поставок — всего лишь очередные шаги в развитии процесса, который идет уже пять тысяч лет. И если мы пожелаем понять скачкообразную природу сегодняшней мировой торговли, это поможет нам понять, чего ожидать в будущем.
* * *
Вот уже около десятилетия, как я вовлечен в мир глобальной экономики и финансов. За это время я написал три книги. Первая была научной работой по финансовой теории и практике, хорошо сдобренной исторической тематикой. В каждой из глав я рассматривал определенную историческую тему. Моя третья книга, «Рождение изобилия» («Birth of Plenty»), касалась предпосылок для глобального процветания и относилась к периоду после 1820 года. Некоторые читатели сочли неубедительной основную идею книги о том, что благосостояние современного мира обусловлено разработкой прав на собственность, законов, рыночных механизмов и научного рационализма. Провал коммунистического эксперимента, а также богатство или бедность отдельных государств свидетельствуют в пользу их критики.
Эта книга не несет такой идеологической нагрузки. Беды и неприятности отдельных людей, отраслей промышленности и государств, вызванные глобализацией экономики планеты, реальны, и об этом ведутся ожесточенные споры. В понятиях экономики, на благосостояние людей влияет не только средний показатель (благосостояние среднего человека), но и изменение разрыва между богатыми и бедными. На обычном языке это значит, что стимулирование свободной торговли повышает общее благосостояние человечества и увеличивает социальный разрыв. Даже если торговля позволяет низам общества немного увеличить доходы, они все равно чувствуют себя ущемленными, глядя на растущие доходы богатых.
И раз уж мы взялись за статистическую терминологию, то заметим, что кажущиеся синонимами слова «медианный» и «средний» имеют различную смысловую нагрузку. Политическое право рассматривает медианного человека, но редко подчеркивается терминологическая разница: медианный человек имеет такие же показатели дохода или благосостояния, какие есть у 50% окружающих его людей. Когда Билл Гейтс заходит в комнату, полную людей, их средний доход резко возрастает, но медианный доход почти не меняется. Обычно консервативные исследователи рынка упускают этот момент из виду.
Но эта книга не о числах. Если вас интересуют подробные данные об объемах торговли и доступности цен в разные века, вы можете заглянуть в источники, указанные в ссылках. В моей книге история мировой торговли изложена с очень тщательно отобранными идеями и примерами. Я очень надеюсь, что рассказы и соображения, которые здесь приведены, дадут пищу для размышлений и выводов обеим сторонам великого идеологического спора о свободной торговле.
* * *
Составлена книга следующим образом. Главы 1 и 2 рассказывают об истоках мировой торговли, начиная с первых фрагментарных сведений о коммерции между отдаленными областями в каменном веке. Несомненные следы торговли в древнейшей Месопотамии свидетельствуют об излишках зерна и ткани на плодородной земле между Тигром и Евфратом, а также об импорте стратегических материалов, в частности меди, которой совершенно не было в этом пойменном краю. Самая древняя торговая ось протянулась на 3000 миль от гор Малой Азии через Междуречье в Персидский залив, от побережья Индийского океана к берегам Инда. На перекрестках этого пути выросли такие крупные торговые города, как Ур, Аккад, Вавилон и Ниневия (все они расположены на территории современного Ирака). Поток и разнообразие товаров, проходящих через эти города, постоянно возрастали. Торговля распространялась сперва на Средний Восток, затем по Средиземноморью и по Атлантическому побережью Европы, а на восток — до самого Китая. К моменту падения Рима товары всю дорогу от Чанъаня (Сианя) — столицы Ханьской империи — до Лондона проходили через множество посредников. Гибель Римской империи стала естественной границей между древней эпохой оживленной торговли и позднейшим периодом.
Главы 3-6 рассказывают о том, как развивалась торговля через Индийский океан. Эта история, как и положено, начинается в далекой западной Аравии в конце античной эпохи, а затем происходит взрывоподобное распространение ислама — религии торговцев, — который утвердился на территории от Андалузии до Филиппин. Пророк Мухаммад был торговцем. Ислам послужил тем клеем, который скрепил воедино развитую систему крупных торговых портов. Теперь местные купеческие династии и торговые касты дальних земель тесно переплелись, объединенные общей целью — выгодой. Нужно добавить, что европейцы в этой системе почти совершенно отсутствовали. В период почти тысячелетнего завоевания мусульманами Аравии, Азии и Африки европейцы были вытеснены с Индийского океана. В мусульманской системе каждое государство стояло перед основной трилеммой торговли: торговать, грабить или защищать? В то время, как и сейчас, то, как правительство государства, будь то самый скромный независимый город или великая империя, решало для себя этот вопрос, определяло и торговое окружение и, в конечном счете, судьбу этого государства.
Главы 7-10 рассказывают о том, как пошатнулась огромная мультикультурная торговая система, когда Васко да Гама обошел мусульманскую «блокаду», закрывшую для европейцев ворота в Индийский океан. Португальцы, обогнув мыс Доброй Надежды, открыли новую эпоху европейского торгового господства. За несколько десятилетий после этого знаменательного события Португалия овладела ключевыми гаванями Индийского океана в Гоа и получила контроль над западными оконечностями Малакки и Ормуза. (Хотя овладеть Аденом на входе в Красное море ей не удалось.) Веком позже португальцев потеснили голландцы, которых, в свою очередь, отодвинула в тень Английская Ост-Индская компания.
В то время как историю предмодерна формировали амбиции королей и купцов, а также религия пророка Мухаммада, мирская идеология крепла и приближала новое время. Главы 11-14 исследуют современную мировую торговлю с точки зрения новых экономических учений. Как писал в своей знаменитой работе Кейнс:
Практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. Безумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад.{19}
«Академические писаки» от торговли Нового времени — Давид Рикардо, Ричард Кобден, Эли Хекшер, Бертиль Олин, Вольфганг Столпер и Пол Сэмюэлсон — могли бы помочь нам осознать нарастающие сдвиги в нашей все более интегрированной глобальной системе.
Хотя эта книга построена по хронологическому принципу, многие вставные рассказы могут выбиваться из череды событий и дат. К примеру, две тесно связанные истории об арабской торговле благовониями и о приручении верблюда на самом деле развивались тысячелетиями. С другой стороны, средневековые путешественники, оставившие подробные записи о своих странствиях — Марко Поло, сын марокканского судьи ибн-Баттута, португальский аптекарь Томе Пиреш, — сообщили нам истории объемные и детальные, но длившиеся лишь десятилетия.
И наконец, хочу добавить два, на первый взгляд, простых замечания об этой книге. Во-первых, торговля является неотъемлемой человеческой потребностью, такой же важной, как потребность в пище, в крыше над головой, как половое влечение или дружба. Во-вторых, стремление торговать сильно повлияло на расселение людей. Просто в государствах накапливался избыток того, что в данной географической, климатической, интеллектуальной обстановке производилось лучше всего, и между государствами начиналась торговля, способствовавшая глобальному благополучию. Закон относительных преимуществ Рикардо говорит, что аргентинцам выгоднее выращивать коров, японцам производить автомобили, а итальянцам изготавливать модную обувь, чем всем этим трем странам обеспечивать товарами самих себя. Кроме того, веками корабли и верблюды вместе с тюками поклажи перевозили интеллектуальный капитал человечества: арабские (а на самом деле, индийские) цифры, алгебру, принципы двойной бухгалтерии. Не будь нужды в дальних плаваниях, у нас до сих пор не было бы точных часов. Не будь надобности перевозить на дальние расстояния большие количества скоропортящихся продуктов, не появился бы холодильник, такой привычный в каждом доме по всему миру.
Жизнь течет, как вечно полноводная торговая река. Если мы хотим понять скорость и характер ее течения, нам придется отправиться к ее истокам — древним торговым узлам под названиями Дильмун или Камбей — и оттуда взглянуть в будущее.
ПРИМЕЧАНИЕ
По многим вопросам здесь могут возникнуть разночтения. Конечно, я не мог удержаться от множества мелких подробностей, украшающих рассказ. Чтобы не обрывать нить повествования, те места, где встречаются противоречия, я пояснил в концевых сносках. Любознательные читатели могут их изучить, но их можно и проигнорировать.
События, описанные здесь, происходили в разных краях. Транскрипция названий не всегда проста и однозначна. Тем не менее я старался пользоваться словарями и академическими источниками.
В книге идет речь о деньгах более чем тысячелетнего периода истории. Основная доисторическая денежная единица, удивительным образом, оставалась постоянной. Это мелкая золотая монета весом приблизительно 4 грамма 1/8 унции) и размером с современный американский десятицентовик. В разных местах и в разные времена эта монета называлась французским ливром, флорентийским флорином, испанским или венецианским дукатом, португальским крузаду, динаром в мусульманском мире, византийским безантом или позднеримским соли-дом. При нынешних ценах на золото она примерно соответствует 80 долларам США. Но есть три исключения. Это голландский гульден, который составлял только 1/5 от этого веса, английский соверен, весивший один фунт, и раннеримский золотой ауреус, который составлял двойной вес этой монеты. Мусульманский дирхем, греческая драхма и римский динарий были серебряными монетами примерно одного размера и веса. Каждая из них соответствовала дневному заработку среднего ремесленника и относилась к золотой монете как 1/12.
ГЛАВА 1. ШУМЕРЫ
Послания, которые мы получаем из далекого прошлого, не предназначены нам и не избраны нами специально. Это — случайные осколки, которые пощадили природа и человек. Они также напоминают нам о непредсказуемости вселенной знаний и о загадочных пределах наших возможностей исследовать мир.
Дэниел Бурстин{20}Где-то около трех тысяч лет до нашей эры племя скотоводов атаковало маленькое поселение шумеров во время сбора урожая. Налетчики напали неожиданно, обрушив на противника с безопасного расстояния стрелы, метательные копья и камни из пращи. Вооружившись булавами, жители деревни сошлись с нападавшими в ближнем бою. Булава — круглый камень, прикрепленный к концу прочной палки и предназначенный для проламывания вражьих голов. Она стала первым оружием человека исключительно против себе подобных (животные имеют толстые угловатые черепа и редко подставляются для удачного удара булавой). В отношении же разбивания хрупкого и круглого человеческого черепа булава показала высокую эффективность, вне зависимости от того, бежит ли обладатель черепа на атакующего или убегает от него.{21}Набеги во время сбора урожая были обычным делом. Козы и овцы скотоводов сильно страдали от болезней и зависели от капризов природы, поэтому для выживания кочевого племени были необходимы частые рейды для захвата зерна у относительно более обеспеченных земледельцев-соседей. В этом конкретном бою у скотоводов были странные блестящие головные уборы, которые, как оказалось, в определенной степени защищали своих владельцев. Некогда смертельные тяжелые прямые удары булавами теперь лишь слегка оглушали, а то и вовсе соскальзывали с гладкой поверхности. Это преимущество в защищенности изменило баланс сил на поле брани, позволив кочевникам ограбить противников.
После боя выжившие земледельцы изучили головные уборы тех немногих врагов, что пали в сражении. Эти «шлемы» представляли собой трехмиллиметровую оболочку из незнакомого красноватого материала на кожаном наголовнике. Жители деревни никогда прежде не видели меди, ее не было в осадочных породах равнин между Тигром и Евфратом. Нападавшие же приобрели металл у торговцев, живших у месторождений в сотнях километров к западу, в Синайской пустыне. Вскоре и шумеры нашли своих поставщиков, что позволило им изготавливать более смертоносные шипастые булавы с медным навершием. Скотоводы же ответили более толстыми шлемами. Так началась гонка вооружений, которая и по сей день зависит от редких металлов, которые удается купить.{22}
Как же эти земледельцы и скотоводы приобретали медь для своих шлемов и как эта торговля связывала месторождения с удаленными на сотни километров пастбищами и полями? Палеонтологи полагают, что все началось шестьдесят-восемьдесят тысяч лет назад, когда проживавшая в Африке первая генетически современная популяция людей начала изобретать все более сложные инструменты, сверлить раковины (предположительно для ожерелий) и рисовать красной охрой абстрактные изображения. Около пятидесяти тысяч лет назад небольшая их часть мигрировала через Палестину в земли Плодородного Полумесяца (Переднюю Азию) и Европу. Несколько ранее произошло усовершенствование языка, и вскоре возникли уникально «человеческие» проявления: искусно изготовленные из кости и оленьего рога предметы быта, наскальные рисунки, скульптура. Оттачивалась технология изготовления оружия дальнего боя: появились копьеметалки — особым образом сделанные палки, с помощью которых увеличились дальность и точность броска копья. Возрастающая сложность этих технологий вероятно и способствовала появлению еще одного занятия, характерного для современных людей: торговле с удаленными племенами новым оружием, инструментами и безделушками.{23}
С другой стороны, историки традиционно цитируют Геродота, описавшего в 430 году «безмолвную торговлю» между карфагенянами и «расой людей из той части Ливии, что лежит за Геркулесовыми столпами» (Гибралтарским проливом), наиболее вероятно — из Западной Африки:
Всякий раз, когда карфагеняне прибывают к тамошним людям, они выгружают свои товары на берег и складывают в ряд. Потом опять садятся на корабли и разводят сигнальный дым. Местные же жители, завидев дым, приходят к морю, кладут золото за товары и затем уходят. Тогда карфагеняне опять высаживаются на берег для проверки: если они решат, что количество золота равноценно товарам, то берут золото и уезжают. Если же золота, по их мнению, недостаточно, то купцы опять садятся на корабли и ожидают. Туземцы тогда вновь выходят на берег и прибавляют золота, пока купцы не удовлетворятся. При этом они не обманывают друг друга: купцы не прикасаются к золоту, пока оно неравноценно товарам, так же как и туземцы не уносят товаров, пока те не возьмут золота.{24}
К сожалению, описание обеих сторон, приведенное Геродотом, весьма напоминает миф.{25} Однако суть исходного сценария он, по-видимому, уловил верно. Однажды, в далекие первобытные времена человек или группа людей установили первые торговые пути, используя воду и лодку.
Возможно, к созданию лодки людей подтолкнул голод. Двенадцать тысяч лет назад Северная Европа напоминала современную Лапландию: холодные, дикие земли с деревьями, куда более редкими и низкорослыми, чем сегодня. Первые Homo sapiens, возможно, только что победившие неандертальцев, сильно зависели от охоты на крупную дичь, в первую очередь от северных оленей. Даже в идеальных условиях успех охоты на этих быстроногих животных с копьем и луком не гарантирован. Но у северного оленя был один недостаток, который люди безжалостно использовали: он плохо плавал. Загнанный в воду, он был уязвим. Он плыл медленно, запрокинув голову, чтобы удержать нос над поверхностью воды. В какой-то момент неизвестный гений каменного века догадался, что скольжение по водной поверхности дает охотнику колоссальное преимущество, и сделал первую лодку. После того как добыча была настигнута, убита и затащена в лодку, транспортировка туши до стойбища по воде была значительно легче, чем по суше. Вскоре люди стали использовать воду для перевозки и других грузов.
Наскальные рисунки и найденные на побережьях обломки говорят о том, что первые лодки появились в Северной Европе около пятнадцати тысяч лет назад. Они представляли собой шкуры животных, натянутые на жесткий каркас (чаще всего, из оленьего рога), и использовались как для охоты, так и для транспортировки. Обычно гребец располагался сзади, а охотник или пассажир — спереди. Не случайно в археологических находках этого периода часто попадаются иглы из оленьего рога — они были необходимы для сшивания и латания шкур, из которых были сделаны борта лодки. Эти суда предшествовали более «примитивным» вытесанным из бревен каноэ, так как в холодной лесотундре не росло деревьев, достаточно толстых для того, чтобы вместить в себя человека.
О древнейших торговых путях нам могут рассказать лишь самые долговечные предметы (в основном, каменные орудия). Одним из первых товаров, перевозимых на лодках, был обсидиан, черный камень (на самом деле, стекло) вулканического происхождения. Сейчас он особо популярен среди садовников и ландшафтных дизайнеров, а первобытные люди ценили обсидиан не за его эстетические свойства, а за легкость изготовления орудий труда и оружия с острыми краями. Ценность обсидиана для истории обусловлена двумя фактами. Во-первых, он добывался в очень немногих местах, где ранее имели место извержения вулканов. Во-вторых, с помощью спектроскопического метода «отпечатков пальцев» можно отследить, из какого конкретно вулканического источника происходит тот или иной образец минерала.
Найденные в пещере Франхти (побережье Греции) осколки обсидиана возрастом более пятнадцати тысяч лет происходят из вулкана Мелос, находящегося в 150 километрах от берега. По-видимому, их перевозили в лодках, хотя не было обнаружено ни археологических останков, ни литературных следов или устных преданий о том, как обсидиан с Мелоса достиг материка. Привозили ли эти отломки торговцы, выменивающие обсидиан на местные товары, или жители побережья сами снаряжали туда экспедиции?
С учетом спектроскопических данных «отпечатков пальцев» обсидиана изучались пути его распространения в разных регионах — от стран Плодородного Полумесяца до Юкатана. В Средней Азии ученый Колин Ренфрю сопоставлял месторождения и образцы, датируемые примерно шестью тысячами лет до нашей эры. Количество обсидиана, найденное при разных раскопках, резко убывало по мере удаления от источника. Это сильный аргумент в пользу наличия в те времена торговли. Например, все каменные лезвия, найденные в Месопотамии, прибыли туда из двух месторождений в Армении. На расстоянии около четырехсот километров от вулкана обсидиан составлял около 50% обработанных камней, а в другом месте раскопок, уже в восьмистах километрах от месторождения, на долю обсидиана приходилось лишь 2%.{26}
Пути распространения обсидиана в каменном веке позволяют нам представить усилия, которые приходилось затрачивать доисторическим торговцам. Перевозка этого камня из Армении в Месопотамию эквивалентна передаче рождественской посылки из Бостона в Вашингтон. Но в те времена доставка занимала у купца около двух месяцев с учетом времени на обратную дорогу и обошлась бы не в несколько долларов, а в пять-десять тысяч по нынешним ценам.
С развитием сельского хозяйства оседлые земледельцы освоили мореходные технологии, начав использовать обтянутые кожей каркасные лодки для речных путешествий. Тогда зародились паттерны торговли, которые останутся неизменными в течение тысячелетий. Более продвинутые земледельческие общины перевозили зерно, скот, одежду и инструменты. Они обменивали эти предметы на товары охотников и собирателей, в первую очередь — на звериные шкуры. Археологи обычно находят остатки таких доисторических рынков на небольших, не покрытых лесом речных островах. Это не случайно: такие места не только удобны для лодок, но и сводят к минимуму шансы успеха засады.
До наших дней дожили лезвия топоров и тесел, произведенных около семи тысяч лет назад, — доказательства водной торговли в каменном веке. Археологи установили, что источником материала для этих инструментов были балканские каменоломни. Каменные фрагменты топоров и тесел были найдены на всем пути от места впадения Дуная в Черное море до Балтийского моря и северных морей. Эти каменные артефакты, найденные на столь значительном удалении от достоверно установленного источника, доказывают существование между удаленными поселениями оживленной торговли с богатым ассортиментом.{27}
Транспортировка водным путем по природе своей дешевле и эффективней сухопутной. Вьючная лошадь может нести на спине около девяноста килограммов груза. При наличии телеги и хорошей дороги она способна перевозить до 1,8 тонны. Затрачивая те же усилия, это же животное может бечевой тягой транспортировать по каналу до 27 тонн — груз, который могли перевозить древние парусные суда.{28}
Геродот описывал подобные каркасные суда, перевозившие вино «в бочонках из пальмового дерева». Суда были «круглыми, как щит». Они были сделаны из шкур и управлялись двумя армянскими торговцами, сплавлявшимися по Евфрату в Вавилон. Это судно — прямой потомок более ранних грузовых барж для морской торговли. Судно было круглым (и оттого медленным), чтобы взять на борт больший вес при минимальном экипаже и расходе материала. Для контраста: военные суда с древних времен были узкими, быстрыми и обладали меньшей грузоподъемностью.
Самая большая грузовая лодка могла перевозить около четырнадцати тонн. Обычно с собой брали несколько ослов. По окончании путешествия деревянный каркас лодки выбрасывали, а ценные шкуры паковали и перевозили обратно в Армению на спинах животных. Геродот объяснял:
Вверх по реке ведь из-за быстрого течения плыть совершенно невозможно. Поэтому и суда строят не из дерева, а из шкур. Когда же купцы на своих ослах прибывают в Армению, то строят новые суда таким же способом.{29}
По возвращении в Армению фермеры могли натянуть шкуры на новый каркас, загрузить лодку свежим грузом, и долгое путешествие к центрам торговли начиналось заново. Без сомнения, в каменном веке охотники и собиратели Северной Европы так же сплавляли свои товары вниз по течению и возвращались обратно, разобрав лодки.
По-видимому, так и выглядела зарождающаяся торговля. Помимо желания защищать свою территорию или отбирать чужую, родилась одна из древнейших и наиболее устойчивых в истории тенденций: обмен продуктов, произведенных живущими на плодородных землях аграрными сообществами, на металлы из менее урожайных земель.
Примерно шесть тысяч лет назад человек научился очищать медную руду, лежащую непосредственно над залежами чистого металла. Вскоре после этого шахты Эргани (Анатолия, современная азиатская часть Турции) стали снабжать медью ранние поселения близ Урука (современный Ирак, около 160 км к западу от Басры). Эргани и Урук соединяла река Евфрат. Хотя суда того времени могли с легкостью за пару недель переправить несколько тонн меди до Урука, транспортировка сотен тонн зерна в Анатолию должна была создавать больше проблем.{30}
Более поздние цивилизации Месопотамии стали использовать ближе расположенные залежи минералов в районе Персидского залива. После появления письменных источников (3 тысячи лет до нашей эры) в них многократно проскальзывает информация об интенсивной торговле зерном и медью, пути которой пролегали в этой области. Земля молока и меда из шумерского мифа о сотворении мира называлась Дильмун, славилась богатствами и находилась примерно там же, где современный остров Бахрейн. Однако процветание этой земли пришло не благодаря относительно плодородной почве, а из-за стратегически выгодной позиции — сюда в Ормузский пролив на входе в Персидский залив свозили для продажи медь, добытую в стране Маган (ныне Оман).
Недалеко от современного Калат-аль-Бахрейна, при раскопках вероятного местонахождения страны Дильмун было обнаружено множество предметов бронзового века. Древнее поселение занимало всего 0,2 км2, но в нем проживало около пяти тысяч человек. Это явно больше, чем могли прокормить прилегающие к городу поля и сады. Из клинописных источников известно, что небольшие поставки продовольствия (несколько тонн ячменя) на остров Дильмун и в страну Маган начались около 2800 года до н. э. К концу того же тысячелетия эти поставки выросли и достигали нескольких сотен тонн каждая. Невероятно рано возник древний эквивалент Лас-Вегаса — большая популяция, проживающая в относительно пустынной местности. Ее выживание зависело от продовольствия, доставляемого за сотни километров.{31}
Раскопки Дильмуна открывают нам захватывающую детальную картину шумерской торговли зерном и медью в Персидском заливе. Город стоял на острове с источниками «сладкой», как писали в древности, т. е. пресной воды. К 2000 году до н. э. город занимал территорию, почти равную по площади крупнейшему из месопотамских городов — Уру. В центре Дильмуна располагалась площадь, одной стороной выходящая к морским воротам. На другой ее стороне стоял дом, полный печатей и весов, наиболее вероятно, таможня. По периметру площади громоздились огромные корзины с ячменем и финиками с берегов Тигра. Были тут и более ценные товары: одежда из Месопотамии, олово и слитки меди, готовые к отправке в Ур. Слитки лежали сразу за стенами таможни. Их охраняли крепкие матросы, пока их начальство, используя подкуп и лесть, договаривалось с представителями власти внутри здания.
К 1800 году эти слитки вероятно предназначались торговым домам Эа-насир, крупнейшему объединению торговцев медью в Уре, в котором археологи нашли множество глиняных табличек, раскрывающих подробности этой стратегической торговли.{32} На одной из табличек зафиксирована поставка 12 тонн меди, на другой — жалоба клиента, некоего Нанни:
Ты сказал: «Я дам Гимиль-Сину хорошие слитки». Ты сказал так, но не сделал. Ты предложил плохие слитки моему человеку и сказал: «Возьми их или уходи». Кем ты меня считаешь, раз так поступаешь со мной? Разве мы не люди слова?{33}
Первые металлурги, поставлявшие медь для торговых домов Эа-насира, вероятно, были неутомимыми экспериментаторами. Процесс выплавки чистой меди с удалением из породы серы, кислорода, хлора и карбонатов (в зависимости от типа руды) появился 3500 году до н. э. Вскоре после этого металлурги стран Плодородного Полумесяца стали смешивать медь с экзотическим для них оловом, привозимым из других стран. Сплав олова и меди был таким же твердым и долговечным, как и прежние сплавы меди с мышьяком или с сурьмой. Но температура его плавления была ниже, и он не пузырился, что облегчало отливку.
Этот волшебный новый сплав был бронзой. Она быстро стала стандартным материалом для изготовления разнообразных видов оружия, кухонной утвари, церемониальных объектов и сельскохозяйственных инструментов. Не случайно ранние династии шумерского города Ур, бывшие пионерами организованного земледелия, также первыми открыли оптимальную пропорцию смеси меди и олова (10:1), где-то около 2800 года до н. э.{34}
Мышьяк и сурьма были доступны для шумеров и дешевы. А вот олово было дорогим и привозилось издалека. Цена олова в десять раз превышала цену меди, и это соотношение сохранялось до начала XX века. Но откуда же привозили этот редкий металл? Бретань и Корнуолл начали добывать олово еще до 2000 года до н. э., однако нет данных о навигации через Геркулесовы столпы (Гибралтарский пролив) до 450 года до н. э., когда финикийский мореплаватель Гимилькон вышел в открытый Атлантический океан и вернулся с оловом из северных шахт Европы.{35} Историки выдвигают теорию, что олово из Северной Европы поступало в страны Плодородного Полумесяца через Францию по множеству сухопутных маршрутов, в основном пролегающих в бассейне реки Гаронны, которая течет на северо-запад от истоков у побережья Средиземного моря к Атлантическому океану (туда, где ныне расположен город Бордо). В этот же период выявились месторождения этого ценного металла в Центральной Азии. Возможно, использовались все три пути — по морю через Гибралтар, по суше через Францию и из Центральной Азии.
То там, то тут перед археологами, будто дразня, приоткрывается завеса, скрывающая от нас прошлое. В 1983 году морской археолог Дон Фрей показывал слайды турецким ныряльщикам за губками, которые часто сообщали ученым об останках затонувших судов. После этого один из ныряльщиков рассказал Фрею о груде слитков на морском дне под скалой близ города Бодрум в западной Турции. Это место называлось Улу-Бурун. Отправленная туда экспедиция обнаружила обломки судна, затонувшего около 1350 года до н. э. Судно везло значительное количество древних товаров: необработанные бивни слонов и бегемотов, древнее стекло и большое количество медных слитков. Среди этой экзотики было найдено несколько фрагментов оловянных слитков, самой ранней его разновидности. По оценкам археологов, на борту судна было около тонны олова и десяти тонн меди, что соответствует идеальному соотношению этих металлов в бронзе: один к десяти.{36} Принадлежность судна и источник олова остались неизвестными.{37}
Если очевидность столь дальних торговых перевозок олова в древнем мире представляется сомнительной, то лишь потому, что так оно и есть. Первые клинописные таблички появились в 3300 году до н. э. (после начала выплавления меди, но до появления бронзы). Археологические доказательства существования торговли до этой даты очень скудны. Но если бы за три тысячи лет до нашей эры существовали дальние торговые перевозки олова, должны существовать столь же дальние бартерные перевозки других ценных материалов — парусины, ладана, мирры, тигровых шкур, страусовых перьев, а также обмен тысячами разных образов, звуков и запахов, затерявшихся в глубинах ушедших веков.
* * *
Сейчас Запад обеспокоен своей зависимостью от нефти, которую поставляют из наиболее политически нестабильных регионов планеты. Положение древней Месопотамии было намного хуже. Равнины между двух рек в избытке имели воду и илистые отложения, а потому в изобилии имели ячмень, пшеницу-двузернянку, рыбу и шерсть. В то же время эта колыбель древней цивилизации была полностью лишена стратегических для тех времен материалов: металлов, леса и даже камня для строительства. Выживание великих народов Месопотамии (шумеров, аккадцев, ассирийцев и вавилонян) зависело от обмена избытка продовольствия на металлы из Омана и с Синайского полуострова, гранита и мрамора из Анатолии и Персии и дерева из Ливана.
По мере роста амбиций этих цивилизаций удлинялись и торговые пути. В четвертом тысячелетии до нашей эры Плодородный Полумесяц был не единственным регионом, в котором происходило объединение общин. Организованная сельскохозяйственная, военная, религиозная и административная деятельность начиналась в те времена и в долине реки Инд (на территории нынешнего Пакистана). Существуют доказательства торговли между этими двумя регионами даже до изобретения письменности. Археологи обнаружили в Месопотамии лампы и чаши, сделанные из раковин моллюсков, обитающих только в Индийском океане и в Оманском заливе. Так как цена транспортировки в те времена была просто астрономической, неудивительно, что эти раковины были найдены лишь во дворцах или в могилах знатных людей.
К 2500 году до н. э. вкусы изменились. На смену чашам и лампам из раковин пришли инструменты и украшения из меди. На этом этапе цены перевозчиков тоже были недоступны для простых людей, которым приходилось использовать каменные инструменты. Если бы кто и мог позволить себе медные предметы быта, то, вероятнее всего, эти высококачественные товары в первую очередь предназначались лишь для элиты и военных.
В течение последующих пяти сотен лет металл становился все более доступным, и медные инструменты стали использоваться в Месопотамии повсеместно. Из-за своей высокой стоимости медь использовалась для бартера наряду со скотом и зерном в течение всего бронзового века. Через несколько столетий, около 2000 года до н. э., увеличение поставок меди обесценило этот металл. Это привело к использованию в обмене товарами вместо нее серебряного эквивалента, или к появлению привычного нам понятия деньги.
Признание серебра как признаваемой всеми валюты способствовало развитию торговли, так как облегчило покупку и продажу на рынках в других странах. Без него торговля требовала обмена одного товара на другой. При наличии десяти разных товаров существует сорок пять возможных пар товаров для бартера, а следовательно, и цен. С распространением серебряных денег было необходимо лишь десять цен — по одной за каждый товар. Кроме того, субъективность оценки («Стоит ли корова сорок куриц или сорок пять?») делала бартер слишком ненадежным для масштабных сделок.
Нанни и Эа-насир, два участника торговли, с которыми мы уже встречались несколько страниц назад, были свидетелями становления древних финансовых рынков. Купцы, торговавшие зерном и металлом, так называемые алик-Дильмун (в переводе «предприимчивые дельцы с Дильмуна»), были вынуждены покупать большое количество сельскохозяйственной продукции, а затем оснащать корабли и нанимать экипажи для транспортировки этих товаров на Дильмун. Это требовало капиталовложений от внешних инвесторов, которые в свою очередь ожидали достойную прибыль. Контракт, записанный на глиняной табличке, дает нам уникальную возможность узнать о такой финансовой операции. Это заем, даваемый богатым человеком, названным «U», двум торговым партнерам «L» и «N»:
Две мины серебра [которые являются ценой] пяти гуров масла, тридцать одеяний для экспедиции на Дильмун, чтобы купить там меди для L и N… По благополучному окончанию путешествия U да не узнает убытка. Должники согласились вознаградить U четырьмя минами меди за каждый шекель серебра, это справедливая цена.{38}
Другими словами, U дает торговцам взаймы 120 шекелей (две мины) серебра. Взамен он ожидает получить 480 мин (около четверти тонны) меди. Если путешествие закончится неудачно, торговцы L и N возместят убыток.
Мы достоверно знаем об обширном потоке импорта в Месопотамию: слоновая кость, ювелирные изделия, рабы, парфюмерия и масла. Куда менее известно, что экспортировалось из этого региона помимо зерна. Так как Месопотамия была богатейшим сельскохозяйственным регионом мира, должен был существовать и другой «невидимый» экспорт таких товаров, как рыба и шерсть.{39} Историк Кристофер Эденс отмечает, что наши знания о древней торговле к северу и югу от Тигра и Евфрата «односторонние и основаны на находках незначительного количества документов, не согласующихся между собой… Экономические документы отражают внешнеторговые инициативы Месопотамии, а не других стран… Другие источники указывают на прибытие заморских судов, но не раскрывают, какой груз они везли».{40}
В то же время обрывки исторических сведений свидетельствуют о системе дорог и морских путей длиной около трех тысяч миль. Она представляла собой дугу, идущую от гор Анатолии на юго-восток через Месопотамию и Персидский залив, на восток через прибрежные воды Индийского океана и на северо-восток по долине реки Инд.{41} Это была, если угодно, Всемирная Торговая Организация, версия 1.0. Торговля в этой обширной сети должна была проходить не напрямую (прямая торговля появилась много позже, при возникновении границы между Римской империей и Китаем), а через десятки, если не сотни отрезков пути, посредников и сделок. Хотя анатолийцы и жители долины Инд знали товары друг друга, неизвестно, встречались ли они когда-нибудь. Скорее всего, их разделяло неизвестное количество посредников. По возможности торговцы использовали транспортировку по воде. Там, где она была недоступна, применялись первые домашние вьючные животные — ослы.{42}
Самые ранние торговые сделки заключали представители власти и храмов, но к 2000 году до н. э. торговля с дальними странами у шумеров большей частью перешла в частные руки (как в случае с Эа-насир), в то время как в Египте она оставалась под контролем государства. Неясно, стал ли этот торговый путь длиной почти три тысячи миль домом для первых «торговых диаспор» — постоянных колоний иностранных торговцев, осуществляющих сделки между своим родным и приемным домом. Посредникам верили в городах, где они жили как гости, так же как и на родине.
Археология изобилует крайне интересными находками, проливающими свет на прошлое. Это наборы печатей, обнаруженные в Месопотамии и характерные для долины Инда, или булавки с головками в виде звериных голов из Междуречья, найденные у берегов Инда. Каменные печати служили древним аналогом заводской упаковки. Торговец помещал на мешок или ящик комок глины, а затем прижимал его печатью, выдавливая свой знак. Высохнув и затвердев, печать служила покупателю гарантией качества содержимого и свидетельством того, что товар не попорчен и не вскрыт в пути. Часто для указания типа и количества товара использовались более мелкие каменные знаки.{43} Представители власти добавляли свои собственные метки. Торговые и государственные знаки разных цивилизаций были легко отличимы, поэтому печати «долины Инда», найденные в Месопотамии, скорее всего свидетельствуют о наличии поселения индийских торговцев в Междуречье.
Наиболее убедительные доказательства существования торговых диаспор найдены на западной оконечности «дуги». В 1990-х годах археолог Гилштейн проводил раскопки в Хаджинеби-Тепе (Анатолия), в самой северной точке судоходной части Евфрата. Здесь он нашел признаки развитой местной культуры, существовавшей с 4100 года до н. э.: большое количество домов, погребальные урны и самое примечательное — характерные плоские каменные печати. Группа этого ученого также обнаружила в этих раскопках маленькую зону с артефактами, характерными для Урукской цивилизации и датируемыми 3700 годом до н. э. Среди этих артефактов были типичные месопотамские цилиндрические печати и кости коз со следами разделки, характерной для Междуречья. Хотя возможно колония была представительством оккупационных сил с юга, это представляется маловероятным по ряду причин. Во-первых, колония была достаточно мала. Во-вторых, она не была обнесена стеной. В-третьих, передвижение вверх по течению реки было редким. В-четвертых, по военному развитию анатолийцы не уступали жителям Месопотамии. Сложно отрицать, что Штейн открыл древнейшую из известных торговых диаспор, возможно возникшую одновременно с появлением в этой области медного производства.{44}
После изобретения письменности около 3300 года до н. э. занавес, скрывающий прошлое, чуть приподнялся и открыл нашему взору уже устоявшиеся торговые пути, по которым перевозили не только предметы роскоши и товары стратегического значения, но и большое количество товаров широкого спроса, такого как зерно и древесина.
* * *
К 3000 году до н. э. главной артерией торговли служил Персидский залив. По мере продвижения цивилизации на запад — в Египет, Финикию и Грецию — все более важным становился морской путь из Красного моря в Индийский океан через Баб-эль-мандебский пролив (там, где сейчас находится Йемен). В течение более чем четырех тысяч лет Египет и Красное море были ключевой точкой мировой торговли, что приносило Египту небывалую прибыль.
Египет до эпохи Птолемея располагал достаточным количеством каменоломен. Египтянам были доступны и медные шахты близлежащей Синайской пустыни. Поэтому они не зависели так от торговли с другими странами, как шумеры. Египтянам для самодостаточности не хватало лишь дерева, которое они могли импортировать через Средиземное море из Финикии. Финикийское дерево очень ценилось из-за устойчивости к гниению.
Египетские корабли бороздили Красное море до «страны Пунт» (современные Йемен и Сомали), лежащей примерно в 2400 км к югу.{45} Есть данные, что такие путешествия совершались уже в 2500 году до н. э. Удачная археологическая находка в подробностях повествует нам об одной такой экспедиции, случившейся около 1470 года до н. э. по приказу царицы Хатшепсут.
После 1479 года до н. э. Хатшепсут правила как регентша сына покойного мужа и двоюродного брата. Ее усыпальница находится в Дэйр эль-Бахри (на берегу Нила близ Луксора). Барельефы и тексты на стенах той гробницы рассказывают о торговой экспедиции в Пунт.
Эта история записана на четырех плитах. На первой нарисовано несколько галер, около двадцати семи метров в длину каждая. Галеры были оснащены парусами и командами гребцов. На следующей плите изображена разгрузка тюков в Пунте, предположительно с зерном и тканями из Египта. На третьем барельефе идет погрузка деревьев, а на четвертом — возвращение судов домой. Над этим фризом написано следующее:
Корабли переполнены диковинами страны Пунт: прекрасные и благоухающие деревья с земли богов, большое количество смолы миррового дерева, эбеновое дерево, чистейшая кость, зеленое золото Эму, коричное дерево, дерево хесит, ладан, косметика для глаз, большие и малые обезьяны, собаки, чернокожие туземцы и их дети. Ни одному из фараонов от начала времен не привозили ничего подобного.{46}
После окончания правления Хатшепсут династия Египта пришла в упадок, и торговлю в Красном море стали контролировать финикийцы. Дальние потомки хананейских моряков, они поселились на территории нынешнего Ливана. Эта территория была богата лесом и стратегически выгодно расположена — между Египтом и Месопотамией. Ни один из древних народов не занимал столь же удачной позиции, позволявшей не менее эффективно торговать по морю. Торговое господство финикийцев в восточном Средиземноморье длилось более тысячи лет. Вероятно, именно они стали напрямую осуществлять торговлю на больших расстояниях. В Третьей книге Царств написано:
Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Чермного моря, в земле Идумейской.
И послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми;
и отправились они в Офир, и взяли оттуда золота четыреста двадцать талантов, и привезли царю Соломону.{47}
Перевод: дальняя торговля в Соломоновом царстве в начале первого тысячелетия до нашей эры осуществлялась финикийцами (Хирам был царем Тира, самого могущественного города-государства Финикии). Под «Ецион-Гавером», наиболее вероятно, подразумевается портовый город Талл аль-Хулайфах близ Эйлата («Елафа») в заливе Акаба на северо-востоке Красного моря. «Офир» — это, по-видимому, Индия. Это подтверждается теми товарами, которые были привезены: драгоценные металлы, павлины, слоновая кость и обезьяны.[4] Упомянутые 420 талантов золота — это около 13 тонн, что составляет по современному курсу около 270 миллионов долларов — огромные деньги, даже по сегодняшним меркам.
К 400 году до н. э. финикийцам была хорошо известна большая часть побережья Западной Европы, Западной и Восточной Африки.{48} По меркам древнего мира это был невероятный размах торговли. Превосходство финикийцев в дальнем мореплавании было столь велико, что около 600 года до н. э. фараон Нехо финансировал экспедицию финикийского экипажа вокруг Африки. Геродот писал:
После прекращения строительства канала из Нила в Аравийский залив царь послал финикиян на кораблях. Обратный путь он приказал им держать через Геракловы Столпы, пока не достигнут Северного моря и таким образом не возвратятся в Египет. Финикияне вышли из Красного моря и затем поплыли по Южному. Осенью они приставали к берегу и в какое бы место в Ливии ни попадали, всюду обрабатывали землю; затем дожидались жатвы, а после сбора урожая плыли дальше. Через два года на третий финикияне обогнули Геракловы Столпы и прибыли в Египет. По их рассказам (я-то этому не верю, пусть верит, кто хочет), во время плавания вокруг Ливии солнце оказывалось у них на правой стороне.{49}
Что представляется сомнительным для Геродота — во время плавания на запад солнце можно видеть справа (то есть на севере), — то убеждает современного читателя. То, что историк древности не знал, как движется солнце в южном полушарии (более чем за две тысячи лет до Васко да Гамы), делает историю об отважном путешествии финикийцев вокруг Африки еще более впечатляющей.[5]
Затем средоточие власти сместилось на восток, в Персию, у которой были свои виды на район Эгейского моря. В поисках альтернативы трудному пути по суше через Геллеспонт Дарий Великий прорыл канал в Суэце, изначально запланированный фараоном Нехо и соединяющий Нил (а значит, и Средиземное море) с Красным морем.{50} Однако амбиции персов относительно Эгейского моря потерпели крах в начале V века до н. э. в битвах при Марафоне, Саламине и Платеях. На политическую, торговую и военную сцену Средиземноморья вышли греки.
* * *
Хотя независимые греческие и финикийские города-государства активно торговали и основывали колонии в пределах Черного и Средиземного моря (а финикийцы время от времени путешествовали и за пределы Средиземного моря), их основная торговая сфера не выходила ни в океан, ни в глубь континентов. Имперские амбиции афинян вскоре переключились на Пелопоннесскую войну, ослабившую Грецию и расчистившую путь Александру Македонскому к покорению Греции, Египта и Западной Азии в конце IV века до н. э. Захват этих земель привел к эллинизации западного мира и значительно расширил ареал мировой торговли.
Самым долгоживущим наследием Александра стал основанный им город Александрия. В течение столетий он был базой для крайне доходной торговли с Аравией, Индией и Китаем. Империя после смерти Александра в 323 году до н. э. просуществовала недолго. Держава распалась на враждующие государства диадохов. Одним из таких государств стал Египет, возглавляемый Птолемеем, перенявшим морские и торговые традиции предшественников, а также финикийскую технологию судостроения (кедровые дощатые корпуса). Это позволило египтянам стать пионерами мореплавания в Индийском океане и наладить постоянную торговлю с Индией. Однако приоритет отдавался не торговле, а добыче в Эфиопии слонов, «танков древнего мира». Слоны были нужны для борьбы с враждебной Персией Селевкидов, другого государства-наследника империи Александра.{51} Именно поэтому Птолемей II попытался восстановить затянувшийся илом старый канал Дария, однако особым успехом его старания не увенчались.
Из-за стратегически важного положения Египта между Средиземным морем и Индийским океаном (через Красное море) этот канал мог бы стать идеальным путем снабжения Птолемея слонами. Мечта о мореходном канале через Суэц восходит еще к фараону Нехо (600 г. до н. э.). Проект осложнялся многочисленными проблемами. Обширные земляные работы — прокладка глубокого канала длиной 100-130 км — истощили бы казну даже богатого государства, древнего или современного. Геродот писал, что попытка фараона Нехо привела к смерти более ста двадцати тысяч человек. Хуже всего было то, что западным окончанием канала был Нил. Во время паводка река засоряла канал илом. А когда уровень воды в Ниле падал ниже, чем в Красном море, в него попадала морская вода, делая воду в источниках и ирригационных сооружениях непригодной для питья и полива. Кроме того, существовали опасения (как и сейчас), что враги используют канал, чтобы окружить Египет. Это и было причиной, по которой Нехо не закончил строительство канала.
Но искушение было велико. Успешные попытки строительства каналов были предприняты древними персами, Птолемеями, римлянами и на заре мусульманской империи.{52} Все каналы (кроме последнего) шли по одному и тому же пути, соединяя самый восточный, Пелузийский рукав дельты Нила через пересохшее русло Вади Тумилат с северным окончанием Большого Горького озера, там, откуда начинается современный Суэцкий канал. Ко временам халифата Пелузийский рукав Нила заилился, что вынудило арабов начать строительство канала от более южного рукава Дельты. В библейские времена Большое Горькое озеро соединялось узким каналом с Суэцким заливом и через него с Красным морем. Более поздние работы по соединению Нила и Большого Горького озера в основном заключались в прочистке и расширении предыдущего канала.
Канал между Большим Горьким озером и Суэцким заливом был неглубоким и узким. При сочетании восточного ветра и отлива он часто пересыхал. Такое сочетание обстоятельств, вероятно, и позволило Моисею провести идущих за ним, как это сказано в легендах. Вскоре после этого вода могла вернуться и залить египтян-преследователей. Эта связь между Большим Горьким озером и Суэцким заливом исчезла около 1000 года н. э. после землетрясения.
Персидский и аббасидский каналы, по-видимому, находились в рабочем состоянии более столетия. Сколько времени функционировали остальные — неизвестно. Даже действующий канал всего лишь служил началом трудного пути в Красное море. Жестокий встречный ветер в северной части моря препятствовал плаванию на север. Кроме того, плавание в любом направлении было чревато смертельно опасными мелями и рифами. Если мореходов не пугали ветер и рифы, то оставались еще и пираты, опасные на всем пути, но особенно — в верхней его части.
Вернемся к Птолемеевым слонам. Слуги царя отлавливали их в сердце Африки, к востоку от Эфиопии. Слонов грузили на борт и отправляли в египетский порт Беренику (две трети пути на север). Затем они переходили пустыню и достигали начала судоходной части Нила (Коптос или Кенополис). Отсюда их снова везли водой более 480 километров до Александрии.
Нил — единственная из великих рек мира, которая течет на север и где круглый год дует северный ветер. Эти обстоятельства позволяют плыть вниз по течению на север и под парусом на юг. Путь через Нил, пустыню, Красное море и Индийский океан составлял «хребет» торговли до открытия парового двигателя. Пар не только освободил моряков от прихотей ветра, но и дал возможность построить новый канал, позволяющий обойти занесенную илом дельту Нила.
После 200 года н. э. торговцы Птолемеева царства расширили район своих интересов на восток до Индии. Столетие спустя отважный капитан Евдокс из Кизика совершил плавание от Египта до Индии вдоль берега через Баб-эль-мандебский пролив. Сперва он держал курс на юг, а потом — к восточному побережью Ормузского пролива, в устье Персидского залива. Затем он достиг берегов современного Ирана и Пакистана, торговых центров Южной Индии. Длина маршрута превышала 8 тысяч километров. Важным следствием этого путешествия стало «открытие» муссонов Индийского океана.
Огромный Индийский океан служит как бы резервуаром тепла. Он сохраняет примерно одинаковую температуру, в то время как Азия нагревается летом и остывает зимой. Так как тепло образует низкое давление, а холод — высокое, то ветры дуют в основном из зон высокого давления в зоны низкого. То есть, летом, как правило, дует южный ветер (юго-западный муссон), а зимой — северный (северо-восточный муссон).
Честь впервые обуздать муссонные ветра выпала Гиппалусу, греку из Египта и, вероятно, штурману Евдокса. Это позволило грекам пересекать Арабское море и покрывать расстояние от Баб-эль-мандебского пролива до Индии в течение нескольких недель. Результатом стало процветание больших этнически разных торговых узлов, таких как Сокотра и порт Малабар. Это были многоязыковые сообщества, в которых смешивались, общались, торговали, ловили удачу и обогащались торговые диаспоры. Жителям Запада (то есть римлянам) на Востоке были интересны шелк, хлопок, специи, драгоценные камни и экзотические животные.
После прихода к власти Октавиана наступили два столетия Pax Romana — периода стабильности, времени расцвета торговли с дальними странами. Спустя небольшое время, в Риме появились индийские послы. Они привезли экзотические товары. Китайский шелк и индийские животные всколыхнули империю. Обезьяны, тигры, какаду и носороги были редким зрелищем в столице. Попугаи, говорящие на латыни, стали последним писком моды. Римляне ценили бивни индийских и африканских слонов, используя слоновую кость для украшения мебели, оружия, колесниц, ювелирных изделий и музыкальных инструментов. Говорят, что у стоика, философа и драматурга Сенеки было пятьсот трехногих табуреток с ножками из слоновой кости. В этом есть немало насмешки, так как он критиковал роскошь империи.
Не все из ввозимых товаров были предметами роскоши. Океанические суда нуждались в балласте, так называемых «балластных товарах», таких как вино, древесина и даже кувшины с водой. Многие греческие суда наполняли трюмы черным перцем. Перец добавляли к блюдам из пшеницы и ячменя — основе средиземноморской кухни бедных и богатых. Он стал так популярен, что когда гот Аларик брал выкуп с Рима в 408 году, он потребовал три тысячи фунтов (1,2 тонны) черного перца.
Западные Гхаты (невысокие горы юго-западной Индии у побережья Малабара) забирали влагу южных муссонов. В результате обильные дожди порождали буйный тропический климат, идеальный для выращивания плодов Piper nigrum и Piper longum — черного перца и более крепкого и дорогого длинного перца.
Малабарский перец поступал в хорреумы — товарные склады — Остии, Путеоли и, конечно же, Рима. Хотя сейчас в образе имперского города доминируют руины Колизея и форума, экономическая жизнь Древнего Рима сосредоточивалась на периферических улицах с жилыми кварталами, магазинами и хорреумами. Возможно, самыми важными были horrea piperataria, или склады специй, рядом с Виа Сакра, главной столичной улицей, которая сейчас идет от Форума. Для прошлого характерно сосредоточение торговли в одной зоне. Из хорреумов перец поступал в маленькие розничные магазины на «улице специй», пролегающей по соседству с Виа Сакра. Перец продавался в маленьких пакетиках. Покупателями были представители богатого и среднего класса. Более ценные товары из Индии — жемчуг, слоновая кость, мебель и китайский шелк — продавались внутри самого Форума. В одной из сохранившихся с тех времен кулинарной книге, написанной римлянином Апициусом, перец упоминается в 349 из 468 рецептов: римляне добавляли перец не только в основные блюда, но также в сладости, вина и лекарства.{53}
Торговля перцем была для римлян самым выгодным вложением средств, самой прямой дорогой к обогащению. В ранней империи о жадном часто говорили: «Первым срывает перец со спины верблюда».{54} Поэт Персии писал:
Тысячи видов людей, и пестры их способы жизни: Все своевольны, и нет единых у всех устремлений. Этот на бледный тмин и на сморщенный перец меняет Свой италийский товар в стране восходящего солнца.{55}Плиний пишет: «Подумать только, что единственное удовольствие от перца — в его остроте, и мы плывем до Индии, чтобы получить его! Перец и имбирь растут в своих странах в дикой природе, но, тем не менее, покупаются на вес золота и серебра».{56} Раздражение Плиния, Сенеки и других критиков римского декаденса отражает то, что сейчас понятно всем: торговля с Востоком внесла свой вклад в падение Римской империи. Золото и серебро ушло в уплату за роскошь. Внес сюда свой вклад и самый печально известный из римских императоров — Нерон. Плиний свидетельствует: «Славные представители власти заявили, что Аравия в год не производит такое количество парфюмерии, которое потратил Нерон в день похорон своей второй жены Поппеи».{57} Английский историк Уорнингтон в своем эпическом труде посвящает «порочному балансу» торговли Индии с Римом целую главу.{58}
Дело не только в том, что Италия потребляла больше, чем производила, а Рим и его окрестности оказались несостоятельны в производстве… Дело в том, что Империя как государство не могла предложить другим странам (и восточным в частности) достаточное количество собственной продукции, чтобы сбалансировать перечень импортируемых в большом количестве товаров. Результатом этого стала утечка драгоценных металлов из Империи (в виде монет) без адекватного обратного притока.{59}
Хотя предположение, что Рим разорился, покупая перец и шелк, может быть неверным. Природа наделила Империю достаточным количеством как основных, так и драгоценных металлов, и римляне экспортировали множество товаров. В Индию везли красные средиземноморские кораллы и самое лучшее в мире стекло (популярное также и в Китае). Свинец из Испании и медь с Кипра составляли груз многих греческих судов. В Александрию напрямую поставлялось олово с Корнуолла. Итальянские суда, плывущие в Египет и Индию, загружались отличным вином. Так же как природа обусловила доминирование Китая и Индии в производстве дорогостоящих сельскохозяйственных продуктов (таких как перец и шелк), развитые инженерные технологии дали Риму значительное преимущество в горнодобывающем деле. Кроме того, в Китае и в Индии золоту предпочитали серебро. В то время как серебро утекало на Восток, внушительное количество золота из Индии перемещалось на Запад. Например, нам известно, что за унцию золота в Китае можно было купить пять-шесть унций серебра, в то время как в Испании — двенадцать унций.{60} В конце XIII века, по свидетельству Марко Поло, в Бирме цены золота и серебра по весу соотносились как один к пяти.{61} Эта разница в ценах на золото и серебро между Востоком и Западом существовала, по меньшей мере, со времен Сенеки. Вот почему для римского торговца было бы глупо платить за китайские товары какими-нибудь монетами, кроме серебряных. Как сказали историки-экономисты Денис Флинн и Артуро Гиральдес: «Между Востоком и Западом, Севером и Югом, Европой и Азией не было торгового дисбаланса, требующего компенсаторного потока денежных ресурсов. Торговля была справедливой».{62}
Конец Западной Римской империи замедлил экспансию мировой торговли за пределы ее колыбели — Индийского океана. Но расширение торговли не прекратилось. В мир пришла новая могучая монотеистическая религия — ислам. Она дала новый толчок торговле в Индийском океане, через равнины Азии — до самых дальних краев Евразии. Торговля Хань—Рим покрывала громадные расстояния, но была слабо интегрирована: от начала до конца пути товар проходил руки торговцев — представителей разных рас, вероисповеданий, культур и, что самое главное, систем законов.
Приход Пророка уничтожил торговую разобщенность древнего мира. В течение нескольких столетий после смерти Мухаммада единая культура, религия и закон унифицировали торговлю трех континентов Старого Света почти на тысячу лет до первых путешествий европейских судов на Восток.
ГЛАВА 2. ХОЗЯЕВА ПРОЛИВОВ
Итак, кинемся яростно на злейших наших врагов, которые находятся в таком замешательстве и которых предает нам сама судьба! Проникнемся при этом убеждением, что в полном согласии с законными установлениями поступает тот, кто желает покарать обидчика, кто считает своим долгом утолить жажду мести, что отразить врага — чувство, которое врожденно нам и которое доставит нам, как говорится, величайшее наслаждение…
Речь Гилиппа, спартанского военачальника, накануне победы над афинским флотом в гавани Сиракуз{63}Кто бы ни был повелителем Малакки, он держит руку на горле Венеции.
Томе Пиреш{64}Немногие истории из античной классики так трогают душу современного человека, как провал афинской экспедиции на Сицилию во время Пелопоннесской войны.
В гавани восточного сицилийского порта Сиракузы и выше, на равнине, афинское войско схватилось с войском из Спарты — далекой от Сицилии греческой области. Солдат схватился с солдатом, корабль с кораблем. Знаменитый хронист Фукидид не сдерживался в оценках, говоря об этом: «Это было важнейшее военное событие не только за время этой войны, но, как мне кажется, во всей эллинской истории, насколько мы знаем ее по рассказам, событие самое славное для победителей и самое плачевное для побежденных».{65}
Но как же Пелопоннесская война сказалась на истории торговли? Весьма значительно, поскольку Афины превратились в империю, благодаря торговле самым важным из товаров — зерном — и особенностям географии Греции, ставшей колыбелью европейской цивилизации. Культурные и общественные основы цивилизации Запада впервые проявились именно в Древней Греции, а современные западные традиции контролировать жизненно важные морские пути и стратегические проходы происходят из культурных и географических особенностей Греции, ее зависимости от импорта зерна. Те силы, которые заставили Британию и США в XIX и XX веках взять под контроль мировые торговые пути, впервые возникли в Греции, которая держала в своих руках пути доставки пшеницы и ячменя.[6]
Почему же гордые Афины не рассчитали свои ресурсы и потерпели поражение у далеких берегов Сицилии? Этот вопрос волновал европейских историков с тех пор, как Фукидид — опальный афинский командир — написал об этом в своих знаменитых хрониках. Интерес к этому древнему конфликту тем больше, что на полях сражений Средней Азии великие державы мира столкнулись еще ожесточенее. Трудно не сравнить сегодняшних политиков с главными действующими лицами этой афинской истории: блестящий, заносчивый и вероломный «ястреб» Алкивиад и осторожный, законопослушный «голубь» Никий, которого жители Сиракуз схватили и казнили.
Но что же в первую очередь сделало Афины империей? Древняя Греция состояла из примерно сотни мелких городов-государств, которые, как в калейдоскопе, складывались в узоры вечно меняющихся союзов и почти постоянно воевали между собой. «Греция» была не страной, а культурным и языковым понятием. И только внешняя угроза, в первую очередь персидское вторжение в начале V века до н. э., могло объединить это раздробленное братство в единое целое. Но даже тогда объединение произошло ненадолго.
Беглый взгляд на карту Эгейского моря дает следующую картину. Береговая линия Греции изрезана, испещрена бесчисленными островами, полуостровами, заливами, бухтами и проливами. Такая сложная топология в придачу к довольно гористому ландшафту Греции обусловила то, что почти вся торговля велась по морю.
Наряду с географией важным фактором, влияющим на торговлю в Греции, были скудные почвы, так что городам-государствам постоянно грозил голод. Первым человеческим цивилизациям, которые обосновались между Тигром и Евфратом, а также на илистых берегах Нила, повезло с самыми плодородными в мире почвами. А в гористой Греции редко встречались заливные луга, греки довольствовались скудной землей на известняках, на которую выпадало ежегодно только 60 дюймов осадков. Из-за этих сельскохозяйственных ограничений население Греции концентрировалось на побережье и совершенствовалось в рыбной ловле, ремеслах и торговле.
Хотя традиционное греческое хозяйство не могло обеспечить зерном даже само себя, оно производило достаточно вина и оливкового масла, чтобы менять их на привозные пшеницу и ячмень. Греческий хозяин полагался на торговлю не только для того, чтобы прокормить свою семью. Благодаря полученным доходам он освобождал время для участия в собраниях и в военном ополчении (гоплиты).{66}
В начале первого тысячелетия до н. э., в то же самое время, когда в греческих полисах впервые появилась демократия, греки начали сбывать излишки продуктов. Даже по греческим меркам почвы Аттики — местности, управляемой Афинами — выделялись бедностью. Фукидид полагал, что неплодородность земли спасала Афины от вторжений и, таким образом, содействовала стабильности политической обстановки. «Ведь как раз там, где плодородие почвы приводило к некоторому благосостоянию, начинались гражданские раздоры, отчего эти поселения теряли способность обороняться и вместе с тем чаще привлекали к себе алчность чужеземцев. В Аттике же при скудости ее почвы очень долго не было гражданских междоусобиц, и в этой стране всегда жило одно и то же население».{67} Эта «устойчивость бедной земли» привлекала богатство, силу и знания из других, более богатых и могущественных, но охваченных смутами полисов.
Ячменя в Греции выращивалось достаточно, но растущие аппетиты богатеющих греков требовали пшеницы. Эта зерновая культура нуждалась в основательном поливе, что при нечастых и нерегулярных дождях местного климата было весьма затруднено. Как в песнях про английского народного средневекового персонажа Джона Ячменное Зерно, церемониальным хлебом для жертвоприношений и в Риме, и в Греции был ячменный хлеб, подходящий для засушливого климата и скудных почв. До VI века до н. э., когда зерном начали активно торговать, пшеничный хлеб греки ели только по праздникам.{68}
Откуда же в греческом хозяйстве появлялась пшеница? До VI века, в основном, из Египта, этой житницы Средиземноморья. Геродот упоминает фараона Амасиса,{69} который отдал греческим купцам торговый город Навкратис, на Канопском рукаве Нила.
Греки колонизировали Сицилию, чтобы воспользоваться богатыми вулканическими почвами вокруг горы Этна. Город Сиракузы основан в конце VIII века до н. э. к югу от горы колонистами из Коринфа — самого сильного соперника Афин на юго-западе. Но бескрайние, богатые просторы к северу от Черного моря стали настоящей золотой жилой для греков. Примерно в то же время, когда коринфские землепашцы построили Сиракузы, эгейские полисы начали отправку больших партий колонистов к плодороднейшим долинам Буга и Днепра, которые теперь находятся на территории южной Украины. Далее в этой книге словом «Понт» будет называться греческий Понт Эвксинский — современное Черное море.
Греческие города закупали зерно с Понта или Сицилии, руководствуясь в выборе простой географией. Афины и их союзники на Эгейских островах отправляли корабли за зерном на северо-восток, к Понту. Другая группа — Спарта, Коринф, Мегары (которые находятся между Афинами и Коринфом) и их союзники — предпочитали Сицилию. Корабли из Коринфа и Мегар через Коринфский залив плыли прямо к Сицилии или проделывали долгий путь вокруг Пелопоннеса. Оба пути проходили через узкие проливы, удобные для разбойных действий противников или пиратов. Например, корабли из Коринфа и Мегар легко можно было перехватывать на западном входе в Коринфский залив, где ширина пролива составляла всего около мили. Южный путь к Сицилии тоже проходил мимо вражеских государств, особенно когда приходилось идти проливом с многочисленными островами между Пелопоннесом, где находилась Спарта, и островом Крит.
До афинских и эгейских поставщиков добраться было даже труднее. Дорога к житнице Понта проходила не через один, а через два узких прохода между Эгейским и Черным морями: Дарданеллы (Геллеспонт — «море Геллы») и севернее — еще более узкий Босфор. А выйдя из афинского порта Пирея, корабли должны миновать множество островов Саронического залива. К середине VII столетия до н. э. скудные долины Аттики поставляли растущим Афинам лишь малую часть продовольствия. Этот полис все больше зависел от внешних поставок зерна, получаемого в обмен на дорогие предметы искусства и товары, которые имелись в изобилии: керамику, ткани, оливковое масло и вино.
Так сама жизнь Афин попала в зависимость от самого ненадежного в мире торгового пути. Более того, шторма и облачность делали море непроходимым большую часть года, ограничив навигацию периодом с начала мая по конец сентября — всего лишь четыре с половиной месяца.{70} (До изобретения компаса облачность, особенно по ночам, затрудняла ориентирование.)
Население Греции росло, и борьба за доступ к источникам зерна в условиях сложной геополитической обстановки привела к образованию двух противоборствующих группировок — одной руководили Афины, другой — Спарта. Интересы этих двух союзов пересекались все больше и больше, пока столкновения не переросли в катастрофу Пелопоннесской войны.
Уже в 700 году до н. э. шла «великая игра» эллинов за Геллеспонт и черноморское зерно. Около 660 года до н. э. Мегары — главный соперник и сосед Афин и союзник Спарты — основали Византии и Халкидон, «сторожевых псов» Босфора. Вскоре западноэгейский полис Митилена захватил мыс Сигей, у входа в Геллеспонт, всего в нескольких милях от развалин Трои.
Около 600 года до н. э. Афины нанесли ответный удар, отняв Сигей у Митилены. В 535 году афинский тиран Писистрат начал интенсивную колонизацию берегов Черного моря и постройку укрепленных поселений на проливах (другими знаменитыми проектами его 33-летнего правления были постройка городской системы водоснабжения и открытие первой публичной библиотеки в Афинах).
Также Писистрат укрепил все три острова, лежащие с южной стороны от Сигея — Тенедос, Имброс и Лемнос. В 506 году Афины захватили плодородный западный берег эгейского острова Эвбея, отняв его у полиса Халкида. Это приобретение сыграло двойную роль, увеличив поставки зерна и обеспечив «морскую магистраль», по которой корабли могли безопасно ходить между Пиреем и Геллеспонтом. Несколько раз во время персидских нашествий, в конце VI — начале V века до н. э., черноморская торговля прерывалась. Но афиняне продолжали следить за игрой и наконец вытеснили силы персидского царя Ксеркса с полуострова Сестос, образующего один из берегов Геллеспонта. Это случилось в 480 году до н. э., через два года после разгрома персидского флота у Саламина (остров на юго-западе от Афин).
Афины с трудом пережили нападение персов. Во время Саламинского сражения население города даже пришлось эвакуировать. Наученные таким опытом, афиняне возвели Длинные стены — два параллельных вала, в сотне ярдов друг от друга. Они тянулись на 4 мили, от города к порту Пирея, чтобы Афины могли выдержать любую сухопутную осаду, обеспечивая поставку продуктов с моря.
При этом, однако, стены сделали Афины более уязвимыми со стороны моря. В 476 году до н. э. Спарта схватила Афины за горло, перекрыв Геллеспонт и Босфор, когда спартанский воитель Павсаний захватил, соответственно, Сестос и Византии. Впрочем, афиняне почти сразу же выбили оттуда спартанцев.
К 450 году до н. э., чтобы обезопасить торговые пути, афинский флот начал более-менее регулярно патрулировать Черное море. В мире, где граждане становились солдатами по мере надобности, в мире временных армии и флота это было делом неслыханным. Сам Перикл водил боевую эскадру, чтобы показать, как сильны Афины на море.
В мирное время афинские купцы ежегодно переправляли через Геллеспонт более миллиона бушелей зерна. Во время голода корабли перевозили до трех миллионов бушелей в год. Большая часть черноморского зерна загружалась в Феодосии, расположенной восточнее слияния Буга и Днепра.
Прибрежная и материковая часть Причерноморья поставляла грекам также скот, шерсть, рыбу и лес. А не особенно искушенное местное население ценило греческие товары гораздо выше, чем цивилизованные и пресыщенные египтяне. Греческие торговцы на Черном море получали гораздо больший доход со своих вложений, нежели в Египте, поэтому торговля постепенно перемещалась на север.
К этому времени в Афинах уже поняли, что недостаточно иметь сильный флот. Легкость, с которой враг мог перекрыть узкие проливы в Эгейском море, Геллеспонт и Босфор, заставляла искать способы взять под политический контроль ключевые точки в самых узких местах морского торгового пути. Более того — даже захватить несколько городов и крепостей было недостаточно. Другие государства тоже зависели от тех же самых морских путей, и всем требовались люди и ресурсы, чтобы распоряжаться этими путями. Единственным способом разрешить эту ситуацию было объединение в группу государств со сходными интересами, которая постепенно превратилась в афинскую империю.
Чем закончилась эта уловка — стальной кулак, прикрытый бархатной перчаткой, — современным читателям хорошо известно. Афины обрели друзей в Эгейском и Черном морях, помогая защититься от пиратов и местных «варваров», дерзнувших посягать на земли, отнятые у них греческими поселенцами. Афины, в свою очередь, собирали дань со всех союзников и запрещали брать налоги на провоз зерна в Пирей. И напротив, контроль над Эгейским морем позволял Афинам наказывать соперников — Спарту, Коринф и Мегары. К примеру, в начале Пелопоннесских войн Афины в узком входе в Коринфский залив построили свою базу Навпакт, чтобы препятствовать проходу судов к Коринфу и Мегарам.{71} Афины использовали все политические и военные средства, чтобы удержать колеблющихся союзников, таких как Родос (расположенный с юго-запада от побережья современной Турции), а также Хиос и Лесбос — острова в западной части Эгейского моря. Афины могли даже манипулировать ценами на зерно и делать запасы на случай осады или чумы. Всякий купец — афинский или иноземный, — который пытался обойти рынок или перепродать зерно, отдавался под суд, грозивший ему смертной казнью.
Пелопоннесская война, как и Первая мировая, началась с небольшого конфликта. Он произошел в 431 году до н. э. между сторонниками олигархии и демократии в крошечном полисе Эпидамне (современный албанский город Дуррес). Демократы обратились за помощью в город Керкиру (Корфу), который был основателем Эпидамна и сильным морским государством, союзным с Афинами. Керкира отказалась помочь демократам, тогда они попросили помощи коринфского флота и получили ее.
Керкиряне, раздраженные вторжением Коринфа во внутренние дела их бывшей колонии, постарались разбить коринфский флот. Афиняне забеспокоились, что Коринф может объединиться со спартанскими союзниками, захватить крупный флот Керкиры и нарушить баланс сил. Это спровоцировало морской конфликт между Афинами и Коринфом, а он скоро перерос в «глобальный» конфликт греческой ойкумены.
Вначале дела складывались хорошо для Афинской империи. Афиняне одержали у Пилоса, на юго-западе от Пелопоннеса, победу, захватив в плен множество спартанцев. В этот момент спартанцы, которым вечно не хватало живой силы, чтобы держать в подчинении рабов-илотов, готовы были заключить мир, чтобы вернуть плененных солдат. Вместо этого Афины продолжили войну.
В 415 году до н. э. молодой и дерзкий сторонник экспансии Алкивиад и опытный и осторожный ветеран Никий спорили о вторжении на Сицилию. Алкивиад подчеркивал важность сицилийского зерна для Афин. Никий возражал, что на Сицилию лучше не нападать как раз по причине ее обеспеченности: «Но больше всего они превосходят нас тем, что… пользуются хлебом своим, а не привозным».{72}
Спор выиграли «ястребы». В результате, значительные силы ушли к Сицилии, оставив дом открытым перед врагом. Великий спартанский флотоводец Лисандр не стал атаковать Афины напрямую. Он подошел к Геллеспонту, беззащитному горлу империи. Хитрый наварх собирал силы и дожидался середины лета (405 год до н. э.), когда к югу, пока море было судоходным, отправилась большая часть кораблей с зерном и другими ценными грузами. В этот самый момент он напал на остатки афинского флота в устье реки Эгоспотамы в Геллеспонте недалеко от Сестоса. Спартанцы потопили или захватили почти все афинские корабли и перебили тысячи солдат. Лишь одна галера смогла уцелеть и догрести до Афин, чтобы доставить домой страшное известие. Когда весть о поражении прибыла в Афины, «громкий вопль отчаяния распространился через Длинные стены из Пирея в город. Никто не спал в ту ночь».{73}
Вторжение в Афины уже не понадобилось — жестокий клинок голода мог опустошить город гораздо эффективнее и с меньшими затратами, чем самые грозные спартанские гоплиты. Заключив унизительный мир, Афины сохранили независимость, но и только. Они лишились последних кораблей, вынуждены были разрушить укрепления в Пирее и срыть Длинные стены, позволявшие городу не страшиться осады. И наконец, главное унижение — их вынудили стать союзниками Спарты.
Афины еще поднимутся и даже вырвут у слабеющего спартанского флота черноморскую торговлю, но уже никогда не достигнут таких вершин влияния и власти. Следующим противником стали Фивы, взявшие контроль над проливом в 360 году до н. э., хотя Афины завоевали его всего за три года до этого. Вскоре Филипп Македонский, отец Александра Великого, атаковал Геллеспонт у Перинфа (городок на побережье Пропонтиды — внутреннего моря между Геллеспонтом и Босфором), а потом и сам Византии. И снова афиняне, вдохновляемые оратором Демосфеном, устояли. Афины снова сохранили жизнь, но мало что, кроме нее.
Александр поручился, что греческие корабли станут ходить по морям свободно, хотя это обещание не мешало ему время от времени захватывать какой-нибудь корабль с богатым грузом, чтобы показать, кто на самом деле хозяин проливов. В последующие столетия Афины, хоть и сохраняли независимость, но контролировать торговые пути уже не могли. Именно в Афинах впервые появились многие европейские научные и культурные институты. Стали Афины пионером и другой, менее славной традиции. За века, прошедшие со времен Пелопоннесской войны, они стали первой в ряду дряхлеющих европейских империй, прошедших унизительный путь от мировых держав до тематических архитектурных парков, знаменитых только произведениями искусства, архитектурой, учебными заведениями и своей историей.
* * *
Греция — колыбель европейской цивилизации, и ее географические особенности, несомненно, легли в основу европейской стратегии мореплавания, сделав главной задачей обеспечение безопасности главных морских путей. Венеция, затем Голландия и Англия стали Афинами соответственно XIII, XVII и XIX веков. Эти государства переросли свои продовольственные ресурсы, их жизнь и благосостояние стали зависеть от морских путей и их ключевых участков, таких как Каттегат (пролив между Швецией и Ютландией), Ламанш, Суэцкий канал, Аденский, Гибралтарский, Малаккский проливы и опять — снова и снова — Дарданеллы и Босфор.
Сегодня все возрастающий поток нефти, добываемой на территории Саудовской Аравии, Ирака и Ирана, проходит через Персидский залив, и министрам Вашингтона, Лондона, Нью-Дели и Пекина нет нужды напоминать о том, как важно, чтобы мореплавание в этих тесных водах было свободным. Напротив, великие торговые государства средневековой Азии, выросшие у просторов Индийского океана, не получили этого исторического урока. Мусульманские державы веками перекрывали европейцам выход из сердца мира на торговые пути Индийского океана только потому, что мусульмане завоевали большие территории вокруг «задней калитки» Европы — Персидского залива и Баб-эль-мандебского пролива. К примеру, могущественный Абассидский халифат, столицей которого был Багдад, ничего не делал, чтобы обезопасить свой главный порт в Персидском заливе — Ормуз, — позволяя в нем хозяйничать пиратам. (Не делали этого и арабские государства, считая более важным делом строительство дорог и присмотр за ними.)
Монголы и китайская империя Мин хотя и устраивали морские набеги на Японию, Индонезию и в Индийский океан, очень мало интересовались защитой Малаккского пролива, через который проходили все торговые пути на запад. Ни один мусульманский правитель Индии не позаботился о морских торговых путях до тех пор, пока на них не появились португальцы. Тогда Малик Аяз — мусульманский правитель города Диу на западном побережье Индии — воззвал к Мамлюкам (правителям Египта) о помощи, чтобы избавиться от португальцев. В 1508 году объединенный индийский и египетский флот внезапно явился перед португальской флотилией в бухте Чаула (к югу от современного Мумбаи) и нанес европейцам жестокое поражение. На следующий год португальцы отправили в Диу еще больший флот и вернули свое влияние, открыв европейскую торговлю пряностями, которая до этого считалась монополией мусульман.
Два ежегодных муссона беспрепятственно гоняли груженые корабли по Индийскому океану от Басры до Малакки, и никакой стратегии мореплавания здесь не требовалось. Так географические свойства побережий Индийского океана не позволили мусульманским странам подготовиться ко вторжению европейцев.
Дорога в Индийский океан далась европейцам непросто. Как мусульмане уже показали в Чауле, с ними справиться было не так легко, как с индейцами Нового Света. Через несколько лет после поражения в Диу египетский флот восстановил силы и сумел одолеть европейцев у Адена. Мусульмане владели Баб-эль-мандебским проливом до самого 1839 года, когда англичане отняли этот порт у Османской империи. Несмотря на яростное сопротивление и хорошее техническое оснащение мусульманских кораблей, они не смогли противостоять тем, кто прошел суровую школу в Дарданеллах, Каттегате, Гибралтаре и Ламанше.
Нетрудно заметить, что привычки, которые афиняне приобрели в Геллеспонте, до сих пор проявляются в присутствии американского флота в Баб-эль-мандебском, Гибралтарском, Ормузском и Малаккском проливах. Временное поражение португальцев у Чаула отозвалось атакой на американский эсминец «Коул» в порту Адена в 2000 году. Но мы заглянули слишком далеко вперед. Почти тысячелетие отделяет Пелопоннесскую войну от падения Рима, и еще одно тысячелетие прошло от распада Римской империи до европейского владычества, которое установили португальцы в Индийском океане.
А большую часть времени, прошедшего после падения Рима, приверженцы новой могущественной монотеистической религии контролировали дальние торговые пути так же плотно, как их сейчас контролирует Запад, и наследие этого времени хорошо заметно до сих пор.
ГЛАВА 3. ВЕРБЛЮДЫ, ЛАДАН И ПРОРОКИ
Верблюдов художники и иллюстраторы почти всегда изображают в профиль… Если взглянуть на верблюда спереди, вы увидите огромный, раздутый нос, пасть будто из микропористой резины, с выступающей верхней губой, торчащими под ней зубами, закрывающими короткую нижнюю губу. Я отвожу глаза, не в силах смотреть на такое. Я не ожидала, что животное, которое я видела в профиль, может так выглядеть. Это уже какая-то совсем другая тварь, вроде морского змея или собакомордого динозавра.
Лейла Хедли{74}Путешественники должны хорошо изучить технику передвижения по пустыне. Приближающаяся группа может оказаться дружественной, но нужно быть всегда готовым к тому, что это враги… Верховые группы бывают двух видов. Одни принадлежат к племени, с которым ваше племя не имеет кровной вражды, с другими же имеет. И те и другие готовы отнять у вас верблюдов и оружие, а вторые еще и жизнь.
Бертрам Томас{75}Если верить последним изысканиям геологов и палеонтологов, динозаврам пришел внезапный жестокий и неотвратимый конец примерно 65 миллионов лет назад, когда гигантский астероид ударил в Мексиканский залив и начался ледниковый период. Наши теплокровные млекопитающие предки, лучше приспособленные к холоду, сумели выжить. Около 40 миллионов лет назад один из них — Protylopus, который был размером с кролика — появился в Северной Америке. В начале эпохи плейстоцена около трех миллионов лет назад образовался Панамский перешеек, позволив протилопусам мигрировать в Южную Америку, где их потомки — ламы, альпаки, гуанако и викуньи обосновались в Андах. В Северной Америке каких-нибудь 500 000 лет назад протилопус сформировался в современного верблюда.
Плейстоцен, который закончился как раз 10 000 лет назад, отличался периодами умеренного, но обширного оледенения. Во время этих похолоданий на Земле накапливался лед, полярные шапки нарастали, а уровень воды в океане снижался на несколько футов. Этого хватало, чтобы обнажить дно Берингова пролива, который и сейчас в самых глубоких местах не глубже двухсот футов. Эта переправа позволила животным и растениям перемещаться с Западного полушария на Восточное и обратно.
В конце плейстоцена из этих миграций можно выделить два момента. Из Восточной Сибири в Новый Свет перебрались человеческие особи, а верблюд и лошадь перешли мостик в обратном направлении и добрались до Азии, а затем до Африки. Оба этих копытных скоро совершенно исчезли из Северной Америки — то ли пав жертвами крупных саблезубых тигров, то ли не выдержав колебаний климата, то ли их истребил доисторический человек. И хотя лошадь вместе с испанскими конкистадорами вернулась в Америку, верблюд так и не возвратился на свою историческую родину.
Не слишком распространился он и на своем новом месте обитания, в Старом Свете. В отличие от лошади, беззащитный верблюд развивал скорость не больше 20 миль в час и служил легкой добычей льву и другим крупным и быстрым хищникам. В самых засушливых районах Азии, а также в Аравии верблюд получил эволюционные преимущества — способность запасать и сохранять воду и переходить по пустыне к таким далеким оазисам, куда хищники дойти не могли.
Верблюды, вопреки всеобщему убеждению, не запасают воду в своих горбах. Она распределяется по всему организму.
Верблюд, выпив за один раз большой объем воды (до 50 галлонов), может многие дни — а в особых случаях и недели — обходиться без питья. Им удается удерживать влагу благодаря удивительной способности почек концентрировать мочу. Первые азиатские верблюды были двугорбыми (бактрианами), но в более жарких пустынях Аравии и Африки прижился одногорбый вид (дромадер), с меньшей площадью поверхности тела, а значит, меньше испаряющий воду с кожи. У дромадера есть еще одна необычная для млекопитающих особенность, позволяющая сберегать воду. Он умеет пассивно повышать температуру тела на 6 градусов Фаренгейта, уменьшая таким образом потоотделение. На сегодняшний день двугробый верблюд чаще всего встречается в Аравии и Африке, а дромадер — в Азии.{76}
Оба вида проигрывали битву за существование, но были спасены тем, что появился человек. Верблюд — одно из немногих животных, которых удалось приручить. Люди выводили породы животных, культивируя в них одновременно несколько полезных свойств: высокой пищевой ценностью, способностью к стадному выпасу, обучаемостью, отсутствием страха перед человеком, невосприимчивостью к болезням человека и, что самое важное, способностью размножаться в неволе. Всего несколько видов животных обладают всеми этими качествами. Козы и овцы были самой первой домашней скотиной. Их приручили около 10 000 лет назад. За ними последовали куры, свиньи, коровы и, наконец, верблюды. (Осел, лошадь и собака были изначально приручены для передвижения и охоты, но зачастую также вовлекались и в пищевую цепочку.){77}
Трудно представить себе, как окультурили первые растения и приручили первых животных, в том числе верблюда. По сведениям антропологов, человек впервые начал пить верблюжье молоко около 5000 лет назад на территории Африканского Рога или на другом берегу Красного моря, в Южной Аравии. По сей день сомалийцы не ездят на верблюдах, считая, что на спинах этих крупных, медлительных и неповоротливых животных они становятся слишком удобными мишенями. Сегодня в этом регионе обитает самая крупная популяция верблюдов, которых разводят только ради молока. В других местах люди со временем открыли и другие их полезные свойства, оценив их мясо и шкуру, шерсть, а также выносливость как вьючных и ездовых животных.
Примерно до 1500 года до н. э. в качестве вьючных животных чаще всего использовали ослов. Затем кочевые племена приспособили к этому многочисленных верблюдов. Если ослика можно уподобить уютному семейному седану, то в труднопроходимых местах верблюд служил внедорожником. Его громадные копыта позволяли перенести вдвое больше груза и преодолеть долгие переходы по бездорожью пустыни вдвое быстрее. Эти возможности и преобразили торговлю в среднеазиатских песках и степях.[7]
Один погонщик, ведя от трех до шести верблюдов, мог перевезти от одной до трех тонн груза на расстояние 20-60 миль в день. Когда ассирийский царь Тиглатпаласар III разгромил войско аравийской царицы Шамси (около 730 года до н. э.), среди его трофеев оказалось 20 000 голов крупного скота, 5000 тюков пряностей и 30 000 верблюдов.{78}
Купец не может просто взять и крепко привязать нагруженные мешки к верблюжьей спине. Горб у верблюда мягкий, при ходьбе он качается, поэтому требуется особое жесткое седло, которое распределяет вес поклажи. В периоде 1300-го до 100 года до н. э. кочевники доисламской Аравии использовали седла, позволявшие нагрузить на верблюда более 200 килограммов груза, а самые сильные животные могли нести свыше 400 килограммов. Последняя модификация — североарабское седло — используется на Среднем Востоке уже две тысячи лет.
В Средней Азии двугорбые верблюды так же хорошо приспособились и такие же породистые, как и в Аравийских пустынях. Как транспорт их там стали использовать примерно в то же время — около 2500-2000 года до н. э. Двугорбый вариант больше подходит для более прохладного и влажного климата азиатских степей, Ирана и Индии. Но если арабы ценили дромадера еще и за молоко, мясо и шерсть, то жители Средней Азии — нет. В этой части света уже было развито сельское хозяйство. Здесь верблюжьей шерсти предпочитали овечью, коровье молоко и мясо считали приятнее и вкуснее верблюжьего. Перевозка грузов на небольшие расстояния обходилась дешевле на быках и буйволах, особенно в сырую погоду, которую верблюды переносили плохо.
И вот, постепенно популяция дромадеров, которых ценили больше, начала наступать на регионы, в которых жили бактрианы. Сперва одногорбые верблюды распространились в Сирии и Ираке, затем в Иране, потом в Индии и, наконец, в Средней Азии. Когда обе популяции встретились, законы скрещивания сотворили свое обычное чудо. Оба вида достаточно близки для скрещивания. Их потомок в первом поколении (так называемый гибрид F1) обычно силен, вынослив и отлично приспособлен к долгим переходам, что и требовалось для азиатской сухопутной торговли. На всем протяжении Великого шелкового пути подскочил спрос на этих «суперверблюдов», способных тащить по полтонны груза от Китая до западных границ Азии.
Так вывели этих выносливых животных, причем двугорбый жеребец обычно покрывал целое стадо одногорбых кобыл. Повсюду почти исключительно использовался именно такой порядок скрещивания, поскольку считалось, что двугорбый самец покрывает больше самок, а одногорбые самки встречаются чаще, даже в Средней Азии. (Подобная история произошла с другим, западным, сильным вьючным животным. Мул, как правило стерильный, получается при скрещивании кобылы с ослом. Но здесь причины соблюдения порядка скрещивания иные. «Обратный» гибрид F1, потомок жеребца и ослицы — лошак — разводится редко, потому что ослицам трудно рожать таких крупных детенышей.)
Строгие правила разведения животных требуют избегать близкородственных скрещиваний в первом поколении, иначе во втором часто получаются мелкие особи с признаками вырождения. С арабского и турецкого языков слово, которым называют таких потомков от близкородственных связей, переводится как «карлик».
Постепенно дромадеры и верблюды-полукровки расселились почти по всей Африке и Азии. Только в самых высоких и холодных горах Средней Азии, где не выдерживали даже полукровки, продолжали разводить бактрианов.{79}
Благодаря замечательным вьючным качествам верблюдов, их использовали от Марокко до Индии и Западного Китая. В современном мире на хороших дорогах удобнее запрягать верблюдов в повозку. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) оценивает сегодня популяцию верблюдов в 20 миллионов голов (в том числе 650 000 диких животных в Австралии, где от использования верблюдов отказались после того, как построили железные дороги).{80}
Если очень нужно, верблюд с наездником могут преодолевать в день до 60 миль, но обычно дневной переход составлял около 30 миль. Пути прокладывались так, чтобы оазисы и караван-сараи отстояли один от другого на сотню миль — расстояние, которое верблюд может пройти за три дня, не нуждаясь в воде. Это очень сильно ограничивало выбор маршрутов, особенно в Центральной Азии. Для прохода по горным дорогам Азии уже требовались ослы, потому что верблюды не умеют ходить по склонам.{81}
* * *
Нам уже известен товар, который было выгодно возить на верблюдах на большие расстояния — шелк. Но за тысячи лет до того, как первый шелк привезли из Китая в Рим на верблюдах или на кораблях, другой драгоценный груз проделывал тысячемильный путь через аравийские пустыни к центрам древней цивилизации Плодородного Полумесяца.
Конечно, «торговая марка» Аравийского полуострова — это его жаркий климат. Редкий ручеек пересекает огромные площади, занятые пустыней. Только вади — безводные призраки рек (вроде тех, что на юго-западе США называются «арройос») — часто вводят в заблуждение даже опытных путешественников. Эти сухие русла превращаются в потоки воды только раз в несколько десятилетий, во время бурь.
Тем не менее именно здесь находилась земля, известная с древних времен как Счастливая Аравия. Такое название этот край получил из-за своей плодородности. Расположенный в гористой, юго-западной части полуострова, там, где находится современный Йемен, он получает достаточно тепла и влаги с летними муссонами. За год там выпадает около десяти дюймов осадков. Название юго-западного порта Аден происходит от арабского названия Эдема, очень хорошо выражающего особенности местного климата. Остальная часть полуострова известна как Аравийская пустыня.
Благовониями называются мирра и другие, более редкие и экзотические ароматические вещества, которые тысячелетиями добывали в Счастливой Аравии. Самые древние жители этих мест — сабеи и минеи, как и народы, которые жили в Сомали, по другую сторону Баб-эль-мандебского пролива — освоили сельское хозяйство и продавали излишки урожая в другие страны.
До того как на Запад пришли шелк и перец, предметом роскоши были благовония. Всякому жителю Аравии примерно за 1500 лет до н. э. казалось очевидным, что домашних верблюдов можно использовать для перевозки благовоний к покупателям в землях Плодородного Полумесяца и Средиземноморья. Эти благоуханные товары ценили еще в 3500 году до н. э. аристократы Египта и Вавилона. Каменные памятники, датированные примерно 2500 годом до н. э., рассказывают о поездках торговцев благовониями в землю Пунт (современные Йемен и Сомали). Торговцам приходилось переплывать в длину все Красное море, но, как мы уже знаем, их по пути подстерегали пираты, штили и встречные ветры. Безопаснее и надежнее было путешествовать берегом вдоль полуострова, затем на запад, через Синай.
Сельскохозяйственный цикл тоже хорошо совмещался с путешествием на верблюдах. Урожаи собирали, в основном, весной и осенью, до того, как зимний муссон начинал дуть в сторону Египта или летний муссон в сторону Индии. А караваны верблюдов могли ходить круглый год.{82} Трудности мореплавания и сезонность созревания урожая были достаточными причинами для того, чтобы приручить верблюдов и возить благовония.
Основной объем товара составляли два наименования: ладан (смола ладанного дерева, Boswellia sacra) и мирра (душистое масло, получаемое из смолы коммифоры, Commiphora myrrha). Оба этих невзрачных дерева в несколько футов высотой растут, в основном, в горах Южной Аравии и на севере Сомали.
Ладан и мирра придавали особый статус и религиозной жизни и мирской. Хотя воображение позволяет нам представить образы и звуки древних цивилизаций, их запахи находятся за гранью современных представлений. В тесных городах не было нормальной канализации, и по запаху города можно было найти легче, чем по картам. Это запах фекалий от городских стоков и скотобоен, вонь мочи, окружавшая правительственные здания, храмы и театры, миазмы, источаемые кожевенными, рыбными кварталами и кладбищем.
Посреди всего этого зловония регулярно мыться в чистой воде и менять одежду могли себе позволить только самые богатые из горожан. Мало что ценилось так высоко, как масло мирры, которое использовалось для умащения тела и приглушало повседневные окружающие запахи. Врачи широко применяли его в приготовлении лекарств, оно же было популярным компонентом смесей для бальзамирования тел. Вдобавок этот аромат считался любовным зельем, что подтверждает библейский текст, остерегающий от коварных соблазнительниц:
…коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями Египетскими; спальню мою надушила смирною, алоем и корицею; зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома: он отправился в дальнюю дорогу; кошелек серебра взял с собою; придет домой ко дню полнолуния.{83}Ладан, хотя тоже относится к благовониям, имел более мистическое значение. Эта смола, если ее зажечь, не гаснет и дает тонкий вьющийся дымок, который, как считали древние, поднимается прямо к небесам, где ублажает своим ароматом богов. В Китае и Индии ладан жгли во время погребальных обрядов. В храмах древних иудеев ладанный дым в виде облака с завитками выдавался за знак присутствия самого Всевышнего.[8]
Плиний писал, что Александр Македонский очень любил возжигать на алтарях большие количества благовоний. Леонид, наставник Александра, остерегал его, говоря, что жертвовать богам с таким размахом можно, только когда он покорит страны, где этот ладан производят. Согласно Плинию, Александр после этого покорил Аравию и отправил к Леониду корабль, нагруженный ладаном, и письмо, в котором разрешал проводить богослужения не считаясь с расходами.{84}
Кроме того, Плиний очень живо рассказывает о торговле ладаном в Счастливой Аравии. Ладанное дерево выделяет клейкую пенистую жидкость, которая скапливается под корой. Сборщики надрезают кору, и жидкость выливается на землю или на пальмовые коврики, где подсыхает и загустевает. Это и есть чистейший, самого высокого качества ладан, а все, что прилипло к дереву или извлекается из коры, идет вторым сортом. Плинию очень понравились обычаи сборщиков ладана.
Лес разделен на определенные участки, и владельцы участков соблюдают по отношению друг к другу честность. Хотя надрезанные деревья никто не стережет, никто и не крадет.{85}
Бедуины и сейчас собирают ладан с деревьев, каждое из которых помечено знаком владельца, как при Плинии. До нашей эры жители юго-западной Аравии обычно собирали благовония только в самое жаркое время года, в мае, до прихода прохладного и влажного летнего муссона. После нескольких недель сушки конечный продукт начинал свое путешествие на спинах верблюдах к северу, на рынки Плодородного Полумесяца и Средиземноморья. Или хранился еще несколько месяцев, дожидаясь, пока закончатся сезонные бури, чтобы морем отправиться на восток, в Индию. Греческий натуралист Феофраст очень достоверно описывал «тихую торговлю», первые закупки.
Привозят ладан, каждый ссыпает его в свою особую кучку и то же самое делает и с миррой. Кучки эти остаются под охраной стражи; в кучку втыкается дощечка с обозначением числа имеющихся здесь мер и цены, по какой следует продавать каждую меру. Купцы, явившись, рассматривают эти надписи и, перемеряв понравившуюся им кучку, кладут указанную плату на то же самое место, откуда взяли кучку. Жрец, придя на место, забирает третью часть этой платы в пользу бога, остальное же оставляет на месте, и деньги лежат в полной сохранности, пока за ними не приедут и не заберут их хозяева.{86}
* * *
Свежевысушенный ладан — хрупкое смолистое вещество — укладывался в специальные деревянные ящички. Масло мирры, которое легче выдыхается, транспортировали в кожаных бурдюках. Тысячелетиями два этих драгоценных вещества, полученные в далеких таинственных странах, проделывали сложный путь с юго-запада Аравийского полуострова до мест назначения — Вавилона, Афин и Мемфиса, столицы Древнего Египта. Историк Найджел Грум пишет: «Можно себе представить древний караван верблюдов, нагруженных корзинами с ладаном, свисающими по обе стороны от седла, или миррой, упакованной более компактно, в тугих бурдюках».{87}
Все изменилось во времена Римской империи. Изрядная часть захваченной римлянами добычи уходила на закупку благовоний. Возможно, в глубокой древности греки и римляне ублажали богов человеческими жертвами. Но в Древней Греции классического периода и на заре Римской республики в жертву приносились животные. Во время приношения — долгой церемонии — благовония возжигались в курильницах, стоявших на треножниках.{88} Для римских ритуалов воскурение благовоний было настолько важным, что, в отличие от большинства импортных товаров, которые облагались налогом в 25%, благовония от налогов освобождались. (На триумфальной арке Тита в Риме изображен император, с триумфом въезжающий в город после покорения Иерусалима в 70 году. В руке он держит кустик бальзамина — сырье для приготовления одного из самых дорогих благовоний.){89} По мере роста империи спрос на благовония возрастал. В I и II веках Счастливая Аравия постепенно попала под влияние Римской империи, и перевозка душистых масел — и на верблюдах, и на кораблях — стала дешевле и безопаснее.
Возрастал спрос, местные жители стали собирать по два и по три урожая за год. Качество продукта становилось гораздо ниже, чем когда его собирали по традиции, в мае. Выращивать ароматные растения стали и к западу от Зуфара (современный Оман).
Это значительно удлинило путь товара до Рима. Часть ладана и мирры с новых плантаций грузилась на корабли уже в арабских портах Кана и Моха, оттуда товары везли в Беренику, на берегу Красного моря, а потом в Александрию. Но основную часть благовоний перевозили все-таки на верблюдах. Правитель Счастливой Аравии, желая держать под контролем эту доходную торговлю, следил за тем, чтобы поток товара проходил по суше, через город Шабву, в восточной части страны.
Плиний писал, как благовония, после того, как их собрали, перевозятся в Шабву, где для их ввоза оставляли открытыми только одни ворота. Попытка уклониться от прохода через эти ворота — верный признак контрабанды — каралась смертью. Провоз товара сухим путем, вероятно, превратился в монополию одного племени, жрецы которого присматривали за сбором урожая и его перевозкой. Плиний называет это племя то катабанитами, то минеями.
В Шабве жрецы забирали себе в качестве налога десятую часть товара. Затем груз должен был проследовать в Томну, столицу страны катабанитов или минеев, контролировавших этот торговый путь. Плиний пишет, что путь из Томны в Газу, длиной около 1500 миль, занимал 65 дней. В день проходили по 23 мили. По ходу дела возрастали расходы. В частности:
Определенные доли ладана отдавались жрецам и царским секретарям, но кроме них были еще стражники и сопровождающие, привратники, слуги — у них были свои поборы. На протяжении пути все время приходилось за что-нибудь платить — в одном месте за воду, в другом за корм животным, за право сделать привал».{90}
Поклажа каждого верблюда, если считать закупочную стоимость и все расходы на транспортировку, составляла около тысячи динариев, то есть около двух динариев за фунт. Самая низкая продажная цена равнялась трем динариям за фунт. Самый высококачественный ладан — как можно было судить по его белизне, хрупкости и легкости сгорания — продавался в Риме по шести динариев за фунт. Самый низкокачественный, за три динария, сравним по цене с черным перцем. (Динарий, мелкая серебряная монета, которая весила 1/8 унции, приблизительно составляла дневной заработок умелого ремесленника. Следовательно, за фунт мирры ему пришлось бы работать около двух недель.) Для сравнения, самые дорогие благовония, такие как бальзам из Палестины, продавались по ценам от тысячи динариев за фунт.
Пусть цена ладана была относительно невысокой, зато торговцы брали количеством. Это единственное из благовоний, количество которого считалось вьюками (примерно по 500 фунтов), поэтому ладан был самым важным в ту эпоху потребительским товаром. Если сведения из записок Плиния принять за номинальную стоимость и оценить все расходы на транспортировку одного вьюка от Счастливой Аравии до Рима примерно в 1000 динариев, то средняя продажная цена выходит в пять динариев за фунт, и с одного верблюда можно получить прибыль в 1500 динариев.
Торговля благовониями давала процветание всем тем местам, через которые тянулся торговый путь. Прибыль распределялась между посредниками, которые обслуживали караваны, и самими погонщиками, каждый из которых мог вести до шести верблюдов. Медленно следуя извилистым путем вдоль западного побережья полуострова на Красном море, эти караваны связывали районы Счастливой Аравии, где благовония добывались, с покупателями в отдаленных краях Плодородного Полумесяца, а позднее — с Грецией, Римом и Византием. Вдоль этого пути процветали крупные торговые центры, особенно сабейские и катабанитские города, такие как Шабва, Томна и Мариб. Другая группа населения — кочевые племена — преуспевала в грабежах и нападениях на караваны, перевозящие благовония. Товар, который прибывал из Восточной Аравии через Газу и Александрию на пристани Путеол, проделывал путь в 4000 миль.
Путаница в вопросе, кто же именно контролировал эту торговлю, главным образом, связана с трудностями исследований в современных Йемене и Саудовской Аравии. Большую часть XX века Мариб — главный город древнего сабейско-катабанитского региона — был недоступен для европейцев. В 1951 году имам Йемена наконец разрешил известному американскому археологу Фрэнку Олбрайту приехать в Мариб, чтобы попытаться раскрыть эту тайну, но археологическую партию тут же взяли на прицел угрюмые местные жители.
Ученые нашли фрагментарные, но любопытные минейские надписи даже в самом египетском Мемфисе и греческом Делосе, что указывает на то, что арабские торговые диаспоры проживали за тысячи миль от своей родины.
Когда прирученных верблюдов стали использовать для перевозки грузов в других краях, севернее и восточнее, другие крупные центры, такие как Пальмира, Самарканд и Шираз (соответственно, в современных Сирии, Узбекистане и Иране), превратились в скопление торговцев верблюдами, караванщиков и купцов из разных стран. Каждый из этих городов, в свою очередь, стал богатым и могущественным. Даже сегодня хорошо заметны такие следы торговли благовониями, как величественные каменные храмы и гробницы в Петре, столице Набатеи на юге современной Иордании.
Это таинственное царство солнцепоклонников находилось в расцвете в период между 300 годом до н. э. и падением Рима, и процветание его держалось на контроле северной трети Аравийского торгового пути. Такая же ситуация сложилась на средиземноморской оконечности караванного пути в Газе, которая тоже богатела на этой торговле. Благовония, которые Александр посылал Леониду — 15 тонн ладана и 3 тонны мирры, — прибыли из гаваней Газы, взятой Александром по пути из Тира в Египет в 332 году до н. э. К этому моменту Газа была уже очень старым и очень богатым городом, располагалась на большом холме и в предшествующие века выдержала несколько ассирийских осад.
К тому времени как благовония добирались до Египта, от наивной честности, принятой в Счастливой Аравии, уже ничего не оставалось. Снова читаем у Плиния:
В Александрии, где благовония смешиваются для продажи, — во имя Геркулеса! — никакой бдительности не достанет, чтобы присмотреть за этим хозяйством! Застежки одежды работников скреплены печатью, на голове их заставляют носить маску или мелкую сеть, а прежде чем им дозволяется выйти из помещения, они должны раздеться.{91}
Таким образом, древняя торговля благовониями не отличалась от современного кокаинового или героинового промысла — относительная безопасность вблизи источника произрастания сырья, но очень высокий риск вокруг готового продукта и конечных покупателей.
Воздействие благовоний на Рим — конечный пункт назначения — было не таким благотворным. Импорт ароматических смол, так же, как импорт шелка, выкачивал из империи серебро. Найджел Грум подсчитал, что ежегодно около 15 000 000 динариев тратилось на 10 000 вьюков благовоний, привозимых в столицу. Пока в гавани приходили трофеи из чужих краев, все было хорошо. Трофеи одного только Сенеки оценивались почти в 100 000 000 динариев. Но во II веке завоевания прекратились, а римляне стали еще более прихотливы. В то время те, что были склонны скорее к поэзии, нежели к экономии, замечали, что силы империи таяли вместе с дымом благовоний.{92}
* * *
Хотя ладан и мирра порождали богатые города и городки по всему торговому пути, одно такое местечко гальванизировало весь цивилизованный мир. Это маленький западноаравийский оазис, расположенный на полпути от йеменских производителей благовоний до их потребителей в далеком восточном Средиземноморье и странах Плодородного Полумесяца. Там торговля ароматами катализировала рождение ислама, который преобразил средневековую Азию, Европу и Африку своим военным, духовным и торговым натиском. Поднявшись на волне глобальной торговли вдоль наземных и водных путей Азии, ислам получил господство как над духовной, так и над коммерческой жизнью континента.
История новой религии началась с предков пустынных арабов, которые вели оседлое хозяйство на отдаленных островках оазисов. Три или три с половиной тысячи лет назад они сумели приручить верблюда, и это позволило им хоть что-то противопоставить суровой и дикой арабской пустыне. Но даже с новообретенной способностью перемещаться их существование не стало более безопасным. Безжалостная безводная летняя жара загоняла их в оазисы, по окраинам которых они пасли верблюдов и коз в остальное время.
* * *
Суровая жизнь кочевников была платой за драгоценную географическую удаленность, которая хранила их от завоевателей. Два главных в послеримском мире хищника — Византия и Персидская империя Сасанидов оспаривали друг у друга былую славу Траяна и Дария. Византия стремилась отхватить у Персии Междуречье, а Персия надеялась отобрать у Византии Сирию и Египет. Схлестнувшись в непрерывной борьбе не на жизнь, а на смерть, эти державы не уделяли особенного внимания чужакам, обнищавшим жителям пустынного юга. Но в удаленной и независимой Аравии было одно исключительное место — омытая тропическими ливнями, плодородная, богатая благовониями Счастливая Аравия, ставшая лакомым куском в этом древнем варианте Большой игры.
Суровая и беспощадная пустыня формировала экономическую и религиозную жизнь Аравийского полуострова, она и по сей день хранит свой отпечаток в культурной жизни мусульман. Выживание в Аравии, где не было сильной центральной власти, полностью зависело от положения семьи и племени.
Европейские представления о государственной автономии и законном правительстве для пустыни просто не годились. Нападение на одно племя означало нападение на всех, а в местности, где убийца мог легко и быстро скрыться, не имело большого значения, наказывать виноватого или невиновного. Наказание — тар — налагалось на весь клан. В результате, возникали сложные и запутанные отношения в вопросах чести и мести. Такие привычные для жителей Среднего Востока, они, казалось, не имеют ни начала, ни конца. Когда мстят в кругу близких родственников, не помогает ни полиция, ни независимая законодательная система, а бедность и политическая нестабильность являются естественным следствием.
На такой бесплодной и нищей земле главные средства к существованию зачастую похищают из шатров и караванов соседних племен. Основные военные действия в пустыне — газу — конные набеги. (В галопе конь быстрее верблюда и более управляем.) Набеги совершались искусно и быстро, так чтобы избежать человеческих жертв и не вызвать месть родственников.{93} Напомню трилемму торговли: торговать, защищать или грабить. В отсутствии какой-либо власти выше, чем на уровне племени, арабы неизбежно выбирали — грабить.
В доисламские времена жители пустыни поклонялись многим богам, и ислам впитал в себя многие верования и практики прежних религий. Древние арабы воздвигали святилища многочисленным божествам. Самым священным из них была Кааба в Мекке, большой гранитный блок, в один из углов которого вставлен черный камень, вероятно метеоритного происхождения. Неизвестно точно, была ли Кааба воздвигнута в честь арабского божества аль-Илаха или одного из младших богов, Хубала. У жителей древнего Среднего Востока вообще было принято поклоняться упавшим метеоритам. Любитель шелка римский император Гелиогабал, о котором рассказано во вступлении к этой книге, был сирийцем и свою карьеру начал жрецом храма города Эмеса (современный Хомс в Сирии), в котором хранились такие небесные реликвии. Став императором, он привел римлян в ужас, подобрав обломок камня и заставив построить для него храм в столице.{94} (Через 23 года после смерти Гелиогабала власть над самой светской из империй досталась императору Филиппу, арабу.)
К 500 году н. э. Аравийская пустыня пришла в тесный контакт с иудеями и христианами. После того, как в 586 году Навуходоносор завоевал Иерусалим, иудеи охотно переселялись на юг, в Хиджазе они устроили пальмовые плантации. Христианство тоже распространилось по Аравии, как с севера, из Византия, так и с юга, через Баб-эль-мандебский пролив, от абиссинских коптов. И христиане, и иудеи часто посмеивались над арабами за их многобожие и неверие в загробную жизнь. У жителей пустыни формировалось чувство религиозной неполноценности и подспудное желание разобраться в собственных верованиях.
До сих пор остается загадкой, как же именно Мекка стала шумным торговым центром. Там ничего не производили, не сидело правительство, не проживало множество богачей-покупателей. Военного значения этот город тоже не имел. Некоторые историки считают, что главное его достоинство заключалось в расположении — Мекка находилась приблизительно на середине двухмесячного пешего пути через Аравийский полуостров, от самого Византия на севере и до примыкающего к Абиссинии Йемена. В то же время, она располагалась достаточно далеко от них, чтобы не стать объектом их аппетитов. Однако главной причиной процветания города было не это. Роль торговли благовониями в его развитии тоже не вполне ясна — есть разные мнения по поводу того, проходил ли главный торговый путь через город (в отличие от Медины, через которую явно протекал поток торговли благовониями).[9] Расположился город в сухой и бесплодной долине и в доисламские времена по части пропитания очень сильно зависел от садов и полей Таифа, отстоящего от него на 75 миль.{95} Образно говоря, Мекку можно считать миниатюрным, высушенным, сухопутным арабским вариантом Венеции, чье пропитание и ритмы повседневной жизни целиком подчинялись мелодии рынка, вне зависимости от того, проходил через город путь, по которому везли благовония, или нет.
Настоящей причиной благополучия Мекки в доисламской Аравии мог стать камень Каабы и несколько окрестных святилищ, для поклонения богам пустыни. Каждый год правоверные устраивали паломничество, известное как хадж (обычай этот позже перенял ислам), чтобы поклониться черному камню и обойти вокруг Каабы. Не в последнюю очередь могуществом и достатком Мекка обязана хаджу.
К концу V столетия н. э. племя курайшитов, которым правил шейх по имени Кусай, перекочевало с севера, захватило Мекку, а затем отразило нападение и византийцев, и абиссинцев. Кусай убедил курайшитов и соседние племена, что гораздо выгоднее торговать и защищать проходящие караваны, чем грабить их. Пошлину за безопасный проезд купцы платили охотнее, чем раскошеливались дрожащие, запуганные караванщики, когда их грабили.{96} Курайшиты остались жить в Мекке, число их все росло, богатства прибавлялись и постепенно начали растекаться за пределы тесной кочевой общины. Жизнь завертелась вокруг торговли, не ограниченной пределами оазиса или шатрами в пустыне.
Начиная приблизительно с 500 года Абиссиния обратилась в христианство и стала в своем регионе могучей силой, связанной со своими единоверцами в Византии. Последний правитель независимой Счастливой Аравии, несравненный Юсуф Асар (который известен также как Зу-Нувас и «человек с пейсами») в начале VI века обратился в иудаизм и перерезал и поработил в своем царстве множество христиан. В 525 году в ответ на жестокость Юсуфа Асара по отношению к христианам абиссинцы переправились через Баб-эль-мандебский пролив и разбили его войско. Говорят, царь в отчаянии бросился в море верхом на коне.{97}
Поражение йеменского монарха-иудея и, как следствие, засилье в Счастливой Аравии абиссинских христиан привело в движение цепочку событий, эхо которых отдается и по сей день. В 570 году абиссинский проконсул в Счастливой Аравии Абраха восстал против своего царя и основал на полуострове собственную империю. Убежденный христианин, обладая армией, укомплектованной даже африканскими слонами, перевезенными через Баб-эль-мандебский пролив, Абраха убедил византийского императора Юстиниана напасть на Мекку — последний в то время оплот язычников в Аравии. Однако несчастные слоны, хотя и были грозным оружием в большинстве сражений Древнего мира, но для аравийских песков никак не годились. Прямо перед городскими воротами они пали то ли от болезни, то ли не выдержав сухого климата. Жители Мекки никогда не видели таких тварей. Тем более не были они знакомы ни с основами экологии животных, ни с микробиологией, поэтому тут же уверовали в чудо. 571 год запомнился Аравии как год Слона.{98} В том же году в одном из родов курайшитов свершилось рождение пророка Мухаммада, и его пришествие мусульмане связали с мистической гибелью слонов. Мухаммад, конечно же, стал торговцем.
Если бы Абраха и его толстокожие союзники одержали в Мекке победу, Мухаммад мог бы закончить свои дни христианским монахом. Исторический Мухаммад — фигура, в лучшем случае, неотчетливая. Первое его жизнеописание появилось более чем через сотню лет после его смерти, но уже оно было искажено древними хронистами в угоду политическим требованиям. Однако среди споров ясно вырисовывается один факт. Его, осиротевшего в раннем детстве, воспитывал дядя, преуспевающий торговец Абу Талиб. Хотя ранние годы Мухаммад, вероятно, провел, наблюдая, как дядюшка ведет дела, и помогая ему, нет письменных свидетельств его попыток освоить эту профессию. Известно только, что в возрасте около 25 лет он составил партию Хадидже — вдове, которая была старше его. Она тоже успешно занималась торговлей. Нам неизвестно в точности, какие товары возили ее караваны, но среди них определенно были финики, смолы и кожи из окрестностей Таифа, ладан из Йемена и ткани из Египта.
Будучи женщиной, она не могла сама сопровождать грузы, и Мухаммад быстро набрался опыта, служа ее представителем в Сирии. Находясь под впечатлением от деловых качеств молодого человека и очарованная его личными качествами, она предложила пожениться, и он принял предложение. Теперь у Мухаммада было положение и ресурсы.
В своих поездках Мухаммад встречал иудеев и христиан — «людей Писания» — и чувствовал притягательную силу их религиозной системы. Но сдерживал Мухаммада тот факт, что иудаизм и христианство были связаны с ненавистной властью чужаков. Его арабским соотечественникам предстояло найти собственный путь. Духовная жажда арабов усиливалась мощным отвращением к жадной меркантильности обосновавшейся в Мекке новой торговой аристократии из разбогатевших курайшитов, отвернувшихся от древних обычаев племени и привычных правил поведения.{99} Вот что говорит известный западный специалист по истории ислама Максим Родинсон:
Традиционные добродетели больше не были для сынов пустыни дорогой к успеху. Гораздо важнее оказались жадность и умение не упустить свой шанс. Богатый возгордился и зачванился, прославляя свой успех как личную заслугу — его успех больше не был делом всего племени. Кровные связи слабели.[10]
Затем, к концу VI столетия, арабами управляли две потребности: стремление стать единым народом, сплоченным перед лицом двух чужеземных монотеистических религий, и взрастить политическую силу, способную обуздать власть и продажность курайшитов. В этой бурлящей социоэкономической атмосфере в 610 году аль-Илах, пришедший прямо из верований народов пустыни, голосом ангела Джибраила решительно надиктовал Мухаммаду, который чуть не умер на горе Хира, возле Мекки, первые суры Корана. Сухой трут религиозного рвения воспламенился и почти сразу же запылал пламенем раздоров и завоеваний, которое охватило огромную часть Азии, Африки и Европы.
Мусульмане давно поняли, что при исполнении высокой миссии важнейшую поддержку Пророку оказала Хадиджа. Арабы говорят, что ислам не поднялся бы без меча Али и без богатства Хадиджи. (Али — двоюродный брат и зять Мухаммада — стал четвертым его последователем. С убийством Али мусульмане раскололись на шиитское меньшинство и суннитское большинство, соответственно, на тех, кто верит и кто не верит, что верховенство над мусульманами должно передаваться от Мухаммада через линию Али.)
Ислам — единственная из мировых религий, основанная торговцем. (Непосредственный преемник Мухаммада, купец Абу Бакр, тоже был торговцем.) Этот необычный факт многое говорит о глубинной сущности религии. Он же определил те исторические события, которые гремели над караванными тропами Азии и морскими путями Индийского океана последующие девять столетий. Следы его хорошо видны в современном мире, от колоний индийских мусульман в Восточной Африке до ливанских купцов, которые все еще промышляют в Западной Африке, и до сирийцев, которыми заселены захолустья «третьего мира» в романах Грэма Грина.
В самых священных мусульманских текстах звучат мотивы коммерции, даже в знаменитом пассаже из Корана: «О вы, которые уверовали, не пожирайте имущества друг друга несправедливо, не имея на это никакого права; но вы можете совершать между собою торговые сделки по взаимному согласию».[11]
Однако самые важные места, касающиеся торговли и коммерции, приведены в хадисах — собрании историй о жизни Мухаммада. Они предлагают советы о том, как вести торговлю, от общих («Нет на вас греха, если вы ищете милость от своего Господа» («Корова», 198), т. е. торговля разрешается даже во время хаджа) и до частных:
Покупатель и продавец остаются свободными в своем выборе до тех пор, пока они не расстались друг с другом, и если оба они были правдивы и разъясняли, то сделка их будет благословенной, если же они скрывали (что-то) и лгали друг другу, то благо их сделки будет уничтожено.{100}
Один рассказчик, Джариб бин Абдулла, говорит о том, как лично повстречался с Мухаммадом, который предложил купить его обессилевшего верблюда. За верблюда пророк заплатил один золотой. Позже Мухаммад из милосердия вернул верблюда и позволил Джабиру оставить золотой у себя и сообщить потомкам, что Пророк в какой-то момент может и отменить торг, но торг никогда не отменит Пророка.{101} Уже через несколько десятилетий новая вера проникла из Мекки в Медину и обратно, через Средний Восток, затем на Запад — в Испанию и на восток — в Индию. С точки зрения коммерции, ранний ислам можно рассматривать как быстро надувшийся коммерческий пузырь. Снаружи него находились неверные, а внутри — быстро растущая община с единой верой и законом. Подробный анализ удивительно быстрого распространения ислама не входит в задачи этой книги, но нужно заметить, что своей молниеносностью он в немалой степени обязан конфликту между новой верой, запрещавшей красть у единоверцев (но не у неверных), и экономическим императивом набегов «газу». Может, Пророк и родился барышником, но умер налетчиком. Вскоре после того, как в 622 году его изгнали из Мекки, он принялся нападать на караваны неверных из этого города. Новая религия учила, что все имущество у побежденных неверных отнимается, причем пятая его часть изымается в пользу Аллаха и уммы (общины), а остальное делится отрядом победителей и его вождями.{102} Если побежденные добровольно принимают ислам, их имущество сохраняется. Таким образом, чем более отдаленные племена принимали ислам, тем более дальние походы требовались, чтобы добраться до неверных. После смерти Пророка в 632 году процесс пошел с еще большей скоростью, потому что одни племена были покорены, а другие, глядя на политическую, духовную и военную мощь новой веры и желая к ней приобщиться, узрели свет и обратились. Оба механизма — завоевание и добровольное обращение — быстро раздвигали границы ислама все дальше и дальше от отправной точки.
Войска арабов были остановлены через шесть лет у ворот Константинополя странным стечением обстоятельств. В частности, недавним воцарением прекрасного стратега императора Льва Исавра и необычно холодной зимой, смертоносной для многих отрядов, привыкших к климату Аравии, а также тем, что верховые отряды ехали на верблюдах. По словам Дж. Дж. Сондерса, изучавшего ислам, «если бы тогда пал Константинополь, был бы покорен Балканский полуостров, и арабы могли бы по Дунаю плыть в сердце Европы, и христианство осталось бы лишь как темный культ в лесах Германии».{103}
Первейшей задачей, стоявшей перед арабами, был вопрос, как прокормить новообращенное голодное население полуострова. С незапамятных времен Египет служил житницей Средиземноморья, а мусульманские завоевания открыли широкий доступ к его запасам, чтобы насытить рынки Аравии. Сперва халиф отправлял зерно с караванами по ладанному торговому пути. Вскоре новая мусульманская империя расчистила до уровня моря древний канал, соединявший Нил с Красным морем, и появился дешевый водный путь от египетских запасов продовольствия в Аравию. Как и в нынешние времена, судьбу древней версии Суэцкого канала определили стратегические интересы. Вначале правители планировали протянуть его сразу до Средиземного моря — тогда канал принял бы почти такие же очертания, какие он имеет сейчас. Но халиф Омар (второй преемник Пророка, после Абу-Бакра) отверг этот проект, опасаясь, что византийцы воспользуются проходом из Средиземного моря в Красное, чтобы помешать хаджу. То, что способно питать, может также и истощать. Теперь зерно, отправляясь к Красному морю, следовало на север в Константинополь. Потеря столь значительного продовольственного канала сыграла не последнюю роль в упадке Византия. Век спустя халиф Абу Джафар в последний раз перекрыл канал, чтобы отрезать арабских мятежников от поставок продовольствия.
Баланс сил в Восточном Средиземноморье был нарушен в 655 году, после «Битвы мачт», в которой мусульмане одержали победу над византийцами. Для этого арабам пришлось создавать боеспособный флот и укомплектовывать корабли опытными коптскими моряками, которые презирали греческое главенство и способствовали одной из величайших побед ислама. Теперь морской путь с Запада в Индию и Китай осложнился и пребывал в таком состоянии восемь с половиной веков, пока Васко да Гама не стал первым европейцем, прорвавшимся в Индийский океан.{104}
После победы в «Битве мачт» мусульманский флот постепенно взял под контроль все Средиземное море. В 711 году бывший берберский раб Тарик ибн-Зияд успешно руководил дерзкими нападениями на скалистое побережье южной Испании, находившейся тогда под властью готов. Омейяды праздновали великую победу, которая предваряла завоевание мусульманами всей Испании уже через три года. Утес, у которого совершилось сражение, назвали Джебель-ат-Тарик — «гора Тарика». Позже это название стали произносить как Гибралтар.
Из стратегически важных островов Средиземного моря Кипр пал почти с первым же ударом арабских сил в 649 году, Крит — в 827-м, Мальта в 870-м, а в 965 году, после почти ста лет войны, мусульманам достался главный приз — Сицилия. На заре нового тысячелетия христианам казалось, что воды, которые католики любовно называли mare nostrum — «наше море», — теперь кишат кораблями мусульман. Так велики были теперь мусульманские владения, и в Европе в большом количестве ходили монеты мусульманских правителей, датированные IX-X веком. Они встречались в Центральной Европе, Скандинавии (особенно на острове Готланд, у восточного побережья Швеции), в Англии и Исландии.{105}
Империи Омейядов и Аббасидов существовали, соответственно, до и после 750 года. Они охватывали территорию больше той, которой правил Рим. По мере того как истощался поток военных трофеев, торговля все больше преобладала над войной. Бедные задворки Западной Европы не так интересовали мусульман, как Средняя Азия и ее Шелковый путь. После поражения в 732 году возле французского города Пуатье Омейяды больше не вернулись в Галлию. Не ответили они и на реконкисту Испании и Португалии, которая началась в 718 году и достигла высшей точки в 1492-м, когда произошло изгнание последних мавров (и евреев).
Зато войска мусульман снова и снова атаковали дальние пределы Средней Азии, пока в 751 году не разгромили силы китайской империи Тан на реке Талас (современный Казахстан) и не взяли в свои руки весь участок Шелкового пути, проходивший в этом регионе. Часто великие завоевания приводят к нечаянным удачам. Самым важным достижением мусульман на реке Талас были не новые территории, не шелк, но приобретение более прозаическое и драгоценное. Среди китайцев, взятых при Таласе в плен, были изготовители бумаги, которые скоро распространили свое чудесное искусство в мусульманском мире, а затем и в Европе, навсегда изменив культуру человечества и ход истории.
Первые завоевания мусульман существенно изменили Римский мир. Империи Омейядов и Аббасидов явились своего рода огромными зонами свободной торговли, в которых исчезли прежние границы и барьеры, в частности вдоль реки Евфрат, которая с глубокой древности считалась границей между Западом и Востоком. Не было больше трех альтернативных путей в Азию: по Красному морю, через Персидский залив и по Шелковому пути — все они объединились в одну логистическую систему, доступную всякому, кто признавал господство халифата.
Почти все следующее тысячелетие мореплавание у мусульман шло рука об руку с завоеваниями и обращением в свою веру. Удивительным образом к середине VIII века — не прошло и сотни лет со дня смерти Пророка — тысячи мусульманских (в основном персидских) торговцев появились не только в китайских портах, но и во внутренних городах Китая.{106} Китайские же крупные джонки, приспособленные для моря, не выходили в Индийский океан приблизительно до 1000 года. Еще через 400 лет легендарный адмирал-евнух Чжэн Хэ с огромным флотом отправился к Шри-Ланке и Занзибару.
Арабский был международным языком новой империи, и суда мусульман патрулировали порты и торговые пути от Гибралтара до Шри-Ланки. К IX веку мусульманские правители Средней Азии установили контакт с волжскими хазарами, а через них — со скандинавами. На востоке поддерживались оживленные отношения с Китаем по Шелковому пути и по морю, а североафриканские купцы отправляли караваны на юг, через Сахару. Через несколько столетий после смерти Пророка его последователи связали почти весь известный мир в огромную империю, где африканское золото, слоновая кость и страусиные перья менялись на скандинавские меха, балтийский янтарь, китайские шелка, индийский перец и персидские изделия из металла.{107} Вдохновленные завоеваниями арабы переживали культурное возрождение во многих областях — величайшие достижения литературы, искусства, математики и астрономии обнаружены не в Риме, Константинополе или Париже, а в Дамаске, Багдаде и Кордове.
Исламский мир не был сплошной благодатью. Граница между Востоком и Западом сместилась в Средиземное море, свободного прохода по которому теперь не имели ни мусульмане, ни христиане. Как пишет историк Джордж Хурани: «Пути Средиземного моря превратились в границы, в предмет раздора. Эта перемена погубила Александрию».{108}
Хотя торговая сеть мусульман имела множество преимуществ, в том числе использование векселей, сложные системы займа и рынки фьючерсов, ни в одном мусульманском государстве не возникло основы современного делового мира — центрального или государственного банка.{109} Но это уже другая тема.
Несколько столетий после падения Рима осколки старой империи, с точки зрения мировой торговли, считались темным захолустьем. Мощные коммерческие и технологические революции, проходившие в Средней Азии, Индии и особенно в Китае, обходили их стороной. Но, даже несмотря на это, опыт мореходства в Средиземном море обогатился применением арабского треугольного латинского паруса, который позволял судам ходить круто к ветру, что было невозможно с древними европейскими квадратными парусами.
До XI века никто не мог бросить вызов исламскому миру, и лишь позже христиане вернули такие значительные владения, как Испания, Сицилия и Мальта. Вдохновленный этими успехами, папа Урбан II в 1095 году на Клермонском соборе призвал к Первому крестовому походу, с помощью которого ненадолго удалось освободить Святую землю.
В XII веке Саладин продолжил завоевания Фатимидов и вытеснил крестоносцев из Иерусалима (хотя он предпочел бы торговать со своими христианскими врагами) и сплотил силы мусульман на Ближнем Востоке. С победами Саладина ислам достиг своего расцвета. Затем последовал ряд катастроф и неблагоприятных событий: монгольское вторжение в XIII веке, чума в XIV и плавание Васко да Гамы в Индийский океан в XV и XVI веках.
Несмотря на долгий упадок ислама, мусульманские купцы доминировали в дальней торговле до XVI века, а во многих регионах и до начала современного периода.
ГЛАВА 4. ЭКСПРЕСС БАГДАД — КАНТОН: АЗИЯ ЗА 5 ДИРХЕМОВ В ДЕНЬ
Когда XIII век подходил к концу, величайшие морские державы в Средиземном море — Генуя и Венеция — вступили друг с другом в смертельную схватку за торговые пути. В сырой генуэзской тюрьме примерно в 1292 году капитан венецианского флота коротал свои дни и недели, диктуя воспоминания сокамернику, малоизвестному пизанскому писателю по имени Рустикелло.
И что за повесть рассказал этот пленник, захваченный на далматском острове Курцола, своему новому другу! По меньшей мере за столетие до того, как он был пленен, его семья сделала состояние на торговле с Востоком. Ее склады в венецианском квартале Константинополя, великого торгового центра той эпохи, полнились пряностями и шелками. Венеция разбогатела не только на редких азиатских товарах, но также на пилигримах и крестоносцах, держащих путь в Святую землю или оттуда.
Хотя венецианский пленник хорошо знал Восток, он не был первопроходцем. Веками европейские купцы, послы и проповедники путешествовали по Шелковому пути в поисках богатств, власти и последователей. Примерно за 40 лет до того, например, вскоре после рождения пленника, его отец и дядя оставили свой торговый пункт в Константинополе и отправились в глубь Центральной Азии, которой владели монголы, где, вероятно, и укрылись от враждующих племен в торговом городе Бухара (ныне на территории Узбекистана). Там они встретили Хулагу, посла великого хана Центральной Азии. Доверенное лицо хана, завороженный итальянским языком братьев, пригласил их на Восток. Два хитроумных купца не заставили просить себя дважды и отправились на экскурсию в страну шелка и пряностей.
Около 1265 года братья прибыли в Китай ко двору брата Хулагу Кублай-хана, где провели добрых 10 лет, прежде чем вернуться в Рим с письмом от Кублай-хана папе Клименту IV. Любопытный и экуменически настроенный Кублай просил прислать сотню христианских миссионеров для обучения китайцев могущественной западной вере. Однако, когда венецианцы вернулись домой в 1269 году, Климент уже скончался, и братьям, Маффео и Николо Поло, пришлось ожидать, пока новый понтифик направит им монахов, затребованных Кублаем. Пока они искали свою удачу в Китае, жена Николо умерла и оставила на попечение мужа пятнадцатилетнего сына Марко, уже вполне взрослого.{110}
Оригинальная версия «Путешествий Марко Поло», восстановленная Рустикелло по воспоминаниям Марко Поло и по записям, запрошенным из Венеции, была, вероятно, впервые записана на французском, который тогда был, так сказать, lingua franca Европы. Фантастические истории — о странах, где коровы почитались священными, где вдовы бросались на погребальные костры своих мужей, где юношей похищали и одурманивали гашишем, окружали роскошью и женщинами, а потом обучали убивать (все это происходило в Индии). О местах, где земля была пропитана клейкой горючей субстанцией (нефтяные поля в Месопотамии). О местах, столь северных, что солнце никогда не заходит летом и не восходит зимой. Все эти истории были восприняты европейцами как продукт воспаленного воображения. Точность «Путешествий» была, на самом деле, удивительной, в том числе описания мест, попавшие к Поло через вторые и третьи руки, мест, которые он сам не посещал: Бирма, Сибирь, Ява и даже таинственные Острова Пряностей.
Хотя семья Марко Поло владела известным торговым домом и хотя «Путешествия» включали в себя описания чужеземных нравов, товаров, костюмов и обычаев, потомки не узнают из них о подробностях международной торговли в Средние века. Возможно, недостаток количественных данных — на совести Рустикелло, опытного писателя, который не мог не почувствовать, что средневековый литературный рынок лучше воспримет истории про самосожжения супругов и города протяженностью в многие мили, чем про цены на перец или навигацию в период муссонов.[12]
* * *
Точно так же как стабильность в I—II веках, обеспеченная Римской империей и династией Хань, содействовала международной, со множеством посредников торговле между Римом и Китаем, власть империй ислама и династии Тан в VII-XIX веках стимулировала гораздо более прямые сношения между странами халифата и Китаем. Китайские источники предполагают, что ислам появился в Кантоне примерно в 620 году, почти за десять лет до смерти Пророка.{111}
До того как китайцы изобрели магнитный компас около XII века, моряки полагались на небесную навигацию. Туман и облачность часто оказывались не менее смертельными, чем яростные штормы. Хотя со времен греков мореходы знали, как измерять широту, точное определение долготы не было возможным до XVIII века. Постоянным спутником средневекового путешественника в открытом море был страх. Об этом красочно рассказал китайский странник V века, который путешествовал в Индию и обратно:
Великий океан тянется в бескрайние просторы. Нельзя отличить восток от запада. Только наблюдая за солнцем, луной и звездами можно плыть вперед. Если погода пасмурная и дождливая, корабль плывет вперед по ветру, без точного курса. Во тьме ночи только волны видны, бьющие друг о друга, испускающие свет, как от огня.
…Купцы были исполнены страха, не зная, куда плывут. Море было глубоким и бездонным, и не было места, где они могли бросить якорь.{112}
Как и ранее в VII веке, китайцы видели достаточно ближневосточных купцов, чтобы различать мусульман, наводняющих их порты. «По-си», или персы, с их давней традицией мореплавания в заливе, намного превосходили числом более сухопутных «таших», или арабов. Китайцы также четко отличали мир ислама от более таинственных земель, лежащих далее на восток: «Фулинь», Византийская империя, известная своими поразительными драгоценными камнями и стеклом.{113} В 758 году в Кантоне было достаточно мусульман, чтобы захватить город, сжечь его и уплыть с добычей.{114}
Мусульмане, особенно персы, знали Китай гораздо лучше, чем китайцы знали их. Поскольку существование до-исламской торговли Персии с Китаем не доказано, несомненно, что вскоре после разгрома персидских Сасанидов мусульманскими армиями в битве при Ктесифоне (к югу от современного Багдада) в 636 году арабские и персидские суда заходили напрямую в порты Китая. Вот пример одного из лучших описаний исламской системы мировой торговли во времена халифата, найденное в китайском документе 727 года:
По-си по природе склонны к торговле, они привыкли плавать на больших судах по [Средиземному] морю, и они заходят в Индийский океан до Цейлона, где покупают драгоценные камни… Они также ходят в страну Кун-лун [вероятно, Африка] за золотом. Они также плавают на больших кораблях в Китай прямо в Кантон за шелком и подобным товаром. Жителям нравится убивать скот. Они служат Небесам (Аллаху) и не знают закона Будды.{115}
«По-си» основали торговые диаспоры по всему побережью Китая — большое число мусульманских торговцев, обеспечивавших растущий объем импорта и экспорта. Евреи сопровождали их или следовали по их стопам. Почти одновременно христиане-несторианцы, изгнанные за ересь из Византийской империи, но терпимые среди мусульман как «люди Писания», начали прибывать с запада по суше. Легко увидеть, как отколовшееся христианское движение, отторгнутое дикой нетерпимостью католической церкви, распространялось все дальше на более толерантном Востоке.
Контакты между Востоком и Западом усилились с победой Аббасидов над Омейядами в 750 году, которая сместила центр ислама от окруженного сушей Дамаска к прибрежному Багдаду, обладавшему выходом к заливу. Один из правителей Аббасидов объяснил: «Это Тигр. Между нами и Китаем нет препятствий. Все, что в море, может прийти к нам».{116}
Старинные записи содержат мало данных о торговле, а свет истории освещает коммерцию между Китаем и исламским миром только изредка найденными рукописями. Одна из самых известных рукописей — арабская «Акбар аль-Син валь-Хинд», «Сообщение о Китае и Индии». Предположительно эта компиляция была написана в середине VIII века несколькими арабскими купцами, в частности неким Сулейманом. В ней повествуется о головокружительном путешествии из Багдада в Кантон, обещающем чудеса и приключения, описанные более чем четыре сотни лет спустя в книге Марко Поло.
«Акбар» описывает погрузку на корабли в Басре и Сирафе, глубоководном порту Персидского залива, последующий месячный переход в муссон из Омана от острова Ормуз до Малабарского побережья Индии, где местный правитель взимал налог в 10-30 динаров с одного судна (приблизительно 800-2400 долларов США в современной валюте). Потом персидские корабли плыли еще один месяц через Бенгальский залив, пополнив запасы продовольствия на полпути на Андаманских островах:
Жители каннибалы. Они черные с курчавыми волосами, у них уродливые лица и глаза и длинные ноги. У каждого пенис почти в локоть (45 см) длиной, и они обнажены… Иногда каннибалы хватали матросов, но они убегали.{117}
Купцы бросили якорь в Юго-Восточной Азии, на побережье Кедах, к северу от Пенанга современной Малайзии, где они выбирали, отправиться ли на юг вокруг Малаккского пролива или переправиться волоком через узкий перешеек полуострова Малайя. Путешествие из Кедаха через Малакку в Индокитай заняло около 20 дней. Из Индокитая в Кантон еще месяц. Хотя «Ак-бар» утверждает, что весь путь от Басры до Кантона длился всего 4 месяца плавания, смена муссонов, а также бюрократические препятствия увеличили время в дороге до более чем года.
Поскольку купцы и капитаны предпочитали плавать в муссоны из своих родных портов и обратно в определенное время в году, отдельные лодки и команды курсировали только по одному участку маршрута год за годом (если им удавалось выжить столь долгий срок). Гуджаратский купец, например, обычно грузил корабль тонким хлопковым платьем и индиго со своей родины, отправлялся с летним муссоном в Малакку, менял товары на шелк, пряности и фарфор и возвращался домой с зимним муссоном. Или он мог отправиться на запад зимой и вернуться летом из Адена с лошадьми и ладаном, или зайти в Малинди на восточно-африканском побережье и вернуться с золотом и рабами. Из-за направления муссонов, определявших возвращение домой, корабли с товарами, которые везли по всему маршруту Багдад — Кантон, заходили по меньшей мере в три различные точки.
Китайцы получили от арабских и персидских купцов «Акбара» медь, слоновую кость, ладан и черепаховый панцирь, тогда как мусульмане в Кантоне грузили золото, жемчуг и, конечно, шелк и парчу. Процесс обмена был утомительным и осуществлялся через монополию правительства. Китайцы шесть месяцев держали товары, привезенные из Багдада в Кантон, на складах, пока «не прибудет следующая группа моряков». 30% товаров поглощал налог на импорт, а потом «все то, что правительство хотело купить, оно покупало по самой высокой цене, и выплачивало деньги сразу, и не причиняло при обмене несправедливостей».{118}
«Акбар» открыл почетную западную традицию рассказов о странствии в Китай, поддержанную позже Марко Поло, ибн-Баттутой и многочисленными последующими путешественниками. В основном безымянные авторы «Акбара» изумлялись размером и утонченностью Поднебесной, в которой было более двух сотен крупных городов, экзотическим образом жизни и развитыми учреждениями: «Все в Китае, будь то бедняки или богачи, молодые или старые, изучают каллиграфию и искусство письма». Тем, кто сейчас имеет отношение к спорам вокруг социального страхования, пригодится описание «Акбаром» китайской системы налогов или пенсий:
Налоги собираются подушно в соответствии с личным имуществом в богатствах и землях. Если у кого-то рождается сын, его имя регистрируется у властей. Когда он достигает 80 лет, налоги с него не взимаются. Ему тогда выплачивают пенсию из казны. Они говорят: «Мы берем у него, когда он молод, и платим ему, когда он стар».{119}
Не все в Китае пришлось по вкусу набожным мусульманам. Особенно не могли они примириться с частым наличием свинины в блюдах и с туалетной бумагой, что серьезно нарушало санитарные заповеди Магомета. В конце они перечислили самые удивительные напитки:
Среди важных статей дохода царя… трава, которую они смешивают с горячей водой и пьют. Ее продают в каждом городе по очень высокой цене. Она называется аль-сакх. Листьев у нее больше, чем у зеленого клевера, и она немного более душистая, и у нее кислый вкус. Они кипятят воду, а потом кидают туда листья. Этим они лечат все.{120}
Запад только что открыл чай — продукт, который почти тысячу лет назад породил собственную торговую империю и умножил мировую потребность в сахаре, рабах и фарфоре.
Спустя примерно век после написания «Акбара» персидский капитан Бурзуг ибн-Шахрияр записал 123 коротких рассказа из первых или вторых рук, от матросов и купцов. Они были названы «Книгой о чудесах Индии» и повествовали о невероятных, ужасающих чудовищах и великанах-людоедах, достойных пера южноамериканских писателей. Там был даже остров женщин, нападающих на потерпевших кораблекрушение мужчин:
На каждого мужчину набросилось сразу около тысячи женщин или еще больше; они потащили путешественников в горы и беспрерывно принуждали их к новым наслаждениям… Люди умирали от истощения один за другим.{121}
И все же повсюду в фантастическом повествовании разбросаны виньетки, бросающие свет на природу средневековой торговли в Индийском океане. Книга дает понять, что страх крушения маячил и перед купцом, и перед матросом. Почти все истории включают минимум одно разбитое судно. Путешествие в Китай настолько преисполнено риска, что история о капитане, совершившем семь плаваний, поражает автора:
До него никто не совершал этого плавания без несчастья. Добраться до Китая и не пропасть по пути — это само по себе было значительным достижением; но вернуться назад целым и невредимым — такое было неслыханно.{122}
Только обещание несметных богатств могло заставить людей пойти на риск почти неминуемой гибели. «Чудеса» рассказывают о купце-еврее, Исхаке, корабль которого был «нагружен на миллион динаров мускусом, а также шелками и фарфором равной стоимости, и почти столько же в драгоценных камнях и украшениях, не считая целой груды чудесных предметов китайской работы».{123}
* * *
«Чудеса» продолжаются описанием дара, преподнесенного Исхаком своему другу-мусульманину, вазы черного фарфора с золотой крышкой. Когда его друг спросил, что в ней, Исхак ответил: «Блюдо из (рыбы) секбаджи, которое я приготовил тебе в Китае». Его друг ответил, что этот деликатес, спустя два года, должен был давно испортиться. Когда они открыли вазу, то обнаружили внутри «золотую рыбу с рубиновыми глазами, с гарниром из мускуса лучшего качества. Содержимое вазы было стоимостью в 50 тысяч динаров». В конце Исхак лишается своего состояния из-за лживых соседей-мусульман, а затем его убивает губернатор Судана, которому было отказано в положенной взятке.{124}
Самая длинная история в «Чудесах» трогательно описывает две другие черты средневековой торговли в Индийском океане: беззастенчивую, беспринципную, весьма доходную работорговлю и власть ислама, объединяющую китайцев, арабов, персов и индийцев в единую коммерческую систему, чьи обычаи и законы были понятны повсюду от Багдада до Кантона.
Рассказ начинается, как обычно, с кораблекрушения, на сей раз у берегов Восточной Африки. Выжившие купцы, страшась людоедов, были приятно удивлены приемом, оказанным им местным царем, который даже позволил им торговать: «Торговля шла прекрасно — без пошлин и без каких бы то ни было налогов». После завершения торговли правитель и его подданные проводили купцов на отремонтированные корабли. Когда они были готовы отплыть, рассказчик начинает считать стоимость хозяев на невольничьем рынке:
Этого царя можно продать на оманском рынке за тридцать динаров, слуги его стоят не меньше ста шестидесяти динаров да одежда их стоит динаров двадцать. Таким образом, мы, не подвергаясь никакому риску, выручим за них по меньшей мере три тысячи дирхемов.{125}
В обратный путь они отплыли с пленниками. Царь попытался пристыдить купцов, напомнив им о приеме, который им оказали по его приказу, но его мольбы не были услышаны. По пути к живому грузу присоединилось еще более 200 рабов. Все они, включая царя и его свиту, были надлежащим образом проданы в Омане.
Спустя годы судьба вновь привела рассказчика в те же самые воды, и вновь он потерпел крушение у берегов Восточной Африки. Хуже того, его приветствовал тот же самый царь, которого он давным-давно продал в рабство. Рассказчик, перед лицом грозного правосудия, был поражен, когда царь спокойно и вежливо описывает, как его хозяин в Омане привез его в Басру и Багдад, где он принял ислам. Вскоре после прибытия в Багдад он сбежал и после ряда невероятных приключений в Каире, на Ниле и в африканском буше нашел дорогу домой, в свое старое царство, которое также приняло ислам в его отсутствие.
Видимо, торговые обычаи и законы ислама награждают нацию купцов. Они утверждают, что царь обошелся с подлым торговцем хорошо. Как говорит царь: «Скажите мусульманам, чтобы они приходили к нам как братья, теперь мы сами стали мусульманами». Царь жалуется на то, что не может возместить своему прежнему хозяину в Багдаде свою стоимость, «в десять раз больше, чем он заплатил за меня, чтобы вознаградить его за напрасное ожидание». К сожалению, это желание так и осталось неисполненным, поскольку это задача для честного человека, а не такого, как рассказчик.{126}
Первый всплеск прямой торговли с центром в Китае, так хорошо описанный в «Акбаре» и «Чудесах», обрушился, когда династия Тан скатилась в нестабильность IX века. По сценарию, печально знакомому современным китайцам в Индонезии, индийцам в Восточной Африке и евреям почти повсеместно, — колонии заграничных торговцев на побережье Китая стали удобными козлами отпущения в те суровые времена.
Уже в 840 году н. э. император Уцзун обвинил в бедах Китая чужеземные учения. В 878 году восстание Хуан Чао опустошило Кантон, погибло 120 тысяч мусульман (в основном персов), евреев и христиан, живших в торговых общинах этого города.{127} Не удовлетворившись избиением купцов, Хуан Чао также пытался уничтожить главный источник экспортного продукта Китая, тутовые рощи на юге страны.{128} После бедствий 878 года в Кантоне международная торговля Китая существенно сдвинулась на север в порт Цюаньчжоу в Тайваньском проливе — в легендарный Зайтем (ныне Цюаньчжоу и Зейтун в средневековой арабской литературе) Марко Поло и ибн-Баттуты. Кантон, бывший основным портом для иноземных товаров, смог восстановить свое положение только в наши дни.
Этот более северный перевалочный пункт имел долговременные связи с Кореей и Японией, чьи товары привлекали арабских и персидских купцов. Размер и грузы мусульманских кораблей, некоторые из них требовали для погрузки лестницы в несколько десятков футов длиной, изумляли китайцев VIII—IX веков. Император вскоре назначил инспектора по морской торговле, чья работа состояла в регистрации этих судов, сборе пошлин и предотвращении вывоза «редких и ценных товаров».{129} Один из этих инспекторов был знатным человеком по имени Чжао Жугуа, надзиравшим над иноземной торговлей в Зейтуне в начале XIII века. Он дотошно собирал знания и каталогизировал воспоминания сотен тоскующих по дому моряков и купцов в книге «Чжу Фань Чжи», «Описание всего иноземного». Книга была противоположностью «Путешествиям Марко Поло». Хотя Чжао никогда не покидал Китай, «Чжу Фань Чжи» подробно описывает и далекую Малую Азию, и Александрию, включая детали (иногда точные, иногда нет) ее знаменитого маяка.{130}
Когда в XIII веке монгольское войско с гиканьем, ворвавшись из северных степей, атаковало Китай, персидские и арабские купцы более или менее монополизировали международную торговлю в Китае. У них было две большие и относительно самостоятельные общины в Кантоне и Зейтуне.
В своей бдительной доброте к заморским варварам наше правительство учредило в [Зайтеме] и Кантоне Особые Инспекции [по иноземной торговле], и если кто-либо из иноземных купцов сталкивается с трудностями или желает подать жалобу, он должен пойти к Особому Инспектору… Среди всех богатых стран, у которых есть большие запасы ценных и разнообразных товаров, никто не превзойдет царство арабов.{131}
Многие другие средневековые путешественники описывают нам свою точку зрения. В середине XII века испанский раввин, Вениамин Тудельский, странствовал по всей Европе и Среднему Востоку и докладывал о суете и блеске Александрии и Константинополя. Особенно его впечатлила интеллектуальная жизнь Багдада: «Здесь же имеют пребывание ученые по всем отраслям знания: философы, маги и люди, занимающиеся всякого рода чародействами». Почти в то же самое время мусульманский купец аш-Шариф ал-Идриси, пользуясь покровительством короля Сицилии Рожера II, потомка викингов, пишет географический труд «Отрада страстно желающего пересечь мир», где в подробностях описывает тогдашнюю торговлю на Красном море. Ал-Идриси особенно нравился порт Аден, где он увидел китайские джонки, нагруженные «перцем, с сильным запахом и другим, без запаха, деревом алоэ, а также горьким алоэ, черепашьими панцирями и слоновой костью, эбонитом и ротангом, фарфором и кожаными седлами».{132}
Торговый мир этих свидетельств нашел выражение также в ряде анонимных историй, рассказанных Шахерезадой в попытке отсрочить свою смерть от руки супруга в знаменитой «Книге тысячи и одной ночи». Среди них известная сказка про Али-Бабу, Аладдина и, конечно, Синдбада-морехода, которая была записана, вероятно, примерно в XIV веке.{133}
Приключения Синдбада вовсе не были сказочками для детей. Многие из них очень напоминали рассказы из «Книги о чудесах Индии». Прочитавший обе книги заподозрит, что многие легенды Синдбада если не полностью заимствованы из более раннего источника, то наследуют общую устную традицию.
В каждом из семи торговых путешествий за пряностями или драгоценными сокровищами наш герой попадает в кораблекрушение или каким-либо другим способом лишается своего корабля. Затем он сражается с рядом опасных чудовищ или злодеев. В свое третье странствие, например, он и его спутники были схвачены глупым великаном, который сперва изучил потенциальные жертвы, «как мясник щупает убойную овцу». В конце концов страшилище остановил свой выбор на самом упитанном и нежном кусочке, на капитане корабля.
[Людоед] схватил его, как мясник хватает жертву, и бросил его на землю и поставил на его шею ногу и сломал ее. И потом он принес длинный вертел и вставил его капитану в зад, так что вертел вышел у него из маковки, и зажег сильный огонь и повесил над ним этот вертел, на который был надет капитан, и до тех пор ворочал его на угольях, пока его мясо не поспело. И он снял его с огня, и положил перед собой и разнял его, как человек разнимает цыпленка, и стал рвать мясо ногтями и есть, и продолжал это до тех пор, пока не съел мяса и не обглодал костей, ничего не оставив.{134}
Всем спутникам Синдбада был уготован тот же конец за исключением нашего тощего героя, который был признан невкусным и отпущен на свободу. Вдобавок к этим, общим для всех культур побегам, истории о Синдбаде дают картину будней купцов-мореплавателей во времена Аббасидов и Фатимидов. Даже поверхностное чтение «Тысячи и одной ночи» позволяет понять, что Синдбад был не простым моряком, а скорее наследником богатого багдадского торгового дома, владевшего дворцами и лавками. Синдбад не владел, не управлял и, насколько нам известно, не нанимал команд на корабли, на которых плавал.
В действительности тонкая грань отделяла купца от моряка в Индийском океане, поскольку мало кто из членов команды получал заранее оговоренный твердый заработок. Скорее большинство из них зарабатывало на жизнь, имея доход с продажи груза.{135} Каким бы ни было точное название должности Синдбада, он излагает образ действия купцов, знакомый читателю по свиткам из генизы.
И тогда я решился и накупил себе товаров, и вещей, и всяких принадлежностей, и кое-что из того, что было нужно для путешествия, и собрался совершить путешествие по морю. И я сел на корабль и спустился в город Басру вместе с толпой купцов, и мы ехали морем дни и ночи, и проходили мимо островов, переходя из моря в море и от суши к суше; и везде, где мы ни проходили, мы продавали, и покупали, и выменивали товары.{136}
Как уже было сказано, в Красном море таилось множество опасностей для купцов: пираты, узкие проливы, мели и неблагоприятные ветра, а Шелковый путь был слишком трудоемким, еще более опасным и связан с множеством политических проблем, присущих сухопутному маршруту. Среди трех великих путей между Азией и Европой «дорога Синдбада» через Средиземное море, через Сирийскую пустыню, вниз по Тигру или Ефрату и из Персидского залива в Индийский океан — была явно предпочтительнее.
Каждая экспедиция Синдбада начиналась с закупки на родине, в стране Аббасидов, товаров, в частности, знаменитых тонких тканей Багдада. Оттуда Синдбад плыл на маленьком речном судне до Басры, где пересаживался на большой океанский корабль, чтобы отплыть в Персидский залив и Индийский океан.
Во время плавания наш герой обычно терял, а позже восполнял запасы своих товаров, потом с большой прибылью продавал тюки и товары, которые были с ним, и покупал там же «товары, вещи и припасы», чтобы наполнить лавки своей семьи по возвращении домой. Вскоре после бегства от людоеда Синдбад рассказывает:
И мы продавали и покупали на островах, пока не достигли стран Синда. И там мы тоже продали и купили, и видел я в тамошнем море многие чудеса, которых не счесть и не перечислить… А после мы продолжали ехать, по соизволению Аллаха великого, и вегер, и путешествие было хороши, пока мы не прибыли в Басру. Я провел там немного дней и после этого прибыл в город Багдад, и отправился в свой квартал, и, придя к себе домой, приветствовал своих родных, друзей и приятелей.{137}
Что движет этим легендарным героем? Не больше и не меньше, чем правоверное средневековое исламское толкование склонности к товарообмену по Адаму Смиту: стремление к «общности разных человеческих рас и к торговле и доходам», к которым можно добавить немалую долю романтики и авантюризма, присущие маршруту Багдад — Кантон.{138}
Мифические существа из рассказов Синдбада — гигантские яростные птицы, питающиеся инкрустированной драгоценными камнями падалью (такие же были в «Чудесах»), рыба, настолько большая, что моряки принимали ее за остров, и кровожадные людоеды — просто отражали ограниченный географический горизонт старого мира. Европейцы распускали столь же невероятные слухи о Востоке: земле Гога и Магога, племенах волосатых человекоподобных существ без колен, чья кровь давала ценный краситель, которым китайцы красили ткани, и империя христиан на Дальнем Востоке под властью пресвитера Иоанна. Китайцы рассказывали не менее дикие байки про Запад, о живущих в воде овцах, из шерсти которых делали хлопок.{139}
Эти вымышленные и правдивые свидетельства эпохи средневековой торговли в Индийском океане, какими бы скудными и неполными они ни были, дают понять, что четыре основные статьи экспорта Китая — шелк, сандал, пряности и фарфор — каким-то образом меняли на то, что было нужно Востоку от Аравии и Африки: чистокровных лошадей, слоновую кость, благовония, хлопок, золото и медь. Зерно, как всегда, везли практически как балласт: рис, который в некоторых случаях даже становился лучше со временем, был предпочтительнее пшеницы, которая портилась от сырости.{140}
* * *
С древних времен великие цивилизации Востока и Запада были окружены приграничными племенами скотоводов-грабителей. Широкой полосой тянутся они с севера Европы до Монголии, на севере Европы германо-скандинавские народы, в Азии — тюрки. Эти кочевые народы за тысячу лет развили навыки нападения на оседлых земледельцев. Периодически они брали верх над своими более опытными в агрономии, развитыми социально и культурно соседями, как это случилось в Риме в V веке после Рождества Христова.
Самый впечатляющий их успех, однако, приходится на начало XIII века, когда Чингисхан вышел из степей и захватил всю Азию. Несколько десятилетий его потомки правили империями, территория которых превосходила все известные до или после того династические владения.
В 1255 году один из внуков Великого Хана, Мунке, послал своего брата Хулагу (посол которого приглашал братьев Поло на Восток) захватить мусульманский мир. Хулагу разрушил Багдад в 1258 году и вырезал при этом сотни тысяч людей. Эту трагедию до сих пор оплакивают в мусульманском мире. Монголы несомненно продолжили бы движение к Средиземноморью, если бы Мунке не умер, что заставило Хулагу вернуться в Монголию, чтобы попытаться получить престол своего брата. Он оставил арьергард, который пал от рук египетских мамлюков в 1260 году при Айн-Джалуте, в Палестине. Вдобавок к поражению Хулагу был унижен тем, что не получил престола Мунке, который достался третьему брату, Хубилаю, который постепенно отнимал Китай у династии Сун.
Более ста лет, с середины XIII по середину XIV века, сухопутный маршрут из Китая к вратам Европы находился в руках относительно стабильных монгольских государств, которые с энтузиазмом поддерживали торговлю, а также религию и культуру покоренных народов. Три из четырех великих монгольских империй в Азии в конце концов приняли ислам. Не приняла только одна — легендарная китайская династия Хубилая, которую быстро ассимилировала древняя китайская культура. Монголы также восприняли ислам и христианство. Хубилай, не доверявший местной мандаринской бюрократии, нанял на службу много иностранцев, в число которых входили и трое Поло.
Примерно около ста лет, начиная с 1260 года — с завоеваний внуков Чингисхана — и заканчивая распадом монгольских династий от внутренних раздоров и чумы, Шелковый путь был свободен. Множество европейцев и мусульман воспользовались этой непродолжительной возможностью для путешествий из Китая на Запад, но имена двух из них ярче всего горят в истории — Марко Поло и ибн-Баттута.
Поло, клан преуспевающих и опытных торговцев, сначала воспользовались окном, открытым внуками Чингисхана. Ибн-Баттута, в отличие от них, был не столько торговцем, сколько кади — мусульманским судьей. Родился он в семье ученых в Танжере, Марокко, в 1304 году, он, как и поколения его предков по мужской линии, изучал законы ислама. По завершении обучения он совершил добровольный хадж в Мекку в 1325 году, через год после смерти Марко Поло.
Дорога, должно быть, понравилась ему, ибо за последующие три десятка лет он преодолел примерно 74 000 миль по Азии, Африке и Европе. Средневековый аналог современного парня с гитарой, губной гармошкой и коробкой для подаяний, пытающегося подзаработать для своей семьи, он торговал своим знанием шариата (священного закона), что привлекало к нему непрерывный поток денег, власти и женщин. Когда тоска, суровые обстоятельства или, иногда, чувство самосохранения требовали продолжить путь, он просто покидал любовниц, жен и детей.
Около XIV века сильная династия тюрок-мусульман отняла Северную и Центральную Индию у индийских правителей и установила султанат в Дели. Самым известным среди этих ранних мусульманских правителей Индии был султан Мухаммад ибн-Туглук, правивший с 1325-го по 1351 год. Время его царствования приблизительно совпадало с периодом эпического путешествия ибн-Баттуты. Туглук прославился военными, сельскохозяйственными и административными проектами. Среди них была печально известная попытка переноса столицы на сотню миль к югу, в пыльную пустынную равнину Декан в Южной Индии; реформа сельского хозяйства Индии, окончившаяся голодом и восстанием, и формирование огромной армии для войны со среднеазиатскими монголами. (Он по большей части забросил последний проект, за исключением отправки в Кашмир войск, которые были разбиты горными племенами.)
Однако подлинной страстью Туглука был шариат. Вскоре после прихода к власти он начал собирать при дворе именитых ученых мусульманского мира. На затратах он не экономил, предлагал сказочные синекуры, жилища и привилегии желанным гостям — мудрым мужам. К тому времени ибн-Баттута находился в горах Гиндукуш на северо-западе Индии. Будучи в пути уже примерно 8 лет и привыкнув странствовать со вкусом (что в те века означало караван вьючных мулов, роскошную походную мебель и шатры, а также небольшую армию рабов и женщин), он почти истощил свой семейный бюджет. Когда до него дошел слух о вакансии при дворе в Дели, он принял приглашение.
По пути он пересек долину нижнего Инда, почитаемую мусульманами как первую область субконтинента, принявшую ислам в VIII веке. Там на его отряд напала банда индусов. Вот что он пишет:
Обитатели Индии в основном неверные (индуисты); некоторые из них находятся под защитой мусульман, живут либо в деревнях, либо в городах. Остальные, однако, населяют горы и грабят путников. Мне довелось быть в числе группы из 14 человек, когда двое конных и 80 пеших индусов напали на нас. Мы же сопротивлялись им и с Божьей помощью обратили их в бегство, убив одного всадника и двенадцать пехотинцев.{141}
Такой была повседневная жизнь средневекового путешественника. Ибн-Баттута и его спутники повесили головы тринадцати несчастных бандитов на стене ближайшей правительственной крепости.{142} Как и Поло, он стал свидетелем обряда сати:
Женщина нарядилась и шла в сопровождении процессии из неверных индусов и брахманов, с барабанами, трубами и зеваками из числа неверных и мусульман. Огонь уже был разведен и в него бросили мертвое тело мужа. Затем жена бросилась на него и оба полностью сгорели. Женское самосожжение, однако, не считается абсолютно необходимым для них… Но когда она не сжигает себя, она отныне навсегда одевается в грубые одежды и пребывает в заключении среди родственников, чтобы хранить верность своему супругу.{143}
Ибн-Баттута прибыл в Дели, где обнаружил один из самых любопытных кредитных рынков в истории финансов. Благосклонность Мухаммада ибн-Туглука, от которой зависел успех всего предприятия (и уж точно удача чужеземного кади ибн-Баттуты), следовало покупать щедрыми дарами. Эти дары, в свою очередь, вознаграждались гораздо более ценными дарами от Туглука, что создавало цепь финансовой зависимости двора. Поскольку такие дорогие подарки выходили за границы возможностей среднего человека, предприимчивые просители почти всегда брали в долг:
Купцы из Китая и Индии начали ссужать каждого вновь прибывшего тысячей динаров и снабжали его всем, что он только желал преподнести в дар… Они предоставляли все свои деньги и себя самих в его распоряжение и выступали перед ним как его слуги. Когда он добивался приема у султана, он получал от него великолепный дар и отдавал свои долги. Это дело процветало и приносило большую прибыль.{144}
Даже если просителю улыбалась удача, расточительство придворной жизни обычно пускало его по спирали займов и долгов. Хотя ибн-Баттута в конце концов стал кади Дели, смотрителем царского мавзолея и сборщиком налогов с нескольких деревень, он накопил долгов на 55 000 серебряных динаров (примерно 4000 золотых динаров).
Ибн-Баттута оседлал не только финансового тигра в Дели, но и политического. Даже для своего времени Туглук был исключительно кровожадным правителем. Его интерес к законам шариата делал его жестоким борцом за чистоту идеи — тенденция столь распространенная в современном мире. Измена, реальная или вымышленная, приблизила конец многих его подданных, а недостаточная приверженность доктрине тоже считалась правомочным основанием для казни. Как пишет один современный ученый:
Одно дело — наказывать мятежников, разрубая их пополам, сдирая живьем кожу или нанизывая на мечи, привязанные к бивням слонов (последнюю казнь ибн-Баттута не раз видел сам). И совсем другое — унижать так знаменитых ученых и святых мужей всего лишь за сомнения в общественном устройстве.{145}
Недолгое общение с опальным суфийским священником стоило ибн-Баттуте девяти дней под стражей, в течение которых он представлял себе исход один печальнее другого. Разочаровавшись в условиях найма, он получил предложение, от которого не мог отказаться: посольство в Китай Кублай-хана. Он предпочел бежать на восток со свитой посольских рабов, наложниц и в сопровождении тысячи всадников, нежели спешно удалиться на запад в качестве паломника, и потому отправился в Китай.
Даже в самые благоприятные времена путешествие из Дели до Малабарского побережья было сопряжено с опасностями. Оттуда огромный отряд ибн-Баттуты должен был, погрузившись на корабли, отплыть в Китай. А времена правления Туг-лука были смутными. В нескольких днях пути от Нью-Дели четырехтысячная армия мятежников атаковала свиту ибн-Баттуты. Несмотря на численное превосходство, нападавшие были разбиты, очевидно, без особых потерь со стороны защищающихся. Вскоре уже другая группа мятежников захватила ибн-Баттуту, и бежать ему удалось только перед самой казнью.
Он воссоединился со своей свитой и отплыл из северо-западного индийского порта Камбей на четырех относительно маленьких индийских судах в юго-западный порт Каликут. (Каликут расположен на другой стороне субконтинента от Калькутты, которая спустя два века будет основана британцами.) Это была страна перца, и по мере продвижения на юг города становились все богаче. Когда почва стала более плодородной и щедрой, им все чаще встречались огромные китайские джонки, груженные горами черного перца, которым подданные Кублай-хана приправляли свои кушанья. За 50 лет до того Марко Поло сделал наблюдение о рынке пряностей Зейтуна: «Количество вывозимого отсюда перца так велико, что объемы, ввозимые в Александрию для нужд всего западного мира, ничтожны по сравнению с ним — возможно, они составляют не более одной сотой части».{146}
Ибн-Баттута не задумывался о деталях морских технологий или об объеме торговли между Индией и Китаем (как, впрочем, и ни о чем другом, кроме законов ислама и житейских удовольствий). Однако он был поражен роскошными китайскими кораблями со множеством палуб, отдельными уборными, услужливыми слугами, спасательными шлюпками и, конечно, дверью в каюту, «которую пассажир может запереть, если везет с собой своих наложниц и рабынь».{147}
К досаде ибн-Баттуты китайские власти уже забронировали все лучшие каюты на огромных кораблях, оставив ему небольшую каморку без персональной ванной. На такое он просто не мог согласиться, поэтому взял большую каюту на меньшем по размеру индийском судне. Во время пятничной молитвы флот больших джонок и маленьких индийских кораблей вышел в море, чтобы переждать внезапный шторм. Джонки перевернулись и затонули, тогда как маленький корабль, на котором должен был быть и он, вместе с его слугами, багажом и наложницами (одна из которых носила его ребенка), отплыл на юг без него и позже был захвачен в Суматре «язычниками» (индусами).
Ибн-Баттута в конце концов добрался до Китая на еще более скромном судне и в существенно сокращенной компании. По пути, на западе Малайского полуострова, он гостил у местного царя и стал свидетелем странного зрелища. Один из подданных правителя, желая продемонстрировать свою верность, приставил к собственному горлу нож:
Затем он произнес долгую речь, ни слова из которой я не понял. После чего он крепко сжал нож, и такой была его острота и сила руки, что голова отделилась от тела и упала на землю… Царь сказал мне: «Есть ли у вас такие, кто способен на подобное?» Я ответил, что никогда не видел ничего подобного. Он улыбнулся и сказал: «Наши слуги делают это из любви к нам».{148}
Вскоре после этого ибн-Баттута провел несколько месяцев на севере Суматры, в городе Самудера, ожидая смены муссонов, которые пригонят его суда на север, в Китай. В то время это место первым в Юго-Восточной Азии перешло под власть ислама, привезенного торговцами-мусульманами из Индии. Шел 1345 год, и ибн-Баттута не мог знать, что стал свидетелем авангарда религиозного обращения, которое породит самый многочисленный ныне мусульманский народ — жителей Индонезии.
Путевые заметки ибн-Баттуты становятся все более краткими, как только он прибывает в Китай. Он рассказывает о частых поездках, предположительно на тысячи миль, которые он преодолел по дорогам и каналам между Пекином и Кантоном за несколько месяцев — невероятно короткий срок. Увиденное ему не понравилось. Не первый раз в своих «Путешествиях» он берет тон угрюмого западного туриста, который общается только со своими земляками, ест странную еду, спит в низкосортных гостиницах и постоянно опасается обмана со стороны туземцев:
Я был весьма опечален, размышляя о том, как язычество властвует над этой страной. Куда бы я ни шел из моего жилища, я видел многие греховные вещи. Это так меня угнетало, что я чаще всего оставался дома и выходил только при необходимости.{149}
Не был ибн-Баттута доволен и знаменитым китайским новшеством — бумажными деньгами. Как типичный американец за границей, недоумевающий по поводу иностранных «смешных бумажек», он жаловался: «Когда кто-нибудь идет на рынок с динаром и дирхемом в руке, никто не продаст ему ничего, пока он не обменяет их на эти бумаги».{150} (Поло, напротив, наслаждался религиозными и культурными особенностями Китая: «Эта страна восхитительна. Народ поклоняется идолам».){151}
Не все, что ибн-Баттута видел в Китае, ему не понравилось. Он, как Марко Поло, восхищался размерами Зейтуна, который тогда состоял из шести отдельных районов: один для простых китайцев, один для городской стражи, один для евреев и христиан, один для моряков и рыбаков, один для правительства и, конечно, один для мусульман. Эту метрополию, вероятно самую большую в мире на то время, можно было обойти за три дня. Он также не мог не отметить безопасность путешествий по Китаю, невообразимую роскошь для того, кто привык к опасностям дорог Азии и Среднего Востока. Самая хвалебная его запись посвящена, вполне естественно, портовому городу Фучжу, где он встретил знакомого марокканца, приехавшего из места неподалеку от его родного Танжера и преподнесшего ибн-Баттуте много чудесных даров, среди которых два белых раба и две местные рабыни.{152}
Во многих отношениях венецианец Поло и марокканец ибн-Баттута представляют собой противоположные образы средневековых путешественников: Поло был христианином, очень интересовавшимся людьми, обычаями и местами, и почти полностью зависел от доброй воли монгольских ханов Китая и Средней Азии. Напротив, ибн-Баттута был мусульманином, подчеркнуто равнодушным к неисламскому миру и добившимся высочайших вершин богатства, славы и влияния при мусульманском дворе в Дели.
Поло рьяно искали контактов с нехристианами в Азии, хотя бы ради выживания и ведения торговли. Восхищение и открытость ко внешним влияниям сквозит у Поло в каждой строчке мемуаров. Того же нельзя сказать об ибн-Баттуте, чье безразличие по отношению к немусульманам и их жизни примечательно. Объединяет эти два свидетельства то, что они посвящены Востоку и записаны профессиональными писателями.
Именно недостаток интереса ибн-Баттуты к людям вне мира ислама — Дар-аль-Ислам — свидетельствует в пользу мусульманского господства в средневековой торговли в Азии. В XIV веке ибн-Баттута смог проехать 74 000 мили по Марокко, Восточной Африке, Индии, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и Китаю и оставаться внутри мусульманских культурных рамок, не нуждаясь в общении с находящимися вне их ни ради выживания, ни ради путешествий, ни даже ради заработка.
Мусульманские импортеры пряностей в Каире и Танжере подчинялись единому религиозному, этическому и — что самое важное — торговому коду (и в равной степени нуждались в услугах кади), как и поставщики в Камбее или Малакке. Мусульманский правитель в Африке, Аравии, Индии или Юго-Восточной Азии придерживается одних и тех же основных правил налогообложения и таможенных пошлин. Обычно с единоверцев взимался налог в 2,5%, в 5% — с подзащитных дхимми (христиан и евреев), а в 10% — с неверных: индусов и местных анимистов.{153}
Хадж, обязанность мусульманина совершить паломничество в Мекку и Медину, служил фактором, объединяющим торговлю на территории Индийского океана. Не все могли позволить себе хадж, и многие, если не все, кто совершил дорогостоящее путешествие, заплатили за него грузом специй, шелка и хлопка, что постепенно превратило портовый город Джидду в крупнейший торговый центр той эпохи.{154}
Конечно, Индийский океан, с разбросанными в нем более или менее автономными торговыми государствами, не был мусульманским. Правители этих государств принадлежали к различным национальностям и сектам, а некоторые были даже не мусульманами. Каликутом, например, управлял индуистский заморин. Тем не менее не будет преувеличением сказать, что мир средневековой торговли XIV века в Индийском океане совпадал с Дар-аль-Ислам.
В одержимости ибн-Баттуты шариатом и мусульманским миром и в его отсутствии интереса почти ко всему остальному (кроме комфорта китайских джонок) мы ясно видим обоюдоострый меч ислама, столь зримый в современном мире: экуменическую, но самодостаточную религию, способную объединить совершенно разных людей в одну систему верований и под одним законом, но также жестко ограниченную в способности изучать и заимствовать у других.
Китайские плавучие громадины в Индийском океане, столь восхитившие ибн-Баттуту, были технологическим чудом Средних веков. Начиная с XI века династия Сун, оттесненная к южному побережью кочевниками из степей, решила использовать море в стратегических целях. В 1132 году император учредил постоянный флот, что было почти неслыханной мерой для Востока. Военное руководство Китая считало кораблестроение приоритетной задачей. Так флот Поднебесной пополнился разнообразными огромными военными и гражданскими кораблями, с собранными на гвоздях многослойными корпусами; с несколькими палубами; весьма эффективными кормовыми рулями; магнитными компасами (чтобы не сбиваться с курса даже в облачную погоду) и улучшенными косыми парусами (позволявшими менять галс прямо по ветру). Китайцы даже на время отбросили свой знаменитый культурный шовинизм и заимствовали хитроумные навигационные приборы у персов и индусов.{155}
По сравнению с улучшенным китайским флотом традиционные индийские океанские доу с их корпусом, прошитым кокосовой нитью, неуклюжим латинским такелажем (который нужно было тягать вверх и вниз при каждой смене паруса), без палуб — были столь ненадежными, что Марко Поло решил терпеть тряску, дороговизну и опасности Шелкового пути, но не всходить на борт такой посудины на Ормузе. Некий путешественник с Запада отмечает:
[Доу были] весьма хрупкими и неуклюжими, без железа и не проконопаченные. Их шьют, как одежду, веревками! Так что если веревка рвется, все, без сомнения, разваливается! Раз в год поэтому их кое-как чинят, если собираются отправлять в море. У них ненадежный руль, как столешница… А когда им надо менять парус, это связано с многими проблемами; и если ветер дует сколько-нибудь сильно, они совсем не могут сменить курс.{156}
Другой европеец отметил, что китайские джонки
очень велики и над обшивкой у них более 100 кают, а при попутном ветре они поднимают десять парусов, и они очень громоздкие, и сделаны из планок в три толщины, так что первый слой такого же размера, как на наших кораблях, второй поперек, а третий снова вдоль. Поистине, это очень прочная постройка.{157}
Исследователи морских путешествий действительно поражались, почему индийцы и арабы так долго, почти до нынешних дней, держались за доу и не заимствовали более подходящую китайскую или европейскую модель. Ответить можно следующее: во-первых, традиции кораблестроителей Индии оказались более весомыми, чем нужда моряков в надежных океанских судах. Во-вторых, западное побережье Индии было недостаточно богато залежами железа. В-третьих, хотя сшитые корабли были менее надежными, они были более упругими, поэтому лучше переживали частые столкновения с рифами, скалами и мелями прибрежной торговли, чем более жесткие обшитые деревом китайские и европейские корабли.{158}
Учитывая преимущество Китая на море, стоит отметить относительно слабое распространение китайских купцов западнее Малакки. Только в период с 1405-го по 1433 год Китай намеренно поиграл мускулами в Индийском океане. Вероятно, в конфуцианстве самым низким статусом обладали торговцы, считавшиеся паразитами, а самые яркие и амбициозные предприимчивые люди вовлекались в экономически душную мандаринскую бюрократию. Затем централизованная политическая структура Китая (и, позже, Японии) быстро прервала контакты с внешним миром.
Напротив, весьма децентрализованная природа средневекового мира ответственна за возникновение в Индийском океане бурлящего котла дарвинистского экономического состязания, в котором процветали те государства, чьи «мутации» были лучше приспособлены к торговле и коммерции и чьи учреждения обладали силой. Похожим образом политическая обстановка Европы, разделенной горными цепями и реками на тысячи соперничающих государств, благоприятствовала нациям с самыми экономически развитыми учреждениями. Одна из них, Англия, стала первым в истории глобальным гегемоном.{159}
* * *
В 1382 году армия Чжу Юаньчжана, первого императора Мин, которая преследовала остатки армии монголов, захватила в плен десятилетнего мусульманского крестьянина по имени Ма. Генерал спросил юного пленника о местонахождении претендента на престол и получил дерзкий ответ: «Он прыгнул в пруд». Легкомыслие Ма подарило ему три года плена при королевском дворе, после чего его по обычаю кастрировали и причислили к штату придворных евнухов в свите Чжу Ди, четвертого из 24 сыновей императора.
В отличие от большинства евнухов он не приобрел высокий голос или женственные манеры, но вырос в огромного свирепого умного воина с глубоким мощным голосом. Когда его хозяин, Чжу Ди, наконец стал императором после жестокой гражданской войны против старшего брата, юного протеже повысили до важного поста надсмотрщика над евнухами.{160} Он получил новое имя, Чжэн Хэ или, как до недавних пор его звали на Западе, Чен Хо — адмирал бесценного флота и владыка Индийского океана.
История связывает плавания великого китайского флота — всего семь с 1405-го по 1433 год — с Чжэн Хэ, но эти блестящие миссии были во всех отношениях всего лишь винтиком в огромном механизме экспансии императора Чжу Ди и, в конце концов, маневром в вековом противостоянии конфуцианских ученых и евнухов.
Чжу Ди, в отличие от своего отца, изоляциониста и крестьянина-воина, был образованным правителем широких взглядов, который втянул Китай в дюжину дорогих заграничных авантюр. Они включали в себя дипломатические и военные миссии против бывших врагов — монголов — и менее успешное вторжение во Вьетнам, которое стало началом долгой и жестокой партизанской войны (из которой современные Франция и Америка не извлекли урока).
Ни один из многочисленных блестящих проектов Чжу Ди не оставил следа в истории, зато это сделал великий бесценный флот гигантских потомков судов, так поразивших ибн-Баттуту. Эти корабли отличались по размеру: от относительно небольших судов поддержки всего в 100 футов длиной до тяжелых «кораблей-сокровищниц» в 300-400 футов длиной с водонепроницаемыми отсеками, несущих до девяти мачт, имеющих дюжины просторных кают и хитроумные ахтерштевни, которых в Европе не делали до начала Нового времени.{161},[13]
Обычно экспедиция состояла из трех сотен судов и примерно 30 000 человек в экипажах и отплывала на два года в Малакку, на Суматру, Яву и в Индию, на больший срок — на Ормуз, к Красному морю и к побережью Восточной Африки. Флот «кораблей-сокровищниц» едва ли открыл новые рынки для китайских торговцев. Мы знаем по сообщениям Поло, ибн-Баттуты и мусульманских свидетелей, что в азиатских портах уже существовали поколения китайских дипломатов и купцов. Основные задачи семи успешных миссий были дипломатические, военные и символические.
Дуга каждого плавания была тщательно спланирована с учетом муссонов. Флот Чжэн Хэ собирался осенью на якорной стоянке в Тайпине, на юге Китая, где ждал зимнего северо-восточного муссона, который отнесет корабли в Сурабаю на Яве.
Там они оставались до июля, когда юго-западный муссон помогал им проплыть мимо Суматры и Малакки к Шри-Ланке и Малабарскому побережью Индии. Небольшие группы кораблей отправлялись оттуда на Ормуз и в Африку. Через 12 месяцев путь повторялся в обратном порядке: на юг к Яве с зимним северо-восточным муссоном, потом к дому с летним юго-западным муссоном.
Прежде всего, эти предприятия успокоили ситуацию в важном Малаккском проливе, который находился под властью мятежного султана Суматры, но был объектом притязаний сиамцев, которые контролировали доступ китайцев к Индийскому океану. Чжэн Хэ не только пресек пиратскую деятельность, бушевавшую в проливе, но и ловко примирил интересы сиамцев и малаккцев, открыв водный путь для общей коммерции. Еще одной заботой Чжэн Хэ были поиски Чжу Юньвеня, изгнанного брата Чжу Ди, по донесениям бежавшего морем.{162}
Большая часть того, что известно о золотом флоте, почерпнуто из мемуаров китайско-мусульманского переводчика Ма Хуаня, который свободно говорил по-арабски. Он сопровождал Чжэн Хэ в поздних плаваниях, и его описание посещения султана Малакки красноречиво говорит о природе «дипломатии бесценного флота»:
[Император даровал султану] две серебряные печати, шапку, пояс и халат. [Чжэн Хэ] установил каменную табличку и возвысил [Малаккку] до города, и впоследствии ее стали называть страной Малакка. После этого [царь Сиама] не осмелился захватить ее. Султан, получив позволение быть царем, в сопровождении жены и сына отправился [в Китай] ко двору, чтобы выказать благодарность и преподнести дань местными товарами. Двор подарил ему морское судно, так что он мог вернуться в свою страну и защитить свои земли.{163}
В Индии и Аравии Ма Хуань открыл для себя источник западного монотеизма. В Каликуте он записал эту замечательную историю Исхода, которую люди пересказывали друг другу шепотом:
Мо-си, который учредил религиозный культ. Люди знали, что он был воистину человеком Неба, и все люди поклонялись ему и следовали за ним. Позже святой человек пошел прочь с [другими] в другое место и приказал своему младшему брату управлять и учить народ.
К сожалению, этот младший брат научил народ поклоняться золотому тельцу, говоря им: «Он всегда испражняется золотом. Люди получают золото, и их сердца радуются; и они забыли путь Неба; все избрали тельца своим истинным господином». Пророк Мо-си вернулся, низверг тельца и прогнал брата, который «оседлал большого слона и исчез».{164}
Какими бы ни были дипломатические и межкультурные достижения Чжэн Хэ, он почти не добился экономических успехов, хоть и бросил на достижение своей цели большую часть древесины, мощностей верфей и военных сил. Самый ценный и известный груз флота имел лишь символическое значение: несколько африканских жирафов, полученных в дань от арабских и индийских правителей. Звери были оценены не только из-за своей экзотической грации, но также потому, что китайцы поверили, что перед ними животное цилинь. Это мифическое животное обладает рогом единорога, копытами лошади, головой волка, хвостом быка и телом оленя и появляется лишь во времена мира и благоденствия. Другим даром из Малакки, пленившим китайцев, были странные предметы из прозрачного стекла, которые увеличивали размер написанного — почти наверняка первые очки, которые недавно изобрели в Венеции.{165}
К сожалению, большая часть груза — экспорт (фарфор и шелк); и импорт (пряности, драгоценные камни, шерстяные ткани и ковры) — проходила через склады евнухов Чжэн Хэ, которые контролировали большую часть морской торговли страны. После смерти Чжу Ди в 1424 году евнухи и конфуцианские бюрократы-ксенофобы сошлись в борьбе за власть. Победа конфуцианцев положила конец великой китайской эпохе открытий. Чжэн Хэ умер во время седьмого плавания. В июле 1433 года вернулась и стала последней экспедиция по реке Янцзы, других за ней не последовало.
За несколько поколений китайцы дали зачахнуть своему военному и торговому флоту. В 1500 году по императорскому указу постройка судна с количеством мачт более двух каралась смертью. В 1525 году другой декрет запретил постройку любого океанского судна. При отсутствии военного флота расцвели пираты. В середине XVI века японские мародеры-вако так запугали побережье Китая, что по сей день женщины в провинции Фуцзянь прячут свои лица под синими шарфами, служившими изначально для того, чтобы спрятаться от похотливых взглядов иноземных разбойников.{166}
Недавно путешествия Чжэн Хэ попали в фокус альтернативной истории. В книге «1421 год: когда Китай открыл мир» отставной капитан английской подводной лодки Гэвин Мензис предположил, что группа кораблей, отделившаяся от шестой экспедиции Чжэна Хэ, посетила Америку (а также Австралию, Новую Зеландию, атлантический берег Бразилии и острова Зеленого Мыса). Его изыскания, по большей части, серьезные исследователи морской истории всерьез не принимают.[14]
Сегодня, когда Китай стремится более гибко использовать свою новообретенную военную и экономическую силу, он использует путешествия Чжэна Хэ в качестве иллюстрации для остального мира, что китайская внешняя политика исторически была мягкой и миролюбивой, предпочитая не обращать внимания на детали — похищения и убийства тех, кто отказывался оказывать почтение имперской власти. Например, в первой экспедиции Чжэн Хэ убил более 5000 пиратов в Малаккском проливе. Их предводитель был возвращен в Китай, предстал перед императором и был обезглавлен. Позже Чжэн Хэ схватил и привез домой правителей Шри-Ланки, Палембанга в Восточной Суматре и Семудеры (около современного Банда-Ачеха) и при всякой возможности применял военную силу.{167}
Васко да Гама и Чжэн Хэ разминулись всего на 65 лет. Можно только вообразить, что случилось бы, если бы первый европеец, посетивший Индийский океан, обнаружил там «корабли-сокровищницы», самый маленький из которых башней возвышался бы над ничтожными португальскими каравеллами. К счастью для португальцев, прихотливая ветреница история избавила их от такого унижения. Когда Васко да Гама рассекал волны Индийского океана, единственная сила, способная его остановить, уже покинула сцену.
* * *
20 апреля 1511 года Томе Пиреш, аптекарь (потому понимавший толк в редких пряностях), отплыл из Лиссабона на поиски своей удачи в Индии. Он так и не вернулся на родину, так как был назначен первым официальным послом Европы в Поднебесную, где и умер в плену в возрасте 70 лет. Его история могла бы так и остаться нерассказанной, если бы один португальский исследователь, посетивший Французскую Национальную библиотеку в 1930-х, не наткнулся бы на «Парижский Кодекс». Эта книга содержала, среди прочего, «Suma Oriental» Пиреша, отчет о его путешествиях. Он описывает рыночную торговлю Индийского океана до того, как она исчезла под сапогами европейцев, и дает нам шанс кинуть последний взгляд на самобытный мир азиатской коммерции.
В то время основная ось азиатской торговли проходила через обширный гуджаратский порт Камбей (примерно на 60 миль к югу от современной индийской метрополии Ахмадабад), сортировочный пункт для индийского текстиля и европейских товаров, движущихся в Малакку. Там их обменивали на редкие пряности, китайские шелка и фарфор.
Пиреш описывает широкую дельту реки Махи, на которой стоит Камбей, протянувшей «две руки; одой рукой она указывает на Аден, а другой — на Малакку».{168} Хотя в Камбее правили мусульмане Моголы, внешняя торговля находилась в руках индусских торговых каст:
Нет сомнения, что эти люди снимают сливки с торговли. Они понимают толк в коммерции. Они столь полно погрузились в ее звуки и гармонию, что Гуджараты говорят, что любая агрессия, связанная с торговлей, простительна. Повсюду гуд-жаратские порядки… Эти люди упорные, скорые на торговлю. Они ведут счета числами, как у нас, и такими же, как у нас, записями… В Камбее есть и купцы из Каира, и множество хорасанцев и гилянцев из Адена и Ормуза, все они прибыльно торгуют в морских городах Камбея… Те из наших, кто желает быть приказчиком и агентом, должны поехать туда и учиться, потому что коммерция — это отдельная наука, и благородное упражнение в ней не повредит, а лишь весьма поможет.{169}
Португальцы XVI века были, наверное, самыми отъявленными шовинистами среди незваных гостей с Запада, прибывших в Азию и обе Америки. Замечание Пиреша, что его землякам есть чему поучиться у язычников Гуджарата, многое говорит о масштабах и хитроумии местной азиатской торговли.
Пиреш проработал в Индии не более девяти месяцев, прежде чем португальский повелитель Востока, Афонсу де Альбукерки, отправил его в Малакку, которая только что перешла к португальцам. Ко времени его прибытия Малакка была относительно молодым городом, туземные корни которого проглядывали сквозь чуть более чем столетие португальского завоевания. Около 1400 года индусский султан Парамешвара, местный правитель суматрского города Палембанг (на полпути между современным Сингапуром и Явой) бросил вызов индусскому правителю яванской империи Маджапахит и был вынужден бежать на север к Сингапуру. После завоевания Сингапура Парамешвара осел в Малакке, которая получила свое название от малайского слова «малака», что означает «скрывшийся беглец».{170}
Маджапахиты под ударами мусульманских анклавов Явы и Суматры, разрываемые изнутри раздорами и коррупцией, теряли свое положение. Парамешвара оказался на своем месте в нужное время: умелый, настроенный на коммерцию и обладающий бесчисленными связями среди местных и иностранных торговцев в Палембанге и за его пределами. Более того, он теперь контролировал удобный естественный порт вне досягаемости раздоров Явы и Южной Суматры, но еще влияющий на пролив. То, что Парамешвара сконцентрировал свои торговые усилия на проливе, не было случайностью — он был одним из последних в роду князей морской империи Кривиджая. Из столицы в Палембанге эта империя некогда правила большой частью Суматры, Явой и Малайским полуостровом. Ее богатство и власть покоились на контроле над местной и внешней торговлей через пролив.
Наследники Парамешвары оказались столь же талантливыми, и Малакка вскоре стала одним из мировых торговых центров. В Средние века Малакка, расположенная в 130 милях к северо-западу от современного Сингапура, была тем, чем является Сингапур для современного мира — растущий пакгауз, доминирующий в одном из ключевых регионов мира. Как и нынешний Сингапур, Малакка соединяет Индию, арабский мир и Европу на западе с Китаем и легендарными Островами Пряностей на востоке.
Малакка ослепила Пиреша, виды, запахи и жизнь города явили ему образ земли обетованной. Пиреш, дотошный наблюдатель, обладал врожденным талантом к цифрам — редким среди колониальных чиновников того времени — и пониманием узких мест в торговле и политике. Хотя «Suma Oriental» вовсе не развлекательное чтиво, в тексте просматривается волшебное очарование Малакки в самый момент завоевания ее Португалией. Пиреш насчитал 84 разговорных языка в городе, мультикультурном, как Лондон или Нью-Йорк:
Мавры из Каира, Мекки, Адена, Абиссинии, люди Килвы, Малинди, Ормуза, парсы, румы, турки, туркмены, христиане армяне, гуджараты, люди из Чаула, Дабула, Гоа, из царства Декхан, малабарцы и келинги, купцы из Ориссы, с Цейлона, из Бенгалии, Аракана, Пегу, Сиама, Кедаха, малайцы, люди из Паханга, Патани, Камбоджи, Чампы, Кочина, Китая, Лекеоса, жители Брунея, Лучоса, Тамджомпура, Лау, Банка, Линга (у них еще тысяча других островов), Молуккских островов, Банды, Бимы, Тимора, Мадуры, Явы, Сунды, Палембанга, Джамби, Тонгкалы, Индрагири, Каппатты, Менангкабау, Сиака, Арката, Ару, Баты, страны Томджано, с Пасе, Педира и с Мальдив.{171}
Историк и социолог Дженет Абу-Лугод замечает: «Ни один другой факт не охарактеризует образ мира в XV веке лучше, чем этот список персонажей».{172} Присутствие «румов» особенно интригует — так называли то южных европейцев, то турок, то византийских греков (Константинополь был завоеван турками 60 лет назад). Значит ли это, что итальянцы уже побывали в Малакке до португальцев? К 1326 году, следуя за восторженными донесениями Марко Поло, генуэзские купцы стали частыми гостями в Зейтуне, крупнейшем порту Китая, так что не удивительно, что Пиреш увидел их и в Малакке. Генуэзцы путешествовали не меньше венецианцев, но хранили молчание о подробностях своих чрезвычайно выгодных торговых маршрутов. Не случайно первые подробные доклады о Дальнем Востоке были написаны более болтливыми венецианцами вроде Марко Поло.{173} Даже если в Малакке не было итальянцев, их фирменные товары, привезенные из Александрии индийскими купцами через Красное море и Камбей, продавались здесь в изобилии: пурпур, крашеная шерсть, бусы, стекло и оружие любого типа.
Обильный поток товаров находился под надзором четырех начальников порта, один для грузов, прибывших из арабского Среднего Востока и Индии, второй — для Сиама и Китая, третий — для местных суматранских портов и четвертый — для остальной Индонезии. Пиреш заметил, что главная ось торговли проходила между Гуджаратом в западной Индии, в частности его главным портом Камбеем, и Малаккой. Самым ценным товаром в Индии была ткань, разновидностей которой он насчитал 30 типов, а также опиум и благовония с Дальнего Востока. Более богатый ассортимент товаров — мускатный орех, гвоздика, сандаловое дерево и олово, а также шелк и фарфор из Китая — уплывал на запад, в Индию, в Персидский залив, Египет или Европу. Пиреш упоминает, что ежегодно в порт приходили четыре судна из небольших портов Гуджарата, каждый с грузом ценностью до 30 000 крузаду (около 2,4 миллионов современных долларов), тогда как всего один гигантский груз в год из Камбея оценивался примерно в «70 или 80 крузаду, без сомнений».{174}И все это только с западного побережья Индии. Корабли с восточного берега перевозили такой же объем грузов.
Что же особенного было в Малакке? Вероятно, дело было не просто в удобном расположении на пересечении одних из самых важных морских путей «в конечной точке муссонов».{175}
Помимо прочего, Малаккский пролив тянется на несколько сотен миль вдоль берегов Малая и Суматры, и его намного проще контролировать в узкой части Сингапура. Далее, и малайская сторона, и суматрская были усеяны торговыми городами за столетия до основания Малакки Парамешварой в 1400 году.
Богатство и влияние города можно объяснить скорее административным гением Парамешвары и его наследников. Малак-ка, один среди множества торговых городов в этом проливе, нашел ответ на вопрос «Чем заниматься — торговлей, грабежом или защитой?». Малакканцы взимали менее обременительные пошлины, чем предписывалось исламским обычаем, максимум 6% (вместо обычных 10%) за импорт «с Запада» — то есть на все привезенное индусами и арабами. Если бы представитель Запада приехал сюда с женой, он заплатил бы всего 3%. Жители Востока— местные малайцы, индонезийцы (включая молукканцев с их ценными пряностями), сиамцы и китайцы — формально вообще не платили пошлин на ввоз. Со всего импорта, даже с «восточного», вычитался «презент» султану и его помощникам, который Пиреш оценивал в 1-2% от стоимости груза. Не торговцы, западные, восточные или местные, платили пошлину за экспорт.
Умеренно жесткие, почти неформальные правовые структуры знали свое дело и могли соперничать даже с передовым гражданским правом средневековой Англии. Главный чиновник султана, называемый бендара, был кем-то вроде мэра и прокурора в одном лице, надзирал за разрешением споров и обеспечивал беспрепятственный ход дел. (Он был также одним из получателей упомянутых ранее «презентов».) Брата бендары обычно назначали тумунгамом, или таможенным судьей, который совместно с комиссией из местных и приезжих купцов оценивал груз; затем собирались пошлины и груз выставлялся на торги перед большой группой купцов:
И поскольку время было дорого, а товары были достойными (груз полностью раскупался), то малакканцы скупали товар на свои корабли и продавали его в свое удовольствие; с этого купцы получали расчет и прибыль, а местные торговцы зарабатывали себе на жизнь… И это делалось как положено, так что они не покровительствовали купцам с кораблей и не отпускали их недовольными; ибо закон и цены на товары в Малакке были общеизвестными.{176}
Адам Смит точно бы подтвердил, что здесь, в менее чем сотне слов, дан главный рецепт рыночного успеха: аукцион, сопровождаемый хорошо описанными и общеизвестными правилами за один отрезок времени в присутствии хорошо осведомленных участников, при надзоре не коррумпированных правительственных структур — нечто вроде средневекового eBay в тропиках, где хорошие правила привлекали хороших торговцев, которые, в свою очередь, вводили еще лучшие правила.
Не повредило делу и то, что Парамешвара, чтобы отпугнуть маджапахитов с Явы, принял ислам, чтобы жениться на дочери мусульманского царя (в Северной Суматре) и получить столь необходимую защиту от врага-индуиста. К началу XV века большинство купцов в Малаккском проливе приняли учение Пророка, несмотря на то, что местное население не последовало их примеру. Не случайно мусульманская торговля в Юго-Восточной Азии влекла за собой обращение. Тогда как основной движущей силой христианства и великих религий Востока была теология, сутью ислама являлась система законов, охватывающих все сферы поведения, включая коммерцию. Поэтому новый монотеизм из Аравии был особенно привлекательным для участников экономической деятельности, процветавшей там, где правила были очевидными и нерушимыми — опять же, подобно более светскому гражданскому праву в Англии.
Даже если купец не был движим религиозным рвением, принятие ислама сразу поднимало его статус. Гораздо позже остальное население, впечатленное богатством и набожностью соседских мусульманских купцов, последовало их примеру.{177} Обращение большей части Юго-Восточной Азии осуществилось не завоевателями, хлынувшими из Аравии и Персии, а торговцами тканями и пряностями из Камбея и Каликута, часто бравшими в жены местных женщин. Их потомки-метисы, вне зависимости от вероисповедания матери, почти всегда воспитывались в исламе и помогали распространять слово Пророка среди соседей и родственников со стороны матери.{178} (Когда Пиреш прибыл в Малакку, мусульманские купцы все еще активно распространяли слово Мухаммада в индуистском мире Явы, Суматры и Восточной Индонезии, даже когда Запад вернул себе западный оплот ислама в Испании и на юго-востоке Европы.)
Как и Шривиджая, Парамешвара сохранил свои связи с Китаем, в том числе с флотом Чжэн Хэ. Султан и китайцы взаимно поддерживали друг друга, частично чтобы оттеснить сиамцев, которые составляли конкуренцию и малакканцам, и китайцам. Примерно между 1411 и 1419 годами Парамешвара посетил Китай и неоднократно засвидетельствовал свое почтение Чжу Ди. Ко времени, когда Китай оставил Индийский океан в 1433 году, малакканцы оказались вполне способны занять вакантное место в проливе.
Вне всякого сомнения, не Малакка была единственной силой в Индийском океане, открывшей волшебную формулу прибыльной прибрежной торговли — мемуары Пиреша просто освещают достижения одной из самых успешных. Города и порты между Венецией и Кантоном, процветавшие в Средние века, все в той или иной степени следовали этому принципу. В Каликуте ряд потомственных индуистских правителей, заморинов, поддерживал правовые, коммерческие и военно-морские учреждения, необходимые для экономического успеха. К несчастью для Кали-кута, он стал первой остановкой Васко да Гамы в Индии.
Итак, как мы видим на примере современных британцев, даже самые сильные королевские династии истощаются. К несчастью для Малакки, как раз ко времени появления на горизонте Португалии власть перешла в руки беспутного султана Махмуд-Шаха, у которого европейцы отнимали города, как спелые сливы. Правила игры вскоре изменились, поскольку мусульмане и другие азиаты вступили в древнюю торговлю в Индийском океане, и не к добру. Одна из самых странных в истории цепей совпадений привлекла жестоких и способных чужаков, охотившихся за экзотическими кулинарными приправами, которые сегодня валяются в небрежении у любой западной хозяйки.
ГЛАВА 5. ВКУС ТОРГОВЛИ И НЕВОЛЬНИКИ ТОРГОВЛИ
Немногие европейские учреждения могут так хорошо охарактеризовать повседневную жизнь континента, как сельские рынки. Эти толкучки, где равное удовольствие находят и туристы, и местные жители, восходят корнями к издревле существовавшим сборищам бродячих торговцев в поселениях, слишком маленьких для того, чтобы устраивать там постоянный рынок.
В Средние века эти рынки сильно отличались от сегодняшних рядов чистеньких прилавков. В те времена рынок структурировался вокруг главного центра. Все грязные операции — продажа и забой скота — проделывались на окраинах рынка. Ближе к центру находились торговцы едой, писцы, кузнецы, цирюльники, зубодеры, корзинщики и горшечники. Центральную площадку на этом празднике чаще всего занимали аристократы торговой иерархии — продавцы пряностями. В XIV-XVII веках корица, мускатный орех и гвоздика были не повседневными приправами, а, скорее, самыми востребованными и популярными повсюду товарами. Их производство и поставки обогащали или разоряли страны. Пряности были так же важны, как палладий и нефть в XX веке.
О богатстве и роскоши, какие приносила торговля пряностями, свидетельствуют огромные палаццо и величественные общественные здания Венеции, построенные, в основном, на прибыль от торговли перцем, корицей, гвоздикой и мускатом. Сотни фунтов мускатного ореха, купленного в средневековой Александрии по 10 дукатов, на пристанях Венеции могли легко уйти по 30 или 50 дукатов. Даже после оплаты перевозки, страховых взносов и таможенных сборов в обоих портах прибыль обычно превышала 100%. Обычно венецианская галера перевозила из Египта в Италию от тонны до трех тонн груза и сулила огромную выгоду предприимчивым и удачливым. Средневековых крезов называли «перечными мешками», и это не считалось оскорблением, потому что мешок перца, как правило, стоил больше, чем жизнь человека.{179} Историк Фредерик Лейн подсчитал, что в последние годы перед плаванием португальцев в Индийский океан проворные венецианские галеры ежегодно перевозили 3 500 000 фунтов пряностей, и основная их часть загружалась в Александрии.{180}
Массовая торговля пряностями вызывает закономерный вопрос: чем же платил Запад за свои неуемные аппетиты? Прежде чем серебро с копей Перу и Мексики в XVI веке переплыло Атлантику, Европа страдала от жестокого недостатка в монете, которой можно было бы оплачивать импорт. К тому же Запад производил мало изделий, которые ценились бы на Востоке.
До наступления современной эпохи слова «мануфактура» и «ткань» были почти синонимами. Из двух основных видов европейских тканей льняные не могли сравниться с индийским хлопком, а шерсть была мало востребована в странах с жарким климатом. Правда, в Средиземном море добывались огромные количества красных кораллов, а итальянцы славились мастерством в изготовлении стеклянных изделий, но на восточных рынках эти предметы роскоши занимали лишь скромный уголок, несоразмерный с громадным торговым дефицитом Запада.
Поставляли ли европейцы еще какие-нибудь товары, которыми можно было бы торговать в Александрии и Каире в обмен на столь желанные пряности? Разумеется, поставляли — рабов, чтобы насытить бесконечную потребность мусульманских армий в солдатах. Где-то между 1200 и 1500 годами итальянские купцы превратились в самых преуспевающих работорговцев, скупая людей на восточном побережье Черного моря и продавая их в Египте и Леванте. Этот груз проходил через двойной заслон в проливах Дарданеллы (древний Геллеспонт) и Босфор, охраняемых некогда могучей Византийской империей, которая неминуемо оказалась под прицелом пушек двух итальянских торговых государств — Венеции и Генуи.
Таким образом, дальняя торговля в Средневековье обращалась вокруг трех пунктов: торговля пряностями, работорговля и многолетняя борьба за контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.
* * *
Перец и корица поступали, соответственно, из Индии и со Шри-Ланки. Об этих местах европейцы хотя бы слышали. Мускат и гвоздика привозились с Островов Пряностей, которые до XV столетия оставались терра инкогнита.{181} Так далеки были эти сказочные земли, что генуэзские и венецианские купцы, покупавшие драгоценные товары с этих островов в портах Египта, Леванта и на Черном море, не представляли, где же они находятся. Да и само название «Острова Пряностей», словно «Оловянные острова» у Геродота, говорит о том, что больше про них не известно ничего: где они расположены, какие люди там живут, на каком языке говорят. Либо этим сведениям просто не придавали значения в сравнении с самым главным, для чего эти острова служили Западу.
Если вам трудно вообразить важность пряностей для средневекового мира, подумайте о привлекательности современных статусных товаров: шоколад «Годива» в коробочках, автомобили БМВ, обувь от «Гуччи». Теперь добавьте таинственности из-за их неясного происхождения. Скажем, все, что нам известно о прекрасной обуви, это то, что она приходит в наши гавани с загадочного и далекого Востока. При всем этом, «Гуччи» — не просто престижные обувные магазины, эта фирма имеет разрешение печатать деньги и повсюду занимает привилегированное положение, так что поставки обуви открывают путь к престижу и неисчислимым богатствам. Что бы почувствовал воображаемый покупатель такого магазина, если бы обнаружил, что эту обувь выпускают на обыкновенном заводике во Флоренции?
То же самое и с мускатом и гвоздикой. Конечно, у европейцев были другие, более доступные пряности и травы: шафран с VIII века, когда его впервые привезли арабские купцы, выращивался в Испании и Англии, перец доставляли из Индии, тмин и кориандр везли с Ближнего Востока, а лавровый лист, чабрец, розмарин, майоран и душица и вовсе росли в Европе. Но мускат и гвоздика были гораздо более желанны и драгоценны из-за их редкости, дороговизны и, прежде всего, таинственности. Их вкусовые качества ничего не значили в сравнении с сообщаемым месседжем — их аромат свидетельствовал о богатстве и высоком статусе.
Как некогда римляне, так и европейцы помешались на пряностях. Врачи лечили ими все болезни, Чосер воспевал волшебные леса, где
…рос пахучих зелий стан —
Гвоздика, нежный балдриан
И тот орех мускатный,
Что в эля старого стакан
Иль в ларь кладут, чтобы им дан
Был запах ароматный.{182}
Приправы и духи наполнял запах гвоздики, ее добавляли в горячее питье, ликеры и включали почти во все рецепты, по которым готовили в богатых домах. Историки полагают, что первоначально пряности ценили за их лекарственные свойства. Например, один авторитетный специалист замечал, что содержимое средневековой лавки французского торговца пряностями и американской аптеки XIX века совпадают почти в точности.
Но действенны ли такие лекарства? Эффект плацебо — одна из мощнейших сил на вооружении терапевта — в немалой степени основан на экзотичности средств и методов. Ни одна из пряностей, упомянутых в этой главе, не имеет научно доказанной медицинской ценности, а те растительные средства, которые такую ценность имеют, довольно обычны, как, например, сердечное лекарство дигиталис, из милой, но простой наперстянки. Римские и греческие врачи прописывали редкую пряность калган «от почек».{183} Какие именно медицинские показания имелись в виду? Возможно, болезни, которые доктора древности лечили этим средством, не имели ничего общего с деятельностью почек.
Более вероятно, что использование редких специй в составе лекарств повышало их престижность. Суеверия неистребимы. Даже в наши дни на носорога охотятся почти исключительно из-за поверья, будто порошок, приготовленный из его рога, является мощным афродизиаком. От редких животных и растений веет настолько могущественной волшебной силой, что даже виагра вряд ли способна их превзойти.
Не все пряности привозились с Востока. Кориандр, который так любят сейчас, родом с восточного Средиземноморья. Он был хорошо известен минойцам и египтянам уже в 1300 году до н. э., а в Китай попал через тысячелетие, когда империя Хань открыла Великий шелковый путь. Куда более зловещие свойства обрела на востоке другая средиземноморская приправа — мак. Позже его начали выращивать в Индии под бдительным оком европейцев, которые решили поправить свой торговый баланс, экспортируя опиум — экстракт мака, вызывающий сильное привыкание.
В отличие от Оловянных островов Геродота реальные Острова Пряностей действительно были таковыми. Гвоздика — нераскрывшийся бутон Syzygium aromaticum, высокого дерева из семейства миртовых, до недавнего времени произрастала лишь на пяти крохотных островах вулканического происхождения: Тернате, Тидоре, Моти, Маклане и Бакане — в Северном Молукку, группе островов Восточной Индонезии. Мускатный орех и мускатный цвет (мацис) добывались из разных частей плода Myristica fragrans — дерева, росшего только на девяти крохотных островах Банда, в южной части Молуккского архипелага.
Жители Молуккских островов занимались продажей пряностей задолго до того, как появились европейцы. Этот архипелаг впервые был заселен десятки тысяч лет назад, затем, в период 2000-1000 годов до н. э., подвергся австронезийской экспансии, в ходе которой племена из Китая и Тайваня, передвигаясь на сдвоенных каноэ, населили побережья Индийского и Тихого океанов от Мадагаскара до острова Пасхи. Благодаря торговле пряностями аборигены островов Тернате и Тидоре сумели сохранить свою национальную принадлежность и культуру. Остальные острова затопила австронезийская волна.
На этих крохотных вулканических «внутренних островах» выращивали только пряности и кокосовые орехи и зависели от поставок очень питательного саго, которое готовили из пальм «внешних» Молуккских островов, таких как Хальмахера и Серам. Вначале эта торговля велась только между островами. Жители островов Банда пересекали проливы на маленьких суденышках и меняли пряности на саго.
Подобно китайскому шелку, мускатный орех и цвет тоже были известны в Древнем Риме — похоже, именно их Плиний описал в «Естественной истории». Как и в случае с шелком, источник их получения лежал далеко за горизонтом географических познаний европейцев, а цепочка поставщиков, которая переправляла их на Средний Восток и в Европу, была длинной, ненадежной, сложной и, безусловно, страшно дорогой.{184}
По мере того как расширялись рынки сбыта мускатного ореха и цвета в античный и средневековый периоды, острова, на которых выращивали пряности, процветали, вплоть до того, что они получили господство над большей частью архипелага. Например, Тернате долгое время после появления голландцев управлял гораздо более крупным островом Серам. Аборигены островов Банда отлично умели собирать пряности, но торговали ими лишь в пределах своих островов. Именно потомки светлокожих австронезийцев, в частности, легендарные бугисы с крупного острова Сулавеси (примерно на полпути между Явой и Островами Пряностей) увезли пряности далеко от Молуккских островов — на Яву и Суматру, откуда они с оказией попали в Китай, Индию и, наконец, в Европу.{185}
Мускатный цвет (мацис), приготовленный из тонкой шелухи ядра, ценился больше, чем само объемное ядро мускатного ореха. В начале периода португальского правления жители Банда ежегодно собирали около тысячи тонн мускатного ореха, но лишь около сотни — мациса, поэтому он и был в 7-10 раз дороже ореха. Эта разница в цене, бывало, приводила к курьезам в рыночных отношениях. Так, аборигены сжигали мускатный орех, чтобы повысить его цену, а Голландская Ост-Индская компания (хотя, возможно, это выдумка) прислала губернатору Ост-Индии приказ выращивать только мускатный цвет.{186} (Сегодня ситуация обратная — мускатный орех стал более нужным товаром, а мацис употребляют лишь, когда блюду нужно придать тонкий аромат, например для «фунтового» торта[15] или супа-пюре.)
Промежуточное место между перцем и продуктами Островов Пряностей занимала корица, поскольку ее источник — Шри-Ланка — располагался на самом востоке известного римлянам мира. Впервые корица появилась в Риме во время расцвета Империи и сразу же заняла верхнюю строчку в рейтинге кулинарии и ароматов. Сок из ее цветов продавали по 1500 динариев за фунт — приблизительно, по цене золота. Более скромное положение занимало коричное масло — оно шло всего за четверть этой цены.{187} Европейцы ничего не знали о коричных деревьях Шри-Ланки до тех пор, пока ибн-Баттута не описал, как индийские торговцы собирают специально для них принесенную на берег драгоценную кору.{188}
Тот же принцип работал и с другой стороны, в Китае, где ценились товары, бывшие в Европе довольно обычными: слоновая кость и благовония. Однако их происхождение из далекой Африки или Аравии создавало ореол таинственности. Точно так же гвоздика с относительно близких Молуккских островов не считалась большой экзотикой у китайцев. Еще в начале правления династии Хань ее использовали для освежения дыхания, прежде чем предстать пред императором: «Благовоние “гвоздичное” — дин».{189}
С распадом Римской империи поток пряностей истощился, цены выросли. В лучшие годы империи за фунт золота можно было купить почти три сотни фунтов перца, а в начале IV века только 90 фунтов, а может и меньше, судя по тому, что Рим откупился от Алариха за полторы тонны его. Но несмотря на то что перца стало меньше, а сам он стал дороже, его поток, поступающий в Европу, никогда не прерывался, даже в самое глухое время Темных веков.{190}
В начале VII века, когда мусульмане почти сразу же после победного возвращения Мухаммада в Мекку закрыли Баб-эль-Мандебский пролив, греческие корабли потеряли возможность ходить на восток к индийским Западным Гхатам под парусами, ловя в паруса теплые и буйные юго-западные муссоны. Перец продолжал поступать на Запад уже через руки мусульманских купцов, а знания о Востоке потихоньку меркли. Индия, хорошо известная греческим и римским географам, таким как Страбон, Птолемей и Помпоний Мела, и послов из которой принимал Август, скрылась за горизонтом реальности и канула в океан мифов, превратившись в страну золота и изумрудов, которую стерегут сказочные драконы и летающие чудища. За те девять столетий, что прошли со времени побед Пророка до того, как Бартоломеу Диаш и Васко да Гама обогнули мыс Доброй Надежды, европейцы ни разу не окунули весло в Индийский океан.
С тех пор как на Западе впервые приготовили блюда с мускатом и гвоздикой, прошла почти тысяча лет, но ни европейцы, ни мусульмане так и не представляли, откуда же берутся эти специи. В X веке арабский историк ибн-Курдадби перечислял мускат и гвоздику среди индийских товаров, ошибившись всего на 4000 миль. Марко Поло, ибн-Баттута и китайцы (от которых, вероятно, оба путешественника получили большую часть сведений о пряностях) считали, что эти душистые товары поступают с острова Ява. Уже лучше — Острова Пряностей всего-то в тысяче миль к востоку-северо-востоку от Явы.{191}
Оба главных морских пути от Индии и Молуккских островов к Багдаду и Александрии — через Красное море и через Персидский залив — находились в руках Омейядского и Аббасидского халифатов. Аббасиды правили Средним Востоком приблизительно до 910 года. До этой даты более предпочтительным считался путь через Персидский залив — путь Синдбада. Но затем египетские Фатимиды и мамлюки превратили Красное море в основную магистраль для пряностей, поступающих из Индии и с Молуккских островов.
Меньшая часть потока проходила посуху, но, чтобы сравниться с морскими перевозками, доставка по Шелковому пути, разбитому на участки, подконтрольные сотням племен и князьков, требовала политической стабильности на всем протяжении дороги. Это почти невозможное условие до наступления современного периода истории было достигнуто лишь однажды — благодаря монголам в XIII—XIV веках. Но даже тогда ханы не приветствовали чужестранцев, отправлявшихся в дальний путь на юг, через Иранское нагорье, к порту на берегу Персидского залива, откуда уже можно было плыть в Китай или к Островам Пряностей.
Нужно ли говорить, что все эти три пути — через Красное море, Персидский залив и Шелковый путь — находились далеко за пределами влияния великих итальянских торговых держав — Венеции и Генуи? Христиан-шовинистов восточные ароматы привлекали еще и тем неумолимым фактом, что где бы ни находились пряности, путь к ним лежит через страны неверных.
Но наибольшее превосходство над Европой мусульманским странам обеспечивала торговля с Китаем. Даже во времена, когда путь по Индийскому океану был свободен, греки и римляне плохо представляли себе, в какой стране производят шелк. Точно так же в средневековой Европе Китай представляли чем-то вроде другой планеты — и это в то время, когда Срединное царство торговало с крупными арабскими и персидскими колониями. Не лучшее положение было у европейцев и на Средиземном море, где усиливалось мусульманское присутствие. На востоке Средиземноморья арабы за два года со времени смерти Пророка (632) завоевали Иерусалим и побережье Леванта и разбили византийский флот в битве, вошедшей в историю как Битва мачт.
Но несмотря на наплыв мусульман в Средиземноморье в IX-X веках, итальянские корабли из Салерно, Венеции и Амальфи могли бросить серьезный вызов мусульманскому господству в мировой торговле. Заканчивалось 1-е тысячелетие, и Европа становилась все более богатой и сильной. Итальянцы, которых теперь представляли Венеция и Генуя, меняли западные товары на пряности в Александрии, Каире и Тире и подумывали о том, как бы перехватить у мусульман торговлю в Леванте. В период 1072-1091 годов норманны отвоевали Мальту, Палермо, а затем всю остальную Сицилию, в то же время испанцы вновь заняли Толедо. Эти победы воодушевили христиан на поступки, отзвуки которых слышны по сей день. В 1095 году папа Урбан II на Клермонском соборе, где были представлены все правители христианского мира, призвал освободить Святую землю. К 1099 году Иерусалим был в руках крестоносцев, Первый крестовый поход закончился, а его священная цель была достигнута путем истребления почти всех мусульман, евреев и армян, какие отыскались в пределах городских стен.
Сказать по правде, крестоносцам повезло. Турки-сельджуки и египтяне-Фатимиды десятилетиями сражались за обладание Иерусалимом, а к моменту прихода христиан оба государства были так измотаны войной и внутренним расколом, что ничего не смогли противопоставить неверным.
Большая часть Святой земли оставалась под управлением христиан до 1187 года — почти столетие после захвата Иерусалима. Затем Саладин наголову разбил войско Ги де Лузиньяна в битве при Хаттине, а спустя три месяца взял Иерусалим. В отличие от крестоносцев, Саладин пощадил мирное население города. Вскоре пала Акра, и лишь горстка христиан обороняла Тир, знаменитые бастионы которого недолгое время защищали крестоносцев, как за полторы тысячи лет до этого его древние стены удерживали силу Александра Македонского.
Услышав весть о падении Иерусалима, папа Урбан III, как говорят, скончался от удара. Его последователь Григорий VIII, конечно, призвал к Третьему крестовому походу. Отплытие крестоносцев намечалось через два года. Венецианцы высказали свою заинтересованность этим проектом особенно потому, что предполагалось захватить Акру (возле современной Хайфы), где находился большой венецианский квартал. Однако несмотря на все усилия Ричарда Львиное Сердце (самого знаменитого из участников Третьего крестового похода), отбить Иерусалим у Саладина так и не удалось.
Печальная история Четвертого крестового похода показывает не только одержимость европейцев в стремлении занять Святую землю к выгоде Венеции и Генуи, но и обратную сторону торговли двумя главными товарами того времени — пряностями и рабами. И в этом вопросе главная роль досталась Энрико Дандоло — одному из интереснейших персонажей в мировой истории. В 1193 году, когда Дандоло был выбран дожем Венеции, ему было около 80 лет, и к этому возрасту он почти ослеп. Старик решил лично вести в Святую землю галеры Венецианской республики с размещенным на них франкским войском — 4500 конных рыцарей, 9000 оруженосцев и 20 000 пехотинцев. За перевозку армии полагалось уплатить 84 000 марок серебром (около двадцати миллионов долларов в пересчете на современную валюту). Кроме того, венецианцам полагалась половина захваченных у Саладина трофеев.
Предводитель франков Жоффруа де Виллардуэн не горел желанием идти в Святую землю. Еще за несколько лет до похода английский король Ричард убедил его сконцентрировать атаку на слабом участке мусульманской империи — Египте. Более того, от людей Виллардуэна держалось в тайне, что на самом деле они едут не в Святую землю. Дандоло не только был отлично осведомлен о настоящих целях предводителя франков, но и успел договориться с египтянами о том, чтобы не нападать на них.
У Дандоло имелись свои планы, и заключались они в том, чтобы захватить город Задар, на побережье Адриатики. И уж совершенно не хотелось ему войны с Египтом, лучшим торговым партнером Венеции. Что же делать? Он пустил среди крестоносцев, ожидавших отплытия, слух об истинных целях похода. Услыхав, что в Святую землю они не идут, франкские войска начали массово дезертировать, и к назначенному дню от войска осталась только треть. Но вместе с войсками уехали и те, кто оплачивал поход, а венецианцы, естественно, не стали предоставлять свои драгоценные галеры без хорошей предоплаты.
Наконец, в ноябре 1202 года галеры бросили якоря. К тому времени крестоносцы уже были готовы в качестве оплаты взять Задар. Когда с этим делом было покончено, Дандоло получил предложение, от которого не смог отказаться. В обмен на помощь низложенному византийскому императору Исааку Ангелу в возвращении на трон сын Исаака, Филипп, король Швабский, оплачивал остальную часть египетской экспедиции.
Дандоло не нужно было уговаривать не упускать случая взять богатейший город христианского мира, а заодно затянуть вторжение в Египет. Вторжение поменяло направление и устремилось к Босфору. По словам Виллардуэна,
Дож Венеции, хотя был старым человеком и совершенно слепым, стоял на носу своей галеры, держа перед собой знамя Святого Марка. Он закричал своим людям, чтобы его вывели на сушу, или же он поступит с ними, как они того заслуживают.{192}
После долгой и страшной осады Константинополь был взят и разграблен. Четыре огромных бронзовых коня с ипподрома Константина переехали в Венецию, на собор Святого Марка. (Сейчас на площади Сан-Марко стоят копии. Оригиналы хранятся в музее базилики.) Не считая дорогих безделушек, венецианцы стяжали титул «повелителей четверти и получетверти Римской империи», то есть получили 3/8 собственности Константинополя и примерно столько же византийской земли. Вдобавок был подписан мирный договор, который позволял венецианцам беспошлинно передвигаться по территории бывшей империи и запрещал Византии торговать с конкурентами венецианцев — Генуей и Пизой. Как и надеялся Дандоло, Четвертый крестовый поход так и не добрался до Святой земли. Таким образом, торговля Венеции с Египтом не пострадала. Девяностолетний слепец неплохо провернул дело.{193}
А что за торговля была у Венеции с Египтом! Те крестоносцы, которым посчастливилось вернуться домой, очень способствовали в Европе повышению спроса на экзотические пряности Востока, наполнявшие дома ароматом богатства и высокого положения. К примеру, немецкие монахи традиционно продавали пряники, называемые «Lebkuchen». После крестовых походов в них начали добавлять перец. Так появились известные ныне перечные пряники «Pfefferkuchen».{194}
И вот, сцена подготовлена для исторического действия: европейцы сходят с ума по пряностям, мусульмане отчаянно собирают силы для войны с монголами и крестоносцами, а итальянцы неплохо контролируют проливы, через которые провозится живой товар — рабы.
У Омейядов — первой арабской империи — не было проблем с пополнением армии за счет правоверных мусульман — гордых, отчаянно-независимых, умевших воевать бедуинов. По мере того как мусульманские завоевания ширились по всему Среднему Востоку, население маленькой Аравии уже не справлялось с поставками все большего числа суровых воинов пустыни для возраставшей армии ислама.
В более сельскохозяйственных и «цивилизованных», недавно принявших ислам, землях жили хлеборобы, не воины. Особенно хорошо это было заметно в Междуречье Аббасидов и Египте Фатимидов. Из оседлых земледельцев получались плохие солдаты, точно так же тяжело оказалось из каирского торговца или багдадского писца сделать грамотного офицера.{195}
Солдат нужно было импортировать, подобно всякому дефицитному товару, причем набирать из мест, где они голодны, жестоки и имеются в изобилии. Историк Дэниел Пайпс замечает, что таких бойцов необходимо набирать «на окраинах», где не установилась централизованная власть. Население таких стран стояло перед жестокой необходимостью
«защищаться, собираясь группами, связанными взаимным доверием… Порядок поддерживался сложными кодексами чести и законами о бдительности. Эти правила действовали для всех, и это обостряло внимание каждого, готовность к бою. Повсеместно происходили разбойничьи нападения и междоусобные стычки. Чтобы уметь нападать и защищаться, всякий мужчина с детства обучался боевым искусствам, был подготовленным солдатом и все время практиковался.{196}
Где же находились эти окраины, с которых мусульманская империя набирала солдат? Во-первых, в Анатолии и на Кавказе. Всадники из этих краев периодически пускались в набеги на юг и запад, разоряя и подчиняя «более развитых» жителей Среднего Востока и Европы. Самым лучшим поставщиком невольников была кавказская Черкесия. Невольники оттуда — и мужчины, и женщины — высоко ценились за красоту.
А главным из боевых искусств, в которых практиковались жители окраин, было умение стрелять из лука, необходимое и на охоте, и на войне. Другим навыком, который с детства усваивали степные жители, было умение ездить на коне со стременами. Употребление стремени, вероятно изобретенного в Китае в V веке, медленно распространялось через Среднюю Азию, к мусульманскому миру. Объединив коня и всадника в одну могучую массу и позволив конному воину увеличить силу удара копьем, мечом или палицей, это, на первый взгляд, простое приспособление произвело революцию в военном деле.{197}
Уже в начале IX века армия Аббасидов состояла преимущественно из рабов, набранных из этих краев. В Египте империя Буйидов, которые предшествовали Фатимидам, покупала множество турецких невольников. Фатимиды раздвинули свои торговые границы, закупая турок, славян и берберов.
Эта любопытная исламская система использования рабов-мамлюков происходила прямо из военных, демографических и политических императивов средневекового мусульманского мира и из законов человеческой природы. В древнем и средневековом мире рабство не носило расовой окраски, чаще всего мамлюками были метисы. Как сказал один историк: «Когда речь шла о пополнении войска мамлюками, на африканские рынки рабов никто не смотрел».{198}
Женщин брали в прислугу и гаремы. Мужчин отправляли в военные лагеря и отряды, где «из неверных делали мусульман, из мальчиков делали мужчин, из новобранцев делали подготовленных солдат, а из рабов делали свободных людей». Рвение солдат в учебе повышалось с помощью проверенных временем технологий создания братских воинских уз и обещаниями свободы и богатства, которые щедро раздавали командиры и инструкторы (сами освобожденные рабы).{199} Как пишет один из лучших исследователей этой системы, Дэвид Аялон:
«Те из мамлюков, которых купили и освободили по воле султана, составляли главную опору его власти. Система воcпитания мамлюков глубоко укореняла в них покорность своему господину и освободителю, с одной стороны, и лояльность к своим собратьям по службе, с другой… Султан и мамлюки образовывали тесное сообщество, участников которого объединяли прочные связи. Между султаном и мамлюками существовала даже, можно сказать, двойная связь: пока правил султан, у мамлюков была власть, а правил он до тех пор, пока опирался на власть мамлюков».{200}
Освобожденные рабы из солдат вырастали до высоких офицерских чинов. Вскоре они принялись свергать султанов. Привилегии и роскошь, которыми сопровождалась власть, за одно-два поколения изничтожали и природные боевые навыки мамлюков, и приобретенные умения. Для новой горстки худых и голодных солдат-рабов, привезенных с черкесских гор в тренировочные лагеря Египта, открывалась новая возможность отнять власть у раздобревшего, несостоятельного господина. Новый султан-мамлюк начинал с того, что очищал элитные отряды — так называемых царских мамлюков — от старых кадров, заменяя их своими последователями, и цикл начинался заново. Переход власти от одной группы к другой совершался быстро или постепенно, при помощи меча или почетной отставки. Нередко в обычной жизни или в низших слоях армии сосуществовали мамлюки нескольких поколений.{201}
Всю систему разъедало бытовавшее среди мамлюков мнение, что султан держится у власти только их милостью. Согласно Пайпсу, «эти солдаты считали, что правитель перед ними в долгу, и терпели его только как судью в спорах».{202} Прошло время, и султану, страдавшему от давления «старых друзей», понадобились «новые друзья», не связанные обязательствами со «старыми». Откуда их взять? Конечно, из тренировочных лагерей, куда прибыли свежие солдаты-рабы — теперь им предлагали свободу и власть в обмен на поддержку.{203} В конце правления курдской династии Айюбидов один придворный, как говорят, спросил своего коллегу про мамлюков, что это за стража у султана в таком странном наряде? Тот ответил: «Это одежда тех, кто завоюет нашу страну и отнимет наше имущество и наши сокровища».{204}
Система подготовки рабов-мамлюков, как уже было отмечено, появилась всего через пару столетий после начала арабских завоеваний. Затем она медленно выстраивалась при Аббасидах, Буйидах и Фатимидах, ставших жадными охотниками до свежих рабов. Венецианцы со своей коммерческой хваткой и свежеобретенным контролем над Босфором в первой половине XIII века могли обеспечить нужды египтян.
До завоевания Иерусалима в 1187 году курд Саладин успел сместить последнего правителя Египта из династии Фатимидов и основать собственную династию Айюбидов, которая продержалась у власти недолго. Турецкие и кавказские мамлюки Саладина не только были искусными наездниками, но при помощи луков и стрел умели производить опустошение среди крестоносцев. В битве при Хаттине лучников-мамлюков обеспечили четырьмя сотнями вьюков со стрелами. В самый разгар битвы дополнительный запас стрел подвезли на 70 верблюдах. Конечно, не будь мамлюков, войска Саладина не смогли бы выбить франков из Святой земли. Даже его легендарные ударные отряды халка («круг») состояли в основном из турок-мамлюков.{205} Вряд ли без мамлюков мусульмане смогли бы покорить Византию, Индию и Среднюю Азию. Они были бы сегодня небольшой сектой в пределах крошечного анклава на Среднем Востоке и в Северной Африке.{206}
Таким образом, на заре XIII века египетское государство Айюбидов, основанное Саладином, прочно зависело от рабов-солдат, поставлявшихся местными купцами с караванами через Анатолию (на территории современной Турции) и Междуречье. Вскоре египтяне обнаружили, что на них наступают монголы, а около 1243 года Анатолия и Месопотамия, через которые пролегала дорога из Египта в Закавказье, очутились под властью монголов, и поставки рабов для пополнения армии мамлюков оказались под угрозой.{207}
Венецианцы, захватившие власть в Восточном Средиземноморье, Босфоре и на Черном море во время Четвертого крестового похода и имевшие почти исключительную монополию на работорговлю в этих морях и проливах, были, как обычно, готовы выручить. Захват Константинополя, который в 1204 году осуществил Дандоло, позволил Венеции поставлять рабов Айюбидам морским путем, относительно свободным от монголов. Венецианцы долго торговали с Египтом, даже в разгар крестовых походов. И все это время они продолжали поставлять корабли, солдат и оружие христианским королевствам в Святой земле, особенно таким как Акра, имевшим крупные торговые поселения венецианцев. Известно, что Саладин похвалялся своему халифу, что европейцы рады продавать ему оружие, которое он использует против других европейцев, а скоро они даже своих детей продадут в солдаты.{208}
В этот критический момент, в 1250 году, солдаты-мамлюки, прочно утвердившись в своем положении, убили последнего султана из династии Айюбидов, Туран-шаха. Возникла новая династия Мамлюков, которой предстояло править более 250 лет и солдаты которой служили Египту военной поддержкой до самого XIX века.{209}
А в середине XIII века именно это место стало ареной крупнейших исторических сражений. В 1250 году не только появилась династия Мамлюков, но и произошло вторжение в Египет короля Франции Людовика IX, а в 1258 году монголы разрушили Багдад. В 1260-м монгольский ильхан Хулагу потерпел поражение при Айн-Джалуте (вероятно, на территории современного Израиля) от египетских Мамлюков. А в 1261 году пал Константинополь, где у власти находился марионеточный правитель, посаженный на трон венецианцами и франками во время Четвертого крестового похода. Как писал Дэвид Аялон: «В битве при Айн-Джалуте, которая произошла между народами одной расы, вчерашние неверные разбили завтрашних мусульман».{210} Другими словами, кавказские мамлюки оказались прочно связаны с монголами, которые вскоре обратились в ислам, причем во всех монгольских уделах, кроме удела Ху-билая, который пришел к исламу позднее. Все эти события превратили египетских Мамлюков в основную силу в Восточном Средиземноморье, в ответ на амбиции европейцев в Леванте.
Из всех итальянских государств больше всего пострадала от поражения монголов и падения Константинополя Генуя, которая была второй морской торговой республикой после Венеции. Вначале провал египетской экспедиции Людовика IX, которую Генуя активно поддерживала, не только ослабил ее военную мощь, но и истощил ее финансы, поскольку она строила корабли для Людовика. Затем, так же резко, события повернулись в ее пользу. В 1261 году Византия — главный союзник Генуи — вернула контроль над Константинополем, отняв его у католического марионеточного государства, основанного Дандоло и франками. Отношения между быстро восстанавливающейся Византией и Венецией были расстроены, и венецианцев постепенно вытесняли из древнего города и стратегически важных проливов, на которые те прежде имели исключительные права. Теперь, по договору между Генуей и Византией, монополия на торговлю в Черном море переходила к Генуе.
Египетские Мамлюки жестоко нуждались в солдатах-рабах, а единственный путь их доставки — морем — требовал добрых отношений с Генуей и Византией, и даже с Золотой Ордой — северным соседом ильхана. Золотая Орда властвовала на тех землях, откуда вывозили рабов, — в Крыму и на Кавказе. Ряд формальных союзов, заключенных Мамлюками и Византией, отдельно подчеркивал право свободного прохода через Босфор для судов египетских работорговцев. Кроме того, Мамлюки позволили монголам устроить в Александрии фундук — накопитель для живого товара.{211}
Несмотря на то что Черное море было для Мамлюков открыто, их флот для перевозки рабов не годился. Приходилось пользоваться кораблями и портами генуэзцев. Генуэзские суда принимали груз в крымском порту Каффа, построенном на месте древней Феодосии — понтийского порта, где раньше грузили зерно. Сам этот порт в середине XIII столетия Генуя выкупила у Золотой Орды. (Позже город вернул себе греческое название, которое стало произноситься на славянский манер.
Теперь он находится на территории Украины.) Генуя старательно закрывала глаза на резню, которую Мамлюки устроили крестоносцам в Акре и Тире. Возможно, она даже обещала мусульманам помощь кораблями.
Груженные рабами суда отправлялись на юг, в Александрию (один из въездов в город назывался Перечными воротами) или в Каир, где после разгрузки их заполняли перцем, имбирем, корицей, мускатом и гвоздикой, закупленными у арабских купцов с востока. Такая торговля давала генуэзцам финансовые и стратегические преимущества перед венецианскими конкурентами. Гибель поселений крестоносцев в Леванте, несомненно, была ускорена солдатами-рабами, которых привезли генуэзцы, не слишком затруднявшиеся в выборе между богом и мамоной. Как писал историк Эндрю Эренкройц:
Для расчетливых христиан из Генуи оскорбление Креста в Леванте ничего не значило по сравнению с материальной выгодой от деловых отношений с Мамлюками.{212}
Как быстро возник спрос на рабов с Черного моря, так же быстро он и ослаб, когда исчезла угроза со стороны монгольского ильхана, а Акра и Тир в 1291 году пали. Не только снизилась потребность в мамлюках, но и вновь открылись караванные пути для транспортировки рабов через Анатолию и Месопотамию. Несмотря на то что Генуя понесла убытки, утеряв монополию на перевозку рабов, знания, торговые контакты и искусство кораблестроения, которыми она обогатилась в недолгий период конфликта между Мамлюками, монголами и крестоносцами (вторая половина XIII века), намного пережили всплеск работорговли, вызванный войной.
* * *
Не только итальянцы наживали на торговле пряностями сказочные богатства. Разгрузив рабов, стекло и ткани на пристанях Александрии и в каирский фундук, они скупали все пряности, какие могли. С восточной стороны цепочки поставок индийские и малайские мусульмане-купцы приобретали гвоздику, корицу, мускат и мацис в таких перевалочных пунктах, как Пасе, Палембанг, а впоследствии в Малакке, где эти товары продавали местные торговцы, скупив их на Островах Пряностей. Во время северо-восточного муссона этот драгоценный груз отправлялся через Бенгальский залив в Индию. Индийские купцы перекупали его и везли в Йемен. Там индийцев встречали карими — купцы из сказочно богатой гильдии, появившейся с возвышением Мамлюков. Именно карими заключали сделки с итальянцами на складах Каира и Александрии.
Сравнивая два эти города, европейские путешественники описывали Каир как более живой, с узкими извилистыми улочками, полными драгоценных ароматов Востока и торговцев из Турции, Аравии, Йемена, Персии, Италии, Франции и Индии. В то время, как и сейчас, купцы проводили дни на базарах — сердце коммерческой жизни города. Отдыхая от торговли, они ездили поглазеть на пирамиды. «Вдоль всего пути от Каира простирались сады, полные финиковых пальм, апельсиновых, лимонных и померанцевых деревьев — наслаждение для взора».{213}
Происхождение карими — тайна, затерянная в истории. Мало что известно и об их торговой деятельности. Но мы можем оценить масштаб концентрации их доходов в средневековом мире. В исторических записях указывается, что где-то около 1150 года, под конец существования империи Фатимидов, эта группа достигла критической массы, возможно потому, что их защищал флот Фатимидов в кишащих пиратами водах Красного моря и Баб-эль-мандебского пролива. Более мелкие торговцы, вроде еврейских купцов, которые упоминаются в документах Каирской генизы, не могли позволить себе сильный морской конвой, и карими их вытеснили с рынка. Сейчас трудно сказать, какого происхождения были карими — индусы или мусульмане, индийцы или египтяне. Неизвестно даже, были они изначально купцами или судовладельцами, хотя имеющиеся сведения больше склоняют нас к последнему. Индийская и индусская версия основана на тамильском названии торговой деятельности — карьям.{214}
Каким-то образом карими смогли внедриться в преимущественно арабский и мусульманский мир империи Мамлюков. Но повсюду к этому клану причисляли исключительно египетских «торговцев перцем и пряностями», контролировавших торговлю между Йеменом и Египтом. Группу составляли семейные предприятия, передававшиеся от отца к сыну, связанные между собой коммерческими и социальными мусульманскими структурами и особыми требованиями к торговле пряностями. По всему торговому пути, который проходил вдоль Красного моря, карими основывали свои фундуки. Этот путь, связавший Египет и Йемен, петлял, заглядывая во многие порты и перевалочные центры, по привычной древней дороге, которая бежала над Красным морем, до его египетского побережья, затем караванными тропами через пустыню и вниз по Нилу. Один купец XIII века — Мухаммад бин Абд аль-Рахман бин Исмаил — провел жизнь в разъездах между Сирией, Меккой, Египтом, Ираком и странами Персидского залива. В этом нет ничего особенного для того времени. Но помимо этого, он успел совершить три путешествия в Китай. Свою карьеру он начал с пятьюстами динариев, а закончил с состоянием более чем в 50 000.{215}
В мусульманском мире сравнение с карими было подобно современному сравнению с Рокфеллером. Не раз прибыль карими оценивалась более чем в миллион динариев. Один купец — Ясир аль-Балиси — прославился прибылью в десять миллионов. По нашим деньгам, это около полумиллиарда долларов — почти невообразимая для доиндустриального мира сумма.{216} На деньги карими строились мечети, школы и больницы в Александрии, Каире, Мекке и Джидде. Но чем дальше, тем больше денег карими уходило на военные действия. В 1352 году, когда сирийцы восстали против Мамлюков, и в 1394 году, когда Леванту грозил смертоносный Тамерлан, победы египетского войска оплатили трое богатейших купцов-карими.{217}
Но как и любая империя, государство Мамлюков погрязло в жадности и коррупции и потеряло способность беречь Свою казну от разворовывания. В 1428 году султан Барсбай отнял у карими монополию на торговлю пряностями и низвел их роль до торговых представителей. В 1453 году турки-османы наконец взяли Константинополь и обрубили всякую торговлю с христианским миром, но к тому времени идея итало-мусульманской торговли и так уже почти исчерпала себя. На западном побережье Африки уже толпились португальцы. В 1488 году Бартоломеу Диаш обогнет ее южную оконечность, а еще через десять лет да Гама прорвется в Индийский океан, и придет конец мусульманской монополии на торговлю между Европой и Азией. Самое долговечное и монументальное наследие эпохи торговли рабами и пряностями — роковой дар, преподнесенный монголами генуэзцам — порт Каффа на Черном море. Запомните это название. Оно еще откликнется смертью миллионов европейцев, концом монгольского владычества в Азии, разрушением мусульманской торговой империи и, наконец, возрождением Запада из пепла.
ГЛАВА 6. БОЛЕЗНИ ТОРГОВЛИ
Каффа чем-то напоминала конечную железнодорожную станцию на окраине американского Дикого Запада. Последний европейский город на границе с монгольскими ханствами, простиравшимися до самого Китая. Около 1266 года Орда — монгольская империя в Северо-Восточной Азии и Восточной Европе — продала земли этого города генуэзцам, которым очень нравилось его расположение на Крымском полуострове, на западном конце Великого шелкового пути. С пристаней Каффы купцы вывозили рабов в Египет и предметы роскоши с Востока в Италию, Францию и даже атлантические порты Северной Европы.
Монголы, глядя на то, как процветает Каффа под управлением генуэзцев, жалели о своей сговорчивости. Они с большим трудом удерживались, чтобы не разграбить город. Вскоре началась настоящая борьба за этот участок недвижимости. Хан Токтай нашел отличный повод для нападения — нечего итальянцам обращать в рабство и продавать турецких сестер и братьев по вере! В 1307 году он велел схватить итальянских представителей в Сарае — столице Орды, всего в семистах милях к востоку от Каффы. В том же году войско Орды осадило Каффу. Итальянцы защищались до 1308 года, потом уплыли и, уходя, сожгли город. Когда монголы закончили мародерствовать, генуэзцы отстроили город заново.
Восточнее Каффы, а значит, ближе к Орде, находился венецианский форпост работорговли — Тана (современный Азов). В 1343 году, когда город был обстрелян, итальянцы бежали оттуда в Каффу и встретили еще большую жадность со стороны кипчаков — тюркских союзников Орды. Целых три года кипчаки непрерывно осаждали Каффу, обстреливая ее из страшных катапульт, но бесполезно. После поражения в 1308 году генуэзцы обезопасили снабжение города с моря и дополнили укрепления двумя мощными концентрическими стенами.
Но с востока надвигалось еще неведомое, грозное оружие, сулившее поражение обеим сторонам. Вначале оно истребляло нападавших, так что запертые в городе итальянцы уже видели в этом свое чудесное избавление. Но вскоре жестокая сила погубила и защитников, а потом тихо поплыла на галерах на юг, в Геную, предвещая опустошение и пепелища сперва Европе, а затем и царствам Пророка.
* * *
Возбудитель чумы, чумная палочка (Yersinia pestis), подобно множеству других патогенов человека, большую часть времени проводит в «животном резервуаре» — популяции хронически зараженных грызунов. В Средние века таким резервуаром для бациллы служили сурки и суслики гималайских предгорий, азиатских степей и африканских Великих озер. Наиболее важную роль, наверное, сыграл табарган — норный зверек, похожий на растолстевшую белку, вырастающий до двух футов в длину, весящий до 18 фунтов и впадающий на зиму в спячку.
Тысячелетиями степняки привыкли держаться подальше от зараженных грызунов, узнавая их по вялому поведению. Но вот инфекция преодолела культурный барьер. Чужаки, не знакомые с местными обычаями, охотились на больных животных. Когда это выяснилось, по земле уже шествовала Черная смерть.[16]
Сегодняшними познаниями о роли инфекционных заболеваний мы обязаны великому историку Уильяму Г. Макнилу из Чикагского университета. Около 1955 года, изучая поражение, которое нанес ацтекам Эрнан Кортес в 1521 году, он задался вопросом, как миллионное население, среди которого во множестве встречались жестокие, закаленные воины, оказалось побеждено отрядом из шести сотен испанцев. Ну да, кони, ружья и стальные мечи давали европейцам большое преимущество. Но Макнил считал, что было кроме этого еще что-то.
Ацтеки, фактически, разгромили Кортеса годом ранее в столичном Теночтитлане и заставили испанцев отступить. Это была позорная noche triste — «ночь печали». Четыре месяца спустя среди ацтеков разразилась эпидемия оспы. Узнав о том, что от оспы скончался победоносный предводитель ацтеков, Макнил сделал мудрые выводы, которые сегодня позволяют нам по-новому взглянуть на мировую историю.
Макнил представил, что в Теночтитлане, а двумя столетиями ранее в Европе произошли похожие явления — катастрофическое вторжение новой болезни в популяцию, не имевшую к ней иммунитета. Так раскрывается механизм столкновения цивилизаций, первичным побудительным мотивом которого часто бывает торговля.
Как теперь отлично известно, торговля и путешествия (а также возрастание плотности населения) способствуют быстрому распространению болезней, как новых, так и хорошо известных. В прошлом положение складывалось еще опаснее. С точки зрения эпидемиологии, чем глубже в историю, тем большей пороховой бочкой представлялся мир, поделенный на географические резервуары заболеваний. Внутри каждого эпидемиологического резервуара формировалась популяция, резистентная к местному возбудителю, но не к возбудителям других резервуаров. На протяжении тысячелетий, для того чтобы устроить опустошительную эпидемию, микроорганизмам нужно было преодолеть расстояние в несколько сотен миль. В период с XIV по XVIII век, когда развивалась мировая торговля, все эпидемиологические резервуары, какие существовали в мире, перемешались, и результаты обернулись катастрофами. Сегодня мы можем радоваться тому, что теперь подобное перемешивание происходит в очень незначительной степени. Пандемии возникают только если возбудитель пришел к человеку от другого животного вида, как это случилось с ВИЧ, который мутировал и обрел способность заражать людей. Но это куда более высокая планка, чем в доколумбовскую эпоху, когда купцы, матросы или грызуны из соседнего эпидемиологического резервуара становились причиной смертоносной эпидемии.
Макнил обратил внимание на случай, который произошел в 1859 году, когда британские поселенцы завезли в Австралию кроликов, желая, чтобы новые фермы напоминали им родную Англию, желая охотиться на привычную дичь и есть привычное мясо. К несчастью, этим милым зверькам не встретилось на новой земле никаких хищников. Они принялись плодиться, как кролики, быстро объели уязвимые в засушливом климате пастбища и создали угрозу овцеводству. Ограды, яды, ловушки и винтовки не смогли совладать с популяцией зверьков, способных приносить потомство уже в возрасте шести месяцев. Требовалось более могучее средство.
В 1950 году австралийцы применили вирус миксомы, как правило, летальный для кроликов дикой популяции, не подверженной ранее этому заболеванию, а значит, неустойчивой к нему. Ситуация похожа на ту, что возникла у мексиканцев с европейцами с оспой и чумой. В последующие годы происходил кроличий холокост, который снизил их популяцию на 80%. Смертность среди зараженных особей составляла 99,8%.
И вот, когда кролики в Австралии почти совсем исчезли, в силу вступил естественный отбор, и наиболее устойчивые к миксоматозу линии кроликов выжили. Со стороны вируса этот механизм тоже работал. Возбудитель уже не мог быстро убить носителя. Постепенно вирус становился все менее смертельным, так чтобы носитель дольше жил и эффективнее распространял вирус. К 1957 году погибала только четверть инфицированных кроликов. Односторонние отношения между смертельным возбудителем и беззащитным носителем превратились в ничью между не слишком вирулентным патогеном и резистентной популяцией.
То же самое происходит, когда среди людей появляется новая инфекция. Вначале смертность высока, но результатом естественного отбора становится более резистентная популяция и менее вирулентный патоген. Этот процесс установления равновесия, при котором возбудитель и носитель приспосабливаются друг к другу, занимает 5-6 поколений — несколько лет в случае кроликов и век или полтора в случае людей. Такие людские болезни, как корь или ветрянка, раньше истребляли взрослое население. Теперь они обычно поражают тех, кто не успел обзавестись против них иммунитетом, то есть детей. И не случайно эти болезни произошли от животных, живших рядом с людьми: оспа от коровьей оспы, грипп от свиней, а корь от собачьей чумки или чумы рогатого скота.{218}
Чума представляет собой более сложный случай. Пока что это заболевание не достигло равновесия в человеческой среде. Сегодня оно почти так же смертельно, как и в XIV веке, но инфекция касается не многих животных из тех, что живут рядом с людьми. Переносчиками бациллы являются только грызуны, как, например, табарганы, миллионы которых на сегодняшний день заражены чумой. Для них заболевание смертельно, но эти норные зверьки живут изолированно, так что эпидемия медленно гуляет от одной колонии к другой. Только песчанки Юго-Западной Азии, как считается, научились переносить эту болезнь, так что некоторые из них могут долгое время страдать вялотекущей инфекцией.{219} Ученые не могут сказать наверняка, где впервые возник резервуар инфекции подземных грызунов, но предполагают, что это случилось где-то в районе Гималаев, на юге Китая.
Если бы носителями чумы были только люди, сурки и суслики, люди легко могли бы обезопасить себя, держась от этих зверьков подальше. Но в цепочку передачи смертельной болезни включилось еще два вида. Первыми стали блохи, через укус передававшие заразу от одного млекопитающего к другому. Но блохи не способны проделать многомильный путь от далеких подземных популяций грызунов до людей. Второй вид — черная крыса — послужил «паромщиком» между норными грызунами и цивилизацией, соединил резервуар с поселениями людей. Для блох и крыс бацилла так же смертельна, как для людей. Крыса умирала, но зараженные блохи, прежде чем погибали сами, проделывали те недостающие несколько футов от зверя к человеку.
Особенно важным в этой смертельной цепочке стала восточная крысиная блоха Xenopsylla cheopsis. Это неприятное насекомое имеет две особенности, помогавшие ему в этой роли. Во-первых, черная крыса — любимый его хозяин. Если табарган с человеком встречается редко, то крыса, так сказать, сотрапезник человека, она живет с ним рядом и добывает пищу в мусоре и отбросах, оставляемых человеком. Но рядом с табарганами черная крыса тоже живет. Поэтому блохе, а вместе с ней и чумной палочке ничего не стоит перебраться с табаргана на крысу. Покидают крысу блохи неохотно, только когда она умирает, оставляя блохе совершить последний, решающий скачок до человека. Второе роковое свойство этой блохи в том, что, в отличие от других видов блох, ее пищеварительная система очень чувствительна к чумной палочке, которая вызывает у насекомых сокращения пищеварительных путей. Поэтому когда зараженная блоха кусает грызуна или человека, значительная часть зараженного материала отрыгивается прямо в него.{220}
После смерти крысы блоха может найти прибежище на верблюде или лошади, которые становятся настоящими блошиными гостиницами.{221} Оба этих вьючных животных очень восприимчивы к заболеванию, как и многие другие млекопитающие и птицы.
С точки зрения бациллы, и блоха, и черная крыса, и человек — неважные игроки, случайно пострадавшие, неудачливые прохожие. Главная задача организма — сохранить себя в резервуаре норных грызунов. А успехи сельского хозяйства позволяют существовать обособленным, плотно населенным городам, которые привлекают черных крыс, прекрасно приспособленных к городским условиям.
Черная крыса блестяще играет свою роковую роль. Она не просто стремится к человеку, она еще и высококлассный верхолаз. Примерно во времена расцвета Древнего Рима и империи Хань эти звери принялись путешествовать по всему Великому шелковому пути, а также на кораблях, вместе с муссонами. Где-то в начале нашей эры черная крыса по канатам восточных доу и греческих кораблей перебралась в Европу.
* * *
Само по себе название «чума» вызывает немало путаницы. Почти наверняка ни в одной из вспышек болезни, зафиксированных в античности, чумная палочка не повинна. Шумерские источники упоминают об эпидемиях еще за две тысячи лет до нашей эры, а в первых книгах Ветхого Завета, написанных между 1000 и 500 годами до н. э., описана божественная кара в виде морового поветрия на землях Плодородного Полумесяца. Современные переводчики обозначают эти события словом «чума», но Библия и другие древние источники редко приводят клиническую картину заболевания, чтобы можно было опознать его возбудителя.
Только в некоторых случаях древние хронисты описывают болезнь достаточно подробно. Один из самых ранних таких трудов принадлежит Гиппократу. Это его «Эпидемии», написанные около 400 года до н. э. Там явно описаны случаи свинки (неболезненные опухоли за ушами, хрипота, кашель) на острове Тасос. Тут же, в его работах, обнаружено, как считается, описание инфицирования чумной палочкой.{222} Великий историк Пелопоннесских войн Фукидид привел, пожалуй, самое известное в древней литературе описание эпидемии. Это чума 430 года до н. э. в Афинах, которая погубила около четверти всего афинского войска. Но из этого текста невозможно сколько-нибудь определенно выяснить, какой возбудитель вызвал эту болезнь.{223},[17]
Вспышки инфекционных заболеваний регулярно опустошали Рим — как республику, так и империю. Самая знаменитая произошла около 166 года, когда легионы Марка Аврелия, возвращаясь домой, занесли заразу из Междуречья. В документах того времени говорится о том, что вымерла треть населения столицы, погибли целые армии. Другая вспышка поразила Рим в середине III века и за день сгубила целых пять тысяч жизней.{224} И снова — нет точного описания этого римского поветрия. Из самых подробных воспоминаний можно сделать вывод, что это было первое вторжение в Европу оспы и кори с поселков и пастбищ Плодородного Полумесяца, где они зародились.
Клинические признаки болезни, вызванной чумной палочкой — опухоли в паху и подмышках, сильный жар, черные кровоточащие высыпания на коже и скорая смерть, — настолько характерны, что если бы они появились в древнем мире, до 500 года до н. э., это событие было бы описано. Тем более это касается легочной формы заболевания, когда бацилла передается от одного человека к другому по воздуху с кашлем и способна к заходу солнца опустошать целые кварталы людей, поутру казавшихся совершенно здоровыми.[18]
* * *
В начале нашей эры зараженные блохи или грызуны как-то смогли проделать путь от какого-то из древних резервуаров заболевания, вероятно от индийских подножий Гималаев, до Малабарского побережья, где зараженные черные крысы вскарабкались по канатам на торговые корабли, следовавшие на запад. Зимний муссон перенес корабли через Индийский океан в Александрию (а может быть, в промежуточные порты, такие как Аден или остров Сокотра). Это случилось достаточно быстро, чтобы крысы могли дожить и, высадившись на берег, передать бациллу дальше. В 541 году, во время правления византийского императора Юстиниана, появились первые свидетельства распространения чумы — Черной смерти (называемой так из-за появления характерных черных бубонов). Историк Прокопий Кесарийский пишет, что «Юстинианова чума» впервые (по крайней мере, на взгляд европейцев) появилась в Египте. Как и следовало ожидать, ее занесли в восточный Египет через Красное море. (Более удобный «путь Синдбада» через Персидский залив был перекрыт Персидской империей, главной соперницей Византии.){225}
Прокопий сам видел начало эпидемии: «Около этого времени [зима 541-542 года] распространилась моровая язва, из-за которой чуть было не погибла вся жизнь человеческая».{226} Прокопий очень ясно описал бубоны — болезненные, воспаленные опухоли лимфоузлов «не только в той части тела, которая расположена ниже живота и называется пахом (бубоном), но и под мышкой, иногда около уха, а также в любой части бедра».{227} Это несомненные признаки чумы. Историка удивляло, как передается болезнь, когда люди избегают личного контакта:
Ибо не было случая, чтобы врач или другой какой-то человек приобрел эту Оолезнь от соприкосновения с больным или умершим; многие, занимаясь похоронами или ухаживая даже за посторонними им людьми, против всякого ожидания не заболевали в период ухода за больным, между тем как многих болезнь поражала без всякого повода, и они быстро умирали».{228}
Эту эпидемию разносили блохи, и поэтому болезнь распространялась не так быстро, как легочная форма, которая поразила Европу в XIV веке. Волна за волной, зараза прокатывалась по Восточной империи с промежутками в 5-10 лет, поражая таким образом преимущественно молодежь, которая еще не успела приобрести иммунитета. В 541-542 годах вымерла треть населения Константинополя. Прокопий описывает пик эпидемии, когда за день умирало по 10 000 человек. К 700 году от жителей Константинополя осталась лишь половина. До того как случилась эпидемия, Юстиниан, казалось, вот-вот снова объединит империю. Но чумной палочки оказалось достаточно, чтобы эти надежды рухнули. Эта эпидемия позволила Европе погрузиться в Темные века и создала геополитический вакуум, который с легкостью занял ислам, защищенный от болезни пустынным климатом (неподходящим для черной крысы) и отсутствием больших городов. Далеко на востоке чума тоже помогла мусульманам — Прокопий пишет, как она опустошила Персию, что, вероятно, способствовало победе мусульман над империей Ктесифона (в совр. Ираке) в 636 году.{229}
К тому времени как византийский очаг чумы выгорел, торговля с Востоком достигла глубокого упадка. В том же 622 году, когда чума затопила Константинополь, курайшиты изгнали Мухаммада и его сторонников из Мекки, и тем пришлось совершить хиджру в Медину. Через восемь лет войска Пророка контролировали всю Аравию и более чем на тысячелетие перекрыли Баб-эль-мандебский пролив для европейских торговых кораблей. Еще через несколько поколений для европейских купцов закрылся и Шелковый путь. Воинства ислама отняли у европейцев доступ к Азии, которым те пользовались от начала нашей эры. Обратной стороной этого позорного поражения оказалась защита Европы от азиатских резервуаров чумы на семь столетий.
Жаркие, засушливые и, большей частью, малонаселенные просторы Аравийского полуострова защищали мусульман от болезни, зато недавно завоеванные ими плотно населенные земли Плодородного Полумесяца оказались превосходным рассадником для поветрия. К 639 году чума прокатилась по Сирии, выкосила ее гражданское население и 25 000 мусульманских солдат. Халиф Омар — второй преемник Пророка — пытался спасти своего полководца Абу Убейду, отозвав его из Сирии. При этом халиф скрыл истинные причины, сказав, что вызывает его, поскольку нуждается в срочном совете. Абу Убейда распознал хитрость и, положившись на волю Аллаха, остался в Сирии. Вскоре он пал жертвой болезни, как и множество арабских военачальников, сменивших его.{230}
Чума сумела даже расколоть ислам. После смерти Абу Убейды другой полководец — Моавия ибн-Аби Суфиян — сверг халифа Али (четвертого наследника Пророка, его двоюродного брата и племянника), — и ислам раскололся на суннитов и шиитов. Если бы Омару удалось спасти Убейду от чумы, возможно этого трагического раскола и не случилось бы.
Но хотя «Юстинианова чума» наносила большой урон победоносному мусульманскому воинству, гораздо сильнее она поражала их врагов — византийцев и персов. Как пишет историк Джосайя Расселл: «Ни Карл Великий, ни Гарун аль-Рашид, ни великие исаврийские и македонские династии не смогли справиться с блохой, крысой и бациллой».{231} Врагов молодой веры — византийцев и персов — уничтожали не только меч Али и богатства Хадиджи — к ним следует добавить и Черную смерть.
«Юстинианова чума» за несколько поколений успела расползтись от портов Индии и Китая к востоку. Убедительные свидетельства китайцев об этой болезни появились в начале VII века, и хотя демографические данные недостаточны, скорее всего, чума опустошила империю Тан не меньше, чем Византию. Один из свидетелей писал, что в 762 году опустела провинция Шаньдун. В период между 2[19] и 742 годами население Китая сократилось на четверть.{232}
И тут все прерывается. Последняя волна чумы обрушилась на Константинополь в 622 году, а на окраины империи в 767-м. После этих дат до XIV века никаких упоминаний о Черной смерти в христианском мире нет.
Почему же чума не добралась до Европы в середине первого тысячелетия, хотя азиатские крысы тысячелетиями носили ее? Почему не возникало эпидемий последующие 800 лет? И наконец, почему «Юстинианова чума» поразила, в основном, Восточную Европу, а средневековая эпидемия прошлась по всему континенту?
Прежде всего отметим, что чума — болезнь торговли. Зараженные люди живут несколько дней — не больше. Зараженные крысы — не больше нескольких недель, а зараженные блохи — не больше нескольких месяцев. Чтобы перевезти заразу в очередной порт или караван-сарай, люди, грызуны и насекомые должны быстро преодолевать моря и пустыни.
«Юстинианова чума» хотя и разоряла многолюдные города Северной Европы, но не могла опустошить весь континент по двум причинам. Во-первых, в Европе болезнь перемещалась в основном по прилегающим к Средиземному морю дорогам, а пути на север и запад преграждали готы, вандалы и гунны. Во-вторых, к VI—VII векам главный переносчик болезни — черная крыса — еще не успела распространиться по средиземноморскому ареалу и, уж тем более, в атлантических портах.{233} Счастливой особенностью «Юстиниановой чумы» было то, что возбудитель не прижился среди европейских норных грызунов. В XIV веке континенту повезло меньше. «Мусульманский карантин», которому веками подвергались купцы, был прерван завоеваниями монголов в XIII веке. Потомки Чингисхана вновь открыли сухопутные торговые пути и обрушили на Европу новую волну болезни, еще более опасной.
В VI веке напасть пришла из-за моря, в XIV — посуху. Политическая стабильность в подвластных хану владениях позволила снова открыть Великий шелковый путь, а по нему вместе с дорогими китайскими товарами двинулись крысы и блохи, заразившие войско, которое осаждало Каффу. У нас нет точных сведений о том, как именно были заражены монголы и их союзники. Макнил считает, что степные воители заполучили заразу прямо из ее древней обители, от грызунов Южного Китая и бирманских предгорий Гималаев, когда в 1252 году вторглись в эти земли.
В 1331 году появились первые сообщения о возвращении чумы в Китай. Почти сразу же болезнь отправилась по Шелковому пути, оживленному при монголах. Зараженные блохи путешествовали на запад то в гривах боевых коней, то в шерсти верблюдов, а то и на черных крысах, угнездившихся в товарах и седельных сумках. Путь был долгим, не прямым, шелка и пряности переходили из рук в руки. Бациллы тоже меняли хозяев, прежде чем пуститься в очередной этап путешествия.
Макнил считает, что промежуточными пунктами для передачи болезни служили караван-сараи — именно там происходил обмен не только товарами и верблюдами, но и бациллами. По пути в каждом караван-сарае чума поражала работников, хозяев и гостей. Вместе с выжившими она спешила во все стороны дальше, вызывая эпидемии в местных популяциях норных грызунов. В 1338 году, всего через семь лет после вспышки болезни в Китае, она разыгралась в торговом перевалочном пункте у озера Иссык-Куль (в современной Киргизии), примерно в середине Шелкового пути. К 1345 году зараза проникла в Астрахань, на северном побережье Каспийского моря, а вскоре добралась и до Каффы{234}.[20]
В 1346 году бацилла попала в кипчакское войско, осаждавшее Каффу, и степняки посчитали болезнь за особенно жестокое проявление божественного гнева. Как писал хронист и очевидец чумы Габриэль де Мюсси: «Татары умирали, как только признаки болезни проявлялись у них на теле: вздутия под мышками и в паху, вызванные скоплением жидкостей, а затем гнилая лихорадка».{235}
Свирепая эпидемия, распространяясь среди осаждающих Каффу, вскоре вынудила войска снять осаду, но прежде они совершили самое страшное в истории применение биологического оружия. Снова читаем у де Мюсси:
Умирающие татары, изможденные и оцепеневшие от того разорения, что принесла им болезнь, решив, что надежды на спасения у них не осталось, потеряли интерес к осаде. Зато они велели заряжать катапульты мертвыми телами и забрасывать трупы в город, надеясь, что невыносимый смрад их погубит всех, кто остался внутри стен. Казалось, в город забросили целые горы трупов… Смрад стоял такой головокружительный, что едва ли один из тысячи смог устоять и не бежать от остатков татарского войска.{236}
Возможно, эта биологическая атака была жестом отчаяния, а может быть, «татары» (монголы и их союзники) — лучшие инженеры, специалисты по катапультам — просто решили, что их машины — самый удобный способ убрать тела. Скоро тысячи защитников Каффы постигла такая же участь, а через несколько месяцев Черная смерть перекинулась в Европу и на Средний Восток.
Трудно усомниться в том, что, прибыв в Каффу, дальше чума распространялась благодаря торговле. Среди немногих выживших в Каффе были моряки, которые отправились домой в портовые города Италии. И снова на кораблях оказались маленькие безбилетники — черные крысы, которые по канатам выбрались на берег и принесли бациллы на пристани Европы, запустив механизм страшной катастрофы Средневековья.{237} Францисканский монах Микеле да Пьяцца описал момент прихода Черной смерти в Италию:
В октябре 1347 года, в начале месяца, 12 генуэзских галер, бежавших от священной кары, которую Господь наш наслал на них за грехи, вошли в порт Мессины. Генуэзцы привезли на своем теле такую болезнь, что если кто даже разговаривал с ними слишком долго, то заражался гибельной болезнью и не мог спастись от смерти. С ними умирал и всякий, кто приобретал или трогал руками вещи, им принадлежавшие.{238}
Как только зараженное судно привозило чуму в порт, болезнь двигалась дальше. Заражался город, выжившие бежали и разносили заразу еще дальше. Как пишет да Пьяцца, «мессинцы вызывали такой страх и отвращение, что никто не желал говорить с ними или находиться с ними рядом, но все, едва завидев их, бежали, стараясь задержать дыхание».{239},[21]
На этот раз — в 1347 году — Европа для бациллы оказалась более гостеприимной, чем во времена Юстиниана. С побережья Средиземного моря в глубь материка вели проторенные торговые пути, надежные, оживленные и разветвленные, и от порта к порту зараженные крысы доставлялись быстрее и регулярнее, чем за семь веков до этого.
В 1291 году, за полстолетия до вспышки чумы, испанская флотилия под командованием генуэзца Бенедетто Дзаккарии разбила у Гибралтара флот мавров и впервые со времен мусульманских завоеваний в Испании открыла западный морской путь.{240} Это позволило «чумным судам» идти открывшимся путем прямо в Атлантику и нести гибель на север Европы.
Если в VI—VII веках черная крыса нечасто встречалась в Восточном Средиземноморье, то в 1346 году зараженные животные высаживались на берег, и их приветствовали многочисленные собратья, передавая инфекцию грызунам европейского резервуара. К этому времени черная крыса встречалась повсеместно, и после первой вспышки болезни на протяжении долгих столетий этот зверь стоял у истоков новых и новых волн эпидемий. Кроме того, болезнь разносили посуху животные, забравшиеся в тюки с товаром. Вероятно, вместе с купцами легочная форма инфекции путешествовала по материку со скоростью от одной до пяти миль в день.{241}
В 1347-1350 годах зараза медленно и неуклонно ползла из Италии на север. Как показано на карте, она продвигалась морем и сушей, обычными путями доставки товаров, но морем быстрее, чем сушей. Некоторые маленькие поселения вымерли полностью, хотя многие более крупные города беда почти не затронула. По самым основательным подсчетам, за эти годы погиб каждый четвертый или даже каждый третий европеец. Хотя первая вспышка закончилась к 1350 году, новые возникали на протяжении десятилетий. Промежутки между ними становились все больше, как это было и после «Юстиниановой чумы». Во время эпидемии 1575-1577, а затем 1630-1631 годов Венеция потеряла третью часть жителей.{242}
Ни одна катастрофа ни до этого, ни после не потрясла Европу в такой степени. Беда, несомненно, приходила с моря — и знать, и простые люди полагали, что моря и порты кишат купеческими судами со смертоносным грузом. Даже в таких сухопутных городах, как Авиньон, к свежеприбывшему грузу пряностей никто не притрагивался, боясь заразиться. Однако европейцы ничего не знали о том, что болезнь может переноситься блохами (когда-то этот механизм передачи ввел в заблуждение Прокопия). Де Мюсси описал любопытную историю о четырех генуэзских солдатах, которые ради наживы покинули на время свою часть. Они «отправились на побережье, в Ривароло, все население которого погубила болезнь… Взломав один из домов, они похитили шерстяное покрывало, которое нашли на кровати. Затем они вернулись в часть, и ночью все четверо укрылись ворованной тканью. Утром их нашли мертвыми. Поднялась паника, и с тех пор никто не решался пользоваться вещами или одеждой умерших».{243}
Правильный вывод, поскольку краденые вещи, почти наверняка, изобиловали зараженными блохами. Когда эпидемия в Италии начиналась, в еще нетронутые болезнью города прибывали вестники и рассказывали остолбеневшим от ужаса жителям, что волна смерти медленно движется в их сторону. Однако скорость этой волны была высока, и многие считали ее предвестием конца света. После того как первая волна пронеслась, простое осознание того, что некоторые сумели ее пережить, помогало перенести и последующие, хотя они были и не слабее первой.{244}
В Средние века незнание того, как передается болезнь, погубило десятки миллионов европейцев, азиатов и африканцев, которые могли бы спастись, знай они, что для этого нужно делать. Недостаток научных знаний раздувал огонь антисемитизма, обрекая евреев на участь, пожалуй, еще худшую, чем даже болезнь. Ходили слухи о заражении колодцев. Глубока была дедовская вера в наказание за грехи — телесные и духовные, — в дурной глаз и «миазмы». Но глубже всех предрассудков укоренился слух о том, что евреи отравили колодцы. Этот навет сеял среди христиан панику. В результате, тысячи ложно обвиненных евреев под пытками признавались в этом вымышленном преступлении, после чего их сжигали заживо или колесовали. Свидетельство, которое оставил просвещенный немецкий священник Генрих Трухесс, дает представление о смертельной истерии того времени.
* * *
4 января [1349 года] жители Констанца заперли евреев в двух их же домах и сожгли их числом 330… Некоторые горожане танцевали при свете пламени, другие пели, остальные плакали. Евреев запирали и сожгли в доме, нарочно для этого построенном. 12 января в Бухене и 17 января в Базеле евреев сожгли, детей у них отняли и крестили.
В том же духе Трухесс продолжает еще несколько абзацев, рассказывая о почти одинаковой жестокости в крупных и малых городах, а под конец делает вывод: «Итак, за один год… были сожжены все евреи между Кельном и Австрией. В Австрии их ожидает та же участь, потому что они прокляты богом».{245}
Как случилось с австралийской популяцией кроликов, зараженной в 1950 году вирусом миксомы, население Европы, пораженное Черной смертью, на протяжении пяти поколений — примерно 125-150 лет — оставалось минимальным, пока горстка людей, имевших иммунитет к болезни, не смогла противопоставить скорость деторождения ярости темного жнеца. В Британии, по которой мы имеем самые точные демографические данные за этот период, население снизилось более чем наполовину — с 5,5 миллиона человек в 1335 году, как раз перед чумой, до 2,1 миллиона в 1455 году.
Рис. 6-1 показывает падение и восстановление численности населения Англии. Обратите внимание, что с начала первой эпидемии прошло четыре с половиной столетия, прежде чем этот показатель вернулся к прежнему уровню.
Рис. 6-1. Население средневековой Англии
Последняя эпидемия чумы в Западной Европе случилась в 1720 году в Марселе. Россию и Османскую империю трясло еще в XIX веке, а в начале XX века страшный мор погубил тысячи человек в Китае. Перед самым приходом Черной смерти население Европы составляло около пятидесяти миллионов человек. Значит, во время первой вспышки погибло 12-15 миллионов и, вероятно, намного больше в следующем столетии, когда смертность — волна за волной — превышала рождаемость.
* * *
Но даже эта страшнейшая катастрофа Европы — лишь малая часть истории. Если культурные и демографические сведения о Европе времен Черной смерти неполны, то для Средней Азии и Дальнего Востока их почти нет вовсе. У арабов, индийцев и китайцев нет «Декамерона». Зато врачебная практика средневекового мусульманского мира далеко превосходила европейскую. Арабские и индийские врачи оставили множество ценных записей, несомненно рассказывавших о массовом распространении чумной палочки на Востоке сразу же после того, как мор прокатился по Европе.{246} В середине XIV века на Востоке жило примерно в пять раз больше людей, чем в Европе, и это наводит на мысль, что там чума могла унести целых сто миллионов жизней.
Быстрее всего болезнь распространялась на лошадиных шкурах и в корабельных трюмах. Таким образом, очаги болезни разгорелись там, где был контакт с Индийским океаном и степями Азии. Известно, например, что чума особенно свирепствовала в портовых городах, таких как Брюгге и Генуя. После первой вспышки в 1348 году Венеция потеряла около 60% населения. Крупные усовершенствования, которые постоянно проводились в порту до эпидемии, прекратились более чем на столетие.{247}
Некоторое представление о том, что творилось в восточных портах, можно получить, прочитав о событиях на Кипре, подробно описанных в хрониках. На этом преимущественно христианском острове, ставшем центром средиземноморской торговли, имелось значительное мусульманское меньшинство. Эпидемия, разразившись в 1348 году, перед тем, как унести жизни людей, погубила на Кипре животных. На острове погибло и бежало с него столько христиан, что оставшиеся испугались, что мусульмане возьмут власть в свои руки. В страхе они собрали всех мусульманских пленников и рабов и за несколько часов перебили их. За неделю умерло трое из четырех правителей Кипра. Четвертый бежал, но спустя день скончался на корабле почти со всеми своими спутниками.
Другая торговая галера, вероятно одна из сотен, прибывшая из неведомых краев на Родос, насчитывала целых 13 купцов. Когда она прибыла затем на Кипр, в живых оставалось лишь четверо. Обнаружив, что остров опустел, они направились в Триполи (современная Ливия), где понарассказывали изумленным местным жителям фантастических историй.{248} Европейские хронисты, пораженные масштабами катастрофы, происходящей вокруг, не подозревали, что в это же самое время такая же беда творится и на Востоке. Исключение составляет только Габриэль де Мюсси:
Разгул смерти и тот вид, который она принимала, повергал в слезы и жалобы тех, кто застал эти страшные события 1346— 1348 годов: китайцев, индийцев, персов, мидян, курдов, армян, киликийцев, грузин, жителей Междуречья, нубийцев, эфиопов, турок, египтян. Беда охватила почти весь Восток. Люди думали, что настал Последний Суд.{249}
Де Мюсси подсчитал, что за три месяца 1348 года погибло более 480 000 жителей Багдада при том, что в самом крупном городе Европы —Париже —проживало всего 185 000 человек. Может быть, в этом случае де Мюсси преувеличивает. Он пишет также, что в Китае «с неба обильным дождем сыпались змеи и жабы, у людей начали появляться нарывы, и многих погубили».{250} В Египет с торговых галер пришла та же жестокая чума, что опустошила Кипр. Корабль, пришедший, скорее всего, из одного из охваченных заразой черноморских портов, привез сотни мамлюков. Они сошли на пристань Александрии, а с ними сорок человек команды, четверо купцов и всего один солдат-раб. Вскоре после высадки все они умерли.{251}
Болезнь путешествовала на запад из мусульманских портов Северной Африки, добираясь до Марокко и Испании Омейядов. Среди прочих она погубила мать ибн-Баттуты (в 1349 году). Особенно сильно пострадал Тунис. Мусульманских врачей очень удивляло, почему бедуины, жившие в шатрах, заражаются редко. Из всех ученых мира только мусульмане сумели сделать верный вывод о том, что это заболевание вызвано инфекцией, а не божественной карой, не оскверненным воздухом, не дурным глазом и не злым умыслом отравителей-неверных.{252}
К этому времени у арабов, особенно в Египте Мамлюков, уже сформировались прочные исторические (хотя и ненаучные) традиции. Там мы находим богатейшие за пределами Европы источники информации о воздействии инфекции. Чума прибыла в Александрию почти в то же время, когда она появилась на берегах Италии. Похоже, Египет больше пострадал от легочной формы заболевания, в течение 18 месяцев распространявшегося на юг по долине Нила. В то время среди богатых египтян были в моде русские меха. Оказалось, что в жарком климате это не только странная роскошь, но и прекрасный рассадник блох.{253}
По пути хаджа инфекция проделала из Египта путь на юг. Понятно, что следующим ее пристанищем стала Джидда — порт Мекки, а затем и сама Мекка. Мор в святом городе поверг в замешательство мусульманских теологов, потому как считалось, что Пророк обещал, что город защищен от чумы. Тот факт, что Медина убереглась от эпидемии, объяснили тем, что в Мекке собралось много неверных и Аллах решил покарать за это.
Хотя смертность от чумы в Египте Мамлюков была примерно такой же, как в Европе, эпидемия имела более далеко идущие последствия. После первой вспышки чумы в 1348 году местное население почти полностью приобрело иммунитет к этой болезни. В период 1441-1541 годов произошло не менее четырнадцати вспышек — приблизительно по одной на каждые семь лет. В этот период иммунитета не имели три группы населения: маленькие дети, подростки и недавно приехавшие с Кавказа рабы-солдаты. Последняя группа считалась самым важным ресурсом правящего режима. В тесноте тренировочных лагерей смертность была очень высока. Современники писали, что «мамлюков умирает столько, что не сосчитать», и что «казармы в крепости опустели, потому что мамлюки султана поумирали».{254} Учитывая, что эти элитные части редко превышали несколько тысяч человек, потери были катастрофическими:
Смерть свирепствовала среди мамлюков, живших в казармах. В эту эпидемию их умерло около тысячи. Кроме того умерло 160 рабов-евнухов, более 160 девочек-рабынь султана да еще 17 наложниц и 17 детей мужского и женского пола.{255}
Таким образом, чума забирала самых сильных воинов, закупленных султаном, и щадила более старых, получивших свободу из рук предыдущего правителя и обязанных ему. Верные предпосылки к политической нестабильности.
Помимо того что чума лишала Египет военной силы, страна теряла человеческий и денежный капитал. Зажиточные купцы-карими, проводившие жизнь на складах и базарах, где толпились верблюды и кишели крысы, пострадали особенно сильно и стали легкой добычей для султана Барсбая в 1428 году.
Бацилла оказалась губительна не только для блох, грызунов и людей, но и для многих животных. В Европе и на Среднем Востоке земля была усеяна трупами птиц, домашних животных и даже диких хищников, тела которых покрывали характерные бубоны. Коровы и верблюды умирали в страшных количествах, убытки превышали все мыслимые пределы. В Бильбейсе — крупном караван-сарае между Каиром и Палестиной — помимо большинства горожан погибли почти все верблюды султана.
Европейские крестьяне, которым посчастливилось пережить Черную смерть, могли хотя бы уйти в лес и начать все с нуля. В Египте такой возможности не было — там всего в нескольких милях от берегов Нила простиралась бескрайняя пустыня. Очевидцы упоминают о совершенно опустевших египетских городах. С тех пор Египет уже никогда не вернул даже тень былого могущества и богатства. Перед началом эпидемии его население составляло, вероятно, около восьми миллионов человек. Генералы Наполеона, которые вошли в Египет в 1789 году, оценивали его население всего в три миллиона. Недавно один авторитетный источник указывал, что в начале современной эпохи численность населения Египта находилась на том же уровне, что и во времена Христа.[22]
Экономическая статистика подтверждает масштабы ущерба. До начала эпидемии правительство собирало 9,5 миллиона динаров налога. Ко времени османского завоевания в 1517 году налоги составляли 1,8 миллиона динаров. В 1394 году, почти через полстолетия после первой эпидемии, в Александрии еще работало 13 000 ткачей. Еще через полстолетия их оставалось всего 800.{256}
Монголы, которые первыми из людей подверглись болезни, тоже не смогли восстановить свое могущество. В 1368 году династия Мин взбунтовалась против ослабленных чумой властелинов степей и заявила о своих правах. После смерти Тамерлана в 1405 году набеги воинственных всадников на цивилизованных соседей-аграриев стали менее яростными, а вскоре и вовсе сошли на нет. Когда исчезли ханства, степь вернулась к древнему, гоббсовскому[23] состоянию, а дороги в Китай, которыми пользовались Марко Поло, ибн-Баттута и целые поколения генуэзских купцов, исчезли. Это побудило жадных до пряностей европейцев искать другие пути на Восток.
Данные переписи населения, проводимой монголами и династией Мин, позволяют считать, что между 1330 и 1420 годами численность жителей Китая сократилась с 72-х до 51 миллиона человек. До настоящего времени, даже в период войны, микроб оказывался более смертоносным оружием, чем меч, поражая и военных, и мирное население, поэтому принято считать, что в период между этими двумя датами число китайцев сократилось из-за чумы. Сокращение налогов, собираемых с поредевшего населения стало не последней из причин, по которым флот Поднебесной исчез из Индийского океана после плаванья адмирала-евнуха Чжэна Хэ в 1433 году.
Египетская торговля и промышленная структура оказались разрушены почти повсеместно, монголы исчезли с мировой сцены, а Китай ушел из Индийского океана. Все это породило пустоту, которую с готовностью заняла Европа — последний устоявший, хотя и с трудом, игрок. Чумная палочка, которая помогла проложить путь мусульманам к власти над Византией и Персидской империей в VI—VII веках, обрекла ислам на поражение в XIV-XV веках.
* * *
До нашей эры торговля не была ни быстрой, ни прямой настолько, чтобы позволить отдельным резервуарам заболеваний в Азии, Европе и Африке соприкоснуться. От цивилизации чуму отделяло пространство и время, изолировав ее на вероятной ее родине, в предгорьях Гималаев, точно так же, как оспа и корь были запечатаны в землях Плодородного Полумесяца, где они появились. В эпоху Рима и империи Хань, когда возникла дальняя торговля, и позже при власти мусульман и монголов эти болезни обрушились на не привычные к ним, незащищенные народы. За последующие полторы тысячи лет далекие резервуары заболеваний Старого Света перемешались, иммунитет приобрели и европейцы, и азиаты. Первые европейские переселенцы в Новый Свет даже представить себе не могли, какую катастрофу для местного населения они несут вместе со своими микроскопическими попутчиками. Выражаясь словами Уильяма Макнила о начале эпохи открытий, «Европа, в плане человеческих инфекций, могла многое предложить, но кое-что могла и приобрести».{257}
Но и это еще не вся история. Великий пожар 1666 года в Лондоне сыграл ключевую роль в окончании чумы. Кирпичные дома, сменившие старые деревянные постройки, оказались менее гостеприимными для крыс, а блохам гораздо менее удобно оказалось прыгать на горожан с новых черепичных крыш, нежели со старых, соломенных. По мере того как в Западной Европе становилось меньше леса, все больше в обиход входил кирпич. Расстояние от крысы до человека увеличивалось, болезнь передавалась все хуже. К XX веку санитарные нормы и антибиотики добавили еще один слой к защите человечества от огромных подземных резервуаров смертельного патогена.
Взаимодействие между торговлей и болезнью работает в обоих направлениях. Если торговля раздувала пламя эпидемий, то и вспышки заболеваний меняли устоявшиеся веками нормы торговли. Пожалуй, самое глубокое мнение о влиянии Черной смерти на пути мировой торговли предложено великим арабским историком XIV века ибн-Хальдуном:
В середине [XIV] века в обитаемый мир на Востоке и на Западе пришла опустошительная чума, которая низвергла государства и вызвала гибель их населения. Она поглотила и уничтожила множество полезных достижений. Многие почтенные династии были побеждены ею… Города и постройки оказались заброшены, дороги и придорожные знаки исчезли, поселения и дворцы опустели, династии и племена лишились силы… На Востоке чума прошла тем же образом, но сообразно его богатству. Как если бы глас сущий воззвал в мире к забвению и положению предела, и мир откликнулся на этот зов.{258}
С XIV по XVI век на планете бесновались фурии, с дьявольской хитростью опустошая ее при помощи инструментов торговли и самых развитых торговых сообществ: великих мусульманских цивилизаций Среднего Востока и торговых городов Индии и Китая, которые так поразили Марко Поло и ибн-Баттуту. Европа тоже пострадала, но там выжившие, влекомые страшным сочетанием навеянной религией жестокости и гениальной расчетливости, за несколько столетий сумели утвердить господство современной западной торговли.
ГЛАВА 7. ПРОРЫВ ВАСКО ДА ГАМЫ
Васко да Гама, благородный человек из числа ваших подданных, прибыл в мою страну, где был мною принят. Моя страна богата корицей, гвоздикой, перцем, имбирем и драгоценными камнями. В обмен на эти товары я хотел бы от вас золота, серебра, кораллов и алых тканей.
Письмо заморина Каликута королю Португалии, 1498 год[25]В этом [1503] году корабли франков появились на морском пути в Индию, Ормуз и другие края. Они захватили около семи кораблей, убили тех, кто был на борту, но некоторых пленили. Таков был их первый поступок, и пусть бог их накажет.
Омар аль-Таиб Ба Факих, йеменский историк{258}Где-то приблизительно в 1440 году венецианский купец Николо де Конти отправился в Рим просить аудиенции у папы Евгения IV. Во время поездки на Восток он совершил тяжкий грех — когда его вместе со всей семьей захватили мусульмане и грозили убить, он принял ислам. Вскоре жена и двое детей умерли от чумы, а невольный отступник отправился в Ватикан молить об отпущении грехов.
Купцу повезло — святой отец испытывал слабость к напиткам с корицей. Не слыхал ли купец в своих странствиях, где ее добывают?
Конечно, слыхал. Отпущение даровано! По возвращении домой де Конти должен подробно продиктовать свои наблюдения папскому секретарю, знаменитому блистательному писателю-гуманисту Джанфренческо Поджо Браччолини.
Рассказ де Конти прекрасно совпадал с повествованием Марко Поло, а кое в чем и превосходил его, и папа счел купца человеком образованным и умным. К примеру, де Конти более точно указал расстояния и время в пути, чем его прославленный земляк столетием раньше. Да, он видел те коричные деревья Шри-Ланки, о которых рассказывал восхищенному секретарю. Более того, он видел на Суматре поля, где растут перец и камфора. Затем он плыл на восток целый месяц, пока ветер не стих совсем, и добрался до острова Сандай, где растут мускат и мацис, а потом до острова Банбан, заросшего гвоздичными деревьями. Можно себе представить, как обрадовался секретарь — похоже, венецианец обнаружил легендарные Острова Пряностей.[24]
Был ли де Конти первым европейцем, добравшимся до этих сказочных берегов? Почти наверняка нет. Представьте себя на месте средневекового европейского купца, который получил доступ к безграничным запасам самого дорогого в мире товара. Вряд ли вы первым делом станете рассказывать о дороге туда, если вы вообще расскажете.
* * *
Хотя в основу крестовых походов ставились некоммерческие цели (если не говорить о венецианцах и генуэзцах), но скоро христиане осознали, что торговля пряностями, которой заправляли мусульмане, может стать золотым дном. Во время похода на Святую землю крестоносцы перегородили караванные пути между Египтом и Сирией вереницей крепостей, протянувшейся от Средиземного моря до северо-восточного края Акабского залива Красного моря. В 1183 году в самом Красном море Рено де Шатийон предпринял ряд морских набегов на арабов. Исламский мир забеспокоился, что неверные могут пройти через этот морской коридор, который прежде считался исключительно мусульманским владением. Египтяне собрали силы и отогнали Рено де Шатийона на север.
В 1249 году события при Думьяте, в дельте Нила, показали, какое значение торговля пряностями имела для мусульман.
В этом году силы крестоносцев захватили город, и так страшна была эта потеря для Египта Айюбидов, что взамен христианам предложили Иерусалим. Но предложение отклонили.{260} Когда дело касалось торговли пряностями, мусульмане и христиане при выборе между богом и мамоной равно предпочитали мамону.
В XV-XVI веках перед европейцами на Востоке появилась еще одна задача — отыскать в Азии союзника против сарацинов. Две эти цели — поиск пряностей и союзника в войне за Крест Господень — неразделимо слились в сознании первых иберийских исследователей. Их мотивы не понять, если не вспомнить странную историю о мифическом пресвитере Иоанне.
Хотя это имя звучало на устах миллионов, кроме имени об этом человеке знали немногое. Особенно загадочным представлялось нахождение его царства — знали только, что оно где-то «в Индиях». В Средние века это могло означать Египет, или Японию, или что-то между ними. До сих пор медиевисты спорят, когда, где и как появился на свет этот загадочный образ. К XII веку в руках крестоносцев оказалась почти вся Святая земля, но ее окружали яростные армии мусульман, и приходилось хвататься за любую соломинку. В 1141 году Елюй Даши — монгольский вождь, независимый в религиозном смысле кочевник — разгромил у Самарканда мусульманскую армию. Поскольку этот город находился далеко за горизонтом европейских представлений о географии, неудивительно, что новости о победе над мусульманами, достигнув европейских ушей, безнадежно исказились: христианский царь прибыл из Индий и покорил неверных.{261} Скоро он нападет на них с востока и спасет от угрозы аванпост христианства в Святой земле.
Три года спустя, в 1144 году, впервые с начала крестовых походов перед мусульманами пало крупное христианское государство, Эдесса (оно находилось там, где сейчас проходит граница между Турцией и Сирией). Победители перерезали христиан Эдессы, и западный мир содрогнулся. Французский епископ по имени Гуго из прибрежного города Джебла, который теперь находится в Сирии, поспешил в Европу за помощью с нехитрым посланием. Да, пресвитер Иоанн действительно существует, и он уже нападает на сарацинов. К несчастью, он не смог перейти реку Тигр — против его ожиданий, река не замерзла, а лодки не готовы. Согласно епископу Гуго, «он прямой потомок волхвов… Он собирался в Иерусалим, но ему помешали».{262} Послание Гуго европейским братьям говорило совершенно определенно, что спасительный пресвитер Иоанн НЕ в пути. Присылайте помощь, и побыстрее.
Спустя несколько лет после падения Эдессы византийскому императору Мануилу Комнину из неведомых краев пришло письмо, как считалось написанное пресвитером Иоанном. В нем говорилось о богатстве и размерах царства Иоанна и о доблести его жителей: «Я, пресвитер Иоанн, верховный правитель, имею в достатке богатства и доблести и повелеваю всеми созданиями, живущими под небом. 72 царства приносят мне дань».{263} Но больше всего похвалялся пресвитер знатностью своей прислуги:
Каждый месяц мне за столом прислуживает семеро царей, каждый в свой черед, 62 герцога и 365 графов, не считая тех, кто оказывает нам прочие услуги. Каждый день в нашем зале обедает 20 архиепископов по правую руку от нас и 20 епископов по левую руку… Если можете вы счесть звезды на небе и песчинки в море, сможете судить и о изобилии нашего царства и численности нашей силы.{264}
Естественно, письмо было фальшивкой, судя по стилю и содержанию, наверняка составленной европейцем, личность и мотивы которого остались неизвестны. В последующие 400 лет западных правителей и изыскателей влекли два священных грааля: пресвитер Иоанн, который избавит их от сарацинов, и пряности, которые сделают их богатства несметными.
* * *
Пока мусульмане курсировали по главным торговым путям через Индийский океан, Красное море и Персидский залив, европейцы только и думали, как бы найти свой путь на восточные рынки. Среди азиатских государств самую оживленную торговлю с Западом вели Аден, Ормуз, Камбей, Каликут, Ачех и Малакка (расположенные, соответственно, в современных Йемене, Иране, Индии, Индонезии и на Суматре). Ни одно из этих государств не имело флота, пригодного для дальних плаваний. Зато их торговля была отлично поставлена, что и позволяло им обогащаться. Слишком продажные таможенники? Правитель требует слишком много подарков? Или наоборот, берет слишком низкий налог, чтобы оплачивать борьбу с пиратами? Слишком ограничивают самостоятельность иностранных торговцев, так что они не могут вести собственные дела? Купец не мог запросто решить эти проблемы, отправившись в другой, более дружественный порт. Не обходилось и без продажности, и без жестокости — это же как-никак средневековая Азия. Оставалось только сдерживать досаду.
Тысячелетием раньше, когда по всем морям рыскали пираты, в Индийском океане, в отличие от Средиземного моря, никто не трогал крупные торговые суда, которые могли дать отпор. Привыкшие к безопасности в море, корабли азиатских стран ходили почти невооруженными — это позволяло брать больше груза и меньше людей для охраны. Так что пушечный выстрел с палубы азиатского торгового корабля мог скорее погубить сам корабль, чем потопить цель.
До прихода европейцев азиатская торговля вовсе не была раем. Но если заплатить пошлину, приберечь подарки для местного султана и уберечься от пиратов в заливе, то Индийский океан более-менее мог считаться mare liberum, свободным морем. Мысль о том, что какое-нибудь государство может взять под контроль все морские пути, казалась смехотворной как для купцов, так и для правителей.{265} И вся эта система рухнула в тот злосчастный день 1498 года, когда вооруженный до зубов Васко да Гама вошел в гавань Каликута.
* * *
В конце XV столетия европейцы могли попасть в Индийский океан только тремя способами: прямо через Суэц и Персидский залив, вокруг южной оконечности Африки или через западный неизведанный путь. Первыми из известных нам европейцев один из этих маршрутов опробовали два брата-генуэзца, Вадино и Уголино Вивальди. В 1291 году всего через несколько месяцев после того, как их соотечественник Дзаккария отбил у мавров Гибралтар, они отправились в открытую Атлантику на поиски Индии. Больше о них ничего не известно. Историки так и не знают, собирались они обогнуть Африку или направлялись вокруг света. Как бы там ни было, эта экспедиция долго сдерживала итальянцев, которые годами тщетно ждали их возвращения. Говорят, тайна братьев Вивальди сподвигла Данте на рассказ Улисса о том, как он плыл мимо Геркулесовых Столпов.{266}
Не случайно в Атлантику на поиски Индии первыми вышли именно генуэзцы. Проиграв венецианцам битву за торговлю пряностями, генуэзцы направили свои силы на перевозку по Средиземному и Черному морям более дешевых товаров: минералов, таких как соль и квасцы, леса, продуктов сельского хозяйства и, конечно, рабов. Для перевозки грузов парусные суда с круглым корпусом подходили лучше всего. И именно такие суда лучше всего годились для дальних плаваний первооткрывателей.{267}
Даже приезжий, случайно оказавшийся в Генуе, заметит, что город почти отрезан от материка неприступными прибрежными горами. В ту эпоху, когда железных дорог и асфальта еще не было, почти любой товар попадал в город и покидал его по морю. Вместо телег, запряженных лошадьми или мулами, местные торговцы и производители держали маленькие суденышки под треугольным парусом, чтобы ходить на них за продуктами и товарами. Нигде сухопутный житель не превращался в моряка так легко, как в Генуе.
К XV веку слава торговой империи уже покидала Геную и восходила над Португалией, западным ломтиком Иберийского полуострова, где, по словам историка Джона Г. Плама, «жизнь отчаянно дешева, смерть отчаянно реальна, а бедность так велика, что богатство и роскошь дразнят воображение, разжигают безумную жажду обладания».{268} Именно португальцы разработают такие технологии, которые позволят европейцам попасть в Индийский океан. В эту брешь устремится жадный волк Запада, и скоро в Лиссабон со всех стран хлынет голодная талантливая и грубая молодежь, которая и станет авангардом в этом наступлении.
Португальцы изгнали мавров еще в середине XIII века, на двести с лишним лет раньше, чем это сделали испанцы. После яростной борьбы за престол и против испанского вторжения в конце XIV века страна смогла объединиться и в 1385 году, с восшествием на трон Жуана Ависского (короля Жуана I) и его невесты-англичанки Филиппы, достигла независимости. Счастливый брак принес плоды: союз Англии с Португалией — самый долговечный в истории союз между государствами — и пятерых смышленых и доблестных сыновей.
Для мирной жизни Португалия оказалась не приспособлена, так что в 1415 году королевская чета отправила троих своих отпрысков отвоевывать у мавров портовый город Сеуту, расположенный на другом берегу Гибралтарского пролива. Филиппа сама придумала устроить это нападение как подготовку к кампании против мусульман и прорыву в Индийский океан — конечный пункт португальского караванного пути через Сахару к Индиям. А то что Сеута была еще и конечным пунктом караванных путей для перевозки золота и рабов из глубины Африки, рассматривалось как бонус. Тем больший ущерб будет нанесен ненавистным маврам, если город будет захвачен.
Когда младший из сыновей, инфант дом Энрике, увидел пустыню, простиравшуюся за Сеутой, он сразу понял, что мамин план — затея пустая. И хотя Энрике принимал участие в последующих походах в Северную Африку, вернувшись в Португалию, он стал губернатором южной провинции Алгарве и посвятил себя поиску южного пути вокруг Африки.{269}
Прошло почти две тысячи лет, как умер Птолемей, провозгласивший, что Африка простирается до самой Антарктиды и обогнуть ее невозможно. Это утверждение все еще считалось верным, но Энрике считал иначе. Сидя в своем замке, на мысе Санвинсент, продуваемом всеми ветрами юго-западном краешке Европы, Энрике, который позже вошел в историю как принц Генрих Мореплаватель, превратился в величайшего в Европе покровителя мореходства. Со своего парапета он наблюдал, как самые первые иберийские исследователи отплывают к западному побережью Африки, как отбывают колонисты на Азорские острова — самую западную на то время землю, лежащую всего в 1200 милях от Ньюфаундленда. Принц оказывал поддержку картографам любой национальности и собрал величайшую в мире коллекцию морских карт.
В то время португальские моряки, при поддержке принца, разработали новый тип корабля с круглым корпусом, с латинской парусной оснасткой — каравеллу. Этот корабль позволял идти круче к ветру, чем любое другое европейское судно. Без каравеллы португальцы не смогли бы спуститься вдоль африканского побережья и добраться до Индий.
Прежде чем браться за главную задачу — обход вокруг Африки, — каравеллы послужили целям более близким. Они увеличили скорость доставки и объем грузов, которые португальские купцы везли туда, где их можно было поменять на главные товары Африки — золото и рабов. Прежде всего — в мусульманские порты Северной Африки, у которых кончались караванные пути через Сахару. Португальцы еще не могли добраться до источников африканского золота, до мест, где сейчас находятся Мали и верховья рек Нигер и Вольта. Но они проникали уже далеко в глубь континента, в такие торговые города, как сказочный Тимбукту, где золото покупалось дешево, потом его везли вниз по рекам и ожидали, когда за ним придут каравеллы.{270}
К 1460 году, в котором скончался принц Энрике, суда под его патронажем доходили уже до побережья экваториальной Африки, но южного пути в Индийский океан еще не нашли. Многие усомнились в том, что можно осуществить мечту Энрике — попасть на Восток, обогнув Африку с юга. При дворе стало модным говорить о другом плане, о переходе на Восток через Африку. В 1486 году в стране, которая сейчас называется Нигерией, торговцы услышали странную историю о сказочно богатом правителе по имени Огане, царство которого начинается в двадцати лунах пути (около 1000 миль) от берега на восток. Этот царь всегда прячется за шелковыми завесами, на приемах можно увидеть только одну его стопу, выступающую из-под ткани — совсем как пресвитер Иоанн, который никогда не показывал лица. Больше трех веков прошло с тех пор, как византийский император Эмануил Комнин получил хвастливое фальшивое письмо, подписанное мифическим царем. Португальцы же, показывая полное пренебрежение к законам биологии, объявили, что нашли наконец пресвитера. Они снова решили проложить дорогу сквозь Африку.
Король Жуан II снарядил двоих самых способных своих помощников, которых звали Перу да Ковильян и Афонсу де Паива, в Абиссинию, где, как рассчитали королевские географы, находилось царство Огане или пресвитера Иоанна. Им следовало договориться с правителем о монополии на торговлю пряностями. Под видом купцов оба посланника отплыли по Средиземному морю в Египет. Там они разделились. Паива направился в Абиссинию, а Ковильян — в Индию. Они договорились встретиться через три года в Каире.
Через несколько лет Паива вернулся в Каир из неведомых стран и вскоре скончался от болезни. За это время он ни с кем не сумел связаться. Где он был, какие земли открыл — по сей день остается тайной. Ковильян, исходивший вдоль и поперек все Малабарское побережье, тоже вернулся в Каир. Узнав о смерти Паивы, он решил возвращаться домой один, но возвращение пришлось отложить. Его ожидали двое португальских евреев, посланники Жуана II. Ковильяну объяснили, как важно королю договориться с пресвитером Иоанном, и неважно, кто этот договор заключит, Паива или Ковильян. Что ж, пришлось Ковильяну самому отправляться в Абиссинию.
Ему тоже не суждено было вернуться домой. Обрив голову и выдавая себя за мусульманина, он стал одним из немногих европейцев, посетивших Мекку. Затем в 1493 году он добрался до Абиссинии, где наладил торговые отношения Португалии с местным правителем, царем Александром. Через год царь умер, а его брату, занявшему трон, так понравился необычный европейский посол, что он держал его как знатного пленника. Ковильян спокойно прожил при дворе африканского правителя несколько десятков лет и умер, окруженный большим почетом и многочисленными женами, но не нашел не малейшего следа пресвитера Иоанна, мысль о котором будоражила умы европейских монархов и исследователей.
До прибытия в Абиссинию и позже Ковильян отправлял к португальскому престолу письма с бесценными сведениями об Индии, о сделках индусских и мусульманских торговцев, о ветрах и течениях, о ценах на товары. Он ходил вдоль восточного побережья Африки и узнал от местных моряков, что Африку в самом деле можно обогнуть. В Португалии письмо с этими сведениями было передано Бартоломеу Диашу, который в 1487 году решил попытаться выйти в Индийский океан:
Если двигаться к югу, материк должен закончиться. Когда корабли выйдут в Индийский океан, пусть держат курс на Софалу и остров Луны. Там вы найдете лоцманов, которые доведут вас до Индии.{271}
К тому моменту Диаш уже сумел обогнуть мыс Доброй Надежды, поэтому другим португальским исследователям бесценные разведданные Ковильяна, наверное, просто не показали.
* * *
В 1451 году, примерно в то же время, когда престарелый принц Энрике отправил на юг последнюю свою экспедицию, в Генуе, в семье ткача, родился сын, которого история запомнит под именем Христофора Колумба. Наверное, юношу вдохновляли морские походы Генуи. Скорее всего, свое первое торговое путешествие он проделал в Эгейское море, на остров Хиос, где картель семейства Джустиниани контролировал производство мастиковой смолы. Жевательную смолу можно было выпускать только в дюжине городов южной части Хиоса. Из-за большой редкости ей приписывали целебные свойства, и монопольная торговля приносила хорошую прибыль.
К 1474 году, когда Колумб впервые съездил на Хиос, генуэзцев и венецианцев с Эгейских островов постепенно вытесняли турки-османы, за 20 лет до этого взявшие Константинополь. Генуэзцы искали счастья уже не на востоке, а на западе, и Колумб не стал исключением. Через год или два способный юноша стал матросом когга — средних размеров торгового судна с круглым корпусом, — возившего под охраной груз мастики в Лиссабон. У южного побережья Португалии на конвой напали бургундские пираты. Но разбойники жестоко просчитались. Взяв на абордаж генуэзские суда, они встретили яростное сопротивление. Разгорелся бой, с каждой стороны погибли сотни человек, сраженные мечом и поглощенные морем. Одна из версий этой истории, среди многих легенд вокруг имени Колумба, рассказывает, что молодой матрос, доблестно сражаясь в духе Индианы Джонса, покинул тонущий корабль и проплыл несколько миль до португальского берега, где его подобрали и вылечили в генуэзской колонии Лагуша, в Алгарве.
Потом он оказался в Лиссабоне, среди обширной генуэзской торговой диаспоры. Лучшей среды для подготовки к морским подвигам не найти! В лабиринте улиц Лиссабона, где смешивались языки, на которых говорили уроженцы разных стран, от Исландии до Гвинеи, и плыли запахи гвоздики, корицы и мирры, и водились знатоки, способные по этому запаху проведать, в каком порту пряности загружены на борт, — в этой среде можно было встретить кого угодно, от датского матроса до сенегальского принца.
Тем временем младший брат Колумба Бартоломе уже успел устроиться в Лиссабоне картографом, и целых десять лет Колумб учился у Бартоломе составлению карт и премудростям морского дела на португальских судах. За это время он ходил в море так далеко, как ни один моряк тех лет: на юг до африканского Золотого Берега (в современную Гану), на запад до Азорских островов, на север до Ирландии, а может быть и до Исландии.{272} Это очень необычно для средневекового матроса, нанятого за деньги, как для западного, так и для восточного. Почти наверняка Колумб возил, покупал и продавал свои товары.
Около 1480 года случились события, превратившие молодого моряка, картографа и торговца в легендарную фигуру. Как подобает всякому приличному торговцу, он счастливо женился. Жена, которую звали Филипа Перештрелу Мониш, происходила из преуспевающей семьи лиссабонских купцов, владевшей островом неподалеку от Мадейры, заселенном по указанию принца Генриха. Сам же Колумб уже знал латынь и португальский, освоил кастильский, математику, кораблестроение и астрономию. До того как приехать в Португалию, Колумб уже имел прочные связи с крупнейшими торговыми объединениями купцов Генуи, а брак с Филипой и богатый морской и торговый опыт открывали ему путь к королевскому двору.
В 1481 году умер Афонсу V, правивший более полувека. Трон наследовал его сын, дон Жуан II, внук Жуана I, протеже великого деда Энрике, и конечно, горячий поборник исследований Атлантики и Африки. Где-то около 1484 года Колумб вернулся из экваториальной Африки и представил новому королю ценный проект.
Как случается со многими знаменитостями, сведения о которых неполны, биография Колумба обросла многочисленными легендами, апокрифами и домыслами. Особенно известна история о том, как королева Изабелла заложила свои драгоценности, чтобы оплатить путешествие Колумба, а также история с яйцом.[25] Но ни одна из историй про Колумба не считается такой культовой, как его первенство в предположении о том, что земля круглая. Этот миф используется, чтобы объяснить, почему его план так долго отвергали разные европейские правители.
В Средние века ни один образованный человек не считал, будто земля плоская. Еще в 205 году до н. э. Эратосфен, грек из Александрии, высчитал, что земля имеет форму сферы, и даже вычислил ее размер с точностью, которую не могли превзойти почти две тысячи лет. Колумб даже не был первым, кто предложил добраться до Индий, отправившись на запад. Впервые трансатлантический путь в Индию был предложен еще в I веке н. э. греческим географом Страбоном, а может быть, еще раньше, Аристотелем. Некоторые историки считают, что братья Вивальди отправились на запад искать Острова Пряностей, руководствуясь советами Страбона. К концу XV века даже закоснелому Афонсу V стало понятно, что мечта дедушки Энрике о пути в Индию вокруг Африки может оказаться не самым лучшим решением.
Афонсу даже советовался со священником кафедрального собора Лиссабона о возможности пройти в Индию западным путем. Священник, в свою очередь, переадресовал вопрос известному флорентийскому врачу и картографу Паоло даль Поццо Тосканелли, который ответил из Флоренции, что да, от Лиссабона до Китая всего около пяти тысяч миль. Конечно, он ошибся, сильно недооценив расстояние.
При такой точности Колумб мог решить, что вычислить длину западного пути невозможно, но мы знаем, что он все-таки связался с Тосканелли, который написал, что одобряет намерение собрата-итальянца добраться туда, где растут пряности. Позже Колумб использовал это письменное одобрение, чтобы добиться финансирования своего предприятия.{273}
Как многие люди, одержимые одной идеей, Колумб чуть ли не каждый свой шаг посвятил ее достижению. Пригодность западного пути зависела от того, насколько он короткий. Хотя расстояние от Европы до Азии напрямую, конечно же, измерить не удавалось, его можно приблизительно оценить, зная окружность Земли. Например, сегодня известно, что расстояние на восток от Лиссабона до Малакки по прямой составляет приблизительно 7000 миль. Поскольку окружность Земли равна 25 000 миль, значит, расстояние на запад (по крайней мере по экватору) будет примерно 18 000 миль.
К несчастью для Колумба, географы уже сделали вычисления, из которых однозначно следовало, что расстояние слишком велико, чтобы человек мог пересечь его по морю и остаться в живых. К примеру, Птолемей посчитал, что Евразия тянется примерно на половину земного шара, так что западный путь должен составлять столько же, то есть 12 500 миль. Расчет оказался точным. Если бы путь не загораживала Америка, то от Лиссабона до Китая было бы около 12 000 миль, да еще 4000 миль до Индии. Даже при хорошей скорости в четыре узла плавание до Китая заняло бы четыре месяца. Ни один корабль не мог уместить запасов еды и воды на такое долгое путешествие. А еще нужно вспомнить, что задолго до того, как кончались запасы еды и воды, команда начинала страдать от цинги. Не встреть Колумб на своем пути Америку, он пропал бы со всеми людьми, как братья Вивальди.
Увидев такие неутешительные расчеты, Колумб повел себя как все истинно верующие, от апостола Павла до Джорджа Буша младшего, заявив: «Вздор!»[26] Но подогнал результат вычислений он очень умело, взяв меньшую из предлагаемых длин земной окружности (17 000 миль) и самую большую из предложенных протяженность Евразии. При этом он ссылался на Марко Поло, который считал, что Чипангу (Япония) лежит в тысяче миль к востоку от Китая. Таким образом, Колумб пересчитал расстояние от Португалии до Японии, и вышло, что золотые крыши Чипангу должны быть почти видны на западном горизонте от отправной точки экспедиции — Азорских островов, расположенных почти в тысяче миль от Лиссабона на юго-восток.
Что же сподвигло Колумба отправиться навстречу великому и неизведанному, за западный горизонт? Искал ли он новые земли или более быстрый путь в Китай, Индию и Японию? Быть может, им двигала жажда золота и пряностей? Или же ему хотелось почестей и уважения, что бывает свойственно людям больших способностей, но скромного происхождения? А может, он хотел спасти души дикарей? Сотни лет спорят ученые, обсуждая документы и пометки, оставленные Колумбом, и, наверное, истины так никто и не узнает.{274} Он жаловался тем, кого перевозил на корабле в последующие экспедиции, что у него были свои причины, но «ни одной из них не осталось, кроме веры в то, что золото и пряности можно грести полными лопатами, а они все не закончатся, потому что золото залегает в рудниках, а пряности растут на деревьях, и никто там золото не копает и пряности не собирает».{275}
* * *
Колумб, используя новые связи при дворе, принялся «подзуживать» Хуана II. Вначале монарх благосклонно отнесся к предложениям молодого генуэзца. В этих обстоятельствах он повел себя как просвещенный правитель — он представил идеи Колумба комиссии ученых астрономов, математиков, географов и математическому обществу (Junta dos Mathematicos). Записи их прений не сохранились, однако расстояние от Португалии до Японии, рассчитанное Колумбом, они нашли смехотворным.
Хуже того, проект сопровождался требованиями: королевское поручительство за проект, использование королевских кораблей, наследный титул и целый ряд привилегий в торговле с Индиями. В свете этих требований шансов на одобрение у Колумба почти не оставалось, и несмотря на то, что Колумб приходился зятем одному из самых богатых купцов королевства, заручиться поддержкой португальского престола он не смог.
Не получив финансирования от Хуана II, Колумб в 1484 году ретировался в Кордову. Там он представил свой проект Изабелле и Фердинанду, всего 16 лет назад объединивших Арагон и Кастилию в королевство, которое со временем превратится в современную Испанию. При испанском дворе произошли события, почти в точности повторившие то, что было перед этим в Лиссабоне. Колумб, происходивший из той же этнической ветви, что и испанская королева, вначале произвел при дворе благоприятное впечатление, но вскоре столкнулся с еще более твердолобой комиссией экспертов, на сей раз собранной духовником королевы, Эрнандо де Талаверой. Но еще прежде чем комиссия вынесла решение, Фердинанд и Изабелла лишили Колумба скромного жалования, и он вернулся в Португалию.
Пока он собирался с силами в Лиссабоне, удача повернулась к нему лицом, хоть это и не сразу стало ясно. Он своими глазами увидел, как крошечные суденышки, на которых Бартоломеу Диаш в 1488 году обогнул мыс Доброй Надежды, поднимаются по реке Тежу. Колумб вообразил, что после открытия пути вокруг Африки западный путь Португалии уже не понадобится. Тогда он вернулся в Испанию, где смиренно ждал окончательного решения комиссии Талаверы. В 1490 году судьба нанесла еще один удар. Комиссия доложила королю, что «судить об этих обещаниях и предложениях невозможно, они тщетны, и лучше будет от них отказаться». Колумб отчаянно воззвал к королеве, которая пообещала, что его выслушает еще одна комиссия. И снова предложение отклонили.{276}
В это время Бартоломе Колумб, по всей видимости, ездил в Англию и представлял проект брата королю Генриху VII. Существуют документы, определенно подтверждающие, что в 1490 году Бартоломе прибыл во Францию и был на приеме у Карла VIII. В обоих местах проект отвергли, но Бартоломе оставался во Франции еще долго после того, как брат вернулся из первой экспедиции.
В начале 1492 года испанский двор известил Колумба, что его присутствие в стране более не желательно. Но затем, едва скиталец скрылся за горизонтом вместе со своим осликом и скромными пожитками, как его настиг посланник и велел вернуться. В последнюю минуту один из самых настойчивых в свите Фердинанда сторонников проекта — Луис де Сантанхель — убедил королеву, что финансирование поиска пути на запад требует совсем небольших вложений и сулит огромные доходы. Затем Сантанхель поручился за все предприятие. Вышло так, что Изабелла действительно предложила в залог свои драгоценности, но Сантанхель уверил ее, что эта жертва не потребуется.
Как и во всяком великом предприятии, потребовались недюжинная мудрость, смелость, дальновидность, внимательность в мелочах и тяжкий труд. Говорят, Колумб лично проверял каждое бревно на всех трех кораблях перед тем, как в 1492 году поднялся на борт. Удача тоже потребовалась. Если король одобрит план, то Колумбу придется вести корабли от португальских Азорских островов, которые он хорошо знал, на запад, где на этой широте его могут погубить неблагоприятные ветра. Но, к счастью, все четыре плавания Колумб совершил от более южных испанских Канарских островов, откуда попутные ветра несли его прямо к Карибам.
Правы оказались и Колумб, и Сантанхель, и Изабелла, хотя предпосылки, из которых они исходили, были неверными. И наоборот, ученые советники королей Португалии, Англии, Франции и Испании, гораздо больше Колумба сведущие в географии, поразились, когда Колумб вернулся из первого, исторического плавания «в Индии».{277} Никто не мог представить, что земли Нового Света, смутные очертания которых маячили перед норвежскими исследователями, а может, и перед другими путешественниками Европы и Азии, теперь лежит перед ними.[27]
Колумб был так одержим надеждой открыть западный путь, что он не взял в путешествие специалистов, как позже делали более опытные конкистадоры. Переводчики с арабского языка подсказали бы ему, что индейцы, которых он захватил на Карибских островах и привез в Испанию, — определенно не жители Индии. Ювелиры подтвердили бы, что массивные желтые куски, которые он принял за золото, были на самом деле пиритом. Аптекари, вроде Томе Пиреша, предупредили бы его, что «корица» и «перец», которые он представил Фердинанду и Изабелле по возвращении, оказались неизвестной корой и перцем чили, которых в Старом Свете никто еще не видел. Да если бы он даже взял с собой всех этих экспертов, он все равно бы им не поверил. Первооткрыватель Нового Света был так упрям, что вплоть до третьего путешествия перед ним не замаячило и тени сомнения в том, что он плавал в Азию.
Открыть Новый Свет! Неудивительно, что маленькому человеку, жадному до славы сыну ткача, такой подвиг представлялся очень желанным. Он отыскал путь к «легкому» богатству, не менее почетному, чем рента, которую получает аристократ. После того как он вернулся из Нового Света, его положение в обществе стало более высоким. Как писал поэт, драматург и биограф Стефан Цвейг,
всякий, кто не нашел себе дела и места в Европе, всякий, кто разуверился в жизни и не имел достаточно терпения, чтобы переждать: младшие сыновья, праздные офицеры, бастарды, беглецы от правосудия — всяк и каждый хотел в Новый Свет.{278}
Следом за Колумбовыми путешествиями шли геноцид и этнические чистки, беспрерывные и беспощадные. Каждый кусочек серебра и золота изымался сперва у индейской элиты, затем из земли. Современные специалисты по экономической истории описывают удивительную корреляцию между экономическим развитием туземных народов, первоначальной плотностью их населения, скоростью распространения болезней среди белых поселенцев и дальнейшим экономическим развитием.{279} В тех краях, где изначально уровень развития был низким, как и плотность населения, а для европейцев климат оказался здоровым — в Новом Свете, Австралии и Новой Зеландии, — белые пришельцы отлично выживали, расселялись и подчиняли или убивали местных жителей. Завоеватели сказочно обогащались. Хотя большая часть богатства появлялась благодаря торговле (например развитие карибских сахарных плантаций), поселенцы занимались в первую очередь добычей ископаемых и земледелием, а потом уже производством.
Иначе развивались события в странах с большим населением, где среди европейцев быстро распространялись болезни, а среди туземцев были развиты торговля и производство — это почти все побережья Индийского океана. В таких местах европейцам не оставалось надежды прижиться и покорить огромное число хорошо развитых, небедных и отлично организованных местных жителей. Там европейцам оставалось только торговать. Проще говоря, португальцы и голландцы отправили сотни тысяч европейцев на смерть. После семи-восьмимесячного плавания переселенцы высаживались в густонаселенных, болезнетворных низинах Африки, Индии, Шри-Ланки, Малайи и Индонезии. Например, только в XVII веке около 25 000 европейских солдат умерло в тесноте Королевского госпиталя в Гоа от малярии, лихорадки денге, тифа и холеры.{280} Для сравнения, к менее заселенным и гораздо более здоровым нагорьям Мексики и Перу европейцы плыли 5-6 недель, и там ждала их лучшая участь.
* * *
С импортом была связана в этой истории затянувшаяся дуэль двух великих морских держав XV-XVI столетий — Испании и Португалии. 3 августа 1492 года, когда крошечный флот Колумба покинул гавань Палос-де-ла-Фронтера, в этом поединке наметился поворотный момент.
Лучше всего представить себе этих иберийских братьев как любимых отпрысков заботливых родителей — матери-церкви, которую восхищал иберийский экстремизм в вопросах богословия, и отца-римского папы, который вечно мирил ссорившихся детей. Как дети, они черпали уверенность в своей правоте из родительского авторитета, из повелений папы. В то время даже сильнейшие монархи Европы считались вассалами папы и получали короны в обмен на регулярную, весьма значительную дань Ватикану.
Родители тоже играли в любимчиков. Понтифики середины XV века были покорены благочестием дона Энрике и его рвением крестоносца, готового воевать против мавров Северной Африки. Папа Николай V, к примеру, в 1455 году, перед самой смертью, выпустил буллу — Romanus Pontifex, которую можно назвать «хартией португальского империализма». Она превозносила Энрике и утверждала его право покорять и обращать в истинную веру всех язычников от Марокко до Индий. Но еще важнее то, что она даровала Португалии монополию на торговлю в землях между Африкой и Индиями.{281}
Затем, в августе 1492 года, всего через 8 дней после отбытия Колумба из Палоса, на папский престол, благодаря усилиям и финансовой поддержке Фердинанда и Изабеллы, взошел испанец под именем Александра VI. В 1493 году, не успели башмаки Колумба высохнуть после первого плавания, Александр издал первую из нескольких булл, дававших Испании право владения всеми землями, открытыми ее подданными. Едва ли не в том же году Александр выпустил еще одну буллу, обозначавшую демаркационную линию в сотне лиг (около 350 миль) к западу от островов Зеленого Мыса, земля за которой, как открытая, так и не открытая, принадлежит Фердинанду и Изабелле. Последняя булла простирала амбиции Испании на юг и восток до самой Индии. Это очень рассердило португальцев, потому что в забвение попадали целых три поколения исследователей африканского побережья. Кроме того, эта булла противоречила Romanus Pontifex и совершенно не учитывала то, что всего пять лет назад Бартоломеу Диаш обогнул мыс Доброй Надежды.
Жуан II, недовольный продажным испанским папой, решил напрямую выяснить отношения с Фердинандом и Изабеллой. На его счастье, испанские монархи, побаиваясь жестоких португальцев и занятые разделом Нового Света, были готовы на разумный компромисс. 7 июня 1494 года в Тордесильясе был подписан знаменитый договор, прославивший этот город в центральной Испании.
Тордесильясский договор поделил мир на два полушария по меридиану, проведенному в 370 лигах (примерно 1270 миль) к западу от островов Зеленого Мыса. Эта демаркационная линия проходила приблизительно в 45 градусах к западу от Гринвича, относя Азию к Португалии, а Новый Свет к Испании.{282}
В обычные времена государства проливали кровь и растрачивали казну, платя за мелкие клочки земли. Но эти времена обычными не были. Португалия поставила себе цель, волновавшую европейцев со времен смерти Пророка — выход в Индийский океан. А Испания открыла два новых континента. В это время царило такое воодушевление, что эти два яростных противника могли поделить целую планету с той же легкостью, с какой школьники меняются шариками.
Что же было на уме у собеседников Жуана II в сонном городишке Тордесильясе в тот жаркий летний день? Теперь вся Африка и вся Азия принадлежали Португалии, но в то время, как был подписан договор, только корабли Бартоломеу Диаша сумели войти в южную часть Индийского океана. Могли ли португальцы, едва пережившие Черную смерть, имея едва ли больше миллиона человек населения, всего несколько тысяч моряков и несколько сотен кораблей, пригодных для моря, противостоять крупнейшей и сложнейшей торговой машине? Португальцев было так мало, что часто на самых крупных торговых кораблях несколько европейских офицеров и солдат командовали сотнями азиатских и африканских рабов.{283} Португалия напоминала собаку, напавшую на автомобиль. Эта собака может быть сколь угодно быстрой и злой, может оставить на противнике много царапин от своих клыков, но в конце концов она все равно останется в пыли, на обочине.
Жуан II не нашел бы лучшего исполнителя первого рывка к двум неосуществимым целям — азиатским пряностям и по-прежнему желанному пресвитеру Иоанну. Путешествие Васко да Гамы в 1497-1499 годах стало самым замечательным плаванием того времени. Это путь в 28 000 миль в открытом океане к заветной цели — Индии. Колумбу, несмотря на его похвальбу, такое и не снилось. Кроме того, цель Колумба — Индии — нуждалась в географическом уточнении. Что он имел в виду, Японию, «Катай», саму Индию или царство пресвитера Иоанна?
Да Гама, в отличие от Колумба, прежде чем поднять якорь, собирал подробные сведения. Он определил, что Каликут на Малабарском побережье в юго-западной Индии может считаться самой богатой перевалочной базой на субконтиненте. Юго-западный муссон почти наверняка должен отнести туда корабли, отошедшие от восточных берегов Африки. Свой удивительный мореходный подвиг Васко да Гама дополнил двумя нововведениями.
Ранее в 1488 году Диаш во время знаменитой экспедиции, посланной принцем Энрике, обогнул мыс Доброй Надежды. К югу от экватора ветер сменился на встречный, и продвижение затруднилось. За время странствий да Гамы какой-то неизвестный моряк сумел решить эту проблему. Когда корабли да Гамы подходили к берегам, где сейчас находится Сьерра-Леоне, они повернули вправо, отошли в открытую Атлантику и двинулись на несколько сот миль на запад. Затем, постепенно смещаясь против часовой стрелки, корабли описали плавный полукруг в тысячи миль так, что смогли плыть под ветром, дувшим им в левый борт. Дуга получилась такой, что флот да Гамы прошел всего в нескольких сотнях миль от Бразилии. Но ширины дуги все равно не хватило, чтобы обогнуть сказочный мыс Доброй Надежды, и ветер принес корабли к южной части западного побережья Африки, к берегам залива Святой Елены.
Долгие 95 дней маленький флот да Гамы не видел земли. Для сравнения, флот Колумба от Канарских островов до Багамских шел 35 дней. Да Гама был таким искусным моряком, что, измеряя по пути широту, на которой находились корабли, он ошибался не более чем на два градуса. И наоборот, Колумб знаменит географическими неточностями. К примеру, он помещал Кубу на 42° севернее, куда-то в район Бостона.{284}
Вскоре, у южных берегов Африки, моряков Васко да Гамы поразила странная болезнь. «Их руки и ноги опухли, а десны вздулись так, что они не могли есть».{285} Пока каравеллы несколько месяцев шли в открытом море, запас витамина С в организмах моряков истощился. Началась цинга. К счастью, к тому времени как болезнь разыгралась, корабли успели подойти к богатым портам Восточной Африки. На обратном пути им повезло меньше.
Хотя да Гама был превосходным моряком, о его талантах торговца этого не скажешь. Чтобы составить представление о восточных рынках, португальцы брали образцы золота, пряностей и слоновой кости. Но они не догадались взять с собой товары, на которые все это можно было бы обменять. Вышло это в результате небрежности или высокомерия, мы уже никогда не узнаем.
Поначалу торговые операции да Гамы в Южной Африке пошли хорошо. Туземцы охотно меняли свои товары на маленькие отрезы европейского льна, который ценился у них высоко. Однако, продвигаясь на север, европейцы столкнулись с влиянием мусульманской торговой империи, и условия рынка радикально изменились. Кожа торговцев стала светлее, они говорили по-арабски. На острове Мозамбик португальцы встретили мусульманского шейха, которому они предложили
…шляпы, марлоты,[28] кораллы и многое другое. Он, однако, был столь горд, что отнесся с презрением ко всему, что мы ему давали, и просил алых одежд, которых у нас не было. Впрочем, все, что у нас было, мы ему давали. Однажды капитан-майор пригласил его на трапезу, где в изобилии подавались фиги и засахаренные фрукты, и попросил его предоставить нам двух лоцманов.{286}
Впервые, но не в последний раз за это путешествие, неказистые европейцы со своими пустяковыми товарами, на маленьких кораблях, неопытные в плавании по этим водам, не сумели произвести впечатление на правителя, избалованного отлично настроенной мусульманской машиной торговли в Индийском океане. Пришельцев из Европы впечатлили не только азиатские товары, но и морские технологии. Как пишет неизвестный участник этого плавания:
…корабли в этой стране делают удобного размера и хорошо сколоченные. Гвоздей здесь не используют, и доски скрепляют между собой при помощи шнура. Лодки изготовляют так же. Паруса плетут из пальмового волокна. У моряков есть «генуэзские иглы»,[29] по которым они узнают курс, квадранты и навигационные карты.{287}
Рычагами этой торговой машины управляла мусульманская купеческая диаспора — персидские купцы. Например, в Момбасе (современная Кения) португальцы видели, «что в городе живут христиане и мавры, что у христиан свои господа».{288} Поначалу оба султана и обе колонии оказали гостеприимство португальцам, которые держались вежливо и осторожно. Все ожидали больших прибылей от новой торговли. Вскоре местные купцы прознали, как интересует пришельцев пресвитер Иоанн. Какое-то время им потакали — великий христианский правитель все время оставался где-то за горизонтом, в следующем государстве, может быть, в следующем порту. А люди да Гамы считали, что всякий, кто явно не мусульманин, должен быть христианином:
Эти индийцы были смуглы. Одежды на них было не много, зато бороды и волосы длинны и заплетены. Они рассказали нам, что не едят говядины. Их язык отличен от арабского, но некоторые из них отчасти его понимают, поэтому беседовать приходилось с их помощью.
В тот день, когда капитан-майор подошел на своих кораблях к городу, эти индийские христиане стреляли со своих кораблей из множества бомбард, а когда он подошел, они воздели руки и громко закричали: «Христос! Христос!»{289}
Очевидно, люди да Гамы приняли за христиан торговцев-индусов, которые, скорее всего, кричали: «Кришна!» Эта мрачная религиозная комедия продолжилась и в Индии, где португальцам впервые предстало целое «христианское» государство со странными церквями (индийскими храмами) и многорукими образами Отца, Сына, Святого Духа, Богоматери и святых в причудливых одеяниях.
Помимо круга по Южной Атлантике другим «нововведением» да Гамы было использование в Индийском океане местных лоцманов. Говорят, что вел да Гаму до Индии ни кто иной, как легендарный ибн-Маджид — арабский мореплаватель, писатель, автор ценного труда по судоходству в Индийском океане. В мусульманском мире и поныне проклинают его за эту измену. И хотя история о том, как гениального доверчивого Маджи-да обманули коварные португальцы, рассказывается как антиимпериалистическая пропаганда, Маджид никак не мог быть этим лоцманом-изменником. Лоцман да Гамы, нанятый или похищенный в Малинди (в 60 милях к северу от Момбасы), был родом из Гуджарата. Впоследствии его отвезли в Португалию. Оманец Маджид в своих обширных мемуарах не упоминает, чтобы он посещал Португалию.{290}
При всех достоинствах, да Гама вовсе не считался человеком добрым и мягким. При малейшей провокации он отдавал своей команде приказы грабить, похищать детей и убивать. Оба лоцмана, взятые в Мозамбике, были пороты по обвинению в непослушании и при первой возможности в Момбасе бежали. К тому времени как экспедиция достигла Малинди, последнего африканского порта, ее уже обогнали слухи о кровожадности португальцев. Ни одно местное судно не хотело связываться с ними. Это было очень некстати, потому что запасы как раз кончались и отчаянно требовался проводник в Индию. В Малинди необходимость заставила да Гаму проявлять терпимость. В знак доброй воли он даже освободил пленников, взятых в Момбасе и Мозамбике.
24 апреля 1498 года, загрузившись свежими запасами, в сопровождении лоцмана из Гуджарата, предоставленного султаном Малинди, да Гама на трех маленьких кораблях покинул порт и направился на северо-восток, в открытое море, с первым дыханием летнего муссона. Через пять дней он пересек экватор и увидел старого друга европейских моряков — Полярную звезду. 18 мая путешественники уже наблюдали на горизонте горы Малабарского побережья. Всего за 23 дня они проделали в открытом море 2800 миль, промахнувшись мимо цели — Каликута — всего на семь миль. Самое жестокое из торговых государств открыло секрет летнего муссона. Волк попал в овечье стадо, и мировая торговля изменилась навсегда.
Португальцы не создали торговой империи, скорее бандитскую структуру, обложившую данью местных купцов, заставляя их продавать пряности и другие товары по низким ценам. Многих игроков, в основном мусульман, вообще вытеснили с рынка. Грань между протекционизмом и пиратством и так была тонка, а португальцы ее переходили с легкостью. Во время первого посещения Индии Васко да Гама разработал хорошо отлаженную схему. Флотилия выжидала, пока к ней подойдут на лодках, чтобы поприветствовать. Тогда команда брала подошедших в заложники. Капитаны всех трех кораблей — Васко да Гама, его брат Паулу и Николау Куэлью — если только возможно, оставались на борту, а на берег посылался отряд для «торговых переговоров».{291}
В Африке и в Индии да Гама в качестве переводчиков использовал деградаду — владевших восточными языками осужденных, взятых из португальских тюрем. Их первыми выпускали на берег в этих странных, чужих землях. В Каликуте такой чести удостоился деградаду по имени Жуан Нунеш, еврей, недавно обращенный в христианство, умевший говорить по-арабски. Он встретил жителей Туниса, знавших испанский и итальянский языки, и его спросили: «Дьявол тебя побери! Что вас сюда принесло?» На что он ответил, что ищет христиан и пряности.{292}
Как и на правителя в Восточной Африке, на индийцев не произвело впечатления качество европейских товаров. Собираясь на встречу с заморином — индусом, правителем Каликута, — да Гама послал ему в подарок «12 отрезов ламбеля, 4 алых шаперона, 6 шляп, 4 нитки коралловых бус, сундук, содержащий 6 рукомойников, сундук сахару, 2 бочки масла и 2 бочки меду». Такие подарки не польстили бы даже мелкому купцу из тех, о ком рассказывает архив генизы, не говоря уже о правителе города, считавшегося самой крупной перевалочной базой в Индии. Слуги заморина при виде этих товаров презрительно скривились и сказали посланникам да Гамы, что «такие вещи дарить царю не подобает, что беднейший торговец из Мекки или другой части Индии и то дарит больше, что если мы хотим сделать подарок, то это должно быть золото, а такие вещи царь не примет».{293}
Но не один только заморин не рад был да Гаме. Влиятельные мусульманские купцы Каликута резонно забеспокоились, что появление европейских христиан не сулит им ничего хорошего. Они посоветовали заморину действовать осторожно. В результате, капитан-майор прождал аудиенции целый день.
Дальше дела пошли еще хуже. Поскольку подарки были отвергнуты, капитан-майор ничего не преподнес правителю. Когда заморин спросил, почему тот явился с пустыми руками, да Гама ответил, что приехал делать открытия, а не торговать. Тогда заморин спросил с издевкой, «что он открывал — камни или людей? Если он открывал людей, как он говорит, почему ничего не привез?»{294}
Если да Гама плохо подготовился к коммерческому рейсу, то его представления о культуре и обычаях Индии и вовсе были ужасны. Привезенные на обмен никчемные товары, безобразное высокомерие и параноидальная подозрительность португальцев привели к тому, что они оказались в заложниках, да еще поссорились с мусульманскими купцами, которые, вероятно, уже прознали о планах капитан-майора выдворить их из города. Едва завидев кого-нибудь из команды Васко да Гамы, купцы сплевывали и презрительно говорили: «Португалец! Португалец!»
Интересно, что почти за десять лет до этих событий Перу да Ковильян, во время своего эпического путешествия, проявил коммерческую и дипломатическую мудрость, которой так недоставало да Гаме. Но в Средние века информация распространялась так плохо, что, как и Диаш, да Гама так и не получил бесценные сведения, собранные Ковильяном.
Но несмотря на все препятствия, торговое взаимодействие между мусульманскими купцами и командой да Гамы все же состоялось. Пусть мусульманские купцы справедливо опасались религиозной нетерпимости и смертельной опасности, исходившей от чужаков, пусть заморин остался недоволен подношениями европейцев, зато местные индусы были рады обменять пряности на привезенные ткани. Европейцев разочаровали цены на ткань. Здесь носили рубашки гораздо более тонкие, так что товар пришлось продать за десятую часть цены, которую запросили бы в Лиссабоне. Зато пряности им продавали еще дешевле.
Индус-заморин поначалу согласился на торговлю с европейцами, но скоро устал от двуличности капитан-майора. Наконец он позволил трем португальским кораблям, которые простояли три месяца в порту, медленно наполнялись пряностями и прочими сокровищами, но не смогли заплатить обычной торговой пошлины, отправиться восвояси. 29 августа 1498 года корабли подняли якорь и отбыли из Каликута.{295}
Трудности да Гамы в его первом путешествии в Индию типичны. Из приблизительно 170 человек, отбывших из Лиссабона, вернулось менее половины. Большинство жизней забрала цинга на обратном пути через Индийский океан.{296} Экипаж страдал еще сильнее, чем в Атлантике. Умерло и ослабло от болезни столько людей, что один корабль пришлось бросить. Оставшихся людей едва хватало, чтобы управлять двумя. Паулу да Гама скончался от цинги на следующий день после прибытия на Азорские острова. Это была последняя остановка перед возвращением в Лиссабон, куда удалось попасть только в сентябре 1499 года. В любом случае, корабли привезли из Каликута столько перца, корицы и гвоздики, что затраты на экспедицию окупились 60 раз, и когда тех, кто остался в живых, чествовали в Лиссабоне, никто не сомневался, что жертвы были ненапрасными.{297}
Португальская корона не замедлила воспользоваться этими достижениями мореходства и коммерции. Меньше чем через шесть месяцев, в марте 1500 года, Педру Алвареш Кабрал отбыл на 13 кораблях с полутора тысячами человек. Он сделал еще более удачный «крюк» по Атлантике и без потерь добрался до страшного мыса, а по пути стал первым европейцем, побывавшим в Бразилии, которая, к счастью для Португалии, находится по ее сторону от Тордесильясской линии.
Этот поход стал примером для множества последующих экспедиций в Индию. Их начинали в конце зимы, чтобы выжать максимальную выгоду из атлантических «торговых» ветров, а затем поймать летний муссон через Индийский океан и прибыть в Индию в сентябре, через шесть месяцев после отплытия из Лиссабона. (Говоря словами одного капитана: «В последний день февраля еще время есть, а в первый день марта уже поздно».){298} Осень европейцы проводили в Индии, обменивая товары и починяя паруса и такелаж, и возвращались с зимним муссоном. Уход из Европы в конце зимы оказался не только более быстрым, но и более опасным, обрекая экспедицию на сезонные штормы Южного полушария. Четыре корабля Кабрал потерял во время бури в южной Атлантике, а из девяти уцелевших до Индии добрались только шесть. И вновь — не беда. Барыш так велик, а жизнь так дешева. Сотни душ — небольшая цена за перец, корицу и гвоздику для страждущей Европы.
Прибыв в Индию, Кабрал перемешал дипломатическую кашу, которая заварилась два года назад благодаря грубости и подозрительности да Гамы. За прошедшее время умер старый заморин, который вел себя резко, но на самом деле, чрезвычайно гордился тем, что сумел завязать с португальцами торговые отношения. Теперь правил его сын. Как и Васко да Гама, Кабрал потребовал в торговле преимущества перед мусульманами. Поначалу дела пошли хорошо. Европейцы захватили корабль соседнего царства. На корабле оказался слон, который и был подарен заморину. Самые крупные из португальских кораблей заполнились перцем и превосходными пряностями. Узнав, что мусульманские корабли тоже нагрузились пряностями и направлялись в Джидду — порт Мекки, Кабрал захватил их, поскольку в глазах европейцев всякая торговля с «ненавистными маврами» нарушала их договор с заморином. Это возмутило каликутских мусульман, они напали на торговый склад португальцев и убили 54 человека.
Целый день португальцы ждали, что скажет заморин. Ничего не происходило, и они решили самое худшее — что как раз заморин и стоит за убийством. Тогда они захватили около дюжины индийских кораблей, перебили команду и весь день расстреливали город из корабельных пушек. Затем португальцы направились к Кочину, южному сопернику Каликута. В Кочине и Каннануре (в 40 милях к северу от Каликута) они наполнили пряностями и малые свои корабли. Опасаясь ответного удара от заморина и предательства от правителя Кочина, они уплывали в такой спешке, что забыли на берегу своих торговцев. Зато осталось больше места для серебра и груза. По пути в Лиссабон Кабрал потерял еще один корабль.{299}
Корона осталась не слишком довольна капитаном, который потерял 2/3 кораблей да еще развязал войну с новым заморином. Но эти грехи король мог простить. Гораздо хуже было, что Кабрал привез второсортную корицу. В следующую экспедицию был отправлен Васко да Гама. Он отбыл в 1502 году на 25 кораблях.
Трехлетний перерыв между первым и вторым путешествиями не сделал да Гаму добрее. Теперь им руководили не только торговые мотивы. В отместку за бойню на торговых складах он решил прервать торговое сообщение мусульман между Малабарским побережьем и Красным морем. В начале сентября 1502 года, через семь месяцев после выхода из Лиссабона, его флот остановился в Каннануре и стал ждать.
Примерно через три недели, 29 сентября, флот перехватил судно «Мери», на котором из Мекки возвращалось несколько сот паломников, в том числе женщины и дети. Пять дней команда да Гамы медленно и хладнокровно освобождала корабль от груза, а пассажиров от их имущества, невозмутимо слушая, как паломники сулят за свою жизнь большой выкуп.
Участник команды и хронист с одного из кораблей, Томе Лопеш, записал, что 3 октября 1502 года, когда прекратился грабеж, произошло то, что он будет «вспоминать до конца дней своих».{300} Да Гама приказал предать корабль огню. Его пассажиры, которым терять было уже нечего, как мужчины, так и женщины, защищаясь, напали на португальцев с камнями и голыми руками. Затем обреченные мусульмане протаранили один из португальских кораблей, так что португальцы не могли обстреливать «Мери», чтобы не попасть по своему кораблю. Завязался жестокий абордажный бой. Все это время мусульманские женщины размахивали своими украшениями и поднимали над головой детей в надежде, что Васко да Гама, наблюдавший за битвой через пушечный порт, сжалится над ними. Он не сжалился. Спаслись только дети, которых отняли и крестили, и конечно, лоцман.
Ответственный за заключение мира заморин дипломатично предположил, что резня и грабеж на «Мери» более чем искупили нападение на португальские торговые склады. Что было, то прошло. И только свирепый да Гама ярился: «От начала времен мавры были врагами христиан, а христиане — врагами мавров, и всегда они воевали».{301}
Да Гама прибыл в Каликут в самом скверном расположении духа и расстрелял порт еще ожесточеннее, чем Кабрал. 1 ноября он повесил на мачтах дюжину мусульманских пленников.
…головы, руки и ноги повешенных отрубили и сложили в лодку, а к ним прибавили письмо. В письме говорилось, что пусть это не те люди, что повинны в смерти португальцев [2 года назад], они все же понесли наказание, а тех, кто это предательство совершил, ожидает еще более жестокая смерть.{302}
И это не единственный случай. Португальцы часто забавлялись, вывешивая людей из захваченных доу, в качестве мишеней. Куски трупов потом посылались местному правителю с предложением употребить это под соусом карри.{303} Такая жестокость была удивительна даже по тем временам, отравленным католическим фанатизмом эпохи. Средневековый христианин считал само собой разумеющимся, что иноверец проклят богом. Если евреи, мусульмане и индусы обречены после смерти вечно жариться в аду, не было никаких причин сочувствовать им при жизни.
В результате этих, в основном, неспровоцированных жестокостей, заморин и Васко да Гама оказались в состоянии уже настоящей войны. В январе 1503 года индийский правитель из безопасного Кочина заманил да Гаму в каликутскую западню. Португальцев несколько раз атаковали быстрые индийские корабли, но все атаки были отражены.
Когда настала зима, пробил час муссонов, и португальцы наконец ушли. На этот раз они оставили постоянные базы в Каннануре и Кочине, а также несколько кораблей — зародыш первого постоянного флота в индийском океане. Ушедшие суда везли домой огромные количества пряностей: по некоторым оценкам, около 1700 тонн перца и 400 тонн корицы, гвоздики, мациса и мускатного ореха. Все это было погружено в Кочине после резни на «Мери». Считалось, что сам капитан-майор получил около 40000 дукатов прибыли, доставив ароматный груз на берега Тежу.{304}
За пять лет, прошедших с первого появления Васко да Гамы в Индии, португальцы не только наладили баснословно прибыльную торговлю, но и почти всякий порт по пути сделали враждебным. Всюду, куда ступала их нога, они наживали себе врагов, вытесняя мусульманских торговцев. А значит, новый путь доставки пряностей, уязвимый и слабый, следовало защитить цепью укрепленных португальских портов, архитектурные и культурные призраки которых видны и сегодня на всем пути от Азорских островов до Макао.
Строительство этой империи продвигалось быстро. В 1505 году Франсишку де Алмейда был назначен на должность первого вице-короля Индии. Свою первую остановку он сделал в Килве (современная Танзания). Он напал на город и взял его, оставив после себя марионеточного арабского султана и большой гарнизон. Затем он разорил Момбасу, и, пока плыл в Индию, войска из гарнизона захватили остров Мозамбик. За несколько месяцев португальцы прибрали к рукам все крупные порты Восточной Африки. Вскоре эти базы послужили для получения африканского золота, чтобы обменивать его на индийские пряности. Дальше золото меняли на гуджаратские ткани. В этом торговом треугольнике — золото, пряности, ткани — не было ничего нового. Арабские и азиатские купцы пользовались им веками. Но европейцы нашли еще один способ извлечь выгоду — они задействовали такие участки Индийского океана, чтобы не требовалось огибать опасный мыс Доброй Надежды.
Прибыв в Индию, Алмейда принялся систематически завоевывать малабарские порты. Поначалу две великие мусульманские державы — Египет Мамлюков и государства Гуджарата — сопротивлялись. В 1508 году они развернули объединенные силы в порту Чаул (на юге современного Мумбаи) и поймали португальский флот в засаду. В бою был убит сын Алмейды. За его смерть вице-король отомстил через год, уничтожив объединенный мусульманский флот при Диу (к северу от Мумбаи). Так рухнула последняя преграда европейскому господству в Индийском океане. В очередной раз показав, что дукаты сильнее молитвы, Венеция поддержала морской поход на братьев во Христе, который предпринял гуджаратский мамлюк со своими военными визирями.
Третью португальскую кампанию в Восточную Африку и Индию возглавил человек, имя которого более, чем всякое другое, символизировало покорение европейцами Индийского океана — Афонсу де Альбукерки. Быстрый успех этого легендарного полководца позволил взять под контроль несколько сомалийских портов и два важнейших для торговли острова — Сокотру (мультикультурную прихожую Красного моря) и Ормуз (сторожевого пса Персидского залива). Не в последний раз Ормуз, этот высохший кусок суши, богатый песком, камнем, солью и серой, оказался для европейцев лакомым куском. Когда талантливого Альбукерки назначили вице-королем Индии, жители Ормуза сбросили власть португальцев, и тем пришлось отвоевывать остров несколько лет.
Покорение Индийского океана не всегда проходило гладко. В 1508 году, когда Альбукерки прибыл в Индию, Алмейда отказался признать его полномочия и на несколько месяцев заковал преемника в цепи, пока из Португалии не пришел другой флот и не привез бумаги, утверждающие его назначение. Богатый, сильный и враждебный Каликут противился завоеванию, а Кочин, уже находившийся в руках у португальцев, плохо подходил на роль глазной гавани. Наконец Альбукерки остановился на острове около Гоа, который он завоевал в 1510 году. Здесь расположилась штаб-квартира Estado da Hindia — Государства Индии. Это название утвердилось за всеми португальскими владениями в Азии и Африке.
Затем необходимо было заполучить Аден. Он мешал Альбукерки как соринка в глазу, будто заноза в теле его государства. Построенный на вершине вулкана, посреди прибрежного горного хребта, обнесенный крепкими стенами город контролировал вход во «Врата скорби» — Баб-эль-мандебский пролив, через который поступала в Европу большая часть азиатских товаров. Из Абиссинии проливом доставлялись рабы, слоновая кость, кофе, продовольствие для города. Через проход в горах везли пряности и вели прекраснейших лошадей арабской породы. Грузы, направлявшиеся на север, перевозились на больших кораблях, которые приставали в Джидде, на полпути по Красному морю. Там огромные количества перца, гвоздики, муската, тонкого гуджаратского хлопка, китайского фарфора и шелка, других экзотических товаров перегружали на суда поменьше, пригодные для плавания среди мелей и рифов северной части моря и Суэцкого залива.{305}
Португальцы взяли под контроль многие индийские центры торговли пряностями, взяли они и Ормуз, но Аден им не достался. Это означало, что хитрые мусульманские и индусские моряки могли запросто миновать иберийские твердыни и беспрепятственно плыть по Красному морю в Египет. Нет Адена — нет монополии на торговлю пряностями.
Альбукерки так и не сумел завоевать его. Сперва он рассчитывал, что достаточно овладеть островом Сокотра, чтобы перекрыть Баб-эль-мандебский пролив, но оказалось, что Сокотра расположена слишком далеко от пролива. Тогда он оставил Сокотру, всего через несколько лет после ее захвата, и в 1513 году попытался напасть на Аден, но потерпел жестокое поражение. Тогда он пошел по Красному морю, пока встречные ветра не заставили его вернуться к своему вице-королевству. Неудачный рейд в Красное море стал первым серьезным признаком военного присутствия европейцев в этой важнейшей мусульманской акватории с 1183 года, с момента плавания Рено де Шатильона и его крестоносцев. Он же стал и последним еще на три столетия.
Все же вице-король мечтал прибрать пролив к рукам, пусть не из Адена, так с острова Массауа, с абиссинской стороны. Подобно Адену и подобно любому стратегическому порту в этом регионе, порт Массауа долгое время находился в руках мусульман. В VIII веке он был отнят у абиссинских христиан. В 1515 году Альбукерки писал королю, что если бы только он мог захватить Массауа, остров можно было бы снабжать, вооружать и содержать при помощи пресвитера Иоанна, который царствовал неподалеку:
Теперь в Индии нет для нас вопроса важнее, чем Аден и Красное море. Если Вашему Величеству будет угодно, нам нужно закрепиться в Массауа — в порту пресвитера Иоанна.{306}
Альбукерки умер через шесть месяцев после того, как было написано это письмо. Не сумев захватить Аден, португальцы использовали другой вариант. С каждым зимним муссоном, во время хаджа и торговых перевозок, они блокировали Баб-эль-мандебский пролив прибывшими из Индии силами. Но приходилось преодолевать большие расстояния, не все военные корабли для этого годились, снаряжение их обходилось чрезвычайно дорого, и такое морское эмбарго не оправдало себя.
Возможность захватить монополию на торговлю пряностями для португальцев ускользнула в 1538 году, когда турки-османы аннексировали Аден. Историки считают, что португальским капитанам и колониальным властям было бы выгоднее сквозь пальцы смотреть на азиатскую торговлю через пролив. Напротив, стремление получить полный контроль над проливом оказалось затратным, опасным и бесперспективным.{307}
Противником Альбукерки был великий османский адмирал Пири-реис. К несчастью для португальцев, карьера Пири оказалась гораздо продолжительнее. Прослужив султану несколько десятков лет, он исходил Красное море, Индийский океан и Персидский залив, наводя ужас и панику на европейских соперников. В возрасте 90 лет ему публично отрубили голову по приказу губернатора Басры за то, что он отказался вести военные действия против португальцев в северной части Персидского залива.
Османские адмиралы, сменившие Пири, продолжили его традицию. Когда подворачивался случай, они захватывали португальские базы повсюду, от Восточной Африки до Южной Аравии и Омана, и даже на Малабарском побережье. Однажды одиночный турецкий военный корабль практически выбил португальских выскочек из их крепостей в восточных портах Африки, говорящей на суахили.{308} Но ни иберийцы, ни даже более сильные османы не смогли удержать контроль над морскими перевозками между Европой и Азией. Вскоре португальцы оказались втянуты в новое соперничество.
* * *
В 1505 году два мелких португальских аристократа, двоюродные братья Фернан де Магальяниш и Франсишку Серран решили попытать счастья в Индии и нанялись во флот Алмейды, вместе со многими тысячами солдат и матросов. Их дальнейшие приключения, хоть и выглядят, по нынешним временам, фантастическими, для тех времен были вполне типичными. При жизни братьям достался богатый опыт и множество интересных мыслей. А после, внезапно, они изменили ход истории.
Несколько лет провел Магальяниш в бесконечных сражениях, несколько раз был ранен, в том числе в битве за Каннанур в 1506 году, когда Алмейда потерпел жестокое поражение от соединенного флота заморина и султана из Мамлюков. По этому случаю Магальяниша списали на берег, но, вкусив приключений и возможностей Востока, он нашел Португалию скучной и душной. Со следующей в Индию флотилией они с Серраном вернулись в море.
На этот раз экспедиция была скромнее, чем в 1505 году. Значение, однако, ей придавалось не меньшее, потому что командующего для нее назначал сам португальский король. Он надеялся, что Лопиш де Сикейра наладит торговлю с Малаккой. Как Аден в западной части Индийского океана контролировал поток товаров в Европу, Египет и Турцию, так Малакка играла ту же роль в восточной части океана. Там проходил узкий коридор, через который везли грузы с Островов Пряностей и предметы роскоши из Китая и Японии. В апреле 1509 года флотилия прибыла в Кочин, пополнила запасы, подлатала корабли и 19 августа, с летним муссоном, двинулась на восток, в неведомые для европейских моряков воды. В Малакку они прибыли уже через 23 дня, 11 сентября.
В тот день и португальцы, и азиаты испытали смешанные чувства удовольствия, отвращения, любопытства и ужаса. Даже чудеса Индии не смогли подготовить европейцев к зрелищу буйных тропических красот, изобилия, необъятных флотилий торговых судов, тысяч лавок и торговцев, смешения культур, десятков народностей — величайшего перевалочного пункта эпохи. Пришельцы думали о том, что скоро все это станет их владениями, и о том, что, возможно, за это придется платить страшную цену. А малаккские аристократы и купцы в этот момент видели всего лишь горстку европейцев. Этого, однако же, хватило, чтобы они узнали о португальской жестокости.
Внешне все выглядело спокойно и по-дружески. Можно представить, как наслаждались моряки, много месяцев прожившие в ужасных условиях на борту кораблей и на верфях. Теперь они радовались сочной пище, сладким напиткам и экзотическим женщинам самого восхитительного в мире порта. Только Гарсиа де Суса — капитан одного из португальских кораблей — слонялся в гавани, присматривая за этими сотнями улыбчивых туземцев, которые карабкались со своих катамаранов на корабли и предлагали на продажу местные товары. Капитану мерещилась засада, и он послал на флагман Магальяниша, как самого опытного и надежного моряка, чтобы предупредить Сикейру. Добравшись до флагмана, Магальяниш обнаружил, что Сикейра играет в шахматы, а позади каждого из игроков стоит по туземцу с кривым малайским ножом — смертоносным крисом. Магальяниш шепнул Сикейре предостережение, и тот отправил наверх дозорного.
В этот самый момент над царским дворцом показался клуб дыма — сигнал к нападению. Флот едва успел спастись. Магальяниш, Сикейра и другие португальцы схватили малайцев в каюте прежде, чем те успели пустить в дело свои крисы, затем побросали их за борт и расстреляли приближавшиеся катамараны из пушек.
Людям, которые польстились на берегу на удовольствия Малакки, повезло меньше. Многие пытались бежать, но тщетно, потому что их лодок на месте уже не оказалось. В тот день выжил только один португалец из тех, кто оставался на берегу — Франсишку Серран. Дом, где он находился, окружили малайцы, но его спас Фернан, приславший лодку на выручку брата. Оставшиеся в живых спешно уплыли.
До этого момента Магальяниш отлично зарекомендовал себя как верный и способный солдат, но в Португальской Индии подобные качества не были чем-то исключительным. События в Малакке позволили ему выдвинуться в командиры. В 1510 году сам Альбукерки назначил Магальяниша офицером и направил с королевским флотом, который в следующем году взял Малакку, отхватив таким образом добычу, равную Венеции или Константинополю. В чисто европейской манере устанавливать контроль над узкими местами португальцы тут же пережали горло богатой торговле с Китаем, Японией и, конечно, Островами Пряностей, расположенными среди Молуккских островов, в 1800 милях к востоку от Малакки.
В этот момент высшего триумфа два брата разделились. Магальяниш решил, что с него довольно. Его доля прибыли от груза пряностей и прочей добычи, полученной в Малакке, была велика. Он заслужил отличную репутацию, или так ему казалось. Он остался в живых, получил жалование и вернулся домой в сопровождении рабов-малайцев, о которых будет рассказано позже. Серран решил еще попытать удачи и принял командование над одним из трех кораблей соединения, которое вел Антониу де Абреу. Корабли направились к Островам Пряностей.
Абреу, Серран и их команда едва могли поверить своей удаче. Но островах Банда и Амбоин они доверху заполнили трюмы гвоздикой, мацисом и мускатом, купленными за браслеты, бубенцы и прочие побрякушки, и поспешили вернуться домой. Но Абреу подвела жадность. Он так перегрузил корабли, что один из них — тот, которым командовал Серран — развалился на части и остался на рифах.[30] Серран отважно вывел тех, кто выжил, обратно, на Амбоин. Военная дисциплина предписывала ему со всей возможной поспешностью возвращаться в Малакку и незамедлительно предоставить себя в распоряжение короны. Но тут Серран, как и его двоюродный брат, решил, что с него довольно. Слишком часто он рисковал своей шкурой ради королевской славы, а контраст между тяготами службы и тропическими пейзажами Амбоина с его миролюбивыми жителями оказался слишком разительным для усталого путешественника. Он больше не вернулся в Португалию, сделался туземцем, нашел себе должность военного советника у местного царька, счастье с молодой женой и полный дом детей и рабов.
Серран не полностью оборвал связи с домом. В первую очередь, он продолжал переписку с кузеном, которому был обязан жизнью. За сотни лет до Всемирной почтовой конвенции и учреждения Всемирного почтового союза письма Серрана как-то находили путь в Европу из страны, лежавшей за морями и за гранью европейских представлений о мире. Помимо приглашений любезному кузену вернуться и разделить с ним этот рай на земле, Серран приводил в письмах подробные данные, касавшиеся навигации и торговли. Вскоре Магальяниш знал об Островах Пряностей больше, чем кто-либо из европейцев. Он придумал, как применить эти знания. В письме кузену Серрану он обещал вернуться к нему «если не с португальским кораблем, то как-нибудь еще».{309}
В 1512 году, когда Магальяниш вернулся в Лиссабон, он оказался у себя на родине чужаком, безвестным, бесполезным ветераном колониальных войн в городе, пресыщенном роскошью, нажитой на торговле пряностями. Не смирившись с тяжкой и унылой ролью мелкого придворного иждивенца, он отправился с армией в Марокко, где нашел себе больший простор для деятельности. Там его серьезно ранили, на этот раз повредив колено, так что он стал хромым и непригодным для боя. Затем Магальяниш занимал должность квартирмейстера, был обвинен в воровстве, бежал в Лиссабон, чтобы объясниться перед королем. Дон Мануэл отказал ему в приеме и велел возвращаться в Марокко, под суд. Суд оправдал путешественника.
Как всякий уважающий себя конкистадор того времени, Магальяниш не испытывал трепета ни перед кем, даже перед монархом. Вместо того чтобы помалкивать и получать пенсию, этот подданный продолжал сражаться с демонами эпохи за короля и страну и требовать аудиенции у дона Мануэла. На сей раз его приняли. Произошла ссора, возможно в той же комнате, где кузен дона Мануэла, Жуан II, отказал Колумбу. Результат ссоры обошелся Португалии так же дорого.
Подобно Колумбу, Магальяниш не вынашивал великого плана открытий или завоеваний. Он лишь хотел сбросить оковы скудного содержания и возвыситься над наглой придворной молодежью, которая помыкала им. Магальяниш просил только учесть его храбрость, его заслуги перед короной, его таланты и большой опыт. Он просил место командира корабля, плывущего в Индию.
Ему холодно отказали, и тогда расстроенный Магальяниш спросил Мануэла: если Португалия больше не нуждается в его услугах, позволено ли ему наняться где-нибудь еще? Король, мечтавший уже избавиться от настырного подданного, ответил, что Португалия от этого ничего не потеряет.
Магальяниш оставался при дворе еще больше года, выжидая и тщательно выуживая полезные сведения из королевской библиотеки, где хранились карты и отчеты о последних экспедициях в Азию и Бразилию. Его очень интересовало побережье Южной Америки.
К тому же он свел знакомство с Руи Фалейру, замечательным географом и астрономом, который выделял Магальяниша за его многочисленные познания и стремился заполнить пробел в них — недостаток навигационных навыков. Неизвестно, кто из этих двоих предложил план кругосветного путешествия, но каким-то образом они пришли к выводу о существовании «южного пролива» за краем Южной Америки, около 40° южной широты, наподобие мыса Доброй Надежды по дороге в Индию, только с другой стороны света.
Подобно тому, как Колумб недооценивал длину окружности экватора Земли, Магальяниш в свою очередь смотрел на перспективу путешествия очень оптимистично. Пролив, который позже будет назван его именем, располагается примерно в тысяче миль южнее спокойной, удобной сороковой широты. Зато эти просчеты, как и Колумбу, придали ему смелость осуществить свой план.{310} Наконец, подобно Колумбу, Фернан Магальяниш нашел поддержку при испанском дворе, где сменил свое имя на кастильский манер: Фернандо де Магальянес или, как он известен у нас, Магеллан.
Как раз в то время испанские монархи легко поддавались на убеждения. Два десятка лет назад, по Тордесильясскому договору, чтобы защитить португальские претензии на Африку, демаркационная линия была перенесена на 800 миль к западу от того, что первоначально начертал папа. Магеллан сказал испанцам, что теперь Португалии придется платить за перец. С тех пор как договор рассек глобус надвое, разделительная линия в восточном полушарии тоже передвинулась на 800 миль к западу и находилась примерно на 135° восточной долготы. По мнению Магеллана, это переносило Острова Пряностей в испанскую зону. Путешественник прибыл в Испанию в конце 1517 года и за несколько месяцев разработал план, а через два года его многонациональная команда уже отчалила в Атлантику, в самое удивительное и едва ли не самое смертельное из путешествий, связанных с великими открытиями.
Пережила кругосветное путешествие только треть из примерно 265 человек — те, что не были убиты филиппинцами и португальцами, не умерли от цинги и не остались на неведомых берегах. Одно из самых грустных в истории совпадений — оба брата были убиты с разницей в несколько недель и на расстоянии в несколько сот миль друг от друга. Магеллан погиб от филиппинских копий на берегу Мактана, а Серран — от яда из рук местного султана после того, как ввязался в давнее соперничество между островами Тернате и Тидоре.
Самый замечательный рассказ об этом кругосветном путешествии связан с рабом, Энрике из Малакки, которого Магеллан привез в Лиссабон в 1512 году. В кругосветном плавании Энрике служил господину в Атлантике и Тихом океане. Ему пообещали, что дадут волю, если хозяин умрет. Но когда Магеллан был убит, раба не освободили, тогда он разозлился и сбежал. Хотя место его рождения и последующая жизнь нам неизвестны, вероятно он стал первым человеком, совершившим путешествие вокруг света.
Из пяти кораблей, начавших плавание, до Тидоре дошли только два, на борту которых находилась команда высохших как скелеты людей и пленные местные лоцманы. На эти корабли нагрузили столько корицы, что султан (тот самый, что отравил Серрана), глядя на то, как осели корабли под тяжестью груза, посоветовал не устраивать прощального салюта, опасаясь, что отдача от выстрела может потопить суда.
Путешествие сумел завершить только один из кораблей — «Виктория». Но 26 тонн гвоздики, доставленные им с Тидоре, окупили затраты на экспедицию.[31] Испанский король отметил капитана — Хуана Себастьяна де Элькано, который довел изувеченный корабль до Испании, пожаловав ему пенсию и герб с изображением двух палочек корицы, трех мускатных орехов и двенадцати бутонов гвоздики.
В начале XVI века, когда новости о миссии Магеллана достигли Лиссабона, для Испании и Португалии вопрос о том, кто из них будет контролировать эти крошечные вулканические островки, был первостепенным. Дон Мануэл испугался, что его сказочно прибыльная торговля пряностями под угрозой. Он впал в панику. Поскольку путь Магеллана держался в строжайшем секрете — не разглашалось даже, на восток или на запад отплыли его корабли, — Мануэл не знал, куда посылать свои. Он рассеял их повсюду, от Аргентины до мыса Доброй Надежды и Малакки, надеясь перехватить испанский флот. Случайно они обнаружили только один из Магеллановых кораблей, «Тринидад», который нуждался в ремонте сильнее, чем «Виктория», пропустил зимний муссон и предпринял самоубийственную попытку вернуться через Тихий океан, на восток. Достигнув широты Северной Японии, команда повернула назад, к Молуккским островам, где их перехватили португальцы, пришедшие слишком поздно, чтобы поймать «Викторию». Позже в Испанию вернулось только четверо моряков из первоначальной команды «Тринидада».
Королю Мануэлу не стоило беспокоиться. Хотя испанцы оставили на Тидоре маленькую торговую базу, лоцманы «Тринидада» и «Виктории» к тому времени уже поняли, что первоначальные расчеты Магеллана и Фальеро были ошибочны. Острова Пряностей, к сожалению, располагались в португальской зоне. (Как и Филиппины. Впрочем, это неудобство Филипп II Испанский исправил в 1565 году, когда вторгся на острова.) Все же прошло еще 250 лет, прежде чем долготу измерили достаточно точно, но к тому времени мускат и гвоздика стали уже настолько обычным и дешевым товаром, что расположение островов уже ничего не меняло.
Изучив отчеты об экспедиции, испанские монархи пришли к выводу, что даже долгое, опасное и дорогое плавание вокруг мыса Доброй Надежды выглядит легкой прогулкой по сравнению с кругосветным. Таким образом, португальцы, под чьим контролем находился мыс, сохраняли преимущество над испанцами. Наконец дипломатические требования и высокие затраты, связанные со снаряжением экспедиций, прекратили попытки Испании овладеть торговлей пряностями. Карл V Испанский просто женился на сестре нового португальского короля, Жуана III, и таким образом обеспечил дружественные отношения с Португалией. Кроме того, военные авантюры Испании держали ее в постоянных долгах. В 1529 году Испания, нуждаясь в деньгах и мире с западным соседом, продала Португалии свои претензии на Острова Пряностей за 350 000 дукатов.{311}
Хотя Португалия освободилась от конкурента в лице Испании, у нее оставались еще азиатские соперники. Португалия с ее крошечным населением и ограниченными ресурсами не справлялась с наведением порядка по всему Индийскому океану. Даже в относительно малых пределах Островов Пряностей находилось слишком много деревьев, бывших источником пряностей, слишком много берегов, слишком много туземных катамаранов и слишком много продажных чиновников, которые за несколько лишних золотых охотно закрывали глаза на несколько лишних мешков муската. Португалии отчаянно не хватало людей, и потому она могла держать под контролем только одну торговую базу на Молуккских островах. Как следствие, только 1/8 гвоздики ввозилась в Европу на португальских судах.{312} Еще труднее оказалось монополизировать корицу, а перец и вовсе невозможно, потому что он рос не только по всему протяжению Западных Гхат, но даже на Суматре.
Единственная возможность для Португалии перехватить мусульманские корабли, не дать туго набитым пряностями тюкам попасть в Египет, а следовательно, в Европу, заключалась в том, чтобы перекрыть Красное море. Это, как мы уже видели, им не удалось. В первые десятилетия после того, как Алмейда и Альбукерки устроили на западном побережье Индийского океана свои базы, португальцы пытались помешать провозу товара через Баб-эль-мандебский пролив. Но уже тогда португальских чиновников и морских офицеров было легко подкупить. Как писал один венецианский дипломат:
Специи провозились с дозволения португальских солдат, которые заправляли… в Красном море к собственной выгоде, несмотря на приказы своего короля, поскольку выжить в тех местах они могли, только продавая корицу, гвоздику, мускатный орех и цвет, имбирь, перец и другие снадобья.{313}
Следовало ожидать, что Венеция отправит своих дипломатов следить за португальцами, которые, по словам Томе Пиреша, тянули холодные, жадные руки к длинному, тонкому горлу Малакки и всюду, куда могли дотянуться. Венецианские купцы ужаснулись, узнав о возвращении в Португалию Васко да Гамы, и их самые первые и самые худшие опасения подтвердились. За десять лет, начиная с 1498 года, венецианская торговля пряностями сократилась на 2/3. Однако это сокращение не было следствием португальской блокады. Просто большие объемы пряностей поступали теперь вокруг мыса Доброй Надежды в Лиссабон, а оттуда в Антверпен — главную габсбургскую перевалочную базу богатеющей Северной Европы. В 1497 году, когда Васко да Гама отправился из Лиссабона в свое первое путешествие, европейцы потребляли менее двух миллионов фунтов перца в год. К 1560 году потребление выросло до 6-7 миллионов фунтов.{314}
Более разорительным, чем конкурентный способ доставки пряностей, стал для венецианской торговли разрыв отношений с растущей Османской империей. За первые десятилетия XVI века турки вытеснили с морских просторов венецианские галеры, перевозившие предметы роскоши по западной части Средиземного моря.{315} Поток пряностей, поступавший в Египет, иссяк лишь ненадолго, в самом начале португальской экспансии после 1500 года.{316} Наоборот, венецианские купцы обнаружили, что в Каире и Александрии имеется богатый выбор пряностей по справедливым ценам — если, конечно, удастся туда попасть.
К 60-м годам XVI века Венеция возобновила торговлю с турками. Теперь Баб-эль-мандебский пролив, Красное море и сам Египет находились под пятой Османской империи, а при растущем в Европе спросе на роскошь через Венецию могло проходить больше перца, чем до того, как Васко да Гама открыл путь вокруг Африки. Не одна лишь Венеция чинила константинопольскую калитку — французы и немцы тоже наладили отношения с османами, и их корабли нередко проносились мимо венецианских галер.{317}
Если венецианцы беспокоились из-за португальцев, то португальцы переживали из-за могучей торговой сети мусульманских стран. Сегодня трудно представить, что крупнейшим конкурентом Португалии в Индийском океане был Ачех — город-государство на западе Суматры, сейчас известный, в основном, как далекая, захолустная жертва цунами 2004 года. Однако в начале XVI века он был торговой державой, бенефициарием традиций дальнего плавания, сложившихся у древних австронезийцев в Индийском и Тихом океанах. В XIII веке Ачех принял ислам, что позволяло азиатским купцам призывать в Малакке не иметь дел с неверными португальцами. Расцвет Ачеха хорошо объясняет, почему у Португалии возникли трудности с контролем над Индийским океаном. Азиатские суда избегали заходить в Малакку и Гоа, как избегали они всякого порта, которым управлял жадный продажный султанат. Они предпочитали торговые базы, где заключались честные сделки. В XVI веке Ачех отлично им подходил.{318}
Влияние Ачеха распространялось на Индийский океан и его окрестности. На восточном краю торгового фронта он успешно спорил с португальцами за Острова Пряностей и терроризировал Малакку, устраивая разрушительные набеги на юрких весельных судах. На западном краю отношения Ачеха с Османской империей позволяли держать Португалию в страхе.
В Средние века шпионы следили за судоверфями и торговыми базами точно так же, как во времена «холодной войны» за ракетами и ядерными объектами. В 1546 году два португальских агента из Венеции писали, что в Каире выгружено 650 000 фунтов пряностей — достаточно, чтобы обеспечить на месяц всю Европу и погубить Венецию. Большая часть этого груза прибыла из Ачеха, который ежегодно экспортировал на запад до семи миллионов фунтов перца — примерно таковы были годовые потребности Европы. Даже если предположить, что часть груза предназначалась туркам, нетрудно подсчитать, что Ачех, а затем и Венеция держали в руках большую часть торговли индийскими пряностями, чем Португалия.{319}
Португальские агенты сообщали, что больше всего в этих перевозках и торговле задействовано жителей Ачеха, и из-за них рынки пряностей повсюду пересыщены и цены падают. Также шпионы пишут, что Ачех отправил послов к османскому султану в Константинополь и попросил предоставить пушечных дел мастеров в обмен на жемчуг, алмазы и рубины. Как отмечал один португальский современник, султан Ачеха Риаят-шах аль-Кахар «даже на другой бок не перевернется без мысли о том, как бы разорить Малакку».{320}
Португальцы осознали, что если они не переломят ось Ачех— Османская империя—Венеция, то их торговой империи придет конец. Они вынашивали грандиозные планы по очистке Красного моря и вторжению в Ачех. Ради вторжения они даже договорились с ненавистными испанцами о совместных действиях с их флотом в Маниле. Но все свелось на нет. У португальцев просто не нашлось достаточно сил — ни людей, ни кораблей, ни денег, — чтобы удержать за собой торговлю пряностями. Один португалец заметил: «Яванские корабли свободно перевозят гвоздику и мускат через Малаккский пролив в Ачех, и мы не можем запретить им, потому что в этих местах у нас нет своего флота».{321} Хуже того, альтернативные пути — к югу от Суматры и на севере, через Зондский пролив (между Суматрой и Явой) — были совершенно недоступны для португальцев.
* * *
В XVII веке португальцы постепенно лишались господства над торговлей пряностями, оно смещалось — по крайней мере временно — на восток. Стремление торговать неожиданно уступило место войне и расизму. Торговля между Китаем и Японией на несколько столетий прекратилась из-за японских пиратов и нападений на китайские береговые поселения. Династия Мин запретила всякие торговые отношения с «карликовой империей» — Японией. С рынка исчезло серебро с японских копей. Потеряв рынок, японские добытчики серебра сбросили цены, их доходы упали. Хотя в Японии производился шелк, торговцы предпочитали китайскую продукцию, которая, из-за эмбарго, ценилась в Японии очень высоко.{322} Но если Китай и Япония не желали иметь дел друг с другом, то каждый из них старался иметь дело с Португалией.
И что это были за дела! Почти с самого 1511 года, когда Альбукерки завоевал Малакку, португальцы начали активно торговать с Китаем. Спустя десяток лет они попытались взять Кантон, но маленькие мелководные суда их отогнали. В 1557 году, в качестве опорной базы, был взят Макао, которым Португалия владела почти полтысячелетия.
Примерно в то же время, как португальцы утвердились в Макао, их купцы начали торговать с южно-японским островом Кюсю. Огромное количество японского серебра, вывезенное в гавань Макао на корабле Дуарте — сына Васко да Гамы, — поразило португальское торговое сообщество в Китае. Один из купцов писал:
Десять-двенадцать дней назад прибыл из Японии Великий Корабль. Он был так нагружен серебром, что теперь все другие португальские корабли в Китае стремятся в Японию. Они собираются перезимовать здесь, у китайских берегов, с тем чтобы отплыть в Японию в мае, когда начнется сезон муссонов, благоприятных для такого плавания.{323}
В этом раунде торговли пряностями португальцы сорвали куш, и в 1571 году при помощи иезуитов они основали первую в Японии базу — в Нагасаки. Поначалу король жаловал капитанские лицензии на плавание из Индии в Японию и Макао только португальским чиновникам и офицерам за большие заслуги. Португалия быстро оценила потенциал японо-китайской торговли серебром и шелком и извлекла из нее максимальную выгоду для себя. Лицензии выдавались ограниченному количеству кораблей. (Сперва одному в год, затем постепенно к XVII веку это количество увеличилось до нескольких в год.) Стоила такая лицензия сотни тысяч крузаду (а крузаду примерно равен дукату, то есть около $80 в современных деньгах). Зато корабль можно было по самый планширь набивать сырым и выделанным шелком в Макао и серебром в Нагасаки. В обоих пунктах местные купцы ожидали «большой корабль», оба порта богатели на его рейсах. Прибыль от одной поездки туда и обратно оценивалась в 200 000 дукатов — больше половины того, что Португалия выплатила Испании за отказ от претензий на Острова Пряностей.
Поначалу там курсировали корабли размера обычного для торговых судов того времени — в основном, каракки вместимостью около пятисот тонн. Когда на смену XVI веку пришел век XVII, корабли превратились в монстров до 2000 тонн — самые крупные морские парусные суда эпохи. Португальские купцы, сопровождавшие товар, на самом деле завершали торговлю, внеся предоплату капитан-майору, держателю лицензии. Один из первых голландцев, побывавших в Японии, описывает, что происходило, когда «большой корабль» приходил в Нагасаки:
На корабле из Макао находилось около двухсот купцов. Они разом сошли на берег, и каждый из них подыскал дом, где он расположился со своими слугами и рабами. Они тратились, не стесняясь в расходах, и ничто не было для них слишком дорого. Иногда за семь или восемь месяцев, что они находились в Нагасаки, платили более 250 000 или 300 000 [унций серебра], и местные жители хорошо на этом наживались. Это одна из причин их дружелюбия.{324}
Как и повсюду в Азии, португальцев погубило религиозное рвение. Сегунат Токугава, пришедший к власти сразу же, когда наладилась торговля с «большими кораблями», был очень недоволен нарастающим влиянием иезуитов, проникавшим на Кюсю из Нагасаки. После восстания японских христиан в Симабаре (1637-1638 гг.) сегунат выдворил миссионеров из страны. Когда из Макао прибыла португальская делегация с протестом, ее участникам поотрубали головы.{325}
* * *
Если не считать «больших кораблей», португальцы так и не сумели взять под контроль морскую торговлю с Индиями. Их вынуждали защищаться, а иногда и нападать. Позже португальский рэкет назвали карташем — это плата, которая взималась с азиатских судов за проход. Корабли, не оплатившие карташ, захватывались, а бывало и того хуже.
Но Португалия не тратила сил даже на то, чтобы упорядочить систему карташей. Плата была ничтожной и служила лишь способом заставить азиатские суда заходить в португальские порты, где с них взимались таможенные сборы. К примеру, в 1540 году был захвачен гуджаратский корабль, потому что пункт его назначения, указанный в карташе, — Персидский залив — на совпадал с тем местом, где корабль застали — далеко в Индийском океане. Низкий уровень таможенных сборов (около 6% от стоимости груза) тоже свидетельствовал о неспособности Португалии контролировать перевозки в Индийском океане.{326} Скрепя сердце, азиатские торговцы платили карташ на маршруте Ормуз — Гуджарат — Малабар — Малакка, но вскоре они усвоили, что и это делать необязательно, если плыть из Адена прямо в Ачех. Этот путь, который проходился на одном дыхании муссона, лежал слишком далеко к югу, португальские патрули его не доставали.{327}
Престол и угодная ему торговая элита наживали сказочные богатства на пряностях, шелке и серебре, а Португалия, по старой иберийской традиции, все более погрязала в придворной роскоши и военном авантюризме. Даже сегодня трудно представить то количество кораблей, которое одно из самых маленьких европейских королевств могло развернуть от Бразилии до Макао. Но требование Португалии, чтобы такие крупные малабарские товарные базы, как Каликут, которые даже не находились под португальским влиянием, изгнали всех мусульманских торговцев, — выходило за грань возможного.
Если бы Португалия бросила все силы на торговлю, вместо того чтобы растрачивать их на обеспечение уплаты карташа, военный флот, укрепление портов, она могла бы отправлять пряностей, шелков, тонкого хлопка, фарфора и жемчуга вокруг мыса Доброй Надежды достаточно, чтобы стать богатейшим государством Европы. Королевское семейство и торговая элита наживали сказочные богатства на пряностях, но страна была разорена военными расходами на поддержание торговой империи. Португалию называли «генуэзской Индией», она постоянно находилась в долгах, и в ней заправляли итальянские купцы, а немецкие банки под предводительством семейства Фуггеров стали главными кредиторами королевства.{328}
Даже в XVI веке Португалия была обнищавшей страной земледельцев, в долг снаряжавшей экспедиции кораблями, матросами, серебром и товарами для обмена. Португальцы так нуждались в деньгах, что зачастую, когда их флот наконец добирался до Восточной Индии, им не хватало серебра и меновых товаров — все было потрачено на корабли и команду. Так, например, в 1523 году, за несколько десятилетий до того, как другие государства смогли соперничать с Португалией в Азии, на королевской базе в порту Тернате не нашлось денег, чтобы закупить груз гвоздики.{329} И это при низких молуккских ценах! В результате, груз был куплен частным лицом, португальским купцом. Когда спустя 80 лет там появились голландцы с тюками тонких фламандских тканей и сундуками серебряных монет, местные торговцы перцем и пряностями переметнулись к ним. В Амстердаме, Мадриде и Лиссабоне заметили, что монеты из этих сундуков чеканились Испанией в Мехико и Лиме.
Конечно, солдат португальской торговой империи мог добиться чинов и власти, как Франсишку Серран, но путь этот был долог и труден, а результат непредсказуем. Многие талантливые люди, как Магеллан, получили отказ, а, кроме того, высокие должности жаловали сроком всего на три года. Таким образом, отважный гордец, которому хватило удачи, чтобы получить этот пост (или денег, чтобы купить назначение), использовал недолгие отведенные ему 36 месяцев, выжимая как можно больше из местных торговцев, из своих солдат и из самой короны.
В 1512 году, когда Серран после кораблекрушения прибыл в Тернате, султан отнесся к нему почти как к божеству. Правитель предвидел, что «люди железа» издалека придут на помощь Тернате против соседних султанатов, особенно Тидоре. Десять лет спустя Тидоре пригласил людей Магеллана ровно с той же целью. Когда ушли испанцы, португальцы сожгли царский дворец Тидоре в наказание за сотрудничество с их иберийскими братьями.
В последующие десятилетия Португалия измучила острова Северного Молукку жестокими правителями, каждый из которых был хуже предыдущего. Один из них, Журже де Менесе, приказал солдатам грабить Тернате, когда не пришел корабль с продовольствием. А когда жители Тернате, защищаясь, убили одного из его людей, он взял в заложники местного чиновника, чтобы предотвратить дальнейшее сопротивление. Без всякого повода Менесе отрубил пленнику руки, привязал их за спиной и спустил на него собак. Несчастный как-то сумел броситься в воду и, с помощью только зубов, утопить собак, прежде чем захлебнулся сам.
Португальский миссионерский зуд не успокоился на этих островах, живших под властью мусульман-султанов. Все усерднее стремились португальцы обратить в христову веру местных жителей, которые с одинаковой подозрительностью относились и к церковным обрядам, и к жадным мусульманским правителям.{330} К середине 1530-х годов португальцы добились невозможного. Тернате и Тидоре заключили союз и вместе с соседними царствами восстали против европейцев. Центральным персонажем этой драмы стал тернатский султан Хайрун. Сев на трон в 1546 году как португальская марионетка он в течение четверти века, по воле европейцев, наращивал влияние и даже провел несколько лет в Гоа, будучи невольным гостем торговой империи.{331} Хотя поначалу Хайрун уважительно относился к христианству, против жестокости португальцев он решительно восстал. Это толкнуло его к исламу и обеспечило поддержку молуккских мусульман.
События развернулись в 1570 году, когда португальцы убили Хайруна. Трон унаследовал его сын Бабулла, который поклялся отомстить за смерть отца. Вскоре он стал лидером мусульман всех Молуккских островов и не только их. Восстание, которое он поднял, обретало все более мусульманский характер. Встревоженные иезуиты сообщали, что имамы из далеких Ачеха и Турции призывали правоверных архипелага искать небесной благодати на пути священного джихада. Туземцы оказались не менее жестокими, чем европейцы. Они вырезали младенцев из чрева христианских женщин, затем тех и других рубили в куски. Мятеж вытеснил португальцев с большей части островов. В 1575 году войско Бабуллы взяло португальскую крепость и превратило ее в султанский дворец. К 1583 году, когда Бабулла умер, он правил большей частью Островов Пряностей, которые разбогатели за время его правления.
Легко провести очевидные параллели с современностью — с мусульманскими восстаниями против далекой христианской державы, пытающейся сохранить стратегические позиции. Но на Молукках в конце XVII века ситуация была более сложной. Самое удивительное, что туземцы радостно принимали других европейцев, как потенциальных союзников в борьбе против португальцев. Первым таким европейцем оказался Фрэнсис Дрейк, который в 1579 году во время кругосветного плавания совещался с Бабуллой. Дрейк привел подробное описание этого огромного царства. Из описания явственно следует, что султан, с его любовью к роскоши, а также сотней жен и наложниц, был не слишком ревностным мусульманином. Через 20 лет прибыли первые экспедиции из Голландии, и Бабулла, и его наследники принимали их как противников ненавистных португальцев.{332} Увы, вскоре выяснилось, что голландцы еще более жестоки.
Португальцы эксплуатировали не только азиатов, но и своих сограждан. Столь ничтожной считалась жизнь простого солдата, что, прибыв в Индию, многие вскоре покидали строй и бежали в монастыри. Часто португальские рекруты не имели крыши над головой, и во время сезона дождей они, раздетые, попрошайничали у обочин дорог.{333} Палатки тысяч, умерших от тропических болезней и дурного питания в Королевском госпитале в Гоа, доставались уцелевшим счастливчикам.
Наконец, судьбу португальской торговой империи решили события в Европе. В начале XVII века разгорелась война за деньги и власть между тремя странами — Португалией, Испанией и Нидерландами. Их недавно обретенное при помощи сезонных ветров господство над миром окончательно замкнуло торговые пути в круг.
ГЛАВА 8. МИР ОХВАЧЕННЫЙ
В июне 1635 года в городе Мехико парикмахеры испанского происхождения обратились к наместнику короля с протестом по поводу присутствия китайских конкурентов. Наместник передал суть проблемы муниципальному совету, который, в свою очередь, рекомендовал ограничить число азиатских парикмахерских до двенадцати и перенести их в пригороды (к подобной практике прибегали в Испании, когда дело касалось иностранных купцов). Какое именно решение принял наместник, доподлинно неизвестно.{334}
Всего поколение спустя, в 1654 году, двадцать три голландских еврея, говоривших на португальском языке, прибыли в Новый Амстердам (предположительно они были первыми иудеями в Северной Америке). Губернатор города, принадлежавшего Голландии, Петер Стейвесант, пытался депортировать их, но его боссы — из Вест-Индской компании, а не из голландского правительства — позволили им остаться. Правда, из-за того что они прибыли из Бразилии на французских кораблях без специального уведомления, это решение несло некоторые ограничения: евреи не могли самостоятельно организовывать дело и «бедняки не должны становиться обузой для компании или общества, а должны получать помощь от своего государства».{335},[32]
Почти три века спустя, в 1931 году, одиннадцатилетний австралиец, гуляя по пляжу вдоль берега, в шестидесяти милях севернее Перта, обнаружил сорок испанских серебряных монет, датированных тем же временем, что и история с китайскими парикмахерами и голландскими евреями-иммигрантами. В 1963 году рыбаки в нескольких милях от берега нашли клад из тысяч таких монет, оставшихся после кораблекрушения «Фергульде Драек» («Позолоченного дракона»). Этот корабль, принадлежавший Ост-Индской компании, вышел в плавание из порта Голландии в 1655 году.
Как в середине XVII века китайские парикмахеры попали в Мехико? И что менее двадцати лет спустя португалоговорящие голландские евреи делали в Бразилии? Почему Вест-Индская компания, частный концерн, занималась вопросами государственной политики в Новом Амстердаме? И как почти за век до открытия Австралии капитаном Джеймсом Куком голландский корабль, полный испанских серебряных монет, нашел свой покой на дне морском так далеко на Западе?
Ответив на эти четыре вопроса, мы поймем многое о масштабной мировой экономической экспансии, которая началась благодаря кругосветным путешествиям и открытиям. Сделав это, мы проследим корни сегодняшней глобализации и недовольства ею. Но для начала нам необходимо уяснить пять соображений.
Во-первых, во время второй экспедиции Христофора Колумба, начавшейся в 1493 году, обмен разными сельскохозяйственными культурами — кукурузой, пшеницей, кофе, чаем и сахаром — между континентами внес определенные изменения в мировое сельское хозяйство и рынок труда. Однако перемены не всегда гарантировали повышение уровня жизни.
Во-вторых, к началу XVII века испанские и голландские моряки раскрыли все секреты механики ветров на земном шаре, что позволило им пересекать обширные пространства мирового океана относительно просто и быстро. К 1650 году всевозможные товары и представители разных народов были разбросаны по всему миру.
В-третьих, открытие огромных залежей серебра в Перу и Мексике привело к новой мировой денежной системе (а также к внушающей страх инфляции, возникшей из-за того, что было выпущено слишком много серебряных монет). Самой распространенной валютой стала испанская монета в восемь реалов.
В-четвертых, XVII век видел рассвет совершенно нового торгового устройства — общественных акционерных корпораций. Эти организации имели значительные преимущества по сравнению с их предшественниками — свободными торговцами, их кланами и королевской монополией. Большие корпорации вскоре начали доминировать в мировой торговле.
И наконец, переменами всегда кто-то недоволен. В новой глобальной экономике XVI и XVII веков владельцы текстильных мануфактур, фермеры и работники сферы услуг — все пострадали от появления более дешевого и качественного продукта из-за границы.
* * *
Чтобы разгадать, как китайские парикмахеры попали в Мексику, нам придется немного углубиться в историю шелка. Первые упоминания о тканях и нитках появились, согласно найденным археологами китайских записей, примерно в 3000 году до н. э. Согласно древнему китайскому мифу, старшая жена Желтого императора, Лэй Цзу, жившая в 2650 году до н. э., открыла шелк, когда ей в чашку с горячим чаем случайно упал кокон с тутового дерева.
В отличие от мускатного ореха и гвоздики, для которых нужен определенный климат и условия, шелкопряд и тутовое дерево могли расти во многих местах. Рано или поздно китайцы должны были потерять монополию на производство шелка. Удивительно, что этого не произошло вплоть до торгового бума между Римской и Ханьской империями с 200 года до н. э. по 200 год. Тогда слепые и почти неподвижные черви были перевезены в Корею и Японию, затем они отправились на запад, в Центральную Азию и Европу, морем и по суше.
В VI веке византийский император Юстиниан дал двум монахам задание раздобыть ценных китайских червей. (А вот само тутовое дерево везти было не обязательно, так как различные его разновидности уже произрастали по всей Евразии.) Мероприятие это было опасным, заполучить желаемое удалось. Благодаря их подвигу, в Испании и Италии стремительно начала развиваться шелковая индустрия.{336} Однако не все попытки европейцев наладить производство шелка увенчались успехом. В Англии зарождавшаяся шелковая индустрия потерпела фиаско из-за холодного и влажного климата. Не удалось также развить шелководство и в американских колониях. Немногим больше повезло испанцам в Мексике, где со времен Кортеса евроазиатские шелкопряды давали грубую, низкокачественную ткань.
К концу XVI столетия Испания отчаялась в попытках изгнать португальцев с Островов Пряностей и отступила на север к Филиппинам. Когда испанцы обнаружили Манилу в 1579 году, от которой до юга Китая рукой подать, они получили возможность переплюнуть в шелководстве всю Европу и Америку. Почти сразу очень выгодная торговля серебром Нового Света и восточным шелком взорвала все невообразимое пространство Тихого океана. Дуга этого маршрута, показанная на карте, расширила технологические горизонты в эпоху морских открытий.
Чтобы понять, как испанские суда преодолевали двадцать тысяч миль в оба конца, необходимо разобраться с картой ветров. Моряки веками использовали муссоны Индийского океана, но вдали от Азии это сезонное явление играет незначительную роль. Там основными являются пассаты, которые дуют круглогодично. Одни, которые использовали Колумб и Магеллан, дуют с востока на запад в тропических широтах (более точно с северо-востока выше экватора и с юго-востока ниже него). Другие дуют в противоположном направлении — с запада на восток — в умеренных широтах, строго между сорока и пятьюдесятью градусами широты в обоих полушариях (примерно в этих широтах расположены Венеция и южный мыс Новой Зеландии соответственно).[33]
Изрядно потрепанный «Тринидад» экспедиции Магеллана первым плыл по воле этих ветров, преодолевая Тихий океан по дуге в 1522 году, когда пытался попасть на восток. В 1565 году два экспедиционных испанских корабля — один под командованием Алонсо де Арельяно, другой, двумя месяцами позже, под командованием монаха Андреса де Урданеты — впервые преодолели двенадцать тысяч миль от Манилы до Акапулько под западно-восточными ветрами северной части Тихого океана. И сделали это всего за четыре месяца.{337},[34]
Эти два корабля были предшественниками ежегодных «манильских галеонов». Раз в год флотилия из Мексики, обычно состоявшая из двух больших торговых судов, наполненных серебром и охраняемых вооруженными галеонами, отправлялась на запад через экваториальные воды по пути Магеллана к Маниле. Серебро обменивали на дорогой товар, прежде всего на высококачественный китайский шелк, который привозили в джонках с южных берегов империи Мин на Филиппины. А потом «манильский галеон» доставлял его в Мексику, в Акапулько.
Таким образом баснословные испанские богатства обменивались на роскошь Востока. В 1677 году ирландский монах Томас Гейдж писал о Мехико: «И мужчины и женщины чрезмерны в своих одеяниях, носят больше шелка, чем других тканей и материй». Его потрясли горожане, прогуливавшиеся взад и вперед по главной улице колониального города Аламеда, где было в избытке «изысканных дам и горожан, жаждущих посмотреть и покрасоваться». В районе, где продавались ювелирные украшения, «в течение часа один человек может созерцать тонны золота, серебра, жемчуга и других драгоценностей».{338}
Открытие «серебряной горы» в городе Потоси в колонии Перу (сегодня это территории Боливии) произошло почти одновременно с открытием в Мексике в местечке Гуанахуато серебряных жил (в 1547 и 1548 годах соответственно). В Лиме, как и в Мехико, из-за переизбытка драгоценности падали в цене. На Калле-де-Меркадерес («Улица купцов») в Лиме драгоценности продавались во многих больших магазинах, в некоторых более чем на миллион серебряных песо. В 1602 году вице-король Перу написал Филиппу III:
Все эти люди живут, в большинстве своем, в роскоши. Все носят шелк и довольно хорошего качества. Богатых нарядов у местных дам очень много, ни в каком другом королевстве мира вы такого не найдете.{339}
Масштабное перераспределение богатств встряхнуло мировую экономику. Как всегда, были как победители, так и проигравшие. Кто пострадал? Мексиканские парикмахеры видели себя жертвами тогдашней разновидности несправедливой миграционной политики. Они убеждали вице-короля, что их просьба избавиться от китайцев основана исключительно на национальном интересе. Они просто хотели защитить страну от бескультурия и от болезней, которые иммигранты могли завезти с собой, и в данном случае не искали никакой выгоды для своего дела.{340}
Пострадали интересы многих, а не только испанских парикмахеров. В первую очередь это испанская и мексиканская шелковые индустрии, которые не могли соперничать в цене и качестве с китайскими тканями, которые привозили галеоны из Манилы.
В 1581 году основные путешествия и торговые операции между Манилой и Перу только начинались, но на следующий год испанская корона запретила такие отгрузки в интересах производителей испанского шелка. Однако торговцы и бюрократы Лимы и Мехико саботировали подобные директивы, и эта не стала исключением. В тщетной попытке остановить торговлю между Манилой и Перу указ повторяли в 1593, 1595 и 1604 годах.
В 1611 году вице-король Мехико под давлением производителей Пуэблы и ее окрестностей (к юго-востоку от столицы) безуспешно пытался добиться полного запрета «манильских галеонов». Испанские и мексиканские производители шелка видели угрозу в торговле между Перу и Мексикой. Они боялись, что китайский шелк, разгруженный в Мексике, обязательно попадет в Перу или, наоборот, привезенный в Перу контрабандой переправится в Мексику. Как ни странно, корона прислушалась к их просьбам и запретила торговлю между этими двумя крупнейшими колониями: «Поэтому мы приказываем вице-королю Перу и Новой Испании (Мексики) запретить и прекратить эти коммерческие отношения и торговлю между обоими королевствами».{341} Одновременно с запретом на манило-перуанский трафик этот не имевший законной силы указ был переиздан уже в пятый раз.
Торговые диаспоры вскоре сформировались вокруг филиппино-мексиканской торговли шелком и серебром. Купцы, торговавшие шелком и с Филиппин, и из Мексики, пересекали Тихий океан, чтобы основать торговые колонии. Обосновавшиеся на Филиппинах предприниматели (их еще называли манильцами) плыли на восток в Мексику, чтобы поживиться за счет посредничества и использования своих складов в Акапулько и столице. Мексиканские торговцы позже взяли реванш, заслав своих агентов на запад, в Манилу.
И снова установленный порядок был опротестован. Манильцы видели себя основателями и полноправными выгодоприобретателями в шелковой торговле. Недовольные потерей монополии с прибытием выскочек-мексиканцев в Маниле, они пожаловались губернатору Филиппин. Как испанские парикмахеры делали до них и поколения сторонников протекционизма будут делать после них, манильцы пытались мотивировать свои требования национальными интересами: «Одна из причин, несущих разрушение нашей стране, — это огромное количество привезенных сюда мексиканцами денег».{342} Корона ответила очередным указом, от которого легко было уклониться. Этим указом она запрещала посылать деньги и агентов из Мексики. Его неэффективность подтверждалась тем, что в течение еще нескольких десятков лет указ издавался снова и снова.
Испанцы на Филиппинах получили не только шелковый экспорт из Китая, но также его продукты и рабочую силу. Колониальное правительство объявило городок Париан, который находился недалеко от Манилы, резиденцией китайских эмигрантов, и два десятилетия более двадцати тысяч китайцев жили именно там. «Нет испанца, мирянина или священника, который бы не покупал их еду, одежду или обувь».{343} Зажиточные манильские торговцы, мексиканские агенты и колониальные чиновники — все нанимали китайских слуг, многие из которых приплыли из Париана в Акапулько на «манильских галеонах». Отсюда протекционистская реакция на китайских парикмахеров в Мехико за четыре века до дешевой азиатской электроники и беспорядков на встрече ВТО.
* * *
Первые североамериканские евреи проделали еще больший путь. Их история началась в 1496 году, когда португальский король Мануэл I объявил им ультиматум: обратиться в христианство или уехать. Многие перебрались в Амстердам. (Тех, кто остался и обратился, называли «cristaos novos» — «новыми христианами». Многие из них служили в португальских колониях на Востоке. А тем, кто остался, но не обратился, обещали защиту от преследования до 1534 года, однако предложение Мануэла было уловкой. В 1504 и 1505 годах многие евреи были убиты.) Когда, сто лет спустя, Португалия и Голландия сражались за контроль над дальней торговлей, португальские евреи в Голландии оказались в центре конфликта. В Азии эта борьба развернулась вокруг пряностей, в Новом Свете — вокруг сахара.
В наши дни сахар — товар массового потребления и продается очень дешево. Средний американец сегодня потребляет шестьдесят шесть фунтов сахара в год, средний европеец — восемьдесят семь фунтов в год. В Средние века он считался эксклюзивной и дорогой приправой, такой же, как гвоздика, мускатный орех и корица. Специалисты по истории экономики пришли к выводу, что в XV веке потребление сахара на душу населения составляло одну чайную ложку в год.{344}
Не будет большим преувеличением назвать сахар героином среди продуктов. Младенцы скоро предпочтут пить раствор глюкозы вместо чистой воды. И ни одно сообщество никогда не откажется от потребления сахарного песка, даже если население будет страдать физической непереносимостью, как, например, некоторые инуитские племена.{345} Сахароза — единственный химикат, который мы с радостью употребляем в чистом виде. Фактически, в каждом уголке мира его потребление на душу населения стабильно растет со времен, известных истории.{346}
Англичане больше других наций испытывают пристрастие к сладкому, что отражено в исторических документах. Немецкий путешественник Паул Хентцнер в 1595 году так описывал королеву Елизавету: «Продолговатое лицо, светлое, но с веснушками, маленькие черные и приятные глаза, нос крючковатый, узкие губы, а зубы черные. Недостаток, которому подвержены англичане, по-видимому из-за их любви к сладкому».{347}
Если сахар вызывает такое привыкание, а выращивать его довольно легко, почему он не распространился еще быстрее дальше Юго-Восточной Азии, своей родины? Тростник, Saccharum officinarum, боится морозов и растет двенадцать — восемнадцать месяцев под проливным дождем или при хорошей ирригационной системе и при постоянной температуре выше семидесяти градусов по Фаренгейту. Сбор урожая тростника, последующее его измельчение и переработка в сахар — тяжелый изнурительный труд, требующий больших затрат топлива и трудовых ресурсов.
Производство сахара происходит в три стадии. Сначала тростник дробят и получают сок. Тысячелетиями это делали грубым малоэффективным давильным способом, и тростниковый сок становился предметом роскоши даже там, где было достаточно рабов для тяжелой работы. Затем сладкий сок выпаривают и превращают в концентрированный раствор сахарозы. Для данного процесса необходимо много топлива. Наконец, сахарозу несколько раз нагревают и остужают, из белых кристалликов получают коричневую патоку мелассы, которая не может далее кристаллизоваться. Конечный процесс переработки требует не только затрат топлива, но также хороших навыков, которыми в колониальную эпоху могли похвастаться только в передовых промышленных центрах Европы.{348}
Уроженцы Новой Гвинеи, возможно, первые одомашнили сахарный тростник где-то в 8000 году до н. э. Его культивирование очень быстро распространилось на юг Китая, в Индокитай и Индию, где он хорошо рос в теплом климате. Твердый сахар впервые упоминается в исторических источниках в 500 году н. э.{349} Позже мусульманские завоеватели и торговцы стали экспортировать и тростник, и технологию его обработки на Средний Восток и в Европу. Старая пословица гласит: «Сахар следовал за Кораном».{350}
Однако мусульмане могли выращивать тростник лишь на нескольких узких полосах Среднего Востока и Средиземноморья, богатых водой: долина Нила, побережье Палестины, север Сицилии, Испания, Крит и несколько гористых долин рек в Марокко. Севернее слишком холодно, южнее мало воды.
Когда европейцы овладели этими территориями после 1000 года н. э., они унаследовали культивирование тростника и пристрастие к сахару. Португальцы переносили производство в новооткрытые колонии в тропической Атлантике: первым был остров Мадейра, затем Азорские острова, позже Сан-Томе, который находится недалеко от экваториальной Африки. На этих плодородных островах не возникало проблем с рабочей силой и условия для плантаций были более благоприятными, чем на Среднем Востоке или в Средиземноморье. Производителей особенно привлекал Сан-Томе, необитаемый до прихода туда португальцев в 1470 году и близко расположенный к сердцу африканской работорговли.
Но даже после того, как атлантические острова были обжиты, сахар остался предметом роскоши, так как его производство не стало настолько широко распространенным, чтобы сделать его товаром массового потребления. Производителям по-прежнему мешали две проблемы: отсутствие эффективных прессов и дефицит топлива. Первая разрешилась где-то в 1500 году, когда изобрели трехцилиндровую мельницу, которая работала от воды или от запряженных животных. Это устройство состояло из расположенных близко трех вертикальных цилиндров, им могли управлять не меньше трех мужчин. Один направлял на устройство воду или погонял животных, двое других непрерывно пропускали через цилиндры тростник. Вторая проблема, нехватка топлива, разрешилась с началом вырубки лесов на Среднем Востоке, в Европе и, вскоре, на островах Атлантики. С открытием бескрайних лесов в Новом Свете и этот последний барьер был преодолен.
После трансатлантического путешествия Колумба тростник перекочевал на испанские Канары. И вскоре распространился на все тропики Нового Света. Произошел бум производства тростника, который питал мировую экономику следующие три века. Этот «сахарный пояс» в Новом Свете, который тянулся с севера Бразилии до Суринама и далее, по всему Карибскому бассейну вплоть до Кубы, привлек большое количество европейских переселенцев, привлеченных туда относительно коротким трансатлантическим переездом, отсутствием организованного сопротивления среди местного населения и сельскохозяйственным изобилием, немыслимым на их родине.
Испанцы вскоре потеряли преимущества первопроходцев в Карибском бассейне, в Бразилии их обошли португальцы. Первым пострадал от производственного бума в Новом Свете португальский остров Мадейра. Он был не только главным источником сахарного тростника в мире до того, как открыли Новый Свет, но и главным перевалочным пунктом на пути из Бразилии в Лиссабон. Местные производители, понесшие потери из-за большого количества бразильского сахара, выброшенного на здешние рынки, требовали протекцию, и они ее получили. В 1591 году власти в Фуншале, столице острова, запретили ввоз сахара из Нового Света и наложили штрафы на нарушителей, а также припугнули их тюрьмой.
К 1591 году протекционизм уже не опоздал. Одной из причин, по которым Испания отстала в сахарной гонке, был ущерб производству Кубы, Ямайки и Пуэрто-Рико политическим давлением со стороны местных производителей Нового Света,{351} например на Гаити.
По курсу XVI века Португалия стала еще беднее из-за растущей экономической мощи Голландии и Англии. Оба государства жаждали заполучить в свои руки богатые, обширные и плохо защищенные торговые империи, которые Лиссабон к тому времени контролировал довольно слабо. Основная борьба тогда развернулась за азиатские пряности и бразильский сахар.
Голландия первая атаковала португальскую заморскую империю. Результат был неоднозначным. Наиболее известная неудачная попытка отобрать торговлю и территории у Португалии имела место в Южной Америке. В 1630 году Голландская Вест-Индская компания, которая была организована за семь лет до этого с целью контроля над сахарной торговлей, выбрала главной базой в Новом Свете острова в дельте на бразильском побережье, чье низинное и прибрежное расположение напоминало им родные Нидерланды. Там они построили город Маурицстад (сейчас район города Ресифи) в самой крайней восточной точке Бразилии. У них сразу же все пошло замечательно. В следующее десятилетие они завоевали почти все северное побережье Бразилии: от Маурицстада до устья Амазонки (около тысячи миль). Таким образом, они стали контролировать львиную долю мировой сахарной торговли. В XVII и XVIII веках сахар и рабство были неразрывно связаны, поэтому Вест-Индская компания стала также основным участником на рынке работорговли. Между 1636 и 1645 годами она продала не меньше 23 000 рабов только в Бразилии.
Вполне естественно, что бразильская экспедиция компании возглавлялась голландскими евреями, говорившими на португальском языке. Они не только хорошо владели языком, но также занимались продажей сахара, его переработкой и участвовали в финансовых рынках. Первые успехи компании подтвердили статус голландских евреев. Например, Вест-Индская компания, в отличие от голландской Ост-Индской компании, имела много держателей акций среди евреев. В ходе кампании в Бразилии в середине 1640-х годов более одной третьи из четырех тысяч поселенцев были евреи.
В каком-то смысле, история подстроила западню для Вест-Индской компании. За шестьдесят лет до этого в 1580 году Филипп II Испанский унаследовал корону Португалии, когда собственная португальская королевская династия пресеклась. (Для Филиппа это было вполне естественно, так как у него были португальские корни, его растили португальские куртизанки и его родной язык был также португальским. А еще он любил перефразировать известное высказывание Цезаря, говоря: «Унаследовал, купил, победил».) В результате возник союз Испании и Португалии, который оставил Бразилию и индийские колонии зависящими от испанской короны и раскололся после португальского восстания в 1640 году.
Последовавшая независимость Португалии от Испании вызвала два отрицательных последствия для компании. Первое: новый португальский король Жуан IV договорился о перемирии в 1641 году с голландским правительством и заставил компанию отказаться от экспансии и временно приостановить преследование португальских кораблей. Второе: восстание против Испании взбудоражило португальских католиков, поселившихся в Бразилии, которые вскоре восстали против протестантских и голландско-еврейских повелителей.{352} В городах страсти накалялись. Например, многие португальские поселенцы к 1654 году снова завладели Маурицстадом, а бразильско-голландские захватчики поспешили на север, к Суринаму, Карибам и назад в Амстердам.
В течение XVII века инквизиция бушевала и в Испании, и в Португалии. К счастью для евреев, португальское начальство, захватившее Маурицстад, Франциско Баррето де Менесес, соблюдал церковное право, по которому инквизицией преследовались только новообращенные евреи по подозрению в тайной приверженности иудаизму, а вот в Испании и Португалии не наблюдалось такой дотошности в соблюдении этого предписания, там преследовали и необращенных евреев.
Двадцать три еврейских поселенца попали на голландское судно, приплывшее к испанской Ямайке, что могло стоить им их жизней. Но им повезло: испанский губернатор, не желавший разозлить Португалию или Голландию, отпустил их. Беженцам посчастливилось подняться на борт французского судна «Святая Катерина», капитан которой, выманив все, что у них было, отвез их на Манхэттен в 1654 году.{353},[35]
Теперь можно сформулировать причины, повлекшие за собой появление в XVII веке в Нью-Йорке первых евреев: внезапное смещение товарного производства в другой конец света, неизбежный призыв к защите от старых центров производства и миграция из родных мест тех, кто обладал нужными навыками.
То, что губернатор Нового Амстердама Петер Стейвесант работал на частный концерн, казалось совершенно естественным. В конце концов, голландские заставы в Индонезии, Южной Африке и Новом Свете были фактически исключительно торговыми предприятиями. Было логично, что они должны были управляться сотрудниками компании, а не чиновниками.
К началу XVII века моряки обуздали ветры мирового океана, так что не было ничего необычного в том, что группа евреев из Амстердама появилась в Нью-Йорке, или в том, что китайский шелк приплыл в Мексику или Перу из Манилы. Однако еще одни ветры оставались не открытыми.
Как или когда моряки столкнулись с южной версией высокоширотных западных ветров, которые принесли манильские галеоны с Филиппин в Мексику, неизвестно. Но дули они в южной части Индийского океана свирепее, чем на севере Тихого океана, потому что в Индийском океане нет столь явного влияния континентов. Да Гама и его португальские последователи решили проплыть по южной части Атлантического океана вокруг мыса Доброй Надежды. Они могли использовать эти ветры, чтобы доплыть, практически, до самых Островов Пряностей.
В 1611 году капитан Голландской Ост-Индской компании Хенрик Брауэр прошел мыс Доброй Надежды, но вместо того, чтобы направиться на северо-восток в сторону Индии, используя летние муссоны, отважно повернул на юго-восток в неизведанное и стал первым, кто прошел в «ревущих сороковых» весь путь до самой Явы.
Он доплыл от Голландии до Батавии (современной Джакарты) всего за пять месяцев и двадцать четыре дня. Для сравнения, обычный маршрут через муссоны занимал год. Новый маршрут был не только дешевле и быстрее, но и легче переносился экипажем, к тому же в прохладных средних широтах продукты дольше сохранялись. Вдобавок ко всему, Брауэр избежал встречи с португальцами в Малакке.
Маршрут Брауэра — вокруг мыса Доброй Надежды, затем семь тысяч миль на восток, далее налево — стал стандартным для европейских мореплавателей на следующие три века.{354} Однако и здесь не все было так гладко: проблемы возникали, когда судно поворачивало на север, чтобы попасть в Зондский пролив между Явой и Суматрой. Морские хронометры Джона Харрисона, точно измеряющие долготу, появились лишь 150 лет спустя, а тогда многим английским и голландским судам не удавалось сделать поворот в правильном месте и попасть в этот пролив. Только счастливчикам повезло вернуться домой, чтобы рассказать о случайном открытии северной и западной береговых линий Австралии.
Чаще всего такие пропущенные повороты оказывались пагубными, и австралийские прибрежные коралловые рифы становились кладбищем для дюжин европейских кораблей. Самое бесславное из таких кораблекрушений произошло с судном «Батавия», которое затонуло на рифе у Западной Австралии в 1629 году. Четвертая часть из трехсот пассажиров и членов экипажа утонула, остальные выбрались на пустынный коралловый берег, лишенный пресной воды. Капитан корабля и главный представитель Ост-Индской компании (позднее шурин Брауэра) доплыли до Явы на маленькой лодке. Когда спасательная команда пришла на помощь, через три месяца, перед ними предстала ужасающая картина: небольшая группа мятежников зверски и методично убивала тех, кто спасся во время кораблекрушения. Голландская Ост-Индская компания попыталась скрыть этот эпизод. Неприглядная история просочилась лишь спустя десять лет, и мир облетел рассказ о том, как вдали от цивилизации европейцы поубивали друг друга.{355}
Обуздание ветров дало начало новой денежной системе, во многом предшественнице сегодняшней мировой системы кредитования и платежных механизмов, с помощью которых можно было купить импортную роскошь, которую требовали жадные Старый и Новый Свет. Корабли, следовавшие на восток по «ревущим сороковым», привозили товар, пользовавшийся наибольшим спросом в Азии — тонкие европейские ткани и драгоценные металлы, из которых в Мексике и Перу чеканили восьмиреаловый «испанский доллар». Эта монета, заполонившая валютные европейские рынки в XVI веке, весила примерно столько же, сколько и богемский талер — от которого и пошло слово «доллар».
Испанцы чеканили огромное количество монет. Их общее количество неизвестно, но в течение десяти лет между 1766 и 1776 годами в одной только Мексике было произведено более двухсот миллионов монет, каждая из которых весила чуть меньше унции.{356} С XVI по XIX век «испанский доллар», такой любимый в Мексике, являлся де-факто мировой валютой. Неважно, в чьих руках был «испанский доллар» — влиятельной торговой компании или простого местного торговца, — им можно было расплатиться за мускатный орех на островах Банда, за ситец в Гуджарате, за шелк в Маниле или Мексике, за кофе в Йемене и за корицу на Шри-Ланке.
Монеты имели тенденцию исчезать и снова появляться. Например, в Индии в конце XVII века, где серебро было очень популярно, их переплавляли в рупии или ювелирные украшения.{357} А в США, наоборот, «испанский доллар» был государственной денежной единицей вплоть до 1857 года.
Для Голландской компании потеря сокровищ на австралийском рифе имела жизненно важное значение. Спасательная команда, посланная за «Батавией», привезла с собой опытных голландских и гуджаратских ныряльщиков, которые подняли десять из двенадцати сундуков затонувшего испанского серебра. Когда в 1656 году на злосчастном повороте совершил ошибку «Золотой дракон» и сел на мель к северу от современного Перта со своими восьмью ларями серебра, экипажем и пассажирами, то компании пришлось еще хуже, чем с «Батавией». Только семеро спаслись и вернулись на Яву, остальные пропали без вести. Следов серебра никто не смог обнаружить до того самого дня, когда австралийский мальчишка нашел на пляже старинную монетку.
В 60-х годах прошлого века австралийские археологи нашли около половины из сорока шести тысяч монет, погруженных на голландские корабли. Обломки судов были частично разорены мародерами, некоторые из мародеров использовали взрывчатку. Это повлекло за собой вмешательство государства, которое теперь на законодательном уровне защищает археологические находки Австралии.{358}
Интересно, но почти на всех монетах стоит штамп «М» монетного двора Мехико, хотя более 60% серебра Нового Света пришло из перуанского Потоси и было отчеканено в Лиме. Причина тому проста: Ост-Индская компания аннулировала перуанские монеты после того, как снизилось их качество. В 1650 году ответственные за это лица были наказаны, во всяком случае одного из них точно казнили. Компания не восстанавливала производство этих монет до 1661 года, когда затонул «Золотой дракон».{359}
То, что это несметное сокровище было собственностью Ост-Индской компании, означает, что к середине XVII века международная торговля стала сферой мультинационального корпоративного капитализма. В XVII веке Голландская компания методично внедрялась в коррумпированную, разваливавшуюся португальскую торговую империю, чтобы в результате встретиться с более опасным врагом, Английской Ост-Индской компанией. Успехи в мореплавании, описанные в этой главе, закалили голландцев для сражений на узловых перекрестках европейской торговли и на плантациях по всему свету. Но по большей части в этих сражениях участвовали не армии и флотилии, а корпорации.
ГЛАВА 9. ПОЯВЛЕНИЕ КОРПОРАЦИЙ
13 декабря 1577 года флотилия из пяти кораблей под командованием Фрэнсиса Дрейка покинула английский порт Плимут. Тайное задание, полученное Дрейком от королевы Елизаветы, состояло из трех частей: повторить путь Магеллана вокруг света, наладить торговлю с Островами Пряностей и напасть на испанские торговые суда.
Эти задания никто не смог бы выполнить лучше Дрейка. В свои 37 лет он уже заслужил репутацию искусного морехода и отважного вояки. За семь лет до этого он вместе со своим кузеном Джоном Хокинсом ходил в Карибское море с грузом рабов. Пока чинили корабли в мексиканском порту Сан-Хуан-де-Улуа, их обманули и едва не захватили испанцы. После этого случая Дрейк на всю жизнь сохранил ненависть к иберийцам. Через пять лет он прославился тем, что перехватил в Панаме испанский «серебряный» конвой. Сказочную добычу в 20 000 фунтов он привез в Англию и передал королеве.
Кругосветное путешествие, которое Дрейк удачно проделал, оправдало самые смелые ожидания — его и королевы. 26 сентября 1580 года уцелевший корабль вошел в гавань Плимута. Он не только побывал у Молуккских островов, но и прошел вдоль западного побережья Нового Света от мыса Горн до острова Ванкувер. Во время этого легендарного плавания Дрейк разведывал местность, занимался торговлей и разбоем. Его корабли низко осели, нагруженные испанскими сокровищами и португальскими товарами, снятыми с галеонов и каравелл между Африкой и Перу, а также корицей и мускатом, честно купленными у Бабуллы, мятежного султана Тернате, с Островов Пряностей.
В Европе мирной торговлей занимались такие мощные державы, как Испания и Нидерланды. Они были заинтересованы в том, чтобы в море не было пиратов. Как многие слабые, бедные, отсталые государства, Британия в конце XVI века не могла позволить себе роскошь не трогать иностранных купцов. Слишком большую выгоду приносил разбой. До величественной, либеральной, свободно торгующей Британской империи оставалось еще двести лет. Тюдоровская Англия была государством разорившихся монархов, королевские монополии расхватывали придворные фавориты, а королевские грамоты обеспечивали флибустьеров работой.
Самым ценным из грузов, которые в тот день снимали с корабля на плимутские пристани, были не пряности, не золото, а интеллектуальный капитал. В начале своей одиссеи Дрейк у островов Зеленого Мыса, неподалеку от африканского побережья, захватил португальское судно «Санта Мария». Англичане с удовольствием освободили стотонную каравеллу от шерсти, льна, бархата, шелка и вина. Груз предназначался для Бразилии. Кроме товаров на корабле оказались парусина, гвозди и инструменты — запас, необходимый для долгого плавания.
Однако больше всего Дрейка заинтересовал лоцман, Нуньо да Сильва, один из самых опытных в Европе моряков. Португальский офицер и английский пират провели бессчетные часы, вместе разглядывая и переводя карты с «Санта Марии». В скором времени да Сильва уже бегло говорил по-английски. Через несколько месяцев лоцман уже обедал за капитанским столом, на корабле исполняли любые его прихоти, кроме, конечно, просьбы об освобождении. (Через год Дрейк исполнил и это.) Благодаря да Сильве и его картам, Дрейк заполучил во владение Англии самую тщательно оберегаемую тайну той эпохи — навигацию по звездам чужих небес при плавании «за чертой», в Южном полушарии.{360}
В тот день в Плимуте произошла не просто передача жизненно важных знаний с юга Европы на ее север — эта передача оказалась символичной. Когда Дрейк прибыл, королевские чиновники тут же позаботились о том, чтобы упрятать его от посторонних глаз. Это произошло за пять месяцев до того, как Елизавета посвятила его в рыцари на палубе «Золотой лани». Государственное пиратство вышло из моды. Хотя позже, в 1587 году, Дрейк снова отличился, «подпалив бороду испанскому королю» — дерзко напав на военный флот Филиппа II в порту Кадис, но в тот момент первого возвращения он оказался в затруднительном положении. Будущим Британии была торговля, не разбой. Очень скоро выяснилось, что учетная книга сильнее меча, и пиратов, отчаянных одиночных торговцев и бравых морских офицеров прошлой эпохи готовились сменить безликие менеджеры двух крупнейших многонациональных корпораций новой истории.
Первой из них была Голландская Ост-Индская компания (VOC, Verenigde Oostindische Compagnie). Она заправляла в XVII веке дальней торговлей. Второй была Английская Ост-Индская компания (EIC, English East India Company). Она унаследовала владычество в XVIII веке. За две сотни лет эти компании, очень разные по происхождению и политике, сражались между собой за первенство в мировой торговле, и судьбы этих компаний отражались на государствах, их породивших.
* * *
До экспедиции Дрейка североевропейские корабли ходили на восток только до Средиземного моря, через Гибралтарский пролив. Если голландец или англичанин желал путешествия на восток, он мог проделать его на португальском, испанском, азиатском судне или сухим путем.
В начале XVI века Тюдоры начали давать монополии торговым синдикатам. Вероятно, первым из них была группа, известная как Компания купцов-предпринимателей. В 1505 году ей дозволялось отправлять корабли, груженные шерстью, на Кипр, Сицилию и в Триполи. Если дела шли удачно, корабли возвращались в Англию с грузом шелков, пряностей, хлопка и ковров. Затем появились другие лицензии. Самые известные из них выдавались Московской компании (1555), Восточной компании для торговли в Скандинавии и на Балтике (1579) и Левантийской компании для торговли с Турцией (1581).
В 1580 году, когда «Золотая лань» вернулась в Плимут, нагруженная богатствами Востока, ее содержимое принесло 50 фунтов прибыли на каждый вложенный в экспедицию фунт, не считая, конечно, 50000 фунтов в испанских песетах и золотых слитках, отправленных в кладовые Тауэра как собственность короны.
Вдохновленный успехом Дрейка, в Индию разными путями устремился поток авантюристов. В 1583 году четверо торговцев из Лондона — Джеймс Стори, Джон Ньюберри, Ральф Фитч и Уильям Лидс — отправились в Индию сухим путем и доставили могольскому императору Акбару дружественную ноту от Елизаветы. Описывая это путешествие, Фитч говорит о бессчетных рубинах, алмазах, шелках, золоте и серебре, выставленных напоказ при могольском дворе. Этот отчет взбудоражил Лондон. В 1586 году Томас Кавендиш осуществил третье путешествие вокруг света (вслед за Магелланом и Дрейком). Он вернулся в 1588 году с грузом испанских трофеев, его люди были одеты в китайские шелка, паруса отделаны золотой парчой, а грот сшит полностью из дамаста. В следующее кругосветное плавание Кавендиш отправился в 1591 году, с тех пор о нем ничего не известно.
Экспедиция под командованием Джеймса Ланкастера тоже в 1591 году отправилась в Индию через мыс Доброй Надежды. Ланкастер ехал грабить, не торговать. За три года плавания он рыскал между Мысом и Молуккскими островами, освободил от груза несколько шедших из Индии португальских кораблей и потерял от цинги и бурь 90% экипажа. После неудачной попытки отнять у португальцев провинцию Пернамбуку, на восточном побережье Бразилии, он вернулся в Лондон, где затеял новую авантюру — Английскую Ост-Индскую компанию.{361}
* * *
Совсем иначе образовалась VOC, и чтобы это понять, нам нужно сперва описать ее социальные и политические корни. К середине XVI века то, что сегодня называется Голландией и Бельгией, было семнадцатью провинциями Бургундии, в основном низменными. В 1506 году их по линии Габсбургов получил в наследство Карл I Испанский, который позже стал императором Священной Римской империи. В 1568 году, когда сын Карла, Филипп II, пришел на эту землю, чтобы положить конец протестантским реформам церкви, пять северных провинций восстали. В 1579 году они, в составе Утрехтской унии, формально провозгласили свою независимость. Теперь они называли себя Республикой Соединенных провинций — современные Нидерланды.
В то время Антверпен (сейчас находится в Бельгии) был торговым центром мирового значения. Этот богатый город притягивал купцов — как католиков, так и протестантов — из Англии, Германии и новых Соединенных провинций. Все они были счастливы возможностью торговать с Испанией и Португалией, и не только пряностями. Например, голландцы использовали испанскую соль для засолки сельди. Со своей стороны, голландцы отправляли на юг все более технологически сложные текстильные изделия, а также зерно и прибалтийский лес.
В 1585 году племянник Филиппа, герцог Пармский, захватил Антверпен, но с не характерной для той эпохи любезностью позволил протестантам уйти из города подобру-поздорову. Почти в то же время его дядя наложил на Соединенные провинции эмбарго и захватил их суда, стоявшие в испанских и португальских портах. Каждое из этих трех действий было колоссальной ошибкой. Одним махом Филипп создал сеть самых трудолюбивых, самых предприимчивых торговцев в мире — протестантов, бежавших из Антверпена, которые прилагали все силы, чтобы вести дела, не заходя в иберийские порты.[36]
Больше всего беженцев осело в Амстердаме, который хоть и являлся голландской столицей, но портом в то время был незначительным. (Имеется в виду Голландия как крупнейшая из Соединенных провинций, а не вся страна.) С 1585 по 1622 год в Амстердаме становилось все больше протестантских беженцев, их число увеличилось с 30 000 до 105 000, а город превратился в один из крупнейших в Европе. Повстанцы блокировали Антверпен, значение которого сильно упало.{362}
В конце 1500-х годов голландец Ян Гюйген ван Линсхотен решил, что пора уже Голландии сделать последнее усилие и прорваться в Индийский океан. Несколько лет он служил секретарем у португальского архиепископа в индийском городе Гоа, а в 1588 году, после смерти прелата, решил попытать счастья и отправился еще дальше на восток. Он мечтал не о великой судьбе, а всего лишь о мелкой торговле: «Если бы у меня нашлось две-три сотни дукатов, я с легкостью обратил бы их в шесть-семь сотен».{363}
Внезапно вернувшись в Голландию в 1592 году, ван Линсхотен принялся работать над книгой, которая известна под названием «Itinerario», что переводится с испанского как «путеводитель, описание маршрута». В книге рассказывается о растительности и коммерческой географии Юго-Восточной Азии. Там же приводятся советы мореплавателям. Самые полезные рекомендации касаются торговли в Ост-Индии:
В этом месте, которое называется Сунда, много перца, он лучше индийского и малабарского. Здесь его так много, что ежегодно отсюда можно отправлять [500 000 фунтов]… Также здесь в изобилии ладан, камфара и алмазы, так что, не прилагая особенных трудов, отсюда можно наладить их поставки. Португальцы сюда не приходят, потому что множество яванцев привозит свои товары на продажу в Малакку.{364}
Иными словами, плыви на юг от Суматры, затем на север, через Зондский пролив (между Явой и Суматрой), и ты не встретишь португальцев, которые довольны тем, что индонезийские купцы во множестве едут к ним на запад, в Малакку. Хотя эту книгу напечатали только в 1596 году, наблюдения и советы ван Линсхотена вскоре стали общим достоянием и сослужили голландцам добрую службу гораздо раньше. Затем «Itinerario» перевели на несколько языков, и книгой заинтересовались во Франции, Германии и Англии.
В 1594 году четыре амстердамских купца, под впечатлением заметок и морских карт (тогда еще не опубликованных) ван Линсхотена, основали Компанию дальних земель, а год спустя этот синдикат отправил в Индию четыре корабля и 249 моряков на них. Как обычно и случалось в ту эпоху, домой в 1597 году вернулось только 89 человек. Но при них оказалось только немного перца, а дорогих пряностей они не привезли вовсе. Но несмотря на неудачу и несбывшиеся планы, купцы остались в прибыли, и это не прошло незамеченным. За последующий год «Дальние земли» и еще пять новых компаний отправили на восток не менее 22 кораблей. И опять вернулось домой только 14 кораблей и меньше половины команды, но корабли «Дальних земель» вернулись, нагруженные 600 000 фунтами перца, что принесло инвесторам баснословную прибыль.{365}
В 1601 году, когда первый из этих кораблей прибыл в Амстердам, радостно зазвонили в церковные колокола. Как пишет один из очевидцев: «Такого богато нагруженного корабля не видали за все время, пока Голландия зовется Голландией».{366} Голландцев охватила такая неистовая торговая лихорадка, что ей порадовался бы любой современный приверженец свободной торговли. Якоб ван Нек, командовавший этой успешной экспедицией, заметил, что их задачей было «никого не грабить, но честно торговать со всеми чужестранцами».{367} Правда, скоро все изменилось.
* * *
В это время стремительно развивались события в Англии, где, как почти в любой стране того времени, никто не сомневался в том, как нужно действовать. Монарх должен сохранять за собой монопольное право на торговлю или уступать ее фавориту в обмен на часть акций. Елизавета охотно применяла этот способ. Например, в 1583 году она пожаловала сэру Уолтеру Рейли монополию на сладкие вина в пределах всей Англии.
Английский престол был заинтересован в развитии торговли перцем. Вдохновлял пример голландцев, которые сбывали перец втрое дороже закупочной цены. Английские купцы такой шанс упустить не могли.{368} Группа лондонских купцов, многие из которых уже состояли в Левантийской компании, обратились к тайному совету с документом, озаглавленным «Явные причины, по которым английские купцы могут торговать в Ост-Индии». Совет счел документ убедительным, и через полтора года организаторы провели собрание, на котором было набрано 68 000 фунтов стерлингов на это предприятие. Испрашивать монополии у королевы не имело никакого смысла, и организаторы представили дело как свершившийся факт. Прежде чем официально просить лицензии, они закупили, оснастили и снарядили пять кораблей, а затем загрузили их товарами и подарками для местных правителей.
К тому времени как петиция дошла до Елизаветы, под ней стояло уже более двухсот подписей. 31 декабря 1600 года королева поставила печать и подпись на лицензии для новой компании сроком на каких-то пять лет, а уже спустя шесть недель флотилия под командованием Джеймса Ланкастера скользила вниз по Темзе.{369}
* * *
1601 год оказался очень насыщенным событиями и для Голландии. Вслед за успехом второй экспедиции Компании дальних земель шесть других голландских компаний снарядили 14 экспедиций, состоявших из 65 кораблей. Они отправились вокруг мыса Доброй Надежды. К тому моменту стало очевидным, что торговлю пряностями невозможно держать под контролем, когда фирмы-конкуренты наступают друг другу на пятки, путая цепочки поставок, поднимая цены в Индонезии и пересыщая рынок в Амстердаме. Чтобы этот бизнес оставался прибыльным, голландское правительство должно его регулировать.
В Англии, как мы узнали, естественная склонность к предпринимательству в Индии и Юго-Восточной Азии уравновешивалась монопольными правами, которые даровались монархом. Но Голландия отличалась от типичных монархических стран Европы, и голландское правительство старалось действовать в интересах всей страны, особенно когда это политически выгодно.
Но что значит «голландское правительство»? С 1579 года, когда Утрехтская уния объединила северные провинции, восставшие против Испании, на протяжении двухсот лет единственным государственным политическим институтом были Генеральные штаты. Этот выборный орган собирался в Гааге и решал военные и дипломатические вопросы совместно со штатгальтером, наследным принцем из дома Оранских. Во всех прочих отношениях каждая провинция управлялась самостоятельно, регулировала свои торговые дела и выставляла своих представителей в Генеральные штаты, которые сами нередко находились в противостоянии с Оранскими. Создать государственную торговую компанию оказалось нелегко.
К счастью для голландцев, в 1602 году талантливый лидер из состава Генеральных штатов Йохан ван Олденбарневельт и влиятельный штатгальтер, принц Мориц Оранский уговорили провинции одобрить создание единой монопольной организации для ведения торговли в Юго-Восточной Азии.
Эта новая организация (VOC) очень походила на государство, породившее ее. Каждая из первоначальных шести компаний имела свою региональную штаб-квартиру, или палату. Государственное бюро из семнадцати инспекторов — Совет семнадцати — проводило надзор за этими шестью офисами. Эти господа представляли земли в соответствии с численностью их населения. Четыре малые провинции представляло по одному человеку, четверо представляли среднюю по населенности Зеландию и восемь — Голландию. А чтобы Голландия не подавляла остальных абсолютным большинством, семнадцатый член совета поочередно представлял Зеландию или одну из четырех малых провинций.
Лицензия компании позволяла ей содержать вооруженные силы, с единственной оговоркой — они должны принести присягу Генеральным штатам. Компания могла даже вести войну, но только «оборонительную». (Английской Ост-Индской компании тоже разрешалось вести военные действия, и обе компании, как мы вскоре увидим, нередко упражнялись, применяя эти привилегии друг против друга.) Поскольку обмен письмами с Ост-Индией занимал целый год, считая дорогу туда и обратно, Голландская Ост-Индская компания вела себя как суверенное государство. С азиатскими соперниками она расправлялась физически, стоило лишь Совету семнадцати или особо агрессивному управляющему или офицеру усмотреть в этом надобность.
Голландская Ост-Индская компания, а вместе с ней и Вест-Индская компания (WIC), наделенная через 20 лет такой же военной мощью, не замедлили воспользоваться силой своих армий. В период с 1602 по 1663 год обе компании постарались перебить жителей испанских и португальских поселений в Чили, Бразилии, западной и восточной Африке, на берегах Персидского залива, в Индии, на Шри-Ланке, в Индонезии, Китае и на Филиппинах. На самом деле, две эти частные компании развязали самую первую мировую войну в борьбе за пряности Азии, сахар Бразилии, а также золото и рабов Африки.{370}
Результат вышел неоднозначный. Голландцам досталась Индия и Индонезия. К концу XVII века за португальцами оставались только крошечные анклавы в Гоа и Тиморе. Но голландцы потерпели жестокое поражение в Маниле, Макао и, что самое важное, в Африке. Ост-Индская компания, неспособная захватить португальские базы в Анголе и Мозамбике, была вынуждена основать свои собственные, на южной оконечности Африки, чтобы защитить путь в Индию.
Военная машина компаний была внушительна, но самым мощным их оружием были финансы. В 1602 году инвесторы вложили в Ост-Индскую компанию 6,5 миллионов гульденов (около ста миллионов долларов по сегодняшним расценкам). На эти деньги нанимались люди, покупались корабли, приобреталось серебро и товары для обмена на пряности. Это был постоянный капитал и, если дела шли хорошо, прибыль с него окупала затраты. Хотя инвесторы рассчитывали на скромные годовые дивиденды, у них не было причин ожидать, что к ним быстро вернутся их 6,5 миллионов. Для современного инвестора это привычная картина, но в XVII веке появление в Голландии постоянного капитала указывало на чрезвычайную надежность голландских финансовых институтов.[37]
* * *
К началу XVII века все дороги вели в Нидерланды. Эта страна, размером меньше Португалии и лишь слегка больше ее по населению (1,5 миллиона в 1600 году), основала первую по-настоящему глобальную торговую систему. Прежде успех или неудача мировых рынков зависела не от размера, а от развитости политических, законодательных и финансовых институтов. К 1600 году Нидерланды развили их лучше всех и стали лучшим конкурентом португальской торговой империи. Правда, при этом Голландия находилась в самом разгаре войны за независимость с Испанией — Восьмидесятилетней войны, которая длилась до самого 1648 года, до Мюнстерского мирного договора. Во время этого конфликта Нидерланды оказались в лучшем состоянии, чем Испания, Англия или любая другая европейская страна. Несмотря на подвиги Дрейка, разгром Непобедимой армады и стремительный старт Английской Ост-Индской компании, королевство Тюдоров и Стюартов раздирала религиозная вражда, его финансовые рынки были примитивны и нестабильны, страна пострадала от опустошительной гражданской войны. Испания и Франция, изнуренные королевскими монополиями и хроническими банкротствами, остались далеко позади. Голландская конфедерация, напротив, одна из немногих в Европе не страдала от абсолютной монархии, располагала законодательными и финансовыми институтами и сравнительно толерантно относилась к амбициям и возможностям всякой религии.
Ситуацию хорошо характеризуют две пары чисел из данных статистики. Экономическая история утверждает, что в 1600 году валовой внутренний продукт (ВВП) составлял около 1440 современных долларов на душу населения в Англии и около 2175 в Голландии (для сравнения, в Испании и Португалии — 1370 и 1175, соответственно).[38] Эти цифры указывают на технологическую и коммерческую пропасть, разделявшую Голландию и Англию на заре колониализма. Но финансовая и законодательная разница между этими странами оказалась еще значительнее. В Англии солидные заемщики (не считая короны, конечно) платили 10% за кредиты, а в Голландии — 4%. Голландское правительство вообще получало кредиты на самых выгодных условиях, какие только возможны. И наоборот, в Англии, где корона всегда могла отказаться от своих долгов (и нередко это проделывала), ей предоставлялись кредиты значительно дороже, чем благонадежным заемщикам.{371}
Почему же у голландцев ссудные проценты были такими низкими? К 1600 году Нидерланды, благодаря географическим особенностям и культурной столице, превратились в самую финансово развитую страну в Европе. Многие поля и фермы лежали ниже уровня моря. Веками их существование поддерживалось при помощи дамб и ветряных мельниц (для откачивания воды). Такое хозяйство требовало тщательных расчетов, и эти земли богатели не только благодаря своему плодородию, но и тому, что крестьяне старались для себя, а не для какого-нибудь монарха или землевладельца-феодала.
Мелиоративные проекты значительно стимулировали кредитные рынки страны. Дамбы и мельницы обходились дорого, и местная церковь и муниципальный совет предоставляли необходимые средства в форме ссуды. Голландия превратилась в капиталистическое государство — купцы, аристократы и даже зажиточные крестьяне старались вкладывать деньги в ценные бумаги для финансирования выгодных проектов. Этот способ решения хозяйственных проблем перешел и в торговлю. После 1600 года голландцы считали совершенно для себя естественным поучаствовать в отправке кораблей в Балтийское море или к Островам Пряностей.{372} При этом купцы и посредники делили доли участия на еще меньшие части: не на половины или четверти, а на тридцать вторые или даже шестьдесят четвертые. На тот момент Голландия являлась одним из самых энергичных международных инвесторов.
Долевое участие было сущностью «голландской финансовой системы», которая превосходно позволяла предпринимателям и инвесторам распределять риск. Юридическая документация 1610 года рассказывает нам, что имущество одного мелкого торговца-буржуа составляли доли владения 22 кораблями: 13/16, 7/32, 1/17 и 1/28.{373} Долевое участие не только позволяло торговцам снижать риски, но и инвесторы знали, что в случае потери отдельного корабля или неудачной торговой операции их ущерб будет меньше. В силу этого обстоятельства инвесторы охотнее вкладывали капитал и проценты по ссудам снижались.
Еще одним голландским новшеством, снижавшим риск (по крайней мере если им правильно пользоваться), стал рынок фьючерсов, «покупка сельди до того, как ее выловили».{374} Эти рынки устанавливали цены на определенное количество товара в некоторый момент в будущем, к примеру на тысячу фунтов сельди через год. Эти финансовые документы можно было продавать и покупать, как настоящий товар. Не голландцы придумали эту систему — ее уже хорошо знали в Европе и мусульманском мире. Но голландцы отработали и узаконили ее до неслыханной ранее степени. Продавая фьючерсы, голландские торговцы и крестьяне могли быть уверены в цене на свой товар за шесть или двенадцать месяцев вперед. Приобретая фьючерсы, покупатель мог не бояться скачков цен. Перевозчики могли приобрести страховку от потери груза в море или другого рискообразующего фактора. Дробные акции, фьючерсные контракты, морское страхование — все это способствовало развитию коммерции.
Как пояснял Джосайя Чайлд, английский торговец, экономист и управляющий Английской Ост-Индской компании в XVII веке, «на сегодняшний день всякую страну можно назвать богатой или бедной в точном соответствии с тем, какие в ней обычно платятся проценты по ссудам».{375} Тысячелетиями торговцам приходилось одалживать деньги на свои предприятия, а правительства брали взаймы, чтобы удовлетворить свои военные амбиции. Но при прочих равных условиях голландская компания под 4% могла взять в долг в 2,5 раза больше денег, чем английская под 10%.
Этот показатель справедлив, если говорить о способности страны поддерживать свои вооруженные силы. 4% означают богатство и силу, 10% — бедность и бессилие. Возможность голландцев брать деньги в долг, на фоне путаницы в английской политике, дала Голландии такое превосходство, что Англия смогла его преодолеть только через несколько поколений, после реформ политических и финансовых институтов.
Печальное состояние английских финансовых рынков проявилась в слабой первоначальной капитализации Ост-Индской компании — 168 000, в десять раз меньше, чем у голландцев.[39] Более того, капитал Английской компании не был постоянным, его следовало полностью возвращать инвесторам, как только корабли компании возвращались на Темзу, а груз распродавался. Известны случаи, когда для расплаты с инвестором служили пряности вместо наличности, мешки с перцем вместо фунтов стерлингов.{376}
Представьте на минутку, каково было бы «Майкрософту» или «Боингу» бороться с зарубежными конкурентами, если бы им приходилось возвращать инвесторам капитал, едва только они произведут новую программу или построят самолет. И этот процесс повторялся бы с каждым проектом! А теперь представьте, что они вместо чеков на дивиденды прислали инвесторам пачку дисков с программами или лонжерон от крыла. Такой пример отлично показывает, каким преимуществом обладали голландцы.
Больше столетия Английская Ост-Индская компания играла роль надоедливой младшей сестры Голландской компании. Например, в 1622 году у Голландской компании в азиатских водах было 83 корабля, а у Английской — только 28. Соотношение почти такое же, как и между ссудными процентами в этих двух странах. Один голландец заметил:
Великой ошибкой со стороны Вашей чести было бы предположить, что прекрасные торговые отношения во всем мире можно охватить и поддерживать, держа на плаву во всем мире 30, 40 или даже 50 кораблей и яхт.{377}
Корабли и финансовая система — не единственные области, где Голландия обгоняла Англию. Структура Голландской Ост-Индской компании напоминала сами Соединенные Провинции, но Английская компания страдала еще большей децентрализацией. Будучи скорее торговой компанией нежели гильдией, она позволяла каждому участнику торговать за свой счет, а совместно с другими участниками владеть лишь кораблями. Таким образом, поскольку транспортировка и товары финансировались из разных источников, почти не возникало сотрудничества там, где оно требовалось — на базах компании. Когда разгорались споры между английскими купцами в Азии, решать их следовало в Лондоне, за полмира и два года пути туда-обратно. В городе Бантам, на Яве, возле современной Джакарты, располагались три английские торговые конторы. Купцы Ост-Индской компании не только торговали собственными товарами, они были совершенно свободны в выборе и могли конкурировать со своей же компанией.{378} Голландская компания, наоборот, отправила в Индонезию облеченного властью генерал-губернатора, уполномоченного решать все вопросы компании.
Поскольку Генеральные Штаты стали повивальной бабкой компании, считалось, что она пользуется государственной поддержкой, как военной, так и политической. А вот Английская компания, как частное предприятие свободных торговцев, не могла рассчитывать на защиту от нападения конкурентов за границей и от протекционизма на родине.
Децентрализация Английской компании сделала ее более уязвимой для коррупции. Хотя моряки и торговцы обеих стран мало чем отличались в этом смысле друг от друга, англичане, нанятые компанией, относились к кораблям, как к своим собственным, нередко провозя на них свои личные, не принадлежащие компании большие объемы грузов из Азии. Английский чиновник писал управляющим:
Что касается частной торговли англичан, Ваша честь должны поверить, что если бы Английской компании служили так же, как служат Вашей чести, то мы давно уже обогнали бы Голландскую компанию.{379}
Другим большим преимуществом голландцев над англичанами и над другими европейскими соперниками были технологии мореплавания. После 1595 года пиратов в водах Северной Европы стало меньше, и это позволило строить медлительные круглые, но очень вместительные корабли — флейты, которым требовалась команда в два раза меньшая, чем другим кораблям того же тоннажа. Флейты сразу же стали жертвами собственного успеха — множество потерявших работу моряков подались в пираты.{380}
К 1605 году в Голландской Ост-Индской компании решили, что для увеличения прибыли им следует утвердить монополию компании не только на голландском рынке пряностей, но и на рынках всего мира. Чтобы это осуществить, понадобились постоянные базы в Азии, где хранились бы запасы товаров, чинились и снаряжались корабли и координировались действия и где не мешались бы местные португальские правители.
Год спустя компания неудачно напала на португальскую Малакку, затем обратилась на восток, к Островам Пряностей и Яве.
В 1606 году испанские силы из Манилы заняли молуккский остров Тернате, и когда местный султан обратился за помощью против испанцев, то Голландская компания послала туда свои войска. За несколько десятков лет голландцы постепенно вытеснили испанцев с Молуккских островов.{381} Из-за того что переписка между Европой и Индиями требовала много времени, последняя битва голландцев в войне за независимость от Испании состоялась на Тернате в 1649 году, спустя целый год после подписания Мюнстерского мирного договора.{382}
В ходе дальнейшего завоевания азиатских рынков компания освоила острова Банда — осколки Молуккских островов, на уникальной почве которых и больше нигде в мире только и мог произрастать мускатный орех.
В XVI веке португальцы и испанцы подчинили северные Молуккские острова, на которых росла гвоздика, умело используя вражду между ними, особенно между Тернате и Тидоре. В то же время южные острова, особенно Банда, процветали. Иберийцы почти не тронули их, поэтому островитяне спокойно собирали мускатный орех и мацис в покрывавших острова лесах, как они делали уже тысячи лет. Они богатели, возя мускат на продажу в Малакку, за две тысячи миль к западу, точно так же, как их северные соседи возили туда гвоздику.
В Голландской компании скоро поняли, что если монополизировать торговлю пряностями, то островитянам придется потесниться. И их потеснили, с той грубостью и практичностью, которая стала фирменным знаком голландской политики в Азии. Самая крупная и самая важная часть островов Банда состояла из трех остатков вулканического кратера — островов Лонтор, Нейра и Апи. В нескольких милях к западу от них лежит плодородный Ай, а еще несколькими милями западнее — самый уединенный из островов, совсем крошечный Рун.
Жители островов Банда, как и их соотечественники с северных островов, хорошо приняли голландцев в 1599 году, когда те приехали впервые. Их восприняли как противников ненавистных португальцев. Ост-Индская компания ловко околпачила туземцев, заставив усиленно поставлять мускат по баснословно низким ценам. Неясно, понимали ли островитяне значение документов, которые подписывали, но, в любом случае, скоро разгорелись споры. Туземцы полностью зависели от меновой торговли с соседями, которые поставляли им продовольствие, и этот факт голландцы поначалу не учли. Чтобы не умереть с голоду, островитяне почти сразу «нарушили соглашение» с компанией. И даже более того, в 1609 году жители острова Нейра позволили капитану Английской Ост-Индской компании Уильяму Килингу построить торговую базу.
Небрежное отношение островитян к тонкостям европейских контрактов и беспечность британских фрахтовщиков, не желавших тратиться на военную поддержку на Молуккских островах, разозлили голландцев. К тому же из-за английских конкурентов поднялись закупочные цены. В том же году Голландская Ост-Индская компания отправила на Лонтор делегацию для заключения нового «соглашения». Как только голландцы сошли на берег, на них тут же напали островитяне и изрубили в куски 47 солдат и офицеров. Подкрепление подошло слишком поздно.
В той группе подкрепления находился молодой «младший купец», чье имя позже стало синонимом голландской жестокости и практичности — Ян Петерсон Коэн. До отправки в Индию он провел свою юность, стажируясь в римском отделении торговой компании, где освоил новую для Голландии науку ведения двойной бухгалтерии.
В 1607 году Коэн отправился в Ост-Индию на три года. (В это время он и оказался в бесполезном отряде подкрепления.) Затем он на два года вернулся в Голландию. В 1612 году Коэна снова отправили в Азию, но уже как «старшего купца». На этой должности, используя знания о двойной бухгалтерии, он произвел такой блестящий анализ действий Голландской Ост-Индской компании («Discoers Touscherende den Nederlantsche Indischen Staet»), что вскоре привлек внимание Совета семнадцати. В своем докладе Коэн, как настоящий духовный отец современного скрупулезного делового администрирования, ловко помахивая новым инструментом, подбил концы и заметил, что компания собирает очень маленькую прибыль со своих сложных операций. Он предложил два варианта действий. Во-первых, устроить монополию на торговлю «тонкими специями»: мускатным орехом, гвоздикой и мацисом. Во-вторых, сделать это любой ценой, в том числе и нещадно эксплуатируя местных работников и привозя на острова голландских колонистов и рабов.
Может быть, побоище в Лонторе так повлияло на Коэна, что он ожесточился и принялся давать подобные советы. Трудно сказать, но одно известно точно — новую торговлю требовалось утвердить силой оружия:
Ваша честь, Вы по опыту должны знать, что торговлей в Азии следует управлять и вести ее под защитой собственной военной силы Вашей чести и что оплачиваться эта сила должна из доходов от торговли, так что мы не можем ни торговать без войны, ни воевать без торговли».{383}
Первым почувствовать силу этого оружия надлежало британцам. Несмотря на то что английский капитан Килинг защитил делегацию компании на острове Ай от нападения аборигенов, голландцы заподозрили его (скорее всего, безосновательно) в сговоре с жителями островов Банда. Тогда капитан Килинг, у которого недоставало ни людей, ни пушек, чтобы тягаться с голландцами, загрузил свой корабль пряностями и уехал восвояси.
К тому моменту остров Нейра уже находился под контролем голландцев. Следующим покорился Лонтор, истощенный блокадой. В 1610 году капитан Английской Ост-Индской компании Дэвид Мидлтон прибыл на Нейру. Голландская компания не дала ему загрузить ни единого орешка. Пришлось ему остановиться в нескольких милях к западу, у острова Ай, где аборигены загрузили его корабль отличными пряностями. К этой уловке капитаны Английской компании прибегали еще несколько лет.
К 1615 году терпение Голландской компании лопнуло. Ей надоели англичане и торговцы с острова Ай. Компания устроила вторжение, но островитяне его отбили. Но этот раз махинации Британии обнаружились. На острове нашли английское оружие, английские суда наблюдали за военными действиями и чуть ли не палили по голландцам.
На следующий год голландцы напали снова, и последствия были ужасны. Они перебили сотни человек, рассеяли тысячи и поработили всех остальных. Потеряв торговую базу на острове Ай, Английская компания переместилась на несколько миль к западу, на остров Рун. Тогда Коэн, который уже несколько лет занимал должность управляющего отделом Голландской компании в Бантаме на острове Ява, предупредил англичан, что всякую поддержку островитян он будет рассматривать как военные действия.
Эскалация враждебности между двумя компаниями касалась не только их штаб-квартир в Лондоне и Амстердаме, но и Виндзора и Гааги. С 1613 по 1619 год оба правительства вели торговые переговоры, по продолжительности не уступавшие конференциям ВТО или ГАТТ. Англичанам льстило, что голландцы отправили главным переговорщиком не кого-нибудь, а самого Гуго Гроция — величайшего законоведа эпохи, автора концепции Свободного моря (Маге Liberum), которая заключалась в том, что всем странам от бога дано право свободно ходить по морям для свободной торговли.
Гроций, хотя англичане и приветствовали его, и цитировали его теории, был блестящим оратором и без труда сумел доказать, что англичанам, которые ничего не внесли в налаживание торговли с Островами Пряностей, нечего там делать. И вот, в марте 1620 года, когда флоты обеих компаний уже готовились к сражению у Бантама, прибыл английский корабль «Булл» с письмом для Коэна от Совета семнадцати. Девять месяцев назад компании подписали договор о сотрудничестве.
Коэн был в ярости. Он желал уничтожить все до единого торговые базы и корабли англичан в Ост-Индии. А по условиям соглашения Английской компании полагалась треть доходов от Молуккских островов, но она оплачивала и треть расходов.
Тогда Коэн нашел другие способы вытеснить англичан, хотя и более мирные, чем те, что были ему по душе. Поскольку английская финансовая система не могла тягаться с голландской, перехитрить британцев было парой пустяков, особенно такому деляге, как Коэн, знавшему премудрости двойной бухгалтерии, как «Отче наш». Он постоянно представлял Английской компании к оплате огромные счета за пряности, снаряжение кораблей и за военные расходы, так что англичане и помыслить не могли оплатить их. Когда англичане жаловались, что у них нет денег, и отказывались предоставлять свои военные суда для поддержки военных операций на островах, голландцы запрещали им загружаться пряностями.
В том же году голландцы без английской поддержки устроили самую кровавую резню колониальной эпохи. Они напали на главный остров Лонтор и вырезали большую часть его тринадцатитысячного населения. Немногих выживших отправили на принудительные работы на Яву или заставили в качестве рабов обрабатывать их же собственные гвоздичные деревья. Прошли десятки лет, и голландцы принялись возвращать тех, кого отправили на Яву, потому что гвоздичные рощи без должного ухода дичали, а для правильного ухода требовались местные жители.
Часть островитян бежала на запад, многие — в бугийский порт Макассар (в настоящее время Уджунгпанданг, расположенный на острове Сулавеси по пути от Островов Пряностей к Яве), где они составили существенную часть торгующего населения.{384} Между тем, в руках англичан формально оставался Рун, крошечный островок неподалеку. Голландцы, хотя и не выгнали англичан с острова физически, опасаясь нарушать договор 1619 года, но срубили все мускатные деревья на острове.{385},[40]
Пока Голландская компания укрепляла свою монополию на Островах Пряностей в восточной части Индонезийского архипелага, на западной оконечности острова Ява она заложила камень в основу будущего. В нарушение распоряжений Совета семнадцати блистательный и маниакально одержимый Коэн, который был уже генерал-губернатором, 30 мая 1619 года захватил у бантамского султана рыбачью деревушку Джакарта и переименовал ее в Батавию.
За два десятка лет голландцы сумели совершить то, что не удавалось португальцам целое столетие — добиться почти полной монополии на гвоздику, мускатный орех и мацис. Но, как и португальцы, они не смогли контролировать торговлю перцем, рассеянную по всей Индии и Индонезии.
Завоевание Островов Пряностей было частью большого стратегического плана Голландской Ост-Индской компании по отъему у Португалии контроля над торговлей в Азии. В 1622 году голландцы получили опосредованную помощь от персов и англичан, когда те объединенными усилиями отняли у португальцев остров Ормуз — ключ к входу в Персидский залив. Персидский шах Аббас I давно мечтал вернуть себе вход в залив, а с ним и царскую монополию — торговлю шелками. Иначе шелк приходилось возить караванами через территорию главного врага Персии — Османскую империю.
Ормуз — некогда одна из самых оживленных и самых многонациональных торговых баз — пришел в запустение, из которого так уже и не вышел, и его падение изменило облик торговли в Азии. Во-первых, британцам досталась база в Гомброне, на персидском берегу. Позднее этот порт переименовали в Бендер-Аббас (Порт Аббаса). Он доминирует над проливом и по сей день. Во-вторых, пролив закрылся для португальцев, так же как и для купцов из Гуджарата и Ачеха. А это, в свою очередь, перекрыло древние караванные пути через Сирийскую пустыню, по которым тысячу лет возили пряности от побережья Индийского океана в Левант и Венецию.
Как ни странно, настоящим выгодоприобретателем англо-персидского захвата Ормуза была Голландская Ост-Индская компания.{386} Фактически, победители при Ормузе — Персия и Англия — получили немного пользы от открывшейся возможности контролировать залив. У Персии не было торгового флота, а у Англии больше не было Молуккских островов, чтобы возить пряности в порты Персидского залива, а оттуда — караванами в Европу. Голландцы почти повсеместно парализовали английскую торговлю пряностями, и Английской Ост-Индской компании приходилось пользоваться другими возможностями до самого XVII века, пока она не бросила вызов голландцам.
Голландцы развили нежданный успех, отняв у Португалии Шри-Ланку в ходе долгой кровопролитной кампании, длившейся с 1638-го по 1658 год, и добавили в свой портфель выгодную монополию на корицу. И наконец, они полностью ликвидировали утечку товара с Островов Пряностей, подчинив компании бугийский порт Макасар (крупный азиатский рынок пряностей) в 1669 году и взяв Бантам (главную английскую базу в Индонезии) в 1682 году.
С падением Ормуза и почти полным выдворением португальских сил из акватории Индийского океана их конкурентам в Азии оставалась лишь одна дорога — по Красному морю. После 1630 года турки потеряли контроль над входом в Баб-эль-мандебский пролив, уступив его йеменскому имаму, который принялся пропускать всех подряд, в том числе европейцев, через порт Мокка, неподалеку от Адена. Хотя путь в Красное море теоретически был открыт, у конкурентов Голландии не было пряностей, чтобы возить их через него. Торговцы из Ачеха, которые в XVI веке так удачно избегали португальской системы карташей, пропали из западной части Индийского океана. Причины их упадка точно не известны. Скорее всего, эти торговцы не могли закупать пряности из-за присутствия на Суматре португальцев.
Голландские технологии мореплавания усовершенствовались настолько, что путь вокруг мыса Доброй Надежды стал быстрее и дешевле «пути Синдбада» и пути через Красное море. Голландская компания отлично контролировала Острова Пряностей, перевозки товара были так эффективны, а дела компании так хорошо финансировались и управлялись, что к началу XVII века перец и пряности все чаще завозились в страны Средиземноморья с запада, через Гибралтарский пролив. Снижение затрат на доставку сделало невыгодными старые пути и обрекло на гибель венецианскую торговлю, шедшую через восточное побережье Средиземного моря.{387} Еще через полтора столетия Венеция, лишившись главного источника доходов, стала легкой добычей армии Наполеона.
В итоге, Томе Пиреш — португальский аптекарь, предприниматель и автор, о котором мы рассказывали в главе 4 — оказался не так уж прав, сказав свю знаменитую фразу: «Кто овладеет Малаккой, тот возьмет за горло Венецию». Чтобы одолеть ее, понадобилось овладеть не только Малаккой, но и Зондскими островами, мысом Доброй Надежды и Островами Пряностей. Португальцам это не вполне удалось, а голландцы к середине XVII века захватили рынок пряностей и удавили Венецию.
* * *
Самые прибыльные дела Голландская Ост-Индская компания проворачивала именно в Азии, избегая, таким образом, долгого и опасного пути вокруг мыса Доброй Надежды. В 1638 году, когда сегунат Токугавы выставил португальцев вон, компания приобрела маленькую японскую торговую базу на островке Десима в Нагасакской бухте. Этот искусственный островок японцы насыпали из отвала, чтобы получше защититься от того, что во времена династии Токугава считалось самым опасным из проникшего с Запада — христианства и огнестрельного оружия. На Десиме серебро грузили на голландские лодки, пока в 1668 году правители не запретили его экспорт. Тогда голландцы переключились на золото и медь.
На своих необщительных хозяевах голландские гости прекрасно наживались. Те и другие любили хорошо выпить и побузить (сдержанные португальцы этого избегали), к тому же кальвинисты не столь навязывались спасать заблудшие души. Их больше интересовала прибыль. (Как известно, Карл X Шведский в ответ голландскому дипломату, рассуждавшему о свободе вероисповедания, достал из кармана голландскую монету и протянул ее с хитрой улыбкой: «Voila votre religion»[41].{388}
В течение более чем двух столетий, пока династия Токугава держала Японию в изоляции от остального мира, Десима служила единственным окном на Запад. Вначале голландцы получали на Десиме только самое необходимое — «еду и женщин», — но вскоре японскую элиту одолело любопытство. Влечение к европейской культуре и технологии, так называемое «голландское учение», могли открыть Японию задолго до «черных» кораблей Перри, появившихся в 1854 году.{389}
Но если к японцам голландцы относились еще терпимо, то китайцев они терпеть не могли. Они отказывались продавать китайцам пряности на Суматре и Яве. Напоминаю, что китайцы употребляли пряности, особенно перец, в больших количествах, чем европейцы, а Голландская Ост-Индская компания контролировала львиную часть рынка. В ответ китайцы стали продавать шелк напрямую в Японию и в Испанскую Манилу (откуда манильские галеоны перевозили его в Мехико). Коэн перекрыл пути между Кантоном и Манилой и этим еще больше разозлил Китай. В 1622 году Коэн попытался взять Макао. Попытка провалилась, тогда Коэн попытался выбить Китай из игры, потопив 80 джонок у южного побережья. Оставшись без внешней торговли, Китай отдал Голландской компании постоянную торговую базу на Тайване — форт Зеландия, — склады которой вскоре наполнились пряностями, шелками, фарфором и наркотиками.{390}
Центром азиатской коммерции оставалась западная Ява, до которой можно было легко добраться через «ревущие сороковые», путем, открытым Брауэром. Если бы Мессия вернулся на землю в 1650 году, почти наверняка он делал бы пересадку в Батавии. Почти все корабли, шедшие в Голландию и оттуда, проходили через этот огромный порт, он был нервным узлом сложной внутриазиатской торговой сети. Изысканные пряности из Индонезии, золото, медь и серебро из Японии, чай, фарфор и шелк из Китая следовали через его склады к западному и восточному побережьям Индии, где их меняли на хлопок. Индийские ткани отправлялись обратно в Батавию, в обмен на еще большее количество пряностей, шелка и прочих товаров. Эта внутренняя азиатская торговля ближе всего в мире находилась к модели вечного обращения денег.{391} И только самые высококлассные из товаров — тончайшие шелка, самые лучшие пряности, золото, фарфор и драгоценные камни — отправлялись вокруг Мыса в Амстердам.
В XVII веке английский пленник в Батавии подсчитал, что Голландская компания держит в Юго-Восточной Азии одновременно до двух тысяч кораблей и 30 000 человек. Из-за высокой смертности среди сотрудников (около четверти людей погибало только в пути) компании требовался постоянный поток новобранцев, и не только с улиц Соединенных Провинций. Потребность в живой силе была так велика, что с середины XVII века большую часть солдат и матросов набирали из-за границы, особенно из Германии.
Это мерзкое рекрутирование проводили специальные команды, состоявшие, в основном, из женщин — так называемые «zielverkoopers» — продавцы душ. Они брали на заметку молодых иностранцев, в основном из Германии, прибывших в города Голландии попытать счастья. За часть приличного аванса и будущих платежей от компании эти женщины сулили комнату, стол и определенного рода развлечения для холостых молодых людей на те долгие недели и месяцы, что они отправятся в Азию.
Действительность далеко не соответствовала обещанному. Один современник писал о трехстах молодых людях, набитых в один чулан, «где им приходилось находиться день и ночь, где они справляли свои естественные надобности и где не было даже достаточно места для сна, так что лежать приходилось вповалку… Смертность была столь высока, что хозяева не осмеливались докладывать об истинном числе умерших и хоронили их по двое в одном гробу».{392}
* * *
Но Голландия оставалась Голландией, и эта дьявольская пересылка тоже была финансовым инструментом — в данном случае, дешевой транспортировкой. Так на языке рынка назывался актив, позволявший «продавцам душ» снижать плату завербованным компанией людям. Затем другие инвесторы покупали эти активы со скидками, отражавшими высокую смертность среди персонала компании. Активы собирались в доходный, диверсифицированный пул человеческого капитала. Эти магнаты, само собой, назывались покупателями душ. Когда в XVIII веке из-за неотлаженности процедур компании смертность среди рекрутов возросла, многие «покупатели душ» разорились.
Более полумиллиона человек отправилось с голландских причалов в Азию и не вернулось. По словам специалиста по истории экономики Яна де Фриса: «Не будет преувеличением сказать, что компания очистила улицы городов от бродяг и безработных».{393} Низкое качество подготовки этих рекрутов превратилось в ахиллесову пяту компании. Напротив, в Английской компании понимали, что для службы на относительно маленьких кораблях с небольшой командой нужны люди, умеющие ходить под парусом, заботиться о грузе и сражаться. Английская компания брала на работу только самых квалифицированных претендентов и освобождала их от принудительной службы в Королевском флоте.{394}
Так сотни тысяч человек покидали пристани Голландии, чтобы встретить ужасную нищенскую смерть в море или в охваченных заразой азиатских портах. Но прибытие товаров из Индии было событием особенным. Компания назначала дежурные корабли, которые караулили прибытие судов из Индии в родные воды, и капитану, чья команда первой заметила такой корабль, выплачивалась премия.
На шлюпках к кораблям отправлялись высокопоставленные сотрудники компании. Первой их целью был флагман, где командующий экспедицией давал краткий отчет. Какие товары на борту? Сколько людей и кораблей погибло? Не появлялись ли на входе в гавань чужие корабли? Затем встречающая команда навещала каждый из вернувшихся кораблей. Командир каждого корабля представлял кожаный мешочек с алмазами и другими драгоценными камнями, а также судовой журнал. С этим грузом часть делегации в шлюпках возвращалась на берег. Остальные инспектировали команду, счета и багаж. Они расспрашивали офицеров и команду о путешествии. Что могут офицеры и их помощники сказать о команде? У делегации были специальные лодки с низкой осадкой, которые назывались лихтерами. С их помощью с кораблей забирали груз, пленников, а также утварь команды, одежду и товары, полученные в результате частной торговли. Также проверялись пушки и снаряжение корабля.
Специально нанятые грузчики разбирают переборки и спускают тюки с пряностями в ожидающие лодки. Это тяжелая пыльная работа, от которой саднит горло. Чтобы справиться с этой неприятностью, грузчики пьют джин и закусывают сладкими крендельками. Наконец делегация спускается к самым днищам кораблей, где присматривает за разгрузкой тяжелых товаров: яванского риса, японской меди и китайского фарфора низшей категории. (Высококачественный фарфор хранился на верхней палубе.) Загруженные лихтеры плывут во внутреннюю гавань, откуда рассеиваются по сложной системе каналов Голландии и направляются к складам региональных отделов компании. Работа на борту закончена, и делегация садится в шлюпки и возвращается в штаб-квартиру компании, где кожаные мешочки с драгоценными камнями передаются Совету семнадцати и, в присутствии Совета, открываются.
Теперь самая трудная часть — как выпустить на рынок огромное количество товара, чтобы не сбить цены. Компания использовала разные ухищрения, но чаще всего сбывала всю партию определенного товара по фиксированной цене и с обещанием не продавать больше этого товара определенное время— по-голландски «штилштанд». Например, в 1624 году синдикат из трех торговцев пряностями договорился закупить более двух миллионов фунтов перца за четыре миллиона гульденов со штилштандом 24 месяца. Это случилось более чем за век до того, как в какой-либо еще стране торговые компании и купцы научились регулировать коммерческую политику в таком масштабе.{395}
Контроль Голландской компании за рынками пряностей был настолько полным, что после 1690 года в течение более пятидесяти лет цены на мускатный орех и гвоздику почти не менялись. Конечно, для этого требовались определенные усилия, особенно если вспомнить о том, насколько сильно различались урожаи в разные годы. В 1714 году на северных Молуккских островах было собрано 1,5 миллиона фунтов гвоздики. В 1715 году 200000 фунтов. В 1719 году урожай был так богат, а спрос в Европе так скромен, что 4,5 миллиона фунтов гвоздики и 1,5 миллиона фунтов мускатного ореха пришлось уничтожить. В один год голландцы яростно подбирали все остатки урожая, в другой год они могли уничтожить десятки тысяч деревьев.{396}
Когда приходили корабли, лихтеры и склады ломились от азиатского изобилия, являлось и все европейское изобилие: немецкие канаты, русские паруса, норвежский лес, иберийская соль, французское мыло, английская кожа, сыр из Эдама, уголь из Ньюкасла, сельдь из Голландии и монеты из серебра Нового Света.
* * *
Мало что так разжигало зависть других стран, как прибыли от торговли. Этот подтекст неизменно прослеживается в англо-голландских отношениях в XVII—XVIII веках. За это время Англия и Голландия четыре раза сходились в полномасштабных вооруженных конфликтах. Это были самые настоящие торговые войны, а не стерильная коммерческая и дипломатическая пантомима наших дней.
В 1648 году Мюнстерское соглашение, положившее конец восьмидесятилетней войне Голландии и Испании и давшее независимость Нидерландам, освободило весь торговый потенциал Голландии, ограниченный до этого угрозой захвата грузов и блокады со стороны Испании.
Новая коммерческая мощь Голландии потрясла Англию. Испанская угроза миновала, а англичане голландцам были не опасны. Голландцы вдруг оказались повсюду: на Балтике, в Испании, в Средиземноморье. Они грузили на свои флейты лес, соль, вина, оливковое масло — все, что прежде перевозилось под британским флагом.{397}
Результатом стал спад английской экономики, а также утверждение голландцев в Индийском океане и их отказ образовать вместе с Оливером Кромвелем антикатолический союз в 1649 году, когда отрубили голову Карлу I. В 1651 году был принят Навигационный акт. Этот закон запрещал посредникам торговать в Англии. Допускалась торговля только товарами с полностью легальных судов из той страны, где товар произведен. Иностранные суда, перевозившие товар третьих стран, оказались вне закона. Вне закона, в частности, оказывались почти все голландские торговые корабли, поэтому закон стал, по сути дела, объявлением войны Голландии.
Флот Кромвеля и приватиры захватили сотни голландских флейтов, и через семь месяцев действия закона началась первая из англо-голландских войн. Все три войны произошли между 1652 и 1672 годами. Каждая сопровождалась сражениями, и побеждали обычно голландцы.
В первую войну, которая длилась до 1654 года, пострадало голландское мореходство в Северной Европе. Тогда было захвачено или потоплено более 1200 их кораблей. Но голландцы все-таки сохранили преимущество, потому что у них в руках оставались ключевые точки — Гибралтар и пролив между Швецией и Данией. Английские торговцы, которые попали в ловушку в шведских, итальянских и германских портах, а также Королевский флот, оставшийся без скандинавского леса, надавили на парламент и заставили просить мира.
Но он продолжался недолго. Наиболее уязвимой Голландия была в Эресунне, проливе шириной в 2,4 мили, между тем местом, где сейчас находится датский город Хельсингер (Эльсинор принца Гамлета), и шведским городом Хельсингборгом. Необходимые для Голландии скандинавское и германское зерно, лес и металлы, а также сельдь и мануфактурные товары, которыми за все это расплачивались, проходили через этот узкий пролив. В XVI-XVII веках датчане, которые могли обстрелять любой корабль в проливе, собирали плату за проход через него — так называемую зундскую пошлину. Нарастала голландская морская торговля, увеличивалось и значение стабильности и разумного тарифа. Для слабой Дании Голландия превратилась в постоянного клиента.
В 1658 году Карл X Шведский напал на Копенгаген и занял пролив. Поскольку Швеция и Дания имели в союзниках, соответственно, Англию и Голландию, это стало поводом для англо-голландской войны. Голландцы, обескровленные и истощенные конфликтом 1652-1654 годов, собрали последние морские и сухопутные силы, чтобы отогнать шведов и англичан, корабли которых патрулировали пролив. В ходе тяжелых боев голландские адмиралы Обдам и де Рюйтер прорвали шведскую осаду Копенгагена, выбили англичан с Датского архипелага и открыли Эресунн, сопровождая крупные торговые суда под перекрестным огнем шведских пушек и изумленных взглядов Карла X с Эльсинорского замка.
Не одна Англия возмущалась коммерческой гегемонией голландцев. В 1667 году голландской торговле в Балтийском море бросила вызов Франция. Кольбер — министр финансов Людовика XIV — основал Северную компанию, чтобы возить французские вина и соль в Швецию и Германию, где доминировали голландцы. В то же время Кольбер назначил драконовские пошлины на голландские ткани, табак и китовый жир.
Ситуацию, в конечном итоге, решила огневая мощь Голландии. Северная компания не обладала такими средствами, как их конкуренты, и не могла расплатиться с купцами за соль и вино авансом. Кольберу следовало получше разведать обстановку, прежде чем тягаться с голландцами. Те победили Северную компанию, сбив на французских рынках цены на скандинавский лес, что очень сильно понизило стоимость древесины, которую закупила Северная компания.
Французы решили ответить иначе. В 1672 году они вторглись в Голландию. Штатгальтер Биллем III нанес французам поражение, открыв створы плотин и затопив подступы к Амстердаму. Завязнув и в коммерции, и на поле битвы, Людовик XIV и Кольбер в 1675 году прикрыли Северную компанию. В 1688 году, добавив соли на раны, Биллем вторгся в Англию и сел на трон как король Вильгельм III, собираясь заключить антифранцузский союз.
С 1648 года для Голландии настал золотой век, так хорошо запечатленный Рембрандтом и Вермеером. Она не только главенствовала на мировых торговых путях, но и в собственном производстве с ней мало кто мог сравниться. К концу XVII века турки так ценили почти шелковую лейденскую шерсть, что даже венецианская продукция не шла с ней ни в какое сравнение. В 1670 году венецианский сенат решил, что единственным способом сохранить ткачество будет закупка голландского оборудования. Английские импортеры посылали сахар в Голландию на очистку, табак на обработку и алмазы на огранку. Европейские хозяйки требовали посуду из дельфтского фарфора — недорогой имитации китайского сине-белого фарфора. Мыло и лампадное масло — продукты голландского китобойного промысла — способствовали росту гигиенических стандартов Европы и обезопасили ночные улицы. Даже бумага — традиционный продукт итальянских и французских мануфактур — сменилась мягкими белыми стопочками из северного города на Заане.{398}
Решения торговцев и политиков в Лондоне, как и сменившиеся вкусы европейских потребителей, скоро положили конец голландскому золотому веку. Примечательно, что захват Виллемом английского трона дал начало событиям, позволившим Англии занять место Голландии в мировой экономике и стать военной супердержавой. Эпоха пряностей подходила к концу, и британцы, изгнанные из Ост-Индии, обратили внимание на север Индии и Китая, на Карибские острова на западе и на Африку. Там они скоро начнут наживаться на других товарах: на хлопке, чае, сахаре, опиуме и рабах.
ГЛАВА 10. ТРАНСПЛАНТАЦИИ
Трудно припомнить более знаменитый сюжет из американской истории, чем «Бостонское чаепитие». Самые первые американские патриоты, переодетые индейцами, с покрывалами на головах и замазанными сажей лицами 16 декабря 1773 года в Бостонской гавани бросают в воду чай, заявляя: «Нет налогообложения без представительства». Этот навязчивый девиз отражал больше нужды революционной пропаганды, чем факты.
Когда Артур Шлезингер старший — отец заслуженного гарвардовского историка, помощника Джона Кеннеди — опубликовал в 1917 году свое эссе, он озаглавил его «Восстание против Ост-Индской компании».{399} Сегодня исторический труд о тех событиях запросто можно было бы назвать «Первое американское движение антиглобалистов».
К концу XVIII века британцы повсеместно пристрастились к чаю, и колонисты в Новом Свете исключением не были. Перед самой Американской революцией губернатор Массачусетса Томас Хатчинсон, который к тому же был торговцем, подсчитал, что американцы каждый год употребляют около 6,5 миллионов фунтов чая — по 2,5 фунта на человека. На самом деле, один только налог на чай составлял 10%, по законам Тауншенда, еще за шесть лет до «Бостонского чаепития». Колонисты легко избегали этих скромных издержек, контрабандой ввозя чайный лист через Голландию или Францию. Только с пяти процентов чая корона получала доход. Но тогда почему жители Бостона, так разъярившиеся в 1773 году, ждали целых шесть лет? Очень просто. Они вывалили чай в воду, потому что боялись, как бы Английская Ост-Индская компания ни вывалила его на них.
Глобальный упадок последовал за Семилетней войной — разорительным столкновением между Англией и Францией в 1756-1763 годах. В ходе этого конфликта Великобритания испытывала недостаток денег и решила поправить финансы за счет колоний. Закон о гербовом сборе обложил налогом все официальные документы, газеты, брошюры и даже игральные карты Британской Северной Америки. Повсюду начались протесты. На следующий год они только усилились. Это случилось через год после более умеренного закона Тауншенда, который положил начало налогообложению без представительства.
Война жестоко поразила и Ост-Индскую компанию, и к началу 1770-х она была вынуждена просить помощи у правительства. Закон Тауншенда запрещал компании продавать товары колонистам напрямую. Вместо этого ей приходилось устраивать торги с посредниками, которые доставляли товары американским мелким торговцам, а те наконец продавали их владельцам лавок. В мае 1773 года парламент по требованию компании принял Чайный закон. Он не вводил новых налогов, но позволял компании импортировать чай напрямую из Азии в Америку. Из-за закона цены на чай упали наполовину, а значит, потребителям в колониях он шел на пользу.{400}
Зато этот закон сделал ненужными посредников. Местные контрабандисты и торговцы тоже были от него не в восторге. Когда в сентябре 1773 года новое распоряжение прибыло в Бостон, эти группы населения устроили протесты против «несправедливой внешней конкуренции» со стороны Ост-Индской компании. Не замечая того неудобного факта, что закон сбережет немало денег их соотечественникам, торговцы и контрабандисты представили свои аргументы, прикрываясь идеей национальных интересов. Один прогрессивный журналист, который подписывался «Стойкий Патриот», указывал, что новый закон отнимет у честного американского труженика-торговца его хлеб, «чтобы дать дорогу продавцам из Ост-Индии, возможно британским, покушаясь на честные прибыли наших купцов».{401} Другие корреспонденты, полагаясь на невнимательность и бунтарские настроения читателей, потрясали лозунгами о недопустимости налогообложения без представительства и невнятно стращали тем, что британцы приберут к рукам всю американскую торговлю. И только один представитель городского совета смотрел на вещи более трезво и заключал, что против этого закона выступают «из-за того, что способ торговли компании в этой стране затрагивает частные интересы многих, связанных с перекупкой чая».{402}
В ноябре 1773 года корабли из Ост-Индии «Дартмут», «Бивер» и «Элинор» вошли в гавань Бостона с грузом чая от Английской Ост-Индской компании. Заговорщики под предводительством, вероятно, Сэмюела Адамса хорошо подготовились и соблюдали строгую дисциплину. Когда с чаем расправились, они покинули палубу и не взяли чая ни для себя, ни на продажу.
К началу американской революции уже были заметны обычные проявления глобализации. Международные корпорации перевозили свою продукцию через всю планету и потакали вкусам потребителя настолько, что горячий напиток, завариваемый из сухих листьев, был назван необходимым для жизни товаром. В колониях собирались группы, которые оказывали давление, отстаивая интересы большинства и выступая против крупных компаний, запятнавших себя как носители чуждой культуры.
До 1700 года мировая коммерция состояла в торговле с оружием в руках, борясь за сохранение монополий на сказочные товары из дальних краев. И только однажды, в XVII веке, голландцы действительно достигли идеала, когда захватили рынок пряностей Молуккских островов и Шри-Ланки.
После 1700 года методы совершенно изменились. Новые товары — кофе, сахар, чай и хлопок, малоизвестные на Западе раньше — заняли доминирующее положение в мировой торговле. Производство можно было перенести на другой континент. Перевозка нескольких тонн пряностей, шелка или благовоний в порты Антверпена, Лондона, Лиссабона, Амстердама или Венеции больше не приносила огромных прибылей. Теперь компаниям приходилось стимулировать спрос на продукты широкого потребления.
Рис. 10-1. Импорт Голландской Ост-Индской компании в Амстердаме
График на рисунке 10-1 иллюстрирует хронологическое изменение импорта товаров Голландской Ост-Индской компании в Амстердам, на нем ясно видно преобладание этих новых товаров. (На графике их значение для Европы занижено, потому что Английская компания контролировала львиную долю тканей и напитков, но очень мало внимания уделяла пряностям.) Нельзя обрести монополию на товары, которые легко вырастить и изготовить, поэтому Англия — страна, наиболее преуспевшая в торговле этими товарами массового спроса, постепенно приходила к мысли, что мирная свободная торговля больше отвечает ее интересам.
* * *
История подъема рынка интернациональных товаров массового потребления началась с другого напитка — кофе, — который уже более половины тысячелетия считается не просто напитком. Мускат, гвоздика, корица и перец, которые некогда притягивали богатых и знатных, теперь вышли из моды. Зато темная жидкость, сваренная из обжаренных бобов с куста Coffea arabica, до сих пор является пристрастием председателей корпораций, премьер-министров и все большей части населения мира. За те пять веков, что прошли со времени его появления в мусульманском мире, этот горячий ароматный напиток становился поводом к социальным потрясениям, финансовым сделкам, а порой и к революциям.
Легенда гласит, что около 700 года какой-то пастух в Эфиопии обратил внимание, что после одного горного пастбища его верблюды и козы не знали покоя и без устали скакали всю ночь. Он стал выяснять, в чем дело, и обнаружил, что животные объедают с кустов красные ягоды. Пастух сжевал сам несколько ягод и почувствовал себя очень бодрым.{403} Хотя эта история почти наверняка является апокрифом, большинство источников сходится на том, что впервые кофе начали выращивать в Эфиопии где-то вскоре после 1000 года, а затем перевезли через Красное море, в Счастливую Аравию, современный Йемен. Там суфии — адепты мистического мусульманского течения — стали употреблять его регулярно.
Суфии редко посвящали себя только молитвам. Как большинство верующих, они занимались повседневной работой. Свои задачи они решали проводя поздно вечером обряды, во время которых впадали в особое состояние транса, возносясь над миром. Примерно в середине XV века суфии начали употреблять кофе. Он помогал им бодрствовать и заменял традиционный для Йемена стимулятор — листья кустарника кат.
Суфии были не монахами-отшельниками, скорее обычными людьми, поэтому из религиозной сферы кофе скоро распространился в мирскую. Одним из первых после суфиев целительное воздействие кофе заметил муфтий Адена, когда заболел, он «принял немного кофе, в надежде, что это ему поможет. Но муфтий не просто восстановил здоровье при помощи кофе, скоро он заметил и другие его свойства. В частности, исчезла тяжесть в голове, улучшилось настроение и без следа исчезла сонливость».{404}
* * *
В конце XV века кофе уже приобрел ту двоякую роль, которую играет и сегодня: «социальной смазки» и помощника при выполнении тяжелой ежедневной работы.{405} Один европейский современник, удивленный тем, как быстро кофе занимает позиции в сфере межличностных контактов и деловых отношений, писал:
Ничто так не способствует общественным связям человека и исполнению его прямых обязанностей, как кофе… Его заявления становятся гораздо более искренними, чем когда его разум затуманен дымом. Он не так забывчив, как часто случается под воздействием вина.{406}
Спрос на кофе возрастал, и скоро его начали выращивать в горах, к северу от йеменского порта Мокка, расположенного в Баб-эль-мандебском проливе. Оттуда, из кофейных рощ зерна везли по торговым путям на север от Красного моря. Около 1500 года кофе попал в Джидду, перевалочный пункт, куда приходили большие торговые суда из Индийского океана и маленькие корабли, курсировавшие в северной части Красного моря. Там кофе произвел настоящий фурор. Как писал европейский автор из Джидды:
Употребление кофе стало таким обычным, что его продают в публичных кофейнях, где люди собираются, чтобы провести время. Там играют в шахматы и в кости, в том числе на деньги. Люди развлекаются, играют на музыкальных инструментах и танцуют. Наиболее строгие из мусульман такого не терпят, чтобы не навлечь на себя беду в конце жизни.{407}
Беда и в самом деле приходит, когда кофейни полны, а мечети пусты. В Мекке посланником беды стал наместник Мамлюков, Каир-бек аль-Мимар, типичный брюзгливый бюрократ, которому вечно не по нраву, когда кто-то где-то веселится. В 1511 году, при содействии двух персидских врачей, он запретил этот напиток по медицинским и этическим причинам. Жители Мекки пренебрегли запретом. Тогда этот чиновник, который раньше заправлял в Каире, благоразумно разрешил пить кофе у себя дома. Через несколько лет Каир-бека и обоих врачей постигла ужасная смерть, хотя ее причиной, вероятно, стало османское завоевание, а не чашка кофе.{408}
Те же игры вокруг этики и кофе сопровождали распространение кофе на север и восток мусульманского мира. Чашечка крепкой неподслащенной жидкости, благоухавшей гвоздикой, анисом или кардамоном, появилась в гареме. Женщины стали рассматривать постоянное снабжение обжаренными зернами кофе как одну из супружеских обязанностей мужа, и несоблюдение ее считалось основанием для развода.{409}
В 1555 году сирийский делец по имени Шамс привез кофейные зерна, а с ними и сенсацию, в Константинополь, где за несколько десятилетий выросло несколько десятков кофеен. «Днем и ночью они были полны. Бедняки выпрашивали деньги на улице, лишь бы пойти и купить кофе».{410} Вскоре на Босфоре развернулась семейная драма. Злобный необразованный визирь Магомет Кольпили, стоявший за спиной султана Мурата IV, закрыл кофейни, опасаясь, что они могут стать рассадником бунта. Почти в то же время в Персии жена шаха Аббаса I оказалась более политически подкованной. Она не стала закрывать эти заведения, но внедрила в них своих агентов, которые вели разговоры на политические темы с наиболее подозрительными клиентами.{411}
До начала XVII века путешественники из Европы не могли как следует описать такое явление, как кофейня. Один из европейцев считал, что в Каире процветает от двух до трех тысяч кофеен. Путешественник Пьетро делла Балле наблюдал в богатых домах Каира:
В большом очаге поддерживается огонь (чтобы напиток не остывал), у очага всегда наготове маленькие фарфоровые чашки. Когда напиток достаточно горяч, три человека, которым доверена эта работа, не занимаются более ничем, только наполняют для всего общества чашки, а также выдают каждому понемногу дынных семян, чтобы жевать их между делом. Так они проводят время за семечками и напитком, который называют «кафу», по 7-8 часов.{412}
Всякий товар, популярный в Константинополе, вскоре проникал в Европу через Венецию, восстановившую отношения с Османской империей.[42] Богословы католической Италии, как и их мусульманские оппоненты, исполнились подозрительности по поводу влияния нового напитка на духовный облик человека. Но папа Климент VIII избавил Европу от кофеиновых раздоров. Приблизительно в 1600 году он попробовал чашку кофе и благословил его как христианский напиток. Французский врач Пьер де ла Рок в 1644 году привез кофе в Марсель, а его сын Жан сочинил популярную книгу «Путешествие в Счастливую Аравию», где описал отцовские приключения как путешествие торговца и поведал историю кофе.
В 1669 году в Версаль прибыл турецкий посол Сулейман-ага. Неуважительно явившись к блистающему драгоценностями Людовику XIV в простой шерстяной одежде и отказавшись ему поклониться, он обратился к Королю-Солнцу как равный, и тут же был выслан из Парижа. Его посольская миссия провалилась, но кофе он все-таки привез. В Париже он снимал большой дом и был окружен знатью. Аристократки, которых манили слухи об экзотической резиденции и ее благоуханный воздух, всеми силами старались попасть на прием, где рабы-нубийцы подавали кофе в восхитительных чашечках из позолоченного фарфора толщиной с яичную скорлупку. Кофеин развязывал им языки, и они проболтались Сулейману, что Людовик пригласил в Париж турецкого посла с единственной целью — попугать австрийцев тем, что может и не поддержать их во время осады Вены, которая ожидалась в скором будущем. Это и испортило отношения между Версалем и турками.
Вскоре новая мода разошлась по всему Парижу, и армяне, изображавшие турок в тюрбанах и кафтанах, носили по улицам подносы с кастрюльками и чашками, продавая кофе. Вслед за этими торговцами вразнос появились лавки, из которых потом образовались кофейни. Одно из самых известных кафе под названием «Прокоп» было основано в 1686 году и названо в честь итальянского официанта одного из первых армянских хозяев кофейных лавок. А столетие спустя заговорщики Робеспьер и Марат собирались у «Прокопа». Кафе работает до сих пор, как и еще более известное и безумно дорогое венецианское «Кафе Флориан», основанное примерно в то же время.
В Вену кофе пришел из Константинополя, но продавали его не торговцы, а солдаты. В 1683 году турки окружили Вену и осаждали ее два месяца, затем их отбросила австрийская армия, состоявшая, главным образом, из поляков, среди которых служил Ежи Франтишек Кульчицкий (в германских источниках Франц-Георг Кольшицки). До этого ему приходилось служить толмачом, переводить с турецкого, поэтому он идеально подошел на роль курьера между осажденным городом и польскими союзниками, ожидавшими неподалеку. Несколько раз Кульчицкий играл со смертью, пробираясь через расположения врага в турецкой форме, положившись на свое знание языка.
Когда поляки наконец освободили город, оказалось, что турки, уходя, оставили не только надежды покорить Европу, но и много всякого добра. Быки, верблюды, палатки и золото поделили войска победителей. Кроме этого обнаружились тюки с кофе, но их никто не взял. Узнав об этом, Кульчицкий сказал: «Раз никто не хочет, я возьму эти мешки».{413} Пожив среди турок, он знал, что делать с зернами. Повторив парижскую историю кофе, он сперва начал продавать напиток на улицах. Позже он снял домик, где возникло первое в Вене кафе.
К 1700 году больше всего в Европе кофе продавали не в Венеции, не в Париже и не в Вене, а на берегах Темзы. Теперь британцы потребляли львиную долю этого роскошного товара, и это указывало, что первенство в коммерции перешло отныне к Лондону. Больше всего расхваливал кофе как лекарство для ума и тела новый класс английских торговцев. Где бы кофе не появился, его называли «напитком торговли».{414}
Быстрый подъем коммерции последовал за Славной революцией 1688 года, когда голландский протестант и штатгальтер Биллем III вместе с царственной женой, англичанкой Марией, сбросил последнего католического короля Британии, Якова II. Биллем стал королем Вильгельмом и использовал корону, чтобы объединить Англию и Голландию в протестантский союз против Людовика XIV. Он легко расстался с древними королевскими правами и отдал полномочия управления парламенту. Взамен парламент дал Вильгельму прочную налоговую базу в виде акцизных сборов (особенно на такие предметы роскоши, как кофе), собранные таким образом средства шли на войну с Францией.
Эта великая сделка — Революционное соглашение 1689 года — имела далеко идущие последствия. Во-первых, переход власти от абсолютного монарха к представительному законодательному органу, подкрепленный силой закона, — естественная почва для экономического роста страны.{415} Во-вторых, установление королевского акциза упростило выплату королевских долгов, что снизило кредитные риски. И в придачу, кредиторы поняли, что если законодательная власть повернулась в сторону богатых держателей облигаций, то дефолт менее вероятен. С 1690 по 1727 год проценты по ссудам в Англии упали с десяти процентов до четырех.[43] В-третьих, после событий 1688-1689 годов голландские финансисты решили, что ветер сменился, и массово устремились в Лондон. Среди этих эмигрантов был и Абрахам Рикардо, отец экономиста Давида Рикардо, о котором мы расскажем позже.
Революционное соглашение разбудило английскую экономику. Оно же сделало британцев самыми активными в Европе потребителями кофе, потому что в кофейнях Лондона собирались торговцы, финансисты и брокеры. В этих заведениях, расположенных неподалеку от городских пристаней, быстро распространялись новости с иностранных рынков, здесь собирались воротилы и сотрясатели устоев английской экономики, их разум не замутняло ни вино, ни пиво, как в прежние времена, но обострял эликсир предпринимательства.
Пока зерна выращивались только в Йемене, кофе оставалось редким и дорогим. В первые десятилетия XVIII века в Йемен стало приезжать все больше европейских торговцев, сперва в Мокку, затем в пыльный горный городок Бейт-эль-Факих, в новый район к северу от порта. Агенты Английской и Голландской Ост-Индских компаний заключали сделки с представителями французских, фламандских и немецких торговых компаний и даже с большим количеством мусульманских купцов.
Европейцы явились на этот рынок к шапочному разбору. В середине XVIII века большая часть кофе традиционно поступала на рынки Египта, Турции и Междуречья или на Восток, в Персию и Индию. Например, в 1720-х годах Йемен экспортировал в мусульманский мир около 16 000 000 фунтов (40 000 бахаров, то есть нагруженных верблюдов) кофе в год. В Европу, для сравнения, поставлялось только 6 000 000 фунтов кофе, и большая часть этого уходила в Англию.
Агенты Английской компании, как правило, обходили голландских конкурентов, оставляя им дорогие и подпорченные зерна. Неудачи голландцев объясняются коррупцией и ленью. Например, голландские торговцы неохотно выезжали из относительно комфортной Мокки в Бейт-эль-Факих, как делали их предприимчивые конкуренты.[44]
После того как Европа свихнулась на кофе в 1700 году, все больше кораблей заходило в Мокку, а также в Ходейду и Лохайю, два маленьких порта около Бейт-эль-Факиха. Европейские агенты впадали в ужас, когда в гавань входило новое судно, пусть даже их собственной компании, потому что вслед за этим неизбежно росли цены. В то время йеменские кофейные зерна закупались по 0,8 гульдена или $ 12 на современные деньги за фунт. При таких расценках только самые богатые могли позволить себе часто посещать европейские кофейни.[45]
Примерно к 1725 году жесткая конкуренция между европейскими компаниями, поставляющими кофе, породила доход, не связанный с этим делом напрямую. Самый замечательный аспект торговли йеменским кофе связан с тем, чего не произошло. Хотя британские, голландские, французские, фламандские и немецкие компании яростно состязались друг с другом, на этот раз они обходились без войны. Йеменцы, со своей стороны, подливали масла в грызню между европейцами. Когда парламент приказал Английской компании арестовать всех британских подданных в Мокке, не работавших на компанию, местный правитель посоветовал этого не делать, потому что это может рассердить султана, «который, как нам известно, вмешается, чтобы защитить любого человека с корабля, приставшего в этом порту, поскольку все они пользуются равным уважением, и различия между европейцами мы не делаем».{416}
Если голландцам и не удалось обойти британских и французских соперников, то они смогли опередить их, посадив йеменские кофейные кусты в Суринаме, на Шри-Ланке и на Малабарском побережье. После нескольких неудач кусты, перевезенные из Йемена на Малабарское побережье, прижились в яванских горах, возле Батавии. К 1732 году Индонезия уже выращивала около 1,2 миллиона фунтов кофе в год, и мешки с зерном с Суринама и Бразилии соединялись на пристанях Амстердама с теми, что привозились из Йемена. Новые поставщики разрушили монополию Йемена и наконец сбили цены. На новых плантациях могли выращивать более дешевый кофе, хватало и на прибыль голландцам.{417}
Падение цен привело к тому, что в Индонезии и Новом Свете, где возникли новые плантации, население стало перенимать европейскую привычку к кофе. Вдруг оказалось, что позволить себе выпить лишнюю чашечку может каждый. В 1726 году голландский священник жаловался,{418} что швеи по утрам не могут вдеть нитку в иголку до тех пор, пока не выпьют чашку кофе, а в 1782 году уже французский аристократ посмеивался:
Теперь не найдется в городе дома, где вам не предложили бы кофе. Без кофе с молоком не обходится завтрак ни лавочника, ни повара, ни горничной… У лавки или магазина обычно стоит деревянная скамья. Внезапно, к вашему удивлению, вы видите женщину из квартала Ле-Аль или носильщика, которые пришли спросить кофе… Эти элегантные люди пьют кофе стоя, с корзиной на спине, хотя утонченность чувств требует положить ношу на скамью и присесть.
Качество яванских зерен уступало кофе из Мокки. И если европейцы не могли почувствовать разницу (за тем исключением, что пересаженный кофе содержал на 50% больше кофеина, чем йеменский), то более разборчивые мусульманские покупатели могли и не пили дешевого индонезийского напитка. Ничто так не демонстрирует упрямого самодовольства Голландской компании в XVIII веке, как ответ ее директоров — Совета семнадцати — на сообщение о том, что мусульмане пренебрежительно относятся к яванскому кофе. Эти августейшие господа гордо ответили, что у них есть образцы зерен с Явы и из Мокки, и они не могут найти между ними разницы. Они не могли поверить, что шайка неотесанных турок и персов может иметь более тонкий вкус, чем у таких господ, как они.{419}
* * *
То, что англичане сумели добиться превосходства в торговле кофе (а позже и чаем), еще не определяло результатов европейской конкуренции. Конечно, эти товары происходили из Йемена и Китая — стран, в которых голландцы и французы развили деятельность задолго до англичан. Но хуже всего для соперников Англии было то, что появились новые товары, которые выращивались во многих местах, а спрос на них был повсюду.
Именно таким товаром стал хлопок. Ткани из хлопка так заполонили современный мир, что легко забыть об уникальных биологических и географических свойствах этого растения. Во-первых, Gossipium hirsutum — растение, которому обязано более 90% производства хлопковых тканей — содержит 4 полных набора хромосом, а не 2, как большинство растений и животных. (Говоря по-научному, это тетраплоидный организм, тогда как обычно встречается диплоидная конфигурация.) Многие сорта содержат одну пару хромосом азиатского происхождения, а другую — американского.
Интересно, что недавние исследования «молекулярных часов» ДНК приводят к выводам, что гибридизация между штаммами из Старого и Нового Света произошла около 10 миллионов лет назад, задолго до появления человека. Последние несколько миллионов лет эти растения росли в таких разных местах, как Перу, Индия, Восточная и Южная Африка, Египет, Новая Гвинея, Аравия, острова Зеленого Мыса, Австралия, Галапагосские и Гавайские острова.
Как сумел хлопок распространиться по всей Земле без помощи человека? Ответ кроется в особенностях его семян. Во-первых, они не гибнут в соленой воде, сохраняя живучесть по нескольку лет. Во-вторых, им свойственна плавучесть и способность прилипать ко всему, что плавает по воде.
Древний хлопок имел волокна длиной всего лишь в дюйм. Современные сорта дают волокна длиной в несколько дюймов. Большинство коммерчески важных видов растений и животных были приручены однажды, но с хлопком земледельцы Старого и Нового Света проделали эту штуку, по крайней мере, четырежды: дважды в Америках (G. hirsutum и G. barbadense), один раз в Азии (G. arboreum) и один раз в Африке (G. herbaceum).{420}
Весьма отличающиеся между собой почвы Индии давали большое разнообразие сортов хлопка для индийской текстильной промышленности. Выпускались такие ткани, как тонкий муслин из Дакки, в Восточной Бенгалии, сатины и печатный чинц из Гуджарата. Как сегодняшние автомобильная, кино- и компьютерная индустрия сосредоточены вокруг технических экспертов в Детройте, Голливуде и Кремниевой долине соответственно, так в XVI веке прядильщики, ткачи и вышивальщицы, чьи изделия знал весь мир, сконцентрировались в индийских городах Касимбазар и Ахмадабад. Из четырех главных центров ткачества — Бенгалии, Пенджаба, Коромандельского (юго-восточного) берега и Гуджарата — последний был важнее всех. Из Гуджарата поступала через Красное море и Персидский залив в мусульманские страны Среднего Востока обычная ткань и роскошные тончайшие материалы.
Вплоть до современной эпохи ткани занимали место среди важнейших мануфактурных товаров мира. Их расшивали серебром, золотом и шелком, они также служили формой хранения богатства для зажиточных людей и для бедняков. Многие семьи носили свое состояние на себе и вывешивали его на стенах и окнах. Многие наследовали тканые сокровища от родителей. В течение многих столетий мода оставалась относительно постоянной, и все, кроме самых богатых, могли позволить себе иметь лишь несколько предметов одежды.{421} Стиль за это время менялся, но был строго привязан к общественному классу. Жесткая структура общества, поддерживаемая законами, регулировавшими расходы, определяла, кто что мог носить. В середине XVII века Английская Ост-Индская компания разрушила старый уклад, и английские промышленность, мода, торговля и система социальных рангов за несколько десятков лет была основательно нарушена. Инструментом компании для совершения коммерческой революции стал хлопок.
История о том, как ткань стала главным товаром, напоминает такую же историю с сахаром. В 1600 году, когда Английская компания родилась, хлопок, как и шелк, уже были высокотехнологичными товарами. И то что их вообще можно было купить, зависело только от дешевизны труда в Индии. Хлопок, как и сахар, легко вырастить, но он требует огромного труда при переработке. На заре промышленного века, чтобы вырастить сотню фунтов неочищенного хлопка, требовалось около двух человеко-дней. Очистка семян от коробочек, прочес волокон в одном направлении и упаковка требовали уже 70 человеко-дней, а в результате получалось только 8 фунтов хлопка-сырца.[46] Работа прядильщиц, превращавших сырье в нить, составляла еще 35 человеко-дней. В итоге требовалось около 13 дней труда на производство каждого фунта ниток. Для сравнения, обработка фунта шерсти занимала от одного до двух дней, льна — от двух до пяти, а шелка — шесть дней.{422},[47]
Индия отличалась не только многочисленной и дешевой рабочей силой, но и вековыми традициями в производстве тканей. Спрясть миллионы коротких нежных хлопковых волокон в длинную нить — великое мастерство. До 1750 года английские пряхи не умели делать хлопковую нить настолько крепкой, чтобы она годилась для основы, поэтому в домашнем ткачестве обычно использовалась льняная или шерстяная основа и хлопковый уток. Только искусные пряхи Индии умели изготовить нить, подходящую для изготовления чистой хлопковой ткани. Таким образом, до изобретения прядильных машин в XVIII веке почти вся хлопковая ткань Европы производилась в Индии.
В начале 1600-х годов на долю Английской компании приходилась лишь небольшая часть торговли всем необходимыми пряностями. Основным ее бизнесом были персидские шелка, доставляемые на верблюдах через Сирийскую пустыню в турецкие порты. Вскоре компания начала наступление и на рынки индийских тканей. Тогда, на ранней стадии, никто не мог себе представить, что торговля этими тканями зажжет пламя промышленной революции, уничтожит индийскую ткацкую промышленность, зародит искру противоречия в британской свободной торговле (как можно видеть по современной глобализированной экономике, эти противоречия не разрешены до сих пор) и тем не менее породит Британскую империю.
После нескольких десятков лет работы компании по фрахту Елизаветы I последний день XVI столетия Англия встретила среди такого многоцветья красок и узоров тканей, какого в Европе еще не видали. Традиционные для Англии тяжелые одноцветные шерстяные одежды не шли ни в какое сравнение с легкими и яркими индийскими полотнами. И вовсе не зазорно было, что одна из самых успешных торговых организаций в мире переключилась на торговлю тканями.
Английская компания не собиралась позволять рыночному спросу управлять ее закупками и продажами. В середине XVII века она начала активно манипулировать вкусами потребителей и по ходу дела изобрела индустрию моды и общество потребителей, которое так знакомо нам сегодня.
Компания объявила, что если законодатели мод носят индийский чинц и вешают ситцевые занавески, то все остальные должны незамедлительно брать с них пример. В условиях продажного и зашоренного классовыми предрассудками общества таких законодателей было довольно легко найти и соблазнить — это было королевское семейство. Если они принимали данный стиль, за ними следовала аристократия. Аристократам подражало мелкое дворянство. Его, в свою очередь, рабски копировала коммерческая элита, и так далее, вплоть до беднейших крестьян, которые едва могли потратить несколько шиллингов.
К концу XVII века индийский чинц полюбился английскому среднему классу, поскольку он имитировал более дорогие шелка, атлас и тафту, которые носили аристократы. Однако особы королевской крови остерегались новых имитаций субконтинента, предпочитая «настоящее». Компания в 1660 году уже сделала Карлу II «подарок» в виде сервиза столового серебра стоимостью £ 3000, но директора решили, что не стоит размениваться по мелочам. В 1684 году они принесли монарху «добровольное пожертвование» на сумму £ 324 250, да еще король и герцог Йоркский получили долю в компании. Рождение конституционной монархии в 1689 году не остановило эти любезности. В том же 1689 году один придворный заметил, что комната королевы «вся изукрашена индийской вышивкой по белому атласу, подаренной ей Компанией».{423} Других дворян тоже не забыли. Им выдали не только ситец и долю в компании, но и членство в комитетах и право свободно провозить груз на кораблях компании.{424}
К началу XVIII века хлопковая ткань потеснила шелковую и шерстяную. Даниель Дефо писал:
Наши изящные шелка и наши тонкие ткани подвергаются этой благородной узурпации печатным ситцем. Полосатый муслин очень вежливо был потеснен вашей продукцией с кружевной отделкой, продающейся порой по огромной цене.{425}
Английская компания открыла секрет благотворного влияния на дела ежегодной смены мод. Дефо посмеивался: «Невероятно, какую одежду выбрасывают в Англии, не потому что ее нельзя носить, а только потому, что она вышла из моды. Едва ли это можно сравнить с расходами на одежду в других странах».{426} Компания даже набралась смелости и разработала концепцию нижнего белья — того, что сегодня называется неглиже — легких платьев и сорочек, которые носили дома, в приватной обстановке.{427}
* * *
Пока в кабинетах Английской компании обсуждали высокую и низкую моду, Джосайя Чайлд не забывал о статусе индийских баз. Прошло менее десяти лет со дня основания компании, когда она открыла свою первую базу в Сурате (к северу от Бомбея). Этот порт стал главным в Могольской Индии, переняв этот статус от Камбея, когда тот зарос илом. К тому времени Чайлд уже стал директором (в 1677 году), а компания открыла «представительства» или торговые базы в Мадрасе (на юго-восточном побережье Индии) и в Бомбее. (Название «Бомбей» происходит от португальского «бом байя», то есть «хороший залив».) В 1661 году Карл II получил его в приданое за португальской невестой, Екатериной Брагансской, а порт скоро частично занял и соседний Сурат.{428} В 1690 году под управлением Чайлда открылось третье представительство, в Калькутте. Эти базы, главной задачей которых была закупка тканей, стали основой Британской империи.
Убежденный сторонник голландской системы укрепленных торговых баз, Чайлд быстро организовал на всех трех базах военное присутствие Ост-Индской компании. Эта политика оправдала себя во время конфликта между Моголами и маратхами в период 1681-1707 годов. Кроме того, Чайлд утвердил комплекс правил торговли, обусловленных двухлетним циклом между первоначальной отправкой груза серебра и обменных товаров из Англии и прибытием домой груза ситца.
К концу XVII столетия компания привозила ежегодно более 1,5 миллионов рулонов хлопковых тканей и предметов одежды, что составляло 83% всего импорта.{429} Пряности умерли, да здравствует новый король Хлопок!
Нужно ли говорить, что конкуренты Английской компании громко протестовали? Например, Левантийская компания требовала в 1681 году запретить импорт высококачественных тканей из Индии.{430} Ее аргументы ограничивались обычными ханжескими рассуждениями о том, что закупки компании топят Британию в золотом бульоне, поскольку, если закупают «ситец, перец, дорогие шелка и подделку под шелк-сырец, индийский ситец и дорогой шелк наносят очевидный вред бедной английской стране, а подделка под шелк разрушает торговые отношения с Турцией».{431}
Это еще не все. Ост-Индскую компанию обвиняли еще и в экспорте в Индию передовых английских технологий, говоря, что она отправляет «в Индию шелкокрутильщиков, ткачей и красильщиков, совершенствуя там производство шелка… Закупки готовых и окрашенных шелковых тканей невероятно разоряет рабочий класс нашего королевства, который иначе был бы занят на этих работах. Из-за этого здесь разрушено множество семей».{432}
Джосайя Чайлд, который дорос уже до управления Ост-Индской компанией, как всегда, воспользовался моментом.
* * *
Правда кроется вот в чем. Импорт хорошего и дешевого шелка сырца из Индии может лишить прибыли каких-нибудь турецких торговцев, но он служит на пользу нашего королевства… Что же еще? Нужно ли прекратить торговлю, если она работает на другого? В таком случае, в стране вечно будет царить беспорядок.{433}
Модернизировать грамматику, заменить несколько существительных — и приведенный выше абзац вполне сойдет за отрывок из телепередачи, где спорят противник и сторонник нового торгового соглашения.
В последние годы XVII столетия три группы англичан объединились в протекционистский альянс, решивший прекратить импорт хлопка из Азии. Это были моралисты, разозленные социальным разрывом, который порождался новой роскошью; ткачи шелка и шерсти, теряющие работу из-за качественного и дешевого импортного продукта; и меркантилисты, недовольные оттоком серебра для оплаты новой моды. Эти силы восстали против Ост-Индской компании, что вызвало страшные для нее последствия, а также революцию в английской экономике, общественном устройстве и структуре империи. Вдобавок, как мы увидим в главе 11, они подорвали основу индийской экономики — ее текстильную промышленность.
Из этих трех групп, противостоявших торговцам, самыми влиятельными были меркантилисты. Споры между ними и сторонниками свободной торговли — фритредерами, поддерживавшими компанию, занимали самые талантливые экономические умы Англии, что выражалось в эквиваленте политических блогов для того времени — памфлетах, которые обыкновенно распродавались по нескольку пенсов. Теория меркантилизма — сама простота: богатство государства измеряется количеством золота и серебра, которыми это государство владеет.
Иными словами, международная торговля представлялась игрой с нулевым суммарным результатом, в которой одна страна могла выигрывать только за счет другой, и существовал только один способ разбогатеть — приобретать из-за границы золото и серебро, продавать больше, чем покупать. Говоря современными терминами, при помощи положительного торгового баланса. Это было жутким перетягиванием каната, поскольку каждый приобретаемый государством соверен должен поступать от противника. Говоря словами экономиста Томаса Мена, работавшего в компании, «здесь правило такое: каждый год продавать за границу больше, чем мы потребляем их товаров».[48]
* * *
С точки зрения меркантилистов, не весь экспорт и импорт одинаков. В идеале, страна должна импортировать только сырье и экспортировать только готовые продукты производства, поскольку такая практика обеспечивает наибольшую занятость. Благоразумным гражданам следует воздерживаться от употребления заграничной роскоши, потому что из-за нее из страны утекает золото и серебро, уменьшается занятость. Эти рассуждения метили прямиком в Ост-Индскую компанию. Меркантилисты призывали сократить импорт, обложив его высокими пошлинами, а то и вовсе запретить. При этом развивать экспорт, отменяя пошлины или даже дотируя его.
Сегодня ложность этих аргументов очевидна — страна богатеет, главным образом, за счет промышленного и сельскохозяйственного производства. Употребление импортных предметов роскоши не играет особой роли, и мало кого из американцев заботит, сколько слитков золота хранится в недрах Форт-Нокса или в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. (Призрак меркантилизма еще бродит по современному миру в форме пошлин и ограничений на импорт и в самой пагубной из форм — субсидировании сельского хозяйства.)
Триста лет назад, когда Англия спорила о торговле с Индией, мало кто замечал изъяны меркантилизма.[49] Один из современников, Роджер Коук, заметил, что Голландия — богатейшая страна мира, если считать на душу населения — «импортирует все», в то время как обнищавшая Ирландия экспортирует гораздо больше, чем закупает.{434} Другой автор, Чарльз Давенант, убедительно объясняет, что польза от того, что страна «дешево снабжается» импортными товарами, намного превосходит ущерб от снижения занятости. Он последовательно доказывает, что торговля вовсе не игра с нулевым суммарным результатом, поскольку «вся торговля взаимозависима и порождает сама себя, так что потеря в одном месте часто отзывается потерей половины всего остального». По его мнению, протекционистские меры «не нужны, неестественны и не оказывают действия, ведущего к благосостоянию общества». Более того, они позволяют развиваться неэффективному отечественному производству и искусственно завышать цены, так что приходится выбрасывать много денег за плохой товар.{435}
Самым знаменитым фритредером был, безусловно, Генри Мартин, его «Размышления об ост-индской торговле» на 75 лет опередили «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама Смита. Мартин отчетливо видел, что меркантилисты, приравнивая золото к богатству, повторяли ошибку царя Мидаса. Драгоценные металлы полезны только тем, что их можно обменять на то, в чем мы нуждаемся или чего желаем. Мартин считал, что настоящее богатство страны определяется тем, сколько страна потребляет:
Слиток золота вторичен, а главное богатство — одежда и мануфактурные товары. Разве не по ним оценивают богатство во всем мире? Разве не та страна богаче, которая владеет наибольшим их изобилием? Голландия — это склад мануфактурных товаров всех стран. Там собраны английские ткани, французские вина, итальянские шелка. Если это не богатство, то за него не отдавали бы золотые слитки.{436}
Мартин упивался рогом изобилия торговли:
Почему нас окружает море? Конечно, наши домашние потребности мы можем восполнить, плавая в другие страны — труд самый меньший и простой. Благодаря этому мы пробуем пряности Аравии, хотя нам не светит палящее солнце, которое наливает их силой. Мы щеголяем в шелках, которых не ткали наши руки. Мы пьем от виноградников, которых не растили. У нас есть сокровища рудников, которых мы не копали. Мы только бороздим просторы и пожинаем урожай всех стран мира.{437}
Мартин охотно соглашается с тем, что закупка дешевых индийских товаров лишает работы английских ткачей. Но труд этих ткачей он считает пустой тратой сил, которые можно было бы применить с большей пользой где-нибудь еще:
Если бы божественное провидение обеспечивало Англию зерном, как сынов Израиля манной небесной, люди не бороздили бы моря так усердно, не сеяли, не пожинали… Точно так же, если бы Ост-Индия присылала нам одежду бесплатно или, чудесным образом, она бесплатно производилась бы в Англии, разве мы столь безумны, что отказались бы от подарка?{438},[50]
Блестящие экономические воззрения Мартина слишком далеко опередили время, и, в отличие от Адама Смита, он не прославился у себя на родине. В законодательных документах едва упоминается его имя, как и имена Коука и Давенанта. Только меркантилист Джон Поллексфен, член Торговой палаты, вызывал парламентские дебаты, подобные тем, что в XIX веке устраивал Адам Смит.{439}
Настоящая баталия — политическая — разгорелась в 1678 году. Тогда парламент, убедившись, как трудно повлиять на моду среди живых, потребовал, чтобы хотя бы мертвых хоронили в одеждах из шерстяной ткани. За последующее десятилетие Английская Ост-Индская компания и ее союзники с трудом отразили несколько законов, метивших прямиком в их индийский импорт. Один из законов предписывал носить шерстяные ткани всем студентам, профессорам, судьям и адвокатам. Другой обязывал носить шерсть всех граждан шесть месяцев в году. Еще один требовал, чтобы фетровые шляпы носили все служанки, зарабатывавшие менее пяти фунтов в год.
К времени Славной революции (1688) споры из-за ситца стали более жестокими. Когда на трон взошел король-голландец Вильгельм Оранский, Ост-Индская компания растеряла свое былое влияние на монархию. Земельный налог, увеличенный из-за конфликта с Францией, разорял английских землевладельцев. Землевладельцы, со своей стороны, видели в торговцах презренный низший класс, повинный, по меркам меркантилизма, в страшном грехе — они спускали золото и серебро страны на азиатские безделушки. Новый класс торговцев, представленный Ост-Индской компанией, оказался совершенно задавлен моралистами, ткачами и меркантилистами и слабо отбивался от выпадов протекционистов.
В 1696 году ткачи и прядильщики из Кентербери, Нориджа, Норфолка и Кембриджа, обнищавшие в борьбе с ситцем, обратились в парламент за помощью. Палата общин откликнулась на это проектом драконовского закона, запрещавшего ввоз в королевство любых хлопковых тканей и наказывавший нарушителей штрафом в 100 фунтов — стоимость 5-10 лет труда среднего рабочего. Инициаторов этого закона закидали жалобами те, кто пострадал из-за отмены торговли с Индией — не только производители шерстяных и шелковых тканей, но и отечественные красильщики, изготовители фурнитуры и вееров, которые оставались в убытке без дешевой индийской продукции. В оппозиции закону выступила Ост-Индская компания и те, кто ее поддерживал — обойщики, торговцы бельем, красильщики ситца.
Законопроект прошел в палате общин, но за закрытыми дверями Палаты лордов был зарублен, возможно, под градом взяток от Чайлда. Ткачи, пораженные такой изменой, пошли маршем на парламент. Позже, в 1696 году, закон выдвинули снова. В январе 1697 года 5000 ткачей, подстегиваемых ложными слухами о том, что проект закона снова отклонили, окружили парламент и сумели проникнуть в коридор палаты общин. Парламентарии заперлись изнутри, тогда ткачи прошествовали к штаб-квартире Ост-Индской компании, но ее двери они сломать не смогли. Охрана стянула силы к парламенту и к штаб-квартире компании, а напуганная палата общин заявила ткачам, что снова выдвинула законопроект на рассмотрение. И снова Чайлд подмазал палату лордов, «дожди золотые просыпав в подол тем дамам, чьей властию крепок престол».{440} И снова тысячи ткачей в ярости шли, на этот раз к дому Чайлда, где солдаты стреляли в толпу, убив одного человека и ранив несколько.
Теперь против компании выступали более богатые организаторы. Долгие годы мелкие частные торговцы орудовали в портах Азии в нарушение монополии компании. В 1698 году парламент дал официальный статус этим «нарушителям монополии», как они теперь назывались, и выдал им хартию Новой Ост-Индской компании. Изначальная Ост-Индская компания, чтобы восстановить монополию, была вынуждена купить большую часть акций новой компании, а затем соединить ее операции со своими.
В этот критический момент, в 1699 году, умер Чайлд. Силы протекционизма ликовали, им больше не могли противостоять его интеллект и глубокие карманы. В апреле 1700 года тори — партия приземленных интересов — успешно провела Запретительный акт, отменивший импорт окрашенного или расписанного ситца и шелка. Неокрашенные ткани пока дозволялись, хотя на их импорт вводилась пошлина в 15%.{441}
«Закон 1701 года» (названный так по году, в котором он вошел в силу) выстрелил в обратную сторону, и произошло это по трем причинам. Во-первых, ситец превратился в запретный плод, а значит, стал более желанным. Во-вторых, на долгие годы после принятия закона расцвела контрабанда — это неотъемлемое следствие запретов. Выражаясь словами памфлетиста: «Поскольку Англия — остров, есть много мест на берегу, чтобы сложить свои товары».{442} Хотя контрабандный ситец ввозился, в основном, французскими и голландскими торговцами, но немалую долю в этот бизнес вносили и англичане, провозя ткани в частном багаже сотрудников Ост-Индской компании. В-третьих, и это главное для всякого ткача, закон содействовал отечественным хлопковым мануфактурам, обеспечивая их большим количеством простого индийского полотна, чтобы развивалась техника окраски. Производители шерстяных тканей скоро поняли, что закон ухудшает их положение. До принятия закона «ситец красили в Индии, и его носили, в основном, люди богатые. Бедняки продолжали носить наши, шерстяные ткани. Теперь ситец красят в Англии, он стал очень дешев и так вошел в моду, что теперь люди всех классов и сословий в огромных количествах заполняют им свои дома».{443}
Ситуация стала критической. Чтобы превратить хлопок-сырец в тонкую ткань, требовались огромные трудозатраты, поэтому готовые изделия из ситца были все еще дороже шерстяных или шелковых. Экономический спад 1719 года, вызванный войной с Испанией, поверг в отчаяние ткачей, работавших с шелком и шерстью. 10 июня несколько сотен рабочих из Спиталфилдса — района Лондона, известного производством шелка — напали на магазины, где продавался ситец, и даже на нескольких людей, которым не посчастливилось, потому что на них была одежда из ситца, когда они встретились ткачам. В некоторых случаях «охотники за ситцем» срывали с людей ненавистную ткань, макали вещи в едкую азотную кислоту, надевали их на палки и таскали эти трофеи по улицам. Несколько месяцев ткачи терроризировали Лондон. Беспорядки закончились только с наступлением зимы, когда даже самые модные дамы закутались в теплую шерсть.{444}
Перед парламентом и новой Ганноверской династией замаячил призрак восстания. Власти спорили о том, как успокоить толпу ткачей, которая по меньшей мере еще один раз окружила парламент, скандировала, требовала действий. Законодательная баталия продолжалась два года. Наконец в 1721 году, после того, как лопнул пузырь финансовой пирамиды — Компании Южных морей, — в стране начался экономический хаос. Парламент запретил импорт индийских тканей. Носить их тоже стало преступлением. Нарушители штрафовались на 5 фунтов в пользу доносчика. С этого момента импортировать разрешалось только хлопок-сырец и нитки. Любопытно, что парламент оставил одно исключение из своих запретов — женщины могли носить импортные ткани, только если они были немодного синего цвета.{445}
Эти протекционистские меры неизбежно сработали против производителей шелка и шерсти. В начале XVIII века ситец был классическим товаром с высокой прибавочной стоимостью. Богатства Креза ожидали того, кто мог преодолеть пропасть между дешевым хлопком-сырцом и дорогой мягкой и тонкой тканью, которой жаждал потребитель. Высокий спрос и высокие цены на ситец в сочетании с недоступностью индийских тканей побуждали изобретателей совершенствовать ткацкие и прядильные технологии.
И они совершенствовали. Через дюжину лет после принятия «Закона 1721 года» Джон Кей изобрел самолетный челнок, что вдвое повысило производительность работы ткачей. Повысился спрос на тики, производство которых труднее поддавалось механизации. В 1738 году Льюис Пол и Джон Виатт запатентовали первую прядильную машину, но коммерчески ценное устройство придумали только в середине 60-х годов. Эти машины изобрели Джеймс Харгривс, Ричард Аркрайт и Сэмюэл Кромптон. (Соответственно «Дженни», ватер-машину и мюль-машину, достоинство которой заключалось в том, что она была гибридом первых двух.){446}
Специалист по истории экономики Эрик Хобсбаум однажды сказал знаменитую фразу: «Говоря о промышленной революции, мы говорим о хлопке». Новые машины, которые стали сердцем великих преобразований, оставили без работы многие тысячи прядильщиков и ткачей. Толпы безработных в гневе крушили станки в XVIII и XIX веках, пока наконец не растворились на новых заводах.{447} (Название «луддиты» восходит к имени Неда Лудда, предводителя восстаний «разрушителей машин» в 1810-х годах, возможно, вымышленного.)
Сразу же после принятия закона 1721 года любимым предметом экспорта из Индии стали нитки. Но с изобретением новых чудесных машин топливом промышленной революции и любимым ввозным товаром стал хлопок-сырец. В начале 1720-х годов Ост-Индская компания ежегодно ввозила из Индии 1,5 миллиона фунтов хлопковой пряжи. В конце 1790-х годов это значение выросло до тридцати миллионов.{448}
За последующие 75 лет английская хлопкообрабатывающая промышленность развивалась. Спрос на ее продукцию вырастал за счет появления многофункциональных рыночных механизмов, так хорошо известных сегодня: магазинов моды, модных сезонов, смены мод, которые становились все чаще, выставок-продаж и региональных товарных баз. Из-за них в стране появились новые платные дороги.{449}
Урожая азиатского хлопка уже не хватало для бездонных утроб адских машин. Английские фабрики выдавали в 1765 году полмиллиона фунтов готовой ткани, в 1775 году — два миллиона, а в 1784 году — 16 миллионов. Английские поселенцы начали выращивать хлопок в тропической части Южной Америки и Вест-Индии, куда уже были налажены поставки рабов. Но даже это не могло удовлетворить потребности заводов Ланкашира в хлопке-сырце. Сырье поставлялось, в основном, не Британской империей, а недавно образованными независимыми Соединенными Штатами.
В 1790 году, во время первой переписи населения, в молодой республике насчитывалось около 700 000 рабов (примерно шестая часть населения), которые, большей частью, жили в южных штатах. Но из-за сельскохозяйственной депрессии Юг в то время больше экспортировал рабов, чем импортировал. В 1794 году ситуация изменилась, когда Эли Уитни изобрел коттон-джин (хлопкоочистительную машину) — грубое приспособление с барабаном и крючками, отделявшее хлопковые волокна от семян. Эта машина превратила огромные пахотные земли Юга в хлопковую плантацию Англии, откуда хлопок доставлялся в Бристоль и Ливерпуль всего за несколько недель (а не за шесть месяцев, которые требовались, чтобы добраться до Индии вокруг Африки).
К 1820 году американский экспорт хлопка, преимущественно в Англию, вырос до двухсот миллионов фунтов ежегодно, а накануне Гражданской войны он составлял уже два миллиарда фунтов.{450} Англия, возмущенная тем, как агрессивно защищает рабство Конфедерация, и презрительно относившаяся к шотландскому и ирландскому сброду, поселившемуся на Юге, должна была бы примкнуть к северянам. Но такова была темная власть Короля Хлопка, что Британия в этом конфликте осталась нейтральной.
* * *
В XVII веке проигрыш голландцам в борьбе за Острова Пряностей заставил Английскую Ост-Индскую компанию переключить внимание на индийские ткани. А в XVIII веке потеря прибыльной торговли готовыми хлопковыми и шелковыми тканями заставила ее вновь переместить внимание. На этот раз в Китай, на торговлю чаем.
Если Индия была раздроблена на множество народов, религиозных и политических течений и была очень восприимчива к манипуляциям европейцев, то Китай, напротив, был этнически целостной, централизованной страной. Он легко удерживал западных торговцев на должной дистанции и позволял им заходить только в порт Кантона. Хуже того, китайцев не слишком интересовали европейские товары, за исключением технологических новшеств, таких как часы, музыкальные шкатулки или особые стратегические товары, которых им не хватало, например медь. Этот дисбаланс в торговле в середине XIX века вызвал открытые вооруженные столкновения, и этот конфликт до сих пор отравляет отношения Китая и Запада.
Корабли компании, следовавшие в Китай, предназначались для перевозки чая. Быстрые и вместительные, они были оборудованы специальными закрытыми ларями для хранения драгоценного, но капризного груза. Как голландцы когда-то избегали португальских патрулей, проходя мимо Малакки, так и англичане выруливали, чтобы не попасться голландцам. Отличные надраенные суда, отправляясь в Китай, следовали древним путем на ревущие сороковые, до Австралии, затем поворачивали на север. Возвращаясь домой, они избегали голландских патрулей, правя на юго-восток, в открытый Тихий океан, пока не пройдут восточную оконечность Новой Гвинеи, затем они пробирались через пролив Торреса, к северу от Австралии.
Поскольку в Китае европейцев не жаловали, те знали о выращивании чая немногим больше, чем во времена Марко Поло. Процесс его производства был гораздо сложнее, чем просто выращивание и сушка листьев. Чай, который появлялся на пристанях Кантона, уже был обработан, несколько раз перевозился и хранился в разных местах. На каждом этапе его дегустировали и смешивали листья из разных городов и провинций, добавляли в него такие экзотические ингредиенты, как бергамот, и такие мошеннические, как опилки.
Кофе передал эстафету столетия чаю. Первый груз высушенных листьев чая Голландская компания доставила в Амстердам в 1610 году. Первый груз чая достиг Англии около 1645 года. А в 1657 году «Кофейный дом Гарроуэя» начал продавать этот напиток в деловом квартале Лондона.{451} Когда Екатерина Брагансская вышла замуж за Карла II, она привезла в приданое английскому двору не только Бомбей, но и чай, который уже обосновался в Лиссабоне. Как и в случае с хлопком, путь к коммерческому успеху в Англии пролегал прямиком через королевские покои. Только после этого новому обычаю следовало дворянство, затем низшая аристократия и наконец, вздыхая, простонародье. В 1685 году Ост-Индская компания извещала своих закупщиков в Кантоне:
Чай является желанным товаром, и мы, при случае, представляем его близким друзьям при дворе. Посему вам надлежит ежегодно поставлять нам 5-6 ларей самого лучшего и свежайшего чая.{452}
В 1700 году фунт листьев, за которые китайскому крестьянину платили пенни, продавался в европейских магазинах по 3 фунта стерлингов. К 1800 году цена упала на 95%, до трех шиллингов, и чай стал доступен большинству горожан. В 1700 году чай пили только самые богатые. В середине столетия — большинство представителей буржуазии (в том числе, как известно, создатель «Словаря английского языка» доктор Джонсон) пили его постоянно. К 1800 году чай пили даже в работных домах.
Компания не просто компенсировала потери в цене за счет увеличения объема, который в XVIII столетии с 50 тонн в год увеличился до 15 000. Даже если считать, что большая часть чая перепродавалась в такие места, как Париж или Бостон, все равно на каждого англичанина приходилось по одному-два фунта чая в год. Компания получала около шиллинга прибыли с фунта чая. Наценка не баснословная, но, умноженная на тысячи тонн в год, она вызывала зависть и ненависть во всех слоях британского общества. Еще больше яда доставалось короне, потому что ввозные пошлины на чай составляли 100% от его стоимости при разгрузке в Англии. По мере того как у англичан вырабатывалась привычка к чаю, у английской короны вырабатывалась привычка к пошлинам на чай.
Высокие тарифы неизбежно сопровождаются контрабандой. Южное побережье Англии и Западные графства стали настоящим раем для чайных контрабандистов, в то время как французские торговцы облюбовали острова Ламанша. Обычно местные предприниматели выплывали в море, поджидая корабли, чтобы купить у них нелегальный товар, который затем прятался в погребах, замках, частных домах и даже церковных криптах. Женщины путешествовали за границу, надевая платья с потайными карманами. Не меньше 3/4 чая, потребляемого в Англии, было контрабандным, больше нелегального чая пили только в американских колониях. К середине XVIII века конфликт между подпольными перевозчиками чая и таможенниками превратился в открытую войну. Вот надпись на могиле контрабандиста:
Я не украл и чайного листа — Убит невинно, Господу предстал. Чай бросьте на весы и кровь людскую. Убьете ль брата за цену такую?{453}Интересно, что контрабандисты, существенно сбивая цену на чай, способствовали увеличению спроса на него. В 1784 году правительство наконец вняло голосу граждан и снизило тарифы с 120% до 12,5%.
Бум чайных закупок в XVIII веке обязан не только контрабандистам (и, конечно, рыночному гению Английской Ост-Индской компании). Поскольку в Китае чай был относительно дешев, его там подавали чуть теплым, без особенных церемоний, в маленьких чашках без ручки. Японцы к дорогому чаю относились с гораздо большим пиететом. Европейцы подавали чай горячим, чтобы в нем быстро растворялся сахар, приятный, на западный вкус. Этот обычай требовал нового изобретения — чашки с ручкой.
Китайские чашки без ручек продавались во множестве. Их привозили в качестве балластного товара и продавали по несколько пенсов. Ручки добавлялись позже, и до середины XVIII века в большинстве крупных европейских городов трудились изготовители ручек. Постепенно секреты изготовления тонкого фарфора разгадали европейские ремесленники, такие как Джосайя Веджвуд, искусство которого превосходил только его гений коммерсанта.
Чаепитие, соединившее напиток и чашку, изменило ритм самой жизни Англии, разделив день ритуальным чаепитием, соединявшим общественную активность с непринужденной беседой, протекавшей как в богатейших домах, так и на самых скромных рабочих местах. То, что чернь охотно переняла обычай, поражало и раздражало аристократических законодателей моды.{454} Еще в 1757 году современник писал так:
Рабочий и мастеровой подражают господину… Слуги ваших слуг, вплоть до самых нищих оборванцев не успокоятся, пока не вкусят изделия далекого Китая.{455}
История чая и сахара переплелась, и их употребление часто рассматривают в тандеме. Сахарные плантаторы стимулировали употребление чая, считая, что это в их интересах, а Ост-Индская компания то же самое делала с сахаром, хотя в прямой торговле им почти не участвовала. К XVIII веку уже мало кого удивляло, что эти два продукта, выращенные за тысячи миль и привезенные с разных концов земли, стали необходимой частью жизни и богачей, и бедняков.
* * *
Историю сахара не рассказать, не касаясь истории Вест-Индии. С 1492 года Испания объявила свое исключительное право на Вест-Индию. Голландцы, англичане и французы столетиями пытались вырвать ее из испанских рук. В 1559 году французы и испанцы согласились на том, что эта область находится «за чертой», поэтому свободна от всех соглашений и союзов, заключенных остальным миром. Этот регион открывал новые возможности для захвата — Дикий Запад XVII—XVIII веков — и неудержимо притягивал авантюристов со всей Европы.
Вест-Индия никак не была тропическим раем позднего Средневековья, скорее, гоббсовским водоворотом варварства и жестокости. Европейцы, уплывавшие на запад, попирали не только союзные обязательства собственных стран, но и мораль и границы нормального поведения. Эти отклонения проявлялись во всевозможных излишествах — пьянстве, мотовстве, насилии по отношению к местному населению, рабам, друг другу. Когда французу не попадалось голландца, британца или испанца, чтобы убить, вполне подходил и соотечественник. Совершенно в духе того времени, первые попытки английского присутствия в этом регионе были сделаны пиратами, такими как Дрейк и его кузен Хокинс, которые торговали рабами для европейских плантаторов в свободное от грабежа португальских или испанских судов время.
Традиционно географы разделяют острова Карибского бассейна на Большие Антильские (Кубу, Эспаньолу, Пуэрто-Рико и Ямайку) и Малые Антильские — бесчисленные островки, протянувшиеся на юг, к Венесуэле. Испанцы быстро заселили Большие Антильские острова, которые отошли на второй план по мере освоения богатств Мексики и Южной Америки. Французам, голландцам и англичанам здесь оставались только поскребыши — Малые Антильские острова. Хотя испанцев не слишком интересовали эти крошки, терять их из виду было нельзя, потому что нагруженные сокровищами корабли, по пути домой, проходили через проливы между этими островками.
Свое присутствие в Вест-Индии британцы ознаменовали скромно, приобретя в 1623 году крошечный островок Сант-Кристофер (ныне Сент-Китс). Вскоре он достался Франции, затем, дипломатическим путем, его вернули. (Больше чем через век на соседнем Невисе родился Александр Гамильтон.) В 1627 году англичане начали выращивать привозные культуры на Барбадосе, самом крупном (166 кв. миль) необитаемом отдельном острове, к востоку от основной гряды.
В 1625 году король пожаловал Барбадос двум конкурентам, «держателям патента» — Уильяму Куртину и графу Карлайлу. Когда, около 1630 года, выиграл последний, он разделил остров между 764 поселенцами, подарив каждому надел от тридцати акров до тысячи. Эти первые фермеры-иммигранты производили продукты для своих нужд, но кое-что выращивали на продажу, например табак и хлопок.
В свою очередь, каждый землевладелец привлекал работников и нанимал слуг из Англии, обещая маленькие участки земли, в основном по десять акров, по окончании срока службы. Поначалу большая часть этих обещаний исполнялась, но в 30-х годах, когда земля стала заканчиваться, новые иммигранты встали перед незавидным выбором: отправиться на другие острова в поисках земли, остаться на Барбадосе или вернуться в Англию с пустыми руками.
В начале население Барбадоса не слишком отличалось от английского общества, если не считать немногих рабов, если они вообще там были. Около 1640 года островитяне заметили, что спрос на сахар быстро растет, и решили сообща выращивать сахарный тростник, который завезли с Суринама вскоре после того как Барбадос был заселен.
Судьба улыбнулась островитянам, потому что в это самое время в регионе появились голландцы, искавшие возможность урвать свое от монопольной торговли Голландской Вест-Индской компании (WIC). Они предлагали французским и английским поселенцам помощь в выращивании сахарного тростника и рабов. Затем помощь пришла в 1645-1654 годах, когда португальские поселенцы выставили Вест-Индскую компанию из Бразилии, и голландские и португальские евреи, не прижившиеся в колонии, которую отвоевали себе португальские католики, предлагали свои услуги по всей Вест-Индии.
За несколько десятков лет первые британские поселенцы и их слуги засадили сахарным тростником почти весь Барбадос. К 1660 году на острове жило больше жителей, чем в Массачусетсе или Вирджинии — 400 человек на квадратную милю, в четыре раза плотнее, чем в Англии. Остров превратился в крупнейший в мире производитель сахара, обеспечивая почти 2/3 потребности Англии.{456} Но как же этот крошечный островок мог соперничать с Бразилией и Большими Антильскими островами? Часть ответа кроется в подходящей почве и удачных ветрах его подветренной стороны, хорошо укрытой от ураганов. Немалую роль сыграл также и менталитет английского фермера, владевшего землей (или, по крайней мере, платившего ренту другому землевладельцу), вкладывавшего свой труд и получавшего свою прибыль. Бразильцы, наоборот, применяли отцовскую модель раздела урожая, когда мелкие фермеры отправляют свой тростник на завод землевладельца, а получают только часть сахара, который они вырастили.{457} При таких высоких ценах на сахар и такой удачной земле, как Барбадос, фермеры выращивали богатые урожаи на небольшой площади, а большую часть продуктов для себя острову приходилось импортировать. Впоследствии эту модель приняли и на других островах Вест-Индии.
Из всех этих островов Барбадос прочнее всех сохранял британский уклад жизни. На его плодородных почвах в изобилии произрастал сахарный тростник, а его прохладные пологие нагорья напоминали поселенцам родную Англию. Один из первых поселенцев, Ричард Лайгон, захватывающе описал свое первое посещение острова:
Чем ближе мы подходили, тем более красивое зрелище разворачивалось перед нашими глазами… Высокие деревья с раскидистыми ветвями и цветущими кронами, словно их нарочно выращивали для красоты. И при этом их величественность одарила нас прохладной тенью… Перед нами открылись плантации, одна над другой, как этажи высоких зданий, составленных с гармоничной соразмерностью.{458}
С востока поставлялись измельчители тростника необходимой мощности, и к 1660 году остров украсился сотнями живописных ветряных мельниц. Но другое достижение островитян было не столь эстетического свойства: остров стал одним из богатейших мест в мире, а про здешнюю плантаторскую аристократию слагали легенды.
До того как в Новом Свете развились сахарные плантации, с далеких плантаций Средиземноморья и островов Восточной Атлантики обычно привозили сахар-сырец, коричневый, неочищенный мусковадо в больших бочках. Его отправляли на очистные заводы для окончательной обработки и получения белого рафинада, которого ожидали покупатели. По мере того как производство сахара на Барбадосе росло, его плантаторы осваивали премудрости рафинирования и обходились без европейских заводов, своими силами. Английские сахаропереработчики реагировали на это уже известными нам протекционистскими речами о национальных интересах:
Один корабль белого везет груз трех кораблей коричневого… Разве так поддерживают наших моряков? Если очистка стала частью рынка до того, как у нас появились плантации, было бы глупо потерять ее теперь, когда плантации у нас есть.{459}
Зря они беспокоились, потому что производство сахара на Барбадосе скоро сменило свои задачи. Вместо белого золота из тростника начали выпускать другой продукт, название которого стало синонимом этого острова — ром. Сладкий алкогольный напиток впервые получили рабы Барбадоса из мелассы — отходов рафинирования сахара. Вскоре этот напиток нашел спрос в Африке, где его любили гораздо больше, чем европейский бренди. Вскоре карибские торговцы уже отправляли груженные ромом корабли в Гвинейский залив, в обмен на рабов. Плантаторы Барбадоса переделали свои фактории на производство рома, и остров оставался самым богатым местом Вест-Индии даже в XVIII веке, хотя сахара там производилось меньше, чем на Ямайке, Сан-Доминго (Гаити) и Подветренных Антильских островах.{460}
Хотя среди новой плантаторской элиты сохранилось несколько первых поселенцев, большинство из них продало свою собственность, которая уже в 40-х годах XVII века выросла в цене вдесятеро, и вернулось в Англию. Те, что пришли на их место, не имели ничего общего с отважными земледельцами, разбивавшими фермы в тропическом лесу в 20-х и 30-х годах XVII века. Оптимальный размер барбадосской сахарной плантации, достаточный, чтобы при ней имело смысл строить завод, составлял около двух сотен акров. После 1650 года, покупая возросшую в цене плантацию, обычно требовалось брать кредит. Многие из новоприбывших были бедными, но кредитоспособными молодыми людьми, младшими сыновьями земельной аристократии, обычно прибывшими прямо с полей сражений Английской гражданской войны. Типичным представителем этого племени был Томас Модифорд, который «решил не появляться в Англии до тех пор, пока не совершит путешествия и не найдет себе занятия, которое принесет ему сотню тысяч фунтов стерлингов, и все на этом сахарном заводе».{461}
* * *
Англия, аппетит которой раздразнили богатства Барбадоса, положила глаз на другие острова Вест-Индии. Назревал конфликт с Испанией, давно занявшей лучшую недвижимость в Карибском бассейне. Наконец англичане поселились на Ямайке, которая по площади в 26 раз превосходит Барбадос. К 1655 году этот большой остров был разграблен и пребывал в запустении. Его города были сожжены в нескольких сражениях пиратами и английскими войсками. В том году британские солдаты высадились на остров (по приказу адмирала Уильяма Пенна, отца-основателя Пенсильвании), а к 1658 году они вытеснили последних испанцев. С этого момента британцы стремились сделать Ямайку своей сахарной кладовой и сразу направили туда третью часть трафика африканских рабов.{462}
Расцвет Барбадоса продлился сравнительно недолго. После 1680 года упали цены на сахар и английские тарифы, истощились почвы и плантации заросли лесом. Многие плантаторы бежали в поисках более тучных полей Нового Света. Например, Модифорд — уже один из богатейших людей мира к тому времени — переехал на Ямайку, где сделался губернатором. Другие вернулись в свои английские имения, где стали прототипами нуворишей XVIII века, излюбленных литературных персонажей того периода. Прочие перебрались на еще большую и многообещающую арену — в Южную Калифорнию, где восстановили сообщество плантаторов, покинутое ими на острове. Это барбадосское наследие прослеживается на многих примерах рабовладельческого общества североамериканского континента и в политическом образе мыслей, который позже привел к сражению за форт Самтер[51] и появлению таких личностей, как Стром Тэрмонд[52].{463}
* * *
Португальцы, англичане и голландцы, которые орудовали «за чертой», стали самыми крупными в истории потребителями рабского труда. Таковы были незапланированные, непредвиденные последствия плантационной экономики.
Выращивание сахарного тростника требовало огромного количества живой силы, которое европейские хозяйства предоставить не могли. Вот как описывает события в Британской Вест-Индии историк Ричард С. Дан: «Похищение людей происходило чудовищно просто. От эксплуатации английских бедняков до помыкания колониальными невольниками, до ловли и кражи детей, до обречения на рабство черных африканцев».{464}
Первые работники на полях сахарного тростника в Английской Вест-Индии были свободными и белыми, но к концу XVII века почти треть рабочих рук обеспечивалась за счет каторжников.{465} Нередко можно было услышать историю о том, что на улицах Бристоля или Ливерпуля украли ребенка («сбарбадосили» — словечко, аналогичное появившемуся позже «сшанхаить») и отправили работать на сахарные плантации. Английские работники, даже если они были, оказывались слишком угрюмыми и несговорчивыми. В лучшем случае, они оставались на плантации несколько лет. Затем у них кончался срок найма, контракт, срок заключения, терпение или жизнь. Требовалось более надежное решение.
Где-то около 1640 года группа барбадосских плантаторов приехала в Бразилию, в гости к голландским плантаторам. Они были удивлены тем, насколько лучше работают черные рабы. Африканцы имели тысячелетний опыт работы на полях. Они не только легко управлялись с плугом и мотыгой, они, в отличие от англичан, прекрасно переносили жару и не страшились желтой лихорадки и малярии — этих страшных убийц «сахарных островов». А главное, они дешево обходились, в сравнении с трудом свободных англичан, и в приобретении, и в содержании. С 1660 года вошли в норму плантации, где трудились десятки, а то и сотни африканских рабов.{466}
Поначалу британцев в Вест-Индии обеспечивали рабами португальцы, которым был хорошо знакомо побережье Западной Африки, но скоро на этот рынок вышли и английские суда. Едва миновало четыре месяца, как в Англии восстановилась монархия, а Карл II, в духе времени, основал монопольную компанию, легкомысленно названную «Королевские предприниматели в Африке», чтобы включиться в африканскую торговлю. В число акционеров вошла большая часть королевского семейства, лорд Сэндвич и лорд Эшли, который, по тонкой иронии истории, стал главным покровителем знаменитого философа Джона Локка. В основном, компания занималась главным предметом африканского экспорта — золотом, но они также отправили и несколько тысяч рабов на Барбадос.
«Предприниматели», у которых царил хронический беспорядок, развалились в 1672 году, и на их место встала гораздо более значительная монопольная организация — Королевская африканская компания (RAC). На сей раз, вероятно с подачи лорда Эшли и его рассказов о выгоде работорговли, Локк и сам стал миноритарным акционером. Будучи творением монархии, компания ненамного пережила Славную революцию 1688 года, и через десятилетие утратила монополию. (Вместе с монополией исчезло и все остальное, и дела компании пошли плохо. А ведь Карл II даровал ей исключительное право на торговлю с Африкой на тысячу лет.) Оставшись без монополии на работорговлю, компания все же продолжала собирать десятину с независимых торговцев рабами — «деятипроцентников», как их называли. В XVII веке, прежде чем окончательно сойти на нет, компания перевезла через Атлантику 75 000 рабов. Примерно одна шестая от этого числа не пережила дорогу. (Смертность, почти наверняка, была еще выше среди белых корабельных команд. Белым и тропические болезни опаснее, чем рабам, и заменить их недорого стоило.){467}
Даже если не считать религиозных и культурных ограничений, осуждавших рабство, охотиться на людей и перевозить их было трудно и дорого. Большинство черных рабов изначально попадали в плен к соседнему, враждебному племени, а не к торговцам. Опасения европейцев перед тропическими болезнями обеспечивало минимальное присутствие белых на африканском побережье. На берег сходили лишь специальные отряды да несколько постоянных агентов, в обязанности которых входили подношение подарков местным правителям и покупка всех необходимых разрешений.
Перевезли миллионы рабов. Жители портов, откуда отправляли рабов, не одобрили бы такое отношение к своим соплеменникам, поэтому захваченные рабы обычно проходили через множество рук, чтобы наверняка оказалось, что они не принадлежат к племени своих последних африканских продавцов. Даже в XIX веке ни португальцы, ни англичане, ни голландцы, ни французы не думали о том, как приобретался их живой товар, и часто представления не имели о его географическом происхождении. Европейцы, даже если бы и хотели сами ловить рабов, выживали в Африке для этого недостаточно долго. Из документов компании видно, что 60% ее сотрудников умирали, не прослужив и года, а 80% — не прослужив и семи лет, и что живым срок службы заканчивал только один из десяти.{468} Один из самых авторитетных специалистов по истории рабства, Дэвид Брайон Дэвис, замечает:
Долгое время существовал миф, будто только европейцы физически порабощали африканцев. Как будто кучка матросов, панически боявшихся тропических болезней и разорвавших связи с родиной, способна переловить 11-12 миллионов африканцев.{469}
Но как европейцы расплачивались за рабов? В основном, одеждой. Из документов компании видно, что в конце 1600-х годов почти две трети стоимости товаров для Африки приходилось на ткани, в основном, английского производства, но в немалой степени и индийский ситец. Прочие товары, главным образом, составляли: железная крица, огнестрельное оружие и ракушки каори.{470}
Обменяв товары на пленников, европейцы становились варварами. На каждого пленника приходилось примерно 4 квадратных фута корабельного пространства — примерно столько же, сколько на каждого пассажира штатно заполненного вагона метро или пассажирского самолета, если не считать отсутствие элементарных санитарных удобств, вентиляции и возможности выбраться из этой духоты, которая длится не минуты или часы, а многие недели. Даже в самом лучшем случае — когда среди пленников не возникало заразных болезней — они лежали, как шпроты в банке, в лужах собственных нечистот. Добавьте к этому зловоние от последствий морской болезни, открытые язвы от оков и неподвижность — условия, в которых перевозили рабов через Атлантику, превосходят человеческое воображение. В показаниях, которые офицер корабля «Александр» давал в парламенте, утверждается, что
Когда он занимался перевозкой рабов, он использовал почти все пространство на корабле и забивал его рабами. Для каждого человека оставалось места меньше, чем в гробу, как в длину, так и в ширину. Невозможно было ни сдвинуться, ни повернуться… Он говорит, что не может вообразить себе картину более жуткую и отвратительную, чем была, когда рабы болели дизентерией. Всю палубу «Александра» покрывала кровь и слизь, как на скотобойне. Вонь стояла невыносимая.{471}
Немногие рассказы о работорговле перегружены эмоциями. До недавнего времени приблизительные расчеты ее масштабов, национального состава рабов и смертности среди них основывались не столько на объективной реальности, сколько на идеологических задачах докладчика. Только после 1950 года этот предмет стал объектом серьезного научного исследования, когда такие ученые, как Филипп Кэртин и Дэвид Элтис попытались получить ясные и точные данные об этой торговле.
Картина нарисовалась ошеломляющая.{472} С 1519 года и до конца работорговли, в конце 1860-х годов, в Новый Свет прибыло 9,5 миллиона африканских рабов. Рис. 10-2 показывает ежегодный трансатлантический трафик. Поскольку смертность, в среднем, составляла 15%, значит, из Африки было отправлено 11 миллионов пленников.
Рис. 10-2. Годовой объем трансатлантической работорговли
Большинство выживших из этих 9,5 миллиона рубило, измельчало и варило сахарный тростник.{473} 80% рабов прибыло в Бразилию и Вест-Индию, большая часть остальных — в испанскую Северную Америку и в Южную Америку. Эта невольная миграция была такой масштабной, что в 1580 году больше половины из тех, кто плыл в Новый Свет, были рабами. К 1700 году — две трети. А к 1820 году — 90%. В самом деле, заселение Америк казалось немыслимым без черных рабов, которые составили 77% пересекших Атлантический океан до 1820 года.{474} И только во второй половине XIX века, когда, наконец, восторжествовали законы, большинство иммигрантов оказалось белокожим.
Как ни странно, только 4,5% (около 400 000 человек) привезли в британские колонии в Северной Америке. Разрешить этот вопрос помогает таблица 10-1, в которой приведено относительное количество рабов, привезенных в разные части Нового Света, и их потомков, проживавших там в 1950 году. Во-первых, обратите внимание, США и Канада приняли менее одной двадцатой части всех рабов, а теперь в этих странах живет около трети их потомков. Обратную картину мы видим в Вест-Индии, которая приняла около двух пятых всех рабов, но сейчас там живет лишь одна пятая их потомков, что наводит на мысль о том, как трудно было выжить рабам на островах.
Каким же образом стало больше потомков рабов в Канаде и Соединенных Штатах? Ответ заключается в том, что сахарный тростник — самая беспощадная из культур, а в Британской Северной Америке его почти нигде не выращивали. Рубка, измельчение и варка тростника означают тяжелую работу и раннюю смерть миллионов африканцев, в основном мужчин, потому что на плантации брали выносливых мужчин. «Сахарные» острова — Барбадос, Ямайка, Наветренные и Подветренные, Сан-Доминго… Ничего подобного мир не видел и, надеюсь, больше никогда не увидит. Это общество, почти целиком состоявшее из чернокожих, посвящало себя производству одного-единственного товара. Таким образом, «сахарные» острова зависели от импорта пищи и большинства необходимых вещей. Такой тяжелой была работа, а работники так плохо питались и так много болели, что требовался постоянный приток свежей живой силы, хотя бы чтобы численность рабочих сохранялась.
Таблица 10-1.
Доля в численности населения рабов, перевезенных в разные части Нового Света в 1500-1880 годы, и их потомков в 1950 году
(Доля рабов, перевезенных в Новый Свет в 1500-1880 гг. — Доля потомков африканцев в 1950 г.)
США и Канада …… 4, 5% — 31,1%
Мексика и Центральная Америка …… 2,4% — 0, 7%
Вест-Индия …… 43, 0% — 20, 0%
Бразилия …… 38, 2% — 36, 6%
Остальная Южная Америка …… 11,8% — 11,6%
Это нисколько не напоминало положение крепостных крестьян Европы или гаремных невольников Среднего Востока, которых нередко принимали в семью и даже разрешали вести свое дело. Не походило это и на мамлюков, которые могли выслужить себе вольную и даже добраться до власти, приняв ислам и проявляя доблесть на службе. Положение же черных рабов больше всего напоминало неумолимый ад жаркой, убийственной работы в полях и на заводах, под ежечасным, ежеминутным присмотром надзирателей.{475}
Особенно смертоносной оказывалась пора измельчения тростника. Поскольку сок выходит плохо, если тростник не измельчить и не проварить, то круглосуточные работы сводятся к изнурительному труду в поле, на трехцилиндровых мельницах и у котлов, где жарко, как в преисподней. Поэтому на острова привозили, в первую очередь, сильных мужчин, и этим объясняется относительный недостаток там женщин. Результатом, естественно, стала низкая рождаемость, не только из-за самого недостатка женщин, но и социальной нестабильности, вызванной таким дисбалансом. Кроме того, плантаторы не видели пользы в том, чтобы рабы заводили детей, поскольку их нужно больше десяти лет кормить, прежде чем они начнут приносить доход. Гораздо проще закупить здоровых молодых мужчин, число которых можно пополнять 3-4 раза в год. Дети рабов настолько были нежелательны, что ребенок стоил одну десятую или одну двенадцатую цены взрослого.{476}
Смерть на плантациях была непременной спутницей сахара, и те колонии, что больше всех богатели на сахаре, были самыми страшными для их чернокожих жителей. Черное население Британской Северной Америки, где тростника выращивали мало, росло почти так же быстро, как и белое. Единственным исключением из этого образца низкой смертности среди рабов была Луизиана — одно из немногих мест на континенте, где выращивали сахарный тростник. Точно так же исключением из образца высокой смертности рабов в Бразилии была провинция Минас-Жерайс, где больше занимались «легким» трудом — кофе и молочными продуктами.{477}
Смертоносный лик «сахарной демографии» сегодня очень хорошо виден в культурных различиях между черным населением Соединенных Штатов или Канады и остальных стран этого полушария. Британская Северная Америка, благодаря быстро растущему населению, требовала все меньшего импорта африканских рабов. После 1800 года довольно высокая рождаемость и низкая смертность среди рабов позволила владельцам плантаций больше не импортировать африканцев. По той же причине в 1808 году в Конгрессе, где доминировали южане, легко прошел закон о запрете работорговли. Американские аболиционисты обошли своих карибских и бразильских конкурентов. К 1808 году почти все рабы Северной Америки были местными уроженцами, а ко времени Гражданской войны культурная память об Африке почти исчезла.{478} Острова Вест-Индии и Бразилия, напротив, требовали постоянного притока африканцев. Даже в XX столетии африканский язык йоруба бытовал на Кубе, этом последнем бастионе плантаторского общества Нового Света, где еще сильно сказывалось африканское влияние.
* * *
Трансатлантическую торговлю XVII-XIX веков — кофе, хлопок, сахар, ром и табак из Нового Света в Европу; мануфактурные товары, особенно ткани, из Европы в Африку и рабы из Африки в Новый Свет — называют треугольной торговлей и рассказывают о ней школьникам. Эта упрощенная картина не охватывает более коротких перемещений товара, которые происходили в реальной жизни. Английский корабль мог везти индиго с Ямайки в Филадельфию, затем оттуда в Лондон — кукурузу, потом шерстяную ткань из Лондона в Гавр, французские шелка на побережье Африки, оттуда рабов и так далее.
На Востоке дела шли не так гладко. Пусть европейцы безумствовали из-за ситца и сходили с ума от чая, им нелегко было найти достойный товар для обмена, особенно в случае с самодостаточным и самодовольным Китаем. Тут требовалась система более вековечная, чем та, что сложилась на Атлантике. И как та сторона треугольника, что отвечала за работорговлю, на века отравила межрасовые отношения, так и несправедливая торговля с Индией и Китаем в XIX веке до сих пор влияет на отношения между Востоком и Западом.
ГЛАВА 11. ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Есть основания для опасений, что в грядущих веках или тысячелетиях Китай может оказаться в опасности соприкосновения с народами Запада.
Канси, император Китая, предостерегавший от английского присутствия в Кантоне в 1717 г.{478}Тридцатого марта 1802 года восемнадцатилетний шотландец Уильям Джардин отплыл в Китай на корабле «Брауншвейг» в качестве помощника хирурга. Он был типичным предприимчивым служащим Ост-Индской компании. Его отец был скромным фермером, жившим в горах. После смерти отца Уильям с помощью своего старшего брата смог окончить медицинскую школу в Эдинбурге.
В те времена должность на торговом судне Ост-Индской компании была редкой удачей. Она заключалась не в жаловании (у Джардина оно составляло всего 5 фунтов, что соответствует примерно 800 долларов сегодня), а в доступном для экипажа «привилегированном тоннаже». Ост-Индская компания выделяла помощнику хирурга 2 тонны, хирургу — 3 тонны, а капитану 46 тонн на экспорт и 38 тонн на импорт. Члены экипажа могли сдавать в аренду свою долю грузоподъемности судна частным торговцам, получая от 20 до 40 фунтов за тонну. Однако такие предприимчивые люди, как Джардин, могли значительно с большей выгодой осуществлять собственные грузоперевозки. Карьера этого молодого человека (в последующем основавшего одну из крупнейших торговых компаний мира) ярко иллюстрирует изменения, произошедшие в мировой торговле в начале XIX века.
Хотя не сохранилось свидетельств медицинских способностей Джардина, он, без сомнения, выполнял свои обязанности добросовестно и в полной мере, так как уже в следующем плавании его повысили до корабельного хирурга. Но его настоящий талант относился к другой области. В течение шести рейсов на восток он сколотил приличное состояние на бартере серебра и товаров из Англии и Индии на товары из Китая (в основном, чай и шелк).
По стандартам XIX века его пятнадцатилетняя служба в Ост-Индской компании была достаточно рутинной, даже несмотря на тот факт, что 4 из 6 его путешествий пришлись на военное время. Во время своего второго путешествия в 1805 году «Брауншвейг» постигла злая судьба: близ побережья Шри-Ланки он был захвачен французами. Джардина отправили в тюрьму на мысе Доброй Надежды, принадлежавшем недавно завоеванной Наполеоном Голландии. Отсюда пленнику разрешили вернуться на родину на американском судне. Так как в компании было принято платить только за успешное плавание, жалование ему не выдали.
Вместе с тем, наиболее судьбоносным событием в этом путешествии было знакомство Джардина с колоритным и амбициозным торговцем-парсом Джамсетджи Джиджибоем, кто даже по стандартам своего времени выделялся экзотичностью. Хотя парсы этнически являлись индийцами и жили в районе Бомбея, они исповедовали зороастризм. Если принимать во внимание их персидско-индийские корни, неудивительно, что они принимали активное участие в торговле бассейна Индийского океана. Они торговали с Китаем, поставляя ему сырой и готовый хлопок, мирру, слоновую кость, акульи плавники и множество других товаров и заслужив репутацию «индийских евреев»{480} (при этом упускается из виду, что настоящие евреи жили в этой части континента многие тысячелетия, возможно даже со времен Соломона).
Джиджибой родился в 1783 году в бедной набожной семье. Он поступил в ученики к своему дяде, бутылочных дел мастеру. Вскоре юноше наскучила профессия, которую выбрала для него семья. Через год он отправился в Китай и за десять лет успел пожить в нескольких странах. Как и Джардин, он потерял деньги и товары после захвата «Брауншвейга», но в течение последующих сорока лет эти два собрата по торговому ремеслу заработали богатство и рыцарское звание (Джиджибой был первым в Индии, кто удостоился этой чести) путем авантюрной морской торговли между Индией и Китаем. Это называлось «провинциальной торговлей».{481}
Если Джардин являл собой новый тип английского торговца в Кантоне, то в лице чрезвычайного уполномоченного Линь Цзесюя амбициозный шотландец познакомился с китайским обществом и культурой. Линь происходил из семьи потомственных ученых и политиков. Он следовал традиционному меритократическому пути эпохи мандаринов: успешно сдал самые сложные экзамены и пошел вверх по государственной бюрократической лестнице. Он успешно проявил себя в таких должностях, как секретарь губернатора приморской провинции Фукиен, учитель в провинциальной академии, главный экзаменатор, окружной судья, соляной инспектор, член судейской комиссии, финансовый представитель, начальник речной охраны, губернатор провинции и генерал-губернатор провинции. Наконец в 1838 году он получил столь желанную для него должность чрезвычайного уполномоченного. В это же самое время он стал советником императора по опиумной политике, и как представитель императора противостоял Англии в той важной борьбе, которая и по сей день портит отношения между Востоком и Западом.{482}
* * *
Торговый мир, в котором вертелись Джардин, Джиджибой и Линь, жил в согласии с давно укоренившимися законами и традициями. В 1650 году маньчжурская династия Цин захватила Пекин и свергла династию Мин. Спустя несколько лет началось правление императора Канси, продолжавшееся с 1662 по 1722 год. Этот монарх был «азиатским вариантом Людовика XIV». В начале своего правления Канси отошел от изоляционистской политики Мин и открыл страну для торговли с иностранцами. Однако вскоре он взял обратный курс и установил жесткую систему дипломатических и торговых правил, известную как «Кантонская система», названную в честь города на юге страны, единственного из доступных иностранным торговцам.[53] То, что Кантон был максимально удаленным от Пекина портовым городом, не было случайностью.
На момент первого приезда Джардина в Кантон главным европейским игроком в этой освященной веками системе был, конечно же, его работодатель — Ост-Индская компания (к тому моменту известная как Достопочтенная Компания). В течение более чем ста лет на ее монополию на торговлю с Восточной Азией постоянно покушались контрабандисты (среди которых попадалось все больше бывших сотрудников компании).
К концу XVIII века Достопочтенную Компанию все чаще стал терзать новый и более сильный внутренний враг — Адам Смит и его последователи, руководствующиеся в своих действиях новой наукой «политической экономии». Они внушали доверие, потому что не принадлежали ни к монополистам, ни к свободным торговцам. Как ни старались отстоять свою точку зрения Томас Мен и Джосайя Чайлд, они были директорами компании, получавшими выгоду от монополии в торговле с Востоком и, в то же время, страдавшими от нападок отечественных производителей текстиля.[54] И вот уважаемые ученые мужи, не имевшие финансовой заинтересованности в исходе дебатов, привели убедительные аргументы в пользу свободной торговли.
Подробный анализ действий Ост-Индской компании, проведенный Смитом, нанес ее монополии смертельный удар. Компания была не только крупнейшим коммерческим предприятием мира, но и королевской монополией. И неудивительно, что у Смита было много чего рассказать о ее делах.
Проведенный Смитом анализ политики компании в Индии и Китае невозможно правильно оценить без знания некоторых деталей истории Индии. В 1757 году молодой и дерзкий полковник Ост-Индской компании Роберт Клайв победил бенгальского наваба (могула) и его французских союзников в битве при Плесси. Эта победа подарила компании первую значимую территорию в данной части континента, площадью примерно со штат Нью-Мехико. Сейчас на этом месте находится Бангладеш и примыкающие области Восточной Индии. Что более важно, Клайв перенял древнее право Моголов «дивани», позволяющее вместо денег получать в качестве налогов часть продукции, производимой этой землей, в частности хлопок.[55] Испытывавшая недостаток в людях Ост-Индская компания теперь напрямую управляла небольшой частью Индии и поступила мудро, оставив управленческую структуру Моголов в неизменном виде. Один из эдиктов Ост-Индской компании отражал характер управления на местном уровне: «Не должно быть ограничений в том, сколько жен и наложниц захотят содержать принцы. Они не смогли бы употребить деньги более безопасным образом».{483}
Через 20 лет после битвы при Плесси Смит описывал Бенгалию как упадническое сообщество, где отсталые и невежественные жители «или погибнут с голоду, или вынуждены будут искать пропитания посредством нищенства или же тягчайших преступлений».{484} Он открыто возложил вину за такое скверное положение дел на Достопочтенную Компанию. Смит утверждал, что работа правительства — присматривать за своими подданными и быть уверенным, что множество предприятий могут соревноваться между собой в бизнесе и инвестициях капитала. Это было именно то, чего стремится избежать монополия. Таким образом, если позволить монополии управлять, это приведет к катастрофе, что и имело место после того, как Ост-Индская компания подавила свободную торговлю в Бенгалии и вызвала голод, уничтоживший шестую часть населения этих земель.{485}
В то время как сегодня имя Смита пользуется большим уважением, в свое время он был всего лишь одним из многих идеалистов. Он не имел значимого влияния на политику. Победа свободной торговли в Англии в течение XIX века была достигнута не экономистами, а их последователями, реалистами — капитанами индустриальной революции, владельцами манчестерских заводов, имевших очевидный интерес в открытии международных рынков для своих недорогих товаров.
Первая стычка состоялась с чартерным актом 1793 года, в котором парламент неохотно разрешил частным торговцам ежегодную квоту на перевозку трех тысяч тонн (грузоподъемность примерно пятнадцати судов). На «континентальную систему» Наполеона, запрещавшую союзникам Франции торговать с Англией, Великобритания ответила не менее печально известным «тайным советом» от 1807 и 1809 годов, направлявшим все суда, идущие в Европу, через английские порты. Это привело к войне 1812 года, в результате которой в Англию прекратились поставки американского хлопка. Внезапно оказавшись в зависимости от дорогого индийского хлопка и монополии Ост-Индской компании на его перевозку, владельцы ланкаширских фабрик пришли в ярость. Парламент отменил указ в 1812 году, но это было уже слишком поздно, чтобы остановить войну с американцами. В июле 1813 года парламент проголосовал за отмену монополии Ост-Индской компании в Индии. Так как Кантон на тот момент не был важен ни частным торговцам, ни ланкаширцам, компания сохранила свою монополию в Китае. Кантонская система просуществовала еще 20 лет.{486}
Кантонская система ограничивала бизнес европейцев лишь небольшим количеством уполномоченных китайских торговых компаний (называвшихся также факториями «Гон»). Кантон предоставлял иностранцам для колонии крошечную территорию (несколько сотен квадратных метров). Кроме того, торговцы не могли жить на ней постоянно, а только в течение нескольких месяцев между летним муссоном, с которым они приплывали, и зимним муссоном, надувавшим их паруса в обратный путь.
Дельта Жемчужной реки послужила сценой для драмы, сильно испортившей отношения между Востоком и Западом. Сначала взору прибывающего в Кантон моряка представала группа островов, закрывающих вход в залив на протяжении примерно 19 км. У западного конца гряды лежал небольшой мыс Макао, португальский торговый пост, а восточный край заканчивался островами Лантау и Гонконг с великолепным портом. Залив простирался на север на 64 км. Где-то в его середине находился остров Линтин, идеальное место для контрабандистов.
В северной оконечности залива находилось устье Жемчужной реки, так называемая протока Хумэнь (в переводе с китайского — «Врата тигра»). В ней император расквартировал большое количество артиллерии, чтобы защитить Кантон от вражеских и пиратских судов. С расположением этих пушек была одна проблема — они были фиксированы в одной позиции. Другими словами, из них нельзя было целиться. Как добавил один историк: «Они были не столько артиллерийскими орудиями, сколько фейерверком». Это обстоятельство самым болезненным образом подтвердилось в последовавшей вскоре опиумной войне.{487} Выше по течению река шла на север, а затем загибалась на запад, к Кантону. Длина речного маршрута составляла около 64 км. По его ходу располагалось множество небольших островов, наиболее важным из которых был Вампу у восточного берега Кантона. Кантонская система требовала, чтобы иностранные суда вставали здесь на якорь и перегружали товары на маленькие джонки.
Барьер между Востоком и Западом для Китая был не только географическим. Технически Китай вообще не участвовал в торговле. Вместо этого он принимал подарки для императора, который «отвечал» дарами заморским просителям. Однако на практике этот обмен не сильно отличался от обычной торговли в других азиатских империях. Китай ошибочно воспринимал Англию как своего вассала (подобно Сиаму). За это заблуждение пришлось заплатить высокую цену.
Непонимание друг друга в политике и торговле может быть одновременно трагичным и комичным. В 1793 году, когда Георг III отправил в Пекин лорда Джорджа Макартни в качестве посла, китайцы прикрепили к его лодке табличку с надписью: «Дань от Красных Варваров». Вопреки расхожей легенде, Макартни согласился выполнить обряд коутоу (комплекс движений, состоящий из девятикратно повторенной последовательности: поклона, коленопреклонения и касания лбом пола), но только при условии, что придворные императора сделают прежде то же самое перед портретом британского монарха, который Макартни предусмотрительно взял с собой. Шокированные китайцы вежливо отказались, поэтому ни одна из сторон в этот день не исполнила коутоу.{488}
Хотя некоторые европейцы научились говорить на китайских диалектах, китайцы почти никогда не учили ни один из европейских языков. Например, чрезвычайный уполномоченный Линь нанял самых лучших переводчиков, каких только смог найти. В дальнейшем оказалось, что их знание языка исчерпывалось уровнем пиджин-инглиш. Гораздо более важно, что пропасть, разделявшая Китай и Британию, имела культурную и классовую основу. В XVIII веке английские торговцы занимали в Британии самые высокие посты, в то время как в Китае уже много столетий торговцы причислялись к низам общества.{489}
Вначале Кантонская система вполне устраивала Ост-Индскую компанию. Фактории обладали монополией на торговлю с китайской стороны, а компания в течение предыдущего столетия эффективно вытеснила из Китая португальцев и голландцев и поэтому контролировала всю торговлю с европейской стороны. Следовательно, монополия факторий и монополия Ост-Индской компании подходили друг к другу как две детали паззла.
Но, если посмотреть глубже, все было не так хорошо. Во-первых, Ост-Индская компания могла опираться в финансовой политике на избыток капитала из Лондона, в то время как в Китае с трудом выживающий социум имел рудиментарный финансовый рынок, нищенский капитал и заоблачные цены. Это значительно ослабляло позиции факторий — партнеров Ост-Индской компании.
Высокий уровень цен — это палка о двух концах. С одной стороны, он позволял компании и зависящим от нее частным английским торговцам получить колоссальную прибыль, купив дешевый товар в Англии и продав его по астрономическим ценам в Китае. Но для Ост-Индской компании было невыгодно иметь хронически несостоятельных в финансовом плане торговых партнеров, которых постоянно надо было выручать. Даже сегодня международная торговля — рискованное предприятие и торговцам часто приходится терпеть убытки. Адекватный кредит для торговли — это то же, что высота для самолета: без него очень высока вероятность печального исхода на опасных поворотах бизнеса. Все предприниматели рано или поздно сталкиваются с потерей груза или с падением цен на рынке. Без достаточного резерва капитала и возможности занять деньги под низкий процент неизбежно банкротство. Если продолжить аналогию с самолетами, то фактории были летательными средствами, неспособными летать на безопасной высоте и, к тому же, одномоторными. В Китае не было системы страхования рынка: после пожара в Кантоне в 1822 году многие торговцы разорились.{490}
К середине XVIII века появилась еще одна проблема. В Англии все более увеличивался спрос на чай, однако интересы китайцев к английским товарам были сравнительно невысоки. По словам жившего в XIX веке английского торгового представителя Роберта Харта:
Китайцы имели лучшую в мире еду — рис, лучший в мире напиток — чай, лучшую в мире одежду — хлопок, шелк и мех. С этими и многими другими производимыми на родине товарами им незачем было тратить ни пенни, покупая что-либо из внешнего мира.{491}
Выручка за медь и технические новшества (единственное, чего Китай хотел от Запада) не покрывала даже малой части расходов на покупку чая. Англичанам приходилось платить за чай серебром. Записи Ост-Индской компании XVIII века свидетельствуют, что 90% экспорта из Англии в Китай составляли слитки.{492} Например, в 1751 году в Китай прибыло четыре британских судна, которые привезли товаров на сумму 10 842 английских фунтов и серебра на сумму 119 тысяч фунтов.{493}
Хотя английские товары не ценились в Китае, там пользовался спросом индийский хлопок, который в достатке имелся у Ост-Индской компании по праву «дивани» после битвы при Плесси. Китайцы и сами веками выращивали хлопок, но до 1800 года отечественной продукции было недостаточно, и им приходилось закупать у Индии как сырье, так и ткань. Установилась треугольная система, похожая на атлантическую: товары из Британии — в Индию, индийский хлопок — в Китай, а китайский чай — в Британию. Также Англия все больше и больше стала экспортировать в Индию и Китай изделия из хлопка ланкаширских фабрик.
К 1820 году из-за тяжелой экономической ситуации и увеличения собственных посевов спрос на индийский хлопок в Китае упал. Англичанам вновь пришлось вернуться к оплате чая серебром. Тут их взор обратился на другой продукт «дивани» — опиум. Основные его плантации располагались вокруг городов Патна и Варанаси, завоеванных Клайвом в 1757 году.
Люди уже несколько тысяч лет получали опиум из сока опийного мака, Papaver somniferum. Как и большинство современных культур, мак культивировался. Культурные формы плохо растут в дикой местности, поэтому в аграрном обществе относились к этим наркотикам столь же серьезно, как и к еде.
Вероятнее всего, впервые опиум стали употреблять в Южной Европе. Он был распространен в Древней Греции и Риме. В VIII веке н. э. арабские торговцы перевезли семена мака в более плодородные земли Персии и Индии, а затем и в Китай.{494}
На протяжении почти всей известной нам истории не было ничего позорного в том, чтобы употреблять опиум как обезболивающее, релаксант, стимулятор (для работы) и «социальную смазку» (т. е. средство для успокоения общества). Первыми начали курить опиум голландцы. В самом начале XVII века они добавляли несколько зерен мака из Индонезии к табаку из Нового Света. Китайцы, по-видимому, переняли эту практику у голландцев с Формозы (Тайвань). Отсюда опиумные трубки стали быстро распространяться в глубь континента.{495} В 1512 году Пиреш наблюдал торговлю опиумом в Малакке, задолго до того, как в эту торговлю включились англичане и голландцы. Это свидетельствует о том, что этот наркотик был ценным товаром на рынке стран Индийского океана еще до того, как Англия стала доминировать в этом регионе.{496}
В XIX веке европейцы поедали огромное количество опиума, а китайцы курили его. Так как ингаляция опиума вызывает большую зависимость, чем прием внутрь, было решено, что для китайцев он опаснее, чем для западных народов. В Англии садоводческие организации зарабатывали хорошие деньги, продавая обладающий особенно сильным действием мак домашнего разведения, хотя основная часть опиума поступала в Британию из Турции. Опиум без зазрения совести употребляли выходцы из самых разных слоев общества. Наиболее известные из них — поэт Сэмюэл Тэйлор Кольридж («Кубла Хан»), Томас де Куинси («Исповедь англичанина, употребляющего опиум») и Шерлок Холмс, персонаж Артура Конан Дойла. Наркотик продавался в Англии свободно до «Акта о фармации» от 1868 года. Другие западные страны не запрещали его использование где-то до 1900 года.
На момент завоевания Бенгалии Ост-Индской компанией португальцы уже в течение некоторого времени продавали в Кантоне опиум с Гоа. Китайские власти впервые запретили его использование в 1729 году, причем причины этого решения не вполне ясны.{497} К концу XVIII века Ост-Индская компания не могла быть замечена в прямом участии контрабанды опиума в Китай, так как это вызвало бы гнев императора. Вместо этого, Достопочтенная Компания, по словам историка Майкла Гринберга, «довела до совершенства технику выращивания опиума в Индии и избавления от него в Китае».{498}
Это было сделано путем строгого надзора за производством, поддержанием монополии на цены и контролем качества индийского звена цепи. Торговые марки Ост-Индской компании «Панта» и «Варанаси» (названные в честь индийских городов, в которых сосредоточивались основные службы, занимавшиеся опиумом) появились для того, чтобы подчеркнуть для китайских потребителей превосходство качества. После этого спрос на коробки с опиумом, носящим эти марки, повысился.
Ост-Индская компания продавала свою качественную продукцию частным торговцам (таким как Джардин), которые доставляли товар на остров Линтин в устье Жемчужной реки. Здесь существовала перевалочная база в плавучей крепости из корпусов судов у самого берега (а не у причала, как на острове Вампу, где разгружали легальный товар). Местные контрабандисты перевозили наркотики вверх по реке, не привлекая внимания кантонских инспекторов. Контрабандисты платили частным торговцам китайским серебром, которое последние клали в офисах Ост-Индской компании на счета, открытые для них компанией в Калькутте и в Лондоне. В свою очередь Ост-Индская компания использовала это серебро для покупки чая{499}.[56]
Популярный образ китайского народа и экономики, павших жертвами наркоторговли, неверен. Во-первых, наркотик был достаточно дорогим, и позволить его себе могли, в основном, мандарины и богатые торговцы. Во-вторых, как и в случае алкоголя, катастрофическая зависимость от опиума возникает лишь у небольшой части употребляющих его людей. Даже заслужившие дурную славу опиумные притоны не оправдывали свою нездоровую репутацию, как отметил разочарованный Сомерсет Моэм:
И когда вкрадчивый Евразии взялся проводить меня в опиумный притон, винтовая лестница, по которой мы поднимались, несколько подготовила меня к захватывающе жуткому зрелищу, которое мне предстояло вот-вот увидеть. Меня ввели в довольно чистое помещение, ярко освещенное и разделенное на кабинки. Деревянные настилы в них, застеленные чистыми циновками, служили удобным ложем. В одной почтенный старец с седой головой и удивительно красивыми руками безмятежно читал газету, а его длинная трубка лежала рядом. В другой расположились два кули, с одной трубкой на двоих, — они по очереди приготовляли ее и выкуривали. Они были молоды, крепки на вид и дружески мне улыбнулись. А один пригласил меня сделать затяжку-другую. В третьей кабинке четверо мужчин, присев на корточки, наклонялись над шахматной доской; дальше мужчина тетешкал младенца (загадочный обитатель Востока питает неуемную любовь к детям), а мать младенца — как я решил, жена хозяина, — миловидная пухленькая женщина, глядела на него, улыбаясь во весь рот. Это было приятное место, удобное, по-домашнему уютное. Оно чем-то напомнило мне тихие берлинские пивнушки, куда усталый рабочий может пойти вечером и мирно скоротать часок-другой.{500}
Академическое изучение потребления опиума в Китае подтвердило наблюдение Моэма: это был социальный наркотик, который повредил лишь малому проценту употреблявших его. Один из современных ученых утверждает, что хотя на момент 1879 года в Китае около половины мужчин и четверти женщин хотя бы раз употребляли опиум, лишь один китаец на сто человек выкурил достаточное количество этого наркотика, чтобы мог возникнуть риск зависимости.{501}
Император и мандарины были несколько возмущены деградацией, вызываемой опиумом, однако в большей степени их беспокоило нарушение баланса торговли, вызываемое наркотиком. Китаю был присущ такой же меркантилизм, как и любой европейской монархии XVII века. До 1800 года торговля чаем была (в терминах современной меркантилистской идеологии) сильно в пользу Китая. В Ост-Индской компании зафиксирована поворотная точка в 1806 году, когда поток серебра пошел в обратном направлении. После этой даты объем импорта опиума превысил объем экспорта чая. Впервые китайское серебро стало утекать из Поднебесной. После 1818 года серебро составляло уже одну пятую китайского экспорта.
В 1820-х годах влиятельная группа мандаринов начала кампанию по легализации опиума, чтобы снизить его стоимость и остановить отток серебра. Один из них, Сю Найчи, написал императору меморандум, заметив, что некоторые из наркоманов действительно деградировали, но нанесенный нации финансовый урон куда выше. Он рекомендовал легализацию с оговоркой, что опиум будет продаваться только по бартеру (предположительно в обмен на чай), а не за серебро. Активная циркуляция данного меморандума в Кантоне среди иностранных торговцев подарила им надежду, что легализация неизбежна. Однако предложение Сю потерпело поражение в ожесточенных битвах при императорском дворе.{502}
В начале XIX века Великобритании была подвластна лишь малая часть индийского субконтинента. Прошло немного времени, и торговцы-парсы (в частности, Джамсетджи Джиджибой) подключились к опиумному бизнесу Ост-Индской компании и стали продавать свой товар, называемый мальва (malva), из портов Малабара и Гуджарата. Мальвой назывался опиум, производимый не Ост-Индской компанией и поставляемый из западных портов (в противоположность брендам компании «Панта» и «Варанаси» из восточного порта Калькутта). Компания оценила преимущества централизации поставок мальвы из удобно расположенного порта в Бомбее и с 1832 года стала собирать с местных торговцев небольшую пошлину за транзит.
К началу XIX века монополия Достопочтенной Компании трещала по швам. Помимо использования независимых торговцев в доставке опиума в Китай, Ост-Индская компания начала лицензировать некоторых «провинциальных торговцев» на проведение легальной торговли на острове Вампу, используя всю оставшуюся власть монополии, чтобы держать этих предпринимателей «под каблуком». Американские торговцы мехом, возглавляемые Джоном Якобом Астором, добились первых послаблений в этой монопольной системе. Они начали продавать шкуры тюленей и морских выдр с северо-запада Тихого океана. Эти товары высоко ценились в Китае.[57] Ост-Индская компания опасалась обидеть агрессивную и непредсказуемую нацию, которая недавно жестоко разгромила Англию в Войне за независимость. Американцев оставили в покое.
Еще до появления торговцев мехом другие предприниматели (из Англии) придумали хитрость, позволявшую обойти монополию Ост-Индской компании, — дипломатическое прикрытие. В 1780 году англичанин Дэниел Биль отправился в Китай под австрийским флагом в качестве посла Пруссии. Он смог использовать свою должность для организации выгодных и свободных от контроля Ост-Индской компании торговых рейсов между Индией и Китаем. Другой англичанин, Джон Генри Кокс, крупный поставщик товаров в Китай, попытался избежать проблем с Ост-Индской компанией в составе шведской морской комиссии. Когда компания все же не пропустила его судно, он сменил шведский флаг на прусский. Польша, Генуя, Сицилия и Дания любезно (и, вероятно, за деньги) предоставляли британским торговцам дипломатические привилегии.{503}
Когда Джардин разбогател и в 1817 году вернулся в Лондон, он оставил службу в компании и организовал партнерство с другим бывшим корабельным хирургом Ост-Индской компании Томасом Уидингом. Последний получил от компании лицензию на частную торговлю в провинции. Эти двое объединились с парсом Фрамджи Ковасджи из Бомбея, ив 1819 году Джардин отплыл в Бомбей. Там он загрузил 649 ящиков мальвы, которую партнеры продали в Кантоне за $ 813 000.[58] (Далее в этой главе символ доллара означает испанский доллар, равный восьми реалам. Этот всем известный знак, вероятно, происходит от герба, отчеканенного на этих монетах.) Это должно было стать для Джардина началом серии выгодных контрабандных перевозок. В Бомбее он вновь связался с Джиджибоем, с которым у него тоже были давние и приносившие большую прибыль торговые дела. Там же Джардин познакомился с Джеймсом Мэтисоном. Позднее эти двое основали фирму, которая до сих пор носит их имена — «Джардин, Мэтисон & Со».
Мэтисон происходил из шотландской семьи, которая имела достаточно средств для покупки лицензии Ост-Индской компании на частную провинциальную торговлю. Это позволило ему избежать долгого пути «ученичества» в компании, который прошел Джардин. Вскоре Мэтисон стал «датским консулом» в Кантоне, что позволило ему избежать ограничений, накладываемых компанией.
Мэтисон придумал и другую хитрость, которая позже приобрела глобальные масштабы. В то время как перевозка товаров из Индии в Китай нарушала монополию Ост-Индской компании, можно было совершенно законно отплыть с товаром из Калькутты в Малаккский пролив (Малайзия), а из Малакки в Кантон. В 1822 году хитрый шотландец впервые применил эту дырку в законе, перегрузив товар с корабля на корабль в порту Сингапура, всего три года спустя после того, как Стэмофрд Раффлз основал этот город на болотистом малярийном острове.{504}
Богатство Мэтисона позволяло ему попутно заниматься наукой и журналистикой. Как и многие выдающиеся молодые предприниматели того времени, он разделял идеологию свободной торговли, изложенную Адамом Смитом в «Исследовании о природе и причинах богатства народов». В 1827 году Мэтисон основал первую англоязычную газету в Китае «Кантон реджистер», в которой печатались местные торговые новости, цены на опиум и тенденциозно критиковалась тирания Ост-Индской компании. В этом же году, после смерти своего партнера, испанца Ксавьера Ириссари, Мэтисон информировал своих китайских клиентов, что с этого момента управление всем его бизнесом поручается Уильяму Джардину. К 1830 году новая фирма, «Джардин, Мэтисон & Со», перевозила контрабандой в Китай около 5000 ящиков опиума в год. Как молодая и энергичная организация, она добивалась успеха во всех направлениях.
Заслуга в разрушении Кантонской системы принадлежит влиятельному участнику «Джардин, Мэтисон & Со», лингвисту, медику и миссионеру Карлу Фридриху Августу Гутславу. Он использовал для контрабанды малые суда, добираясь до берегов Маньчжурии и продавая мальву местным торговцам, бросая прямой вызов китайским властям.{505} Гутслав был родом из Померании, лютеранин. Он был убежденный англофил и говорил на большинстве основных китайских диалектов, трижды был женат на англичанках и свято верил, что коммерция способна спасти Китай от язычества.{506} К несчастью для его репутации в истории, механизмом христианского спасения он избрал опиум.
Историк Карл Троцки ярко показал один день из жизни таких опиумных клиперов. Причалив в безопасном заливе, команда одного из кораблей наблюдает, как он «заполнен китайцами, пока капитан, меняла и другие европейцы до поздней ночи продают опиум всем пришедшим без разбора. В ожидании некоторые курят опиум и засыпают на кушетке каюты и на полу. Гремят счеты, китайцы и европейцы общаются на языке жестов. За четыре дня команда продала опиума примерно на $ 200 000».{507}
Хотя Ост-Индская компания постепенно уступала рынок частным торговцам, она первой стала использовать новшество в судоходстве, моментально оказавшее большое экономическое и историческое влияние. Уже около двух тысяч лет муссоны позволяли совершать путешествие между Индией и Китаем лишь раз в год. Это ограничение было побеждено не открытием парового двигателя, а усовершенствованием конструкции парусов и корпуса. В течение войны 1812 года у американцев появилось «революционное» судно, скорость которого позволяла американским пиратам грабить английские торговые суда и уходить из окружения — балтиморский клипер. Самый известный из них, «Принс де Нефшатель», обчистил немало британских торговцев, прежде чем был загнан в угол тремя фрегатами Королевского флота в самом конце войны. Англичане отбуксировали клипер в сухой док и раскрыли секрет его скорости: гладкий, узкий корпус (позволявший кораблю держать курс при самом сильном ветре) и многочисленные, прочно закрепленные паруса. Эти черты можно увидеть и на современных гоночных яхтах. Роковой ошибкой капитана «Принс де Нефшатель» была перегрузка судна слишком массивными парусами. Их следовало приспустить в той ситуации, которая сложилась в последнем сражении.{508}
Вскоре Уильям Клифтон, шкипер Королевского флота, получил подробное описание клипера. Покинув флот, он командовал судами Ост-Индской компании и понял, что корпус и прочные паруса балтиморского клипера — это ключ к покорению муссонов. В 1829 году Ост-Индская компания при поддержке своего генерал-губернатора, лорда Уильяма Бентинка, заказала постройку «Ред Ровера», 255-тонного судна, сочетавшего конструкцию корпуса, подобную балтиморскому клиперу, с конфигурацией парусов, как у барки, наиболее популярную во флоте.[59] В январе 1830 года это изящное судно покинуло стоянку в реке Хугли и отправилось в Сингапур, прибыв позднее всего на 16 дней. Менее чем через неделю оно отправилось на север, во власть муссона и достигло Макао всего за 22 дня. Клифтон совершил за тот год три рейса между Индией и Китаем, заслужил одобрение Компании и 10 000 фунтов.[60] «Ред Ровер» встретил свой конец во время шторма в Бенгальском заливе в 1853 году. Это была необычно долгая карьера для клипера в тех водах, где постоянно приходилось бороться с суровыми муссонами.[61]
Клиперы не были дешевы. Одно из судов, «Ланрик», стоило $65 000. Но оно могло перевозить 1250 ящиков опиума, зарабатывая до $25 000 за рейс. Таким образом, судно полностью окупалось к третьему рейсу, т. е. за один год.
Хотя Ост-Индская компания ввела этот тип судов в торговлю с Китаем, в конце концов именно частные компании наиболее полно использовали потенциал клиперов. Джардин, Мэти-сон и другие «провинциальные» торговцы поняли, что наиболее прибыльным является посредничество и установление контактов между продавцами мальвы в Бомбее и покупателями с острова Линтин. Комиссия в $20 за ящик приносила более надежный доход, чем самостоятельная покупка и продажа опиума.{509}
* * *
В 1830 году коалиция провинциальных торговцев и представителей манчестерских фабрик, возглавляемая энергичным Джардином, предвидя грядущий конец Ост-Индской компании, запросила парламент об издании «новых коммерческих законов». Парламент удовлетворил их запрос. Монополия Ост-Индской компании на торговлю с Востоком была перманентно прекращена с апреля 1834 года. Почти сразу же частные предприниматели, уже контролирующие рынок опиума, взяли в свои руки престижную и выгодную торговлю чаем, последний из контролируемых Ост-Индской компанией товар.
Как все изменилось за 150 лет! В 1700 году Достопочтенная Компания была авангардом свободной торговли, тогда как производители текстиля в Англии пытались сохранить свою рушившуюся монополию. К началу XIX века их позиции поменялись местами: закостеневшая Ост-Индская компания отчаянно пыталась сохранить свои привилегированные позиции, тогда как производители хлопка боролись за снятие коммерческих ограничений, воображая, что «если бы могли хотя бы убедить всех китайцев удлинить подол рубашки на фут, фабрики Ланкашира могли бы работать 24 часа в сутки».{510} До 1700 года идеи глобализма, изложенные Чайлдом и Мартином, оказали незначительное влияние на жизнь общества, но в 1830 году принципы свободной торговли Адама Смита были воплощены Уильямом Джардином и Джеймсом Мэтисоном. Рынки империй Индийского океана были открытыми за века до прибытия европейцев. Теперь Запад, владевший новейшими военными и морскими технологиями, отошел от монополизма и выбрал свободную торговлю, вне зависимости от того, чего хотели жители Индии и Китая.
Больше всего сохранившихся записей по торговле с Китаем того периода относятся к 1828 году, как раз перед падением монополии Ост-Индской компании. Они наглядно иллюстрируют положение дел на тот момент. Более трех четвертей от всего импорта в Кантоне (общей стоимостью около $20 000 000) приходилось на частных торговцев, и три четверти из этих товаров составлял опиум. Иными словами, опиум составлял более половины британской торговли, и львиная его доля находилась в частных руках. Более 99% экспорта Ост-Индской компании из Китая составлял чай, который не был разрешен к перевозке частным торговцам до 1834 года.{511}
После 1834 года с прекращением монополии компании частные торговцы расширили размах своих операций. Теперь они могли игнорировать Кантонскую систему, которую Ост-Индская компания поддерживала столь же ревностно, как и император. Клиперы были идеальными судами для перевозки таких ценных товаров, как опиум и чай. К концу 1830-х эти суда позволили таким компаниям, как «Джардин, Мэтисон», справляться и со старыми торговыми маршрутами, и с новыми, проложенными Гутславом. Импорт опиума до этого возрастал относительно медленно: в 1800 году — около 4000 ящиков в год, в 1825 — около 10 000 ящиков. После того как частные компании отобрали у Ост-Индской компании торговлю с Китаем, объем поставок стал расти, как на дрожжах, и к концу 1830-х достиг 40 000 ящиков.{512}
После того как в 1834 году Ост-Индская компания потеряла свою монополию, ее выборный комитет, регулировавший английскую торговлю, уступил место управляющему британской торговлей в Китае, утверждавшемуся короной и прислушивавшемуся к наиболее влиятельным частным торговцам, ненавидевшим китайское правительство. Несчастливая судьба первого управляющего, некомпетентного лорда Уильяма Джона Нэпира, показывает нам культурную пропасть между Китаем и Западом. Нэпир без предупреждения прибыл в Кантон, в факторию Ост-Индской компании в 2 часа ночи, 25 июля 1834 года. На рассвете он поднял флаг Великобритании, что являлось публичным оскорблением для китайцев. Это был лишь первый неверный шаг. Следующим стало верительное письмо, переведенное на китайский язык и доставленное местному китайскому генерал-губернатору. Таким образом, за 48 часов пребывания в Кантоне управляющий нарушил несколько императорских эдиктов о варварах: он приплыл в Кантон без разрешения, поселился там, сам передал письмо генерал-губернатору (а не через сотрудников китайских факторий), и письмо это было на китайском (а не на английском). Китайцы изгнали Нэпира, прекратили всякую торговлю с Англией и подожгли английские суда. Джардин и другие частные торговцы, стоявшие за действиями Нэпира, поняли, что они перегнули палку. Им пришлось умилостивить китайцев, поспешно избавившись от неудачливого посла.{513}
Через четыре года уже император переоценил свои силы. Он назначил талантливого, но в то же время жестокого Линя чрезвычайным уполномоченным, что положило начало новому витку противостояния между правительствами двух стран со значительно более катастрофичными последствиями. Еще до вступления Линя в должность китайские представители власти начали массово сажать в тюрьмы местных опиумных контрабандистов, что привело к застою в торговле. В марте 1839 года Линь усилил давление, введя уголовную ответственность за любой незаконный товар для иностранных торговцев. Вскоре после этого Линь организовал публичную казнь китайских продавцов опиума на глазах у шокированных европейцев. После этого он арестовал всех иностранцев (англичан, американцев, французов и парсов) на территории их факторий на несколько недель, пока они не согласились отдать более 20 000 ящиков опиума. Иностранцев отпустили только после того, как люди Линя уничтожили весь этот груз.
Новый британский торговый управляющий, Чарльз Эллиот, был ранее капитаном Королевского флота, патрулировал воды у побережья Западной Африки, борясь с работорговцами (в какой-то момент он занимал должность «защитника рабов»). Убежденный кальвинист, осуждавший опиум, он умел отделять убеждения от обязанностей по службе. Он успокоил находившихся в отчаянном положении торговцев, возместив им стоимость конфискованного опиума. Это действие вовлекло в конфликт правительство Британии.
Достаточно было одной искры. Через несколько месяцев в августе 1839 года после того, как пьяный английский матрос убил местного крестьянина, Линь запретил поставки воды и продовольствия британским военным судам и потребовал выдачи моряка. Эллиот отказал и отдал обвиняемого под суд присяжных, состоящий из торговцев. Приговор ограничили штрафом и шестью месяцами заключения с отбыванием срока в Англии. Когда матрос прибыл на родину, его сразу же освободили, так как присяжные (среди которых был и Джеймс Мэти-сон) были подобраны не в строгом соответствии с законом.{514} Четвертого сентября, примерно в полдень Гутслав по приказу Эллиота доставил письмо капитанам двух китайских джонок в Цзюлуне. В письме было сказано, что если в течение тридцати минут припасы не будут доставлены, джонки будут потоплены. Англичане не получили ни пищи, ни воды, и военный корабль «Воляж» потопил суда. В ответ Линь навсегда запретил торговлю с Британией и дал приказ сжечь английские корабли.
Тем временем Джардин и другие ветераны блокады кантонских факторий, устроенной Линем, сумели вернуться в Англию. По прибытии они подали прошение в кабинет вигов, премьер-министру лорду Мельбурну, чтобы от китайцев потребовали извинений и более «равноправных» отношений с открытием для Запада нескольких портов. Донесения от Эллиота, чья гордость и репутация пострадала от действий Линя, также рекомендовали жесткую политику в отношении Китая.
Джардин и его соратники предлагали подкрепить их требования действиями военно-морских сил. Осталось лишь решить проблему финансирования войны. Военный министр Томас Бабингтон Маколей поддержал просьбу: чтобы заставить китайцев выплатить репарации, Мельбурн направил в зону конфликта группу боевых кораблей с несколькими тысячами моряков на борту. Экспедиция достигла Китая в июне 1840 года.
Началась первая опиумная война. Она продолжалась до 1842 года, когда был заключен позорный Нанкинский договор. Согласно ему англичане получили денежную компенсацию, была прекращена монополия факторий, уменьшены китайские налоги на экспорт и импорт, открыты Кантон и еще четыре порта (Шанхай, Амой, Фучжоу и Нинбо). В этих портах англичане получили право экстратерриториальности (иммунитет к китайским законам) и подчинялись британским консулам.
Продолжение импорта опиума негласно подразумевалось обеими сторонами. По сей день национальное самосознание китайцев страдает от унижения, нанесенного Нанкинским договором. Американцы неоднократно слышали, что это не лучшим образом скажется на китайско-американских отношениях и в XXI веке.
Кроме того, Англия получила постоянную колонию. Мэтисон давно засматривался на Формозу, но Джардин из Лондона писал ему в ответ, что этот остров был слишком велик для усмирения, и голосовал за порт Нинбо. Ни один из них не добился своего: Эллиот как бывший морской офицер очень хотел заполучить превосходный порт Гонконг. Именно его пожелание и было вписано в договор. Еще до заключения договора Мэтисон перенес штаб-квартиру фирмы в Гонконг, положив начало совместного пути к процветанию как острова, так и своего предприятия.
Эллиот, несомненно, был не единственным англичанином, которого терзали этические сомнения в отношении торговли опиумом. Англиканская церковь и оппозиция — тори под руководством Роберта Пиля возглавили движение против этого бизнеса. Наиболее ярым сторонником запрета был тридцатилетний член парламента Уильям Гладстон, сестру которого погубило пристрастие к опиуму. Когда Пиль прибыл в 1840 году в парламент, чтобы осудить нападение на Китай, юный Гладстон произнес страстную речь в палате общин, что принесло ему публичную известность. Пройдут десятилетия, и он четыре срока проведет в должности премьер-министра.
Для большей части Англии середины XIX века опиум оставался благом — лекарством от колик у детей и от страданий старости для пожилых леди. Попытка ввести запрет на опиум была подавлена консорциумом китайских торговцев и их союзников в Лондоне во главе с Джардином. Историк Хейнс называл этот союз «большим опиумом».{515},[62]
После первой опиумной войны трафик наркотика стал расти еще быстрее. В 1845 году генеральный аудитор новой колонии (Гонконга) отметил, что в любое время дня и ночи 80 клиперов везут опиум в Китай или чай из Китая, и четверть из них принадлежит «Джардин, Мэтисон». Постепенно «Джардин, Мэтисон» стала объектом пристального внимания растущих антиопиумных настроений в Англии.
В действительности, Джардин и Мэтисон были довольны незаконностью торговли и очень боялись легализации, которой периодически добивались китайцы. Это открыло бы рынок для конкуренции «людям с малым капиталом».{516} Их страхи были обоснованы. В 1858 году по Тяньцзиньскому договору (в завершении второй опиумной войны) китайцев вынудили легализовать опиум (кроме того — открыть еще десять портов, выплатить репарации и передать англичанам Цзюлун). Легализация торговли означала, что теперь кто угодно мог приобрести мальву в Бомбее, погрузить ее на одно из новых судов «Пенисулар энд ориентал стим нэвигейшн компани» и продать ее в Гонконге. Через несколько лет «Джардин, Мэтисон» была вытеснена из опиумной торговли такими людьми, как бомбейский торговец Давид Сассун, по происхождению — еврей из Багдада. Сассун хорошо знал порядок ведения дел в Индии, его семья обладала обширными деловыми связями. Легализация позволила ему перехватить контроль за торговлей у представителей «старой» английской провинциальной торговли. В опиумном бизнесе Сассун заключил договора со многими индийскими торговцами, в том числе и с наследниками Джиджибоя.
Выход «Джардин, Мэтисон» из опиумного бизнеса оказался для них благом, так как вынудил компанию к переменам. Импорт опиума достиг пика (примерно 100 000 ящиков в год) к 1880 году.{517}
Общественные этические нормы могут стремительно меняться. Например, в 1600 году даже самые просвещенные европейцы не видели ничего дурного в торговле черными рабами. В 1800 году немногие европейцы (да и китайцы) винили Великобританию за экспорт опиума в Китай. И не стоит забывать, что табак (который вызывает не менее сильную зависимость, чем опиум, и сгубил куда больше народу) и по сей день агрессивно продается по всему земному шару корпорациями — наследниками Уильяма Джардина и Джеймса Мэтисона.
Если импорт такого вредного продукта, как опиум, не принес ничего хорошего Китаю, то импорт совершенно безвредного товара — изготовленной на фабриках одежды из хлопка считается причиной, ввергшей Индию в крайнюю бедность. Как сказал Карл Маркс, цитируя генерал-губернатора Уильяма Бентинка: «История коммерции не знает жалости. Равнины Индии белеют костями ткачей».[63] То же случилось и с литейщиками Индии, и со многими индийцами в наши дни.
Стандартным был следующий сценарий. Англичане запретили экспорт индийских тканей, в то время как британским товарам был дан «зеленый свет». Результатом стало разрушение знаменитой индийской текстильной индустрии. По словам Джавахарлала Неру, основателя и первого премьер-министра современного индийского государства:
Ликвидация ремесленного класса привела к колоссальной безработице. Что оставалось делать этим миллионам, доселе занятым в производстве мануфактуры? Куда им было идти? Их старая профессия больше не была им доступна, путь к новой был закрыт. Конечно же, им оставалась возможность умереть — этот выход из невыносимой ситуации был всегда открыт. Они умирали десятками миллионов.{518}
Маркс и Неру верно уловили суть происходившего тогда: в 1750 году Индия производила около четверти текстильной продукции мира, к 1900 году ее доля составляла менее 2%.{519}
Общие потери для индийской экономики были достаточно скромны, так как основная часть продукции этой нации приходилась на сельское хозяйство. Общее число безработных составляло 2-6 миллионов (не более 3% населения), а не апокалипсические десятки миллионов, о которых вещали Маркс и Неру.{520} (Для сравнения, число безработных в годы Великой депрессии в США превышало 30%.) Некоторые историки-экономисты утверждают, что, благодаря более дешевому и качественному английскому волокну, местная индустрия по производству одежды на самом деле росла. Удивительно, что в большинстве обсуждений упускается из виду тот факт, что сотни миллионов индийцев, богатых и бедных, покупали одежду английского производства, которая была дешевле и лучше.{521}
Индия не сделалась беднее, скорее стремительно индустриализировавшийся Запад сделался намного богаче. Современные историки-экономисты Европы и Индии приписывают тяжелую ситуацию в Индии XVIII и XIX веков большому количеству факторов, не связанных с британской торговой политикой: неурожаи, частое отсутствие муссонных дождей, неадекватная система транспортировки внутри страны, отсутствие центрального рынка и смерть в 1707 году последнего императора из династии Великих Моголов, Аурангзеба.{522}
Можем ли мы обвинять Британию (как это делал Неру) за безнаказанный ввоз товаров в Индию и закрытие их оттока в противоположном направлении? Лишь в малой степени: в середине XIX века большая часть английского импорта в Индию облагалась пошлиной в 3,5%-7% (в зависимости от того, перевозился товар на британском судне или судне другой страны). Пошлина за иностранные (включая индийские) товары, привозимые в Англию, колебалась от 15% до 20%. Для сельскохозяйственной продукции, такой как индийский сахар и хлопок-сырец, тарифы были значительно ниже.{523} Это, конечно, — дискриминация, но не запрет. Нельзя с уверенностью утверждать и то, что к разорению Индии привело злоупотребление Англией правом «дивани». По сравнению с любящими роскошь Моголами англичане направляли куда большую часть «дивани» на общественные нужды (например, на строительство сети железных дорог). В любом случае, доход государства не превышал 1% национального дохода{524}.[64]
* * *
Проследив колебания английского бизнеса с китайским опиумом и индийским хлопком, мы наконец вплотную подошли к наиболее значимой части в истории свободной торговли XIX века — торговле зерном.
Еще с XV века британская корона считала нужным управлять жизненно важной торговлей зерном путем издания серии «хлебных законов» («corn laws»). В английском языке слово «corn» означает любое зерно: ячмень, рожь и, в особенности, пшеницу (кукуруза не была известна в Европе до путешествия Колумба). От появления первых указов в 1660 году и до аннулирования их всех в 1846 году было издано не менее 127 «хлебных законов», регламентирующих все аспекты торговли зерном и другими продуктами: оптовые и розничные операции, хранение, импорт, экспорт и, что наиболее важно, государственные тарифы. Во время великой битвы XIX века за свободную торговлю неоднократно обсуждалась оправданность столь навязчивого участия государства в том, что все более становилось уделом международной торговли.{525}
До середины XVIII века богатство и власть Англии была обусловлена не торговлей или производством, а мощью ее сельского хозяйства, которое было столь эффективно, что к 1800 году, чтобы прокормить страну, было достаточно лишь двух пятых ее рабочей силы.{526} В неспокойном XVII веке английские фермеры экспортировали мало зерна. Когда, наконец, в 1689 году после всех революций были достигнуты мир и внутренняя стабильность, Англия стала житницей Северной Европы.
Затем избыток зерна так же быстро сошел на нет. Причин для того было четыре. Во-первых, серия войн захлестнула Европу, разрушив торговлю зерном в регионе. Между Семилетней войной 1756 года и войной Франции с Наполеоном в 1815 году Англия все время была вовлечена в мировой конфликт или усиленно готовилась к войне. Во-вторых, в течение XVIII века население Англии почти удвоилось и достигло 9 миллионов. В-третьих, быстрая индустриализация после 1760 года привела к перемещению рабочей силы и капитала с ферм на фабрики. Наконец, с 1756 года началась череда неурожаев, продолжавшаяся около двадцати лет. После 1780 года Британия чаще всего импортировала зерно, в основном из Дании, Польши и с побережья Германии. Последний раз Англия вывезла больше зерна, чем закупила, в 1808 году.{527}
В годы достатка немногие люди (даже фермеры) придавали большое значение «хлебным законам». Иногда от этих постановлений выигрывали аристократы-землевладельцы — высокие цены делали невыгодным импорт, а иногда вводилась премия за экспорт. В противоположном случае радовались жители городов. Но чаще всего законы «не имели отношения к делу»: средневековая экономика во многом была самодостаточной, а сила закона в обществе того времени — невысока, и мало кто соблюдал эти устаревшие постановления.
Важность «хлебных законов» возросла, когда в 1756 году внезапно началась Семилетняя война. Запасы пропитания в промышленных городах севера закончились, бунтовщики грабили зернохранилища и даже булочные. Торговцы зерном веками игнорировали или наивно не знали об ограничениях, накладываемых «хлебными законами». Теперь они неожиданно обнаружили, что спешно собранный трибунал приговорил их к повешению (затем многих из них простили или отправили в ссылку в Австралию).
Внезапно сельскохозяйственная торговая политика стала основной темой публичных дебатов. В течение нескольких последующих десятилетий парламент принял серию «хлебных законов», придуманных с целью улучшения снабжения потребителей и поддержания интересов земельной аристократии. На практике они не обеспечивали ни того, ни другого. После 1793 года, война с революционной Францией и череда неурожаев опять вызвали нужду. Цены на пшеницу, столетия державшиеся около 40 шиллингов за четверть (500 фунтов или четверть тонны), после 1790 года подскочили выше ста шиллингов за четверть (см. рис. 11-1). Когда 29 октября 1795 года король отправился выступить в парламенте, кортеж окружила толпа. В карету стреляли, а народ кричал: «Мира! Мира!»
Рис. 11-1. Цены на пшеницу в Англии, 1700-1850
Правительство сняло все ограничения. Был запрещен экспорт зерна и использование его для получения алкоголя, отменены все пошлины на импорт. По официальным каналам была закуплена пшеница из стран Балтийского моря. Флот грабил нейтральные суда, плывущие во Францию. Эти действия не только прекратили быстро нараставший голод, но и вызвали гнев богатых землевладельцев, которые не могли больше назначать свои цены обедневшему и голодному населению.
Теперь правительство установило премию за импорт и призывало употреблять хлеб из пшеничной муки, смешанной с рожью или ячменем. Но к концу XVIII века даже самые бедные слишком привыкли к белому хлебу. Булочники отказывались готовить смешанную продукцию, так как ей пришлось бы черстветь на магазинных полках.{528},[65]
После 1800 года несколько хороших урожаев временно уменьшили цены. В 1804 году землевладельцы воспользовались военным дефицитом и продвинули в парламенте «хлебный закон», возвращающий «скользящие» тарифы налогов на зарубежную пшеницу.
Установка больших налогов на импорт пшеницы, транспортные расходы на которую и так были выше, чем для отечественного зерна, уверили английских фермеров в возможности установки минимальной цены в шестьдесят три шиллинга за четверть — более чем на 50% больше, чем исторически исходная цена. «Хлебный закон» 1804 года показал стратегию и политическое влияние английских производителей зерна, а также — двойственность протекционизма, стремящегося защитить отечественных производителей (в данном случае британскую земельную аристократию) в ущерб потребителям. Естественно, английские землевладельцы желали сделать высокие цены на зерно в военное время постоянными.
Закон практически не оказал никакого влияния, так как плохие урожаи и развитие военных действий с Францией вскоре вновь взвинтили рыночные цены выше сотни шиллингов.
В 1809 году голод в Англии и, наоборот, небывалый урожай во Франции дали Наполеону верную возможность сорвать куш, продавая зерно врагам.{529}
Таблица 11-1.
Налоги на импорт пшеницы по «хлебному закону» 1804 года
Цены на зерно (шиллинги за четверть тонны) …… Налог на импорт (шиллинги за четверть тонны)
Меньше 63 …… 24,25
От 63 до 66 …… 2,5
Больше 66 …… 0,5
В октябре 1813 года Британия и ее союзники вторглись во Францию, и в апреле 1814 года Наполеон был выслан на остров Эльба. В период между этими двумя датами цены на пшеницу упали со ста двадцати до семидесяти шиллингов. Английские землевладельцы, привыкшие к трехзначным ценам, опять добились изменения законов, позволившего им не потерять сверхприбыли в мирное время. И снова бедняки вышли на улицы и осадили парламент.
* * *
В этот момент вековая история «хлебных законов» сплелась со столь же древними семейными преданиями — преданиями семейства Рикардо. Едва закончились гонения и избиения евреев в Португалии (XVI век), как многие представители этого замечательного семейства оказались беженцами в свободном порту Ливорно, к северу от Рима. Среди итальянских городов-государств он был единственным, где евреев не заставляли креститься, жить в гетто и выслушивать нотации священников.
Главным занятием ливорнских евреев была торговля средиземноморскими красными кораллами, но когда прекратились их поставки, одного из членов клана — Самуэля Израэля — поманил преуспевающий и знаменитый своей толерантностью Амстердам. Около 1680 года Самуэль переехал в Голландскую республику. Там его семейство добилось успеха. Йозеф Израэль Рикардо — дедушка Самуэля — стал удачливым брокером, обосновался на Амстердамской бирже и активно участвовал в финансировании голландских вооруженных сил во время Семилетней войны.
Занимаясь финансированием вооруженных сил, Йозеф Рикардо часто приезжал в Лондон. Его сын, Абрахам Израэль Рикардо, обзавелся семьей в городе на берегах Темзы. Его сын Давид станет знаменитым адвокатом и теоретиком свободной торговли, а также самым влиятельным и громогласным из противников «хлебных законов» того времени.{530}
Давид родился в 1772 году, за четыре года до того, как в свет вышла книга Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», которая активно поддерживала свободную торговлю. Впервые Давид читал эту книгу в возрасте 27 лет в Бате, где лечилась его жена. В последующие годы он превзошел отца, достигнув успеха на Лондонской бирже, а в 1815 году молодой брокер, благодаря своей состоятельности, приобрел связи в правительстве, которые очень пригодились после победы при Ватерлоо (как и Натану Майеру Ротшильду, который первым получил известие о победе.) Состояние Рикардо использовал на то, чтобы получить место в палате общин, а также в интеллектуальных целях. Как раз в это время он приобрел экземпляр книги Смита, в котором позже нашли 150 пометок. Из этих каракулей и сложилась основа его знаменитых «Начал политической экономии и налогового обложения», опубликованных в 1817 году.
«Начала» оказались достойным продолжением «Исследований о богатстве народов». Как сказал историк Дэвид Уэзерол: «Адам Смит объяснил, что такое капиталистическая система. Давид Рикардо объяснил, как капиталистическая система работает».{531} Знаменитая глава Рикардо о внешней торговле начинается пророческим утверждением, которое ставит с ног на голову весь меркантилизм: «Нам не следует искать более крупных прибылей, если, открывая новые рынки, мы на определенное количество наших товаров можем приобрести вдвое больше импортных». Далее Рикардо переходит к описанию закона сравнительных преимуществ применительно к следующей гипотетической ситуации. Представим себе, что для того, чтобы произвести определенное количество вина, требуется 120 англичан, а для того, чтобы произвести определенное количество одежды — 100 англичан. Но португальцев для этого требуется только 80 и 90 человек соответственно. И хотя португальцы более эффективно производят и шерсть, и вино, Рикардо доказывает, что лучше им сосредоточить силы на том, что у них получается лучше, то есть на производстве вина, которое требует работы только 80 человек. Одежда, которую они обменяют в Англии на вино, достанется им дешевле, чем изготовленная своими силами.{532} Но заключения Рикардо слишком сложны для современной аудитории, и даже сегодня мало кто понимает закон сравнительных преимуществ.[66]
Приведем более убедительный пример. Представим на минуту известного адвоката, час услуг которого стоит 1000 долларов. Теперь представьте, что он к тому же большой умелец работать по дереву — в два раза производительнее среднего столяра. К примеру, перепланировка кухни, которая потребует 200 часов работы обычного столяра, у нашего умельца займет только 100 часов. Если средний столяр зарабатывает по 25 долларов в час, то наш умелый адвокат заработает 50.
Если семье этого адвоката понадобится новая кухня, возьмется ли он сам за работу, раз он умеет делать это вдвое лучше обычного столяра? Только не в том случае, когда каждый час адвокатской практики приносит ему тысячу долларов! За сотню часов, которые ему нужно потратить на кухню, он сможет заработать $ 100 000. Уж лучше он наймет на 200 часов менее умелого столяра — это обойдется ему всего в $5000. Ему придется отработать 5 часов на своей основной работе, чтобы оплатить 200 часов труда рабочему, который будет трудиться над его кухней. Говоря экономическим языком, у этого адвоката есть сравнительное преимущество адвокатской работы и сравнительное неудобство работы столяром. (Заметим, что анализ Рикардо не рассматривает фактор удовольствия от работы или склонности к ней. Может быть, нашему адвокату нравится работать по дереву, и он решит сделать все сам — выбор, важный в эмоциональном плане, но экономически нерациональный.)
Увы, «Начала» и сам Рикардо явились слишком поздно, чтобы спасти Англию от драконовского «хлебного закона» 1815 года. В ответ на трактат Мальтуса, защищавший «хлебный закон», Рикардо написал свой памфлет «Эссе о влиянии низкой стоимости зерна на доходы на бирже». В нем он указал, что главное преимущество «реальной» Англии (в противовес Англии гипотетической, описанной в «Началах») заключается в механизации производства. «Хлебные законы», утверждал он, препятствуют закупке импортного зерна и заставляют Англию растрачивать драгоценные трудовые ресурсы на малопродуктивную работу. Это не идет на пользу никому, кроме земельной аристократии. Этим памфлетом Рикардо ничего не добился. Его «Начала» оказали большее влияние, но они не публиковались до 1817 года, а сам Рикардо не был членом парламента до 1819 года.
Английскую рабочую бедноту вдохновляла мысль о немецких, польских и датских складах, полных дешевого зерна. Сила толпы оказалась действеннее, чем научные диспуты, но действие это устремилось не в том направлении. В марте 1815 года на улицах Лондона бушевал мятеж против «хлебных законов». Протестующие врывались в дома тех, кто поддерживал законы, в том числе к известному своей жесткостью министру иностранных дел лорду Каслри и к Фредерику Робинсону, который и выдвинул этот закон. После наполеоновских войн голодные рабочие бунтовали, требуя свободной торговли, точно так же, как сейчас более благополучные рабочие бунтуют, выступая против нее. Их бесчинства оказали разрушительное действие, заставив газеты и политиков, которые также выступали за отмену «хлебных законов», отказаться от союза с бунтовщиками.
В 1815 году все определяли интересы землевладельцев. В том году злополучное законодательство, которое обеспечивалось не только большинством голосов в обеих палатах, но и примкнутыми штыками за их стенами, совершенно запретило импорт зерна, если цены на пшеницу упадут ниже 80 шиллингов за кварту.{533},[67] Вскоре, на короткое время, цены упали значительно ниже 80 шиллингов. Тогда Рикардо с помощью памфлетов и речей в палате общин несколько раз успешно выступил против землевладельцев, призывавших к еще более суровым протекционистским мерам.{534} Он умер в 1823 году, в возрасте 51 года, его мечта о свободной торговле так и не сбылась.
Протекционистские законы обычно больнее всего бьют по слабым и беззащитным, и «хлебный закон» 1815 года не был исключением. Поскольку в мирное время цены на пшеницу редко поднимались выше 80 шиллингов за кварту и поскольку Англия быстро утрачивала самообеспеченность продуктами сельского хозяйства, закон прочно отгородил Англию от импортного зерна, а бедняки расплачивались за хлеб насущный по искусственно вздутым ценам. Позднейшее ужесточение этого закона уже не вызывало таких вспышек насилия, как во время его подписания, но в списке недостатков политических реформ послевоенной Англии все еще фигурировало дорогое зерно. Усилия правительства часто оборачивались откровенным, как во время «побоища Питерлоо» в Манчестере, в 1819 году, оголтелым нападением перепуганной полиции на мирные демонстрации[68].{535}
В конце XIX столетия богатеющие промышленники, которым было нужно дешевое зерно, чтобы прокормить своих голодных рабочих, встали в оппозицию земельной аристократии. В 1828 году ланкаширцы продавили законопроект, который заменил жесткий восьмидесятишиллинговый барьер плавной, подвижной шкалой, наподобие той, что существовала в 1804 году.[69] К 1840 году общественное мнение сформировалось в пользу свободной торговли, тем более что новый закон, хотя и не был таким жестким, как в 1815 году, все же обрекал английских бедняков на голодную жизнь. Зловещий провидец, Ричард Кобден, нанес законам последний удар, и его успехи до сих пор отзываются громким эхом в сегодняшних спорах о глобализации и о демократических процедурах в целом.
Кобден родился в 1804 году в бедной семье мелких фермеров. В политику он вошел в удачный момент — перед реформой избирательной системы 1832 года. Когда Ричарду было десять лет, его отец лишился семейной фермы. Его дядя — торговец тканью — упрятал мальчика в своего рода приют, вроде того, что описан у Чарльза Диккенса. (Когда, впоследствии, Кобден прочитал «Жизнь и приключения Николаса Никльби», он был потрясен, узнав описанную в романе школу Дотбойс-Холл.{536}) Когда Ричарду исполнилось пятнадцать, дядя, торговавший ситцем, устроил его клерком, и до двадцати лет молодой человек разъезжал по стране, продавая набивной ситец. К тридцати годам он вместе со старшим братом Фредериком открыл собственный красильный заводик в Манчестере и обрел самостоятельность.
Хотя у Кобдена имелись все способности и задатки, богачом он так и не стал, предпочитая торговле ситцем интеллектуальные ценности, путешествия и политику. К тридцати трем годам он побывал в континентальной Европе, на Среднем Востоке и в Соединенных Штатах, о которых писал: «Если знание это сила, а образование дает знания, то американцы неуклонно становятся самым сильным народом на земле».{537}
Во время путешествия он понял, что Англия может процветать, если будет способна продавать свои ткани дешевле, чем другие страны. Военные действия требуют расходов, налоги растут, в результате растут цены на экспортируемый Англией товар. Питание английских рабочих дорогостоящим отечественным зерном также приводит к росту цен, находящимся под охраной протекционистов. И то и другое вредит стране.{538},[70]На этом основывались его пацифизм, вера в содружество народов и, самое главное, в свободную торговлю. К 1840 году Великобритания третью часть экспорта отправляла в Соединенные Штаты — в основном, одежду и ткани в обмен на хлопок-сырец из южных штатов. Молодому владельцу красильного завода было очевидно, что эта торговля требовала недорогой поддержки со стороны флота.
В своих чувствах Кобден был далеко не одинок. К 1830-м годам мысль о том, что «хлебным законам» надлежит кануть в прошлое, возникла у двух очень странных союзников: у манчестерских дельцов, вложивших капиталы в хлопок, и у чартистов — группы обычно не признававших власти радикалов, стремившихся к тому, чтобы итоги выборов были полезны не только земельной аристократии. В сентябре 1838 года представители этих групп встретились в Манчестере и основали Лигу против «хлебных законов». В том же году Кобден, как известнейший в Европе фритредер, стал ее предводителем.{539}
В 1838 году Лига заняла удачное место в удачный момент. До 1830-х годов связь и транспорт были довольно дороги. В мире, где писать письма и путешествовать могли только богачи, просто не давалось право выбора тем, кому это было недоступно. В Англии это означало, что занявшие сильную позицию богатые землевладельцы в борьбе за протекционизм в отношении зерновых легко одерживали верх над бедными потребителями.
В эпоху быстро развивающихся технологий, в особенности паровых, этот дисбаланс значительно снизился. Лига против «хлебных законов» уже могла для организации и поддержки шествий рассылать по всей стране своих харизматичных ораторов — обаятельного, убедительного Кобдена и пылкого, эмоционального Джона Брайта.
Лига разработала множество хитроумных методов, которые применяются большинством сегодняшних политических партий и отдельными заинтересованными группами: массовые почтовые рассылки, передвижные агитационные бригады с хорошей сценической подготовкой, использование религиозного подтекста, способы тщательного подсчета голосов и оспаривание законности процедур.
Приняв руководство Лигой, Кобден вскоре обнаружил в своем окружении еще одного гения скромного происхождения — Роланда Хилла, яростного защитника «грошовой почты». К 1838 году Англия прочно стояла на пути к скоростному рельсовому транспорту, радикально снизившему стоимость доставки почты. Однако правительство не спешило делиться достигнутой экономической выгодой с любителями писем. В те времена письмо оплачивалось получателем и обходилось весьма дорого. Например, письмо из Эдинбурга в Лондон стоило шиллинг — почти дневной заработок фермера или заводского рабочего.
Высокие цены и система, при которой письмо оплачивалось получателем, становились причиной злоупотреблений и способом наживы. Часто путешественники доставляли по пути письма родственникам и друзьям. Иногда на одном листе бумаги писалось несколько писем, предназначенных к отправке в далекий город, а там уже лист разрезался и письма разносились по адресам. Между страницами книг, которые издатель отправлял в магазины, помещалось множество писем. В качестве своего почтового адреса указывали адрес места работы, а одной из главных привилегий работы в государственном учреждении была возможность бесплатно писать письма.{540}
Хилл рекомендовал почтовому ведомству цену за доставку письма от Лондона до Эдинбурга только 36 пенсов, а Кобден вскоре употребил свое знаменитое обаяние и настойчивость для того, чтобы сформировать в палате общин комиссию по данному вопросу. Кобден объяснял комиссии, что дешевая почта позволит 50 000 ирландцам, которые работают в Манчестере, регулярно писать домой, своим любимым. Когда депутаты спросили, как же почта справится с таким громадным объемом писем, Кобден холодно напомнил, что недавно из Лондона в Манчестер, со скоростью 20 миль в час, доставили слона.
Парламент утвердил почтовый сбор в размере одного пенса, он вошел в обиход 10 января 1840 года. Поначалу царила растерянность — как же применить эту схему на практике? Кобден предложил использовать «что-то вроде штампа на медицинских патентах, что-то, что можно прикрепить к конверту каплей клея, а затем проштамповать на почте». В результате появились современные почтовые марки.{541}
Кобден точно знал, что делает. Говорят, когда в палате лордов решили вопрос о «грошовой почте», он в шутку крикнул: «Туда же и “хлебные законы”!».{542} Дешевая почта стала самым мощным оружием из его арсенала, настоящей гаубицей пропаганды. Теперь Лига против «хлебных законов» могла штурмовать позиции заводовладельцев, этот кладезь богатств промышленной революции.
Сочетание разумного финансирования и дешевой почты дало Лиге до смешного мало голосов английских избирателей. После закона о реформе избирательного права 1832 года набралось только 7% взрослых мужчин, голосовавших за Лигу.{543} Систематическая обработка велась с монотонной регулярностью. В дело пошли ежедневная газета «Циркуляр Лиги против “хлебных законов”», отлично составленный еженедельник «Лига» и беспрерывный поток памфлетов. На фоне успехов 1840-х годов Кобден подсчитал, что из 800 000 избирателей страны более одной трети регулярно получают «Лигу».{544}
Эти борцы интересовались не только вопросами нового железнодорожного транспорта и дешевой почты, но также и еще одним, очень старым вопросом — толкованием божьей воли. Фритредеры сыграли на религиозных чувствах своих союзников — чартистов и аболиционистов. На одном из собраний Лиги в Манчестере 700 ее представителей заявили, что «хлебные законы» противоречат законам божьим. Так Всемогущий в первый и последний раз был вынужден выступить за снижение тарифов.{545}
Лига нанимала целую армию юристов, чтобы подсчитывать избирателей в регионах, исследовать их политические предпочтения. Всякий землевладелец, чья регистрация или квалификация находились под вопросом, оказывался под их пристальным вниманием. А чтобы противники не могли заниматься тем же самым, потенциальным фритредерам приводили документы в порядок. Такая тактика зачастую отнимала у тори один голос из семи в отдельно взятом районе. Наконец, Лига сумела подключить мощные финансовые ресурсы и приобрести недвижимость у бедных владельцев. Каждому выплачивалось 40 шиллингов в год — достаточно, чтобы говорить о получении доходов, необходимых для участия в выборах.{546},[71]
В свободное от дел в Вестминстере время Кобден и его коллега Джон Брайт вели споры о положении дел в стране. Кобден неизменно одерживал верх благодаря своему обаянию и умению спокойно оперировать фактами. Брайт сражал слушателей громогласным уличением землевладельцев в вероломстве. Новые железные дороги переносили их из города в город за считанные часы, и каждый раз они приезжали свежими и отдохнувшими, что немыслимо было при путешествии на лошадях и в экипаже.
В 1841 году пало правительство вигов под предводительством лорда Мельбурна и последовали всеобщие выборы. Четыре года назад Кобден едва прошел в палату общин, но теперь он был таким известным человеком, что выиграл выборы легко, как и многие его товарищи по Лиге, в том числе и Джон Брайт.
Выборы показали, что к власти вернулись тори. Они вернули Роберта Пиля на Даунинг-стрит, 10, в резиденцию, которую он потерял в 1835 году. Политические взгляды Пиля и его упрямый эмпиризм вывели его далеко вперед, за пределы реакционного и аристократического строя тори. Кобден еще несколько лет тягался с ним из-за «хлебных законов», и пока они состязались в желчности, воля Кобдена мало-помалу, при помощи фактов, логики и обаяния, ломала сопротивление премьер-министра.
Сущность аргументов Кобдена заключалась в следующем. Если пустить на рынок дешевое импортное зерно, то рабочим будет оказана двойная помощь. Во-первых, это даст им хлеба. Во-вторых, за этот хлеб будет уплачено английскими товарами, производство которых даст людям работу. Говоря вкратце, внутренняя торговля порождает необходимость торговли внешней.{547} Во время одной из речей Кобдена в палате общин Пиль обратился к своему помощнику Сидни Герберту и сказал: «На это придется отвечать тебе, потому что я не могу».{548}
Обе стороны приводили в пример ужасные условия, в которых находились рабочие того времени. Особенный (слегка лицемерный) гнев тори испытывали в адрес дьявольских мрачных заводов, владельцами которых очень часто оказывались члены Лиги. Едва Кобден в 1841 году занял парламентское кресло, как его заклеймили бессердечным заводовладельцем и уличили в нерегулярной отчетности. По тем временам фабрики Кобдена считались прекрасными, а условия на них весьма гуманными, так что он легко отразил нападки. В 1844 году лорд Эшли Купер, член парламента от партии тори, чья семья владела обширными сельскохозяйственными имениями, предложил на рассмотрение меры, которые ограничивали количество рабочих часов, а также детский труд. Законопроект был существенно смягчен, прошел редакцию Пиля, а в 1845 году Купер напустился на красильщиков ситца, целясь, видимо, прямиком в Кобдена. Когда Купер указал на то, что дети на фабриках по много часов работают за жалкие три шиллинга в неделю, Кобден ответил, что они, по крайней мере, работают в помещении, а у фермеров дети трудятся по много часов на улице и в любую погоду за половину этого заработка.[72]
Победа в битве за отмену «хлебных законов» пришла после многочисленных схваток. Неурожай 1842 года заставил Пиля убедить кабинет министров уменьшить установленные еще с 1828 года скользящие тарифы на ввоз зерна вдвое. А в 1843 году парламент снизил пошлины на канадскую пшеницу до одного шиллинга за кварту.{549} Но такими мерами премьер-министр не успокоил никого, в особенности Кобдена, Брайта и их товарищей по Лиге, не признававших полумер. И конечно, не обрадовались тори — однопартийцы Пиля, презиравшие его за измену своему классу. Правда, через два года обильный урожай избавил правительство от давления землевладельцев, а Лига ничего не выиграла.
Затем в 1845 году боги плодородия обрушили на Британские острова свой гнев, который послужил причиной одного из самых драматических эпизодов в политической истории Англии. Июль и август этого года были дождливыми и холодными. «Зеленая зима» уничтожила урожай пшеницы. В то же время в Южной Англии появилась картофельная гниль и, как пожар, распространилась по Ирландии, обрекая ее население на голод. С наступлением этого кошмарного года, правительство охватил ужас. Надежду на спасение видели в закупках американской кукурузы и докладах особой научной комиссии о том, что прежде случались еще более тяжелые эпидемии картофельной гнили. 22 ноября правительство потеряло последний оплот — лорд Джон Рассел, лидер оппозиционных вигов, выступил за отмену «хлебных законов».
К этому моменту даже самые убежденные тори понимали, что для того, чтобы избежать массового голода, английские и ирландские порты нужно открыть для ввоза импортного зерна. При этом Пиль отлично понимал, что однажды их открыв, закрыть обратно уже не получится без риска обрушить на себя революцию. Спустя две недели он собрал кабинет министров и объявил, что намерен отменить «хлебный закон».{550} Когда двое из его министров отказались его поддержать, он обратился к королеве с просьбой об отставке. Рассел оказался не в состоянии собрать правительство вигов, поскольку в палате общин его партия составляла меньшинство, так что 20 декабря Пиль вернулся на свою должность.
К январю 1846 года Пилю ничего не оставалось, как публично признать, что Кобден и Лига оказались правы, а он изменил свое отношение к «хлебным законам». Те из его товарищей-тори, кто не принял новой веры, остались в дураках.{551} Этот замечательный акт самопожертвования оставил след как на политических судьбах Великобритании, так и на репутации самого искусного политического лидера XIX века. 25 июня отмену закона утвердили в палате лордов, а через несколько дней элита землевладельцев из партии тори под предводительством Бенджамина Дизраэли устроила Пилю окончательную отставку{552}.[73],[74] Пиль спас собственный класс — земельную аристократию — от себя же самой, и тот предал его за это анафеме.
Хотя отмена «хлебного закона» в 1846 году стала исторической вехой в мировой истории торговой политики, к этому времени основная часть проблем уже была решена. Законом 1842 года тарифы опустились даже ниже, чем после окончательной отмены. Некоторые современные исследователи считают, что к 1846 году реальные пошлины на зерно снижались в течение десятилетий и ко времени окончательной отмены закона эти экономические меры значения уже не имели.{553}
Кобден продолжал свою деятельность в парламенте. Проповедуя евангелие свободной торговли, он много жил за границей. Под конец жизни он стал во Франции добровольным учеником Наполеона III, племянника Наполеона I.
К 1859 году англо-французские отношения дошли почти до состояния войны, в основном из-за истерии, нагоняемой Великобританией, не доверявшей историческому врагу. А Кобден считал своей неофициальной миссией в Париже защиту идей о снижении пошлин в торговле между Францией и Англией. Несколько раз его принимал Наполеон III и императорские министры. Император заметил, что ему очень хотелось бы отменить ввозные пошлины в своей стране, «но очень велики затруднения. Мы, во Франции, не занимаемся реформами. Мы занимаемся революциями».{554} Наполеон III очень охотно прислушивался к идеалистическим советам Кобдена, но тем, кто стоял у руля промышленности Франции и ее союзников, свободная торговля была не по душе. К тому времени Кобден считался мастером протекционистских лозунгов. Выдержка из его дневников говорит о том, что Наполеон III тоже этим отличался:
Император повторил мне аргументы против свободной торговли, которыми пользовались некоторые из его министров, в частности Пьер Мань, министр финансов, заявивший, что если поменять систему от запрета до умеренных пошлин, что открыло бы широкие возможности для импорта, то производство всякого французского товара сменилось бы закупкой импортного. Я указал на ошибочность аргументов месье Маня, объяснив, что потребительский рынок Франции почти насыщен и существенного роста потребления не ожидается. Я заметил, что во Франции миллионы людей никогда не носили чулок — и вот, чулки уже запрещены. Он заметил, что, к сожалению, десятки миллионов людей едва ли пробовали хлеб и вынуждены перебиваться картофелем, каштанами и т. д.{555}
Неудивительно, что Наполеон III симпатизировал идеям фритредеров. В 1846 году он жил в изгнании в Англии, как раз в это время отменили «хлебный закон». Изгнанник прожил там два года, когда страна дышала идеями Смита, Рикардо и самого Кобдена. Французские хлопковые мануфактурщики, разоренные поставками английских тканей — более дешевых и более качественных, — осаждали императора ходатайствами о протекционистских мерах, но он слушал и тех, кто поддерживал свободную торговлю: производителей вина, шелка, изящной мебели. Они очень хотели продавать свой товар на экспорт. За снижение тарифов ратовали и те многие французские производители, работа которых зависела от импортного сырья и требовала много импортного железа.{556}
К 1850-м годам катехизис свободной торговли проник по эту сторону Ламанша. Движения за отмену тарифов возникли в Бельгии и Франции, в них было воспитано целое поколение либеральных экономистов. Самым выдающимся из них был профессор политической экономии, ставший также депутатом национального собрания — Мишель Шевалье. Он писал:
Британия встала на путь свободной торговли, и это одно из величайших событий века. Когда столь могучая и просвещенная страна не просто воплощает в жизнь такую великую идею, но и извлекает из этого великую пользу, как же могут подражатели не последовать ее примеру?{557}
В 1860 году Кобден и Шевалье провели корабль англо-французского союза через бурю оппозиции по обеим сторонам Ламанша. Вот как восхваляет за это Кобдена депутат от либеральной партии Уильям Гладстон:
Редко выпадает такая честь — человеку, который 14 лет назад смог оказать своей стране важную услугу, за этот краткий период жизни не снискавшему ни земель, ни титула, не носящему никаких знаков отличия от людей, которых он любит, — ему позволено сослужить другую великую и почетную службу своему господину и своей стране».{558},[75]
Договор Кобдена—Шевалье сокращал тарифы с обеих сторон. За несколько лет духом времени прониклись Италия, Швейцария, Норвегия, Испания, Австрия и ганзейские города. В это время, впервые, в полной мере проявилась польза положения о режиме наибольшего благоприятствования. Этот статус, восходящий к договорам XII века, напоминает слоган: «Мы собьем любые цены», который предлагают вам продавцы. Страна, которая принимает такие условия, обязуется назначать тарифы не выше, чем назначает или назначит в будущем любой третьей стране, и эти условия соблюдаются для всех партнеров по режиму наибольшего благоприятствования. С 1860 года начался марафон режима наибольшего благоприятствования, и «тарифное разоружение» охватило всю Европу. На многие промышленные товары тарифы, достигавшие 50%, исчезли совершенно.{559}
В период со времени публикации «Исследования о природе и причинах богатства народов» в 1776 году и до отмены «хлебного закона» в 1846 году Смит, Рикардо и Кобден заложили теоретические и политические основы новой, глобальной экономики, которая зазвучала через десятилетия после аккорда Кобдена-Шевалье. Протекционисты пророчили катастрофу фермерам, поскольку из-за границы поставлялось дешевое зерно. Сначала этого не произошло, потому что растущее население Европы не давало ценам упасть. Но поколение спустя лавина дешевого зерна из обеих Америк, Австралии, Новой Зеландии и России погребла под собой английских и европейских фермеров. К 1913 году Англия ввозила из-за рубежа 80% пшеницы, но на заре XX столетия ни один англичанин не променял бы промышленного настоящего страны на ее аграрное прошлое.{560},[76]
Зерновое вторжение из Нового Света иначе отразилось на Европе, где с 1880-х годов начались бурные протесты против свободной торговли, которые продлились до середины XX века. А в XIX веке такая реакция на новую, глобальную экономику сигналит веку XXI: хотя свободная торговля выгодна человечеству в целом, отдельно взятые пострадавшие от нее не станут безропотно принимать новый порядок.
ГЛАВА 12. ЧТО ВЫКОВАЛ АНРИ БЕССЕМЕР?
Если бы люди переносили свои фабрики в Америку или Китай всегда, когда этим они могут сберечь небольшой процент в своих расходах, размер прибыли был бы одинаков на всем земном шаре, а все вещи производились бы лишь в таких местах, где с одинаковым трудом и капиталом можно произвести их в наибольшем количестве и наилучшего качества. Даже и теперь можно заметить стремление к такому положению дел.
Джон Стюарт Милль, 1848.{560}Балетные прыжки современного международного производства поражают воображение. Бессчетные детали ноутбуков, цифровых проигрывателей и автомобилей создаются, изготавливаются и собираются в различных странах, иногда совершая два и более перелетов через океан, прежде чем их соберут воедино.
Тем, кто считает это признаком современности, следует посетить бывший медный рудник Джером на севере Аризоны. Сегодня в центре этого крошечного живописного туристического городка стоит старая плавильня — немой свидетель легендарного прошлого. Слегка задобрив этот приземистый, уродливый механизм, можно услышать от него замечательную повесть о всемирной торговле в конце XIX века.
Его рассказ начинается в конце Средних веков на самом западе Англии, где корнуольцы и валлийцы стали первыми в горном деле и металлургии. Они производили львиную долю меди, олова и железа Европы. И, что не менее важно, в их шахтах добывали лучший в мире бессерный уголь, незаменимый в плавильном деле. С 1820 года новые, отражательные плавильные печи (в которых пламя и смесь руды и древесного или каменного угля были разделены) начали превосходить возможности шахт Англии и Ирландии. Плавильные заводы импортировали уголь откуда только могли: сначала из Испании, с Кубы и из Австралии, а затем, огибая мыс Горн, из Чили и Аризоны. На обратном пути баржи увозили уголь Западной Англии.
Сонный валлийский порт Суонси с мелкой бухтой, охраняемой опасной песчаной отмелью, был центром международной оптовой торговли. Специфика груза — уголь и руда — и примитивное погрузочное оборудование на обоих концах маршрута требовали от судостроителей вместительности, а не скорости. По иронии судьбы, в Уэльсе, занимавшем первое место по производству и экспорту угля, перевозящие его суда — угольные баржи — продолжали ходить под парусами до начала XX века.
Писатель и моряк Джозеф Конрад ухватил суть торговли после общения с умирающим капитаном в отставке:
Он «отслужил срок» у знаменитой Компании медных рудников, делая рейсы между Суонси и чилийским побережьем, — вывозил уголь и ввозил медную руду. Ходил в оба конца с тяжелым грузом, словно бросая вызов великим морям за мысом Горн. Задача эта под силу лишь очень стойким судам и была хорошей школой выносливости для моряков Запада. Этой (давно уже несуществующей) Компании служила целая флотилия барков с медными днищами, с такой прочной деревянной обшивкой и шпангоутами, с такой прекрасной оснасткой, какую вряд ли когда-нибудь можно было увидеть у других судов, и с закаленным экипажем под командой молодых капитанов.{562}
И прибывающие, и убывающие грузы были чрезвычайно опасны. Богатая медная руда Нового Света чрезвычайно плотная, иногда содержание металла доходило до 50%.[77] Если руду перевозить не в специальных ящиках, то она легко может рассыпаться и накренить судно. Кроме того, железо и медь плохо сочетаются, и руда, добравшись до корпуса корабля, могла разъесть гвозди и потопить судно.
По пути из Суонси уголь подвергался еще одной опасности — огню. Склонность угольной пыли к спонтанному воспламенению приводила к тому, что в конце XIX века в среднем шесть из 150 барж в год сгорали в море. Пламя от угля, сутками незаметно тлевшее глубоко в трюме, было почти невозможно обнаружить. Единственной надеждой на спасение было то, что уголь горел медленно и можно было успеть сбросить его в воду или, в крайнем случае, покинуть судно организованно.
Сначала иноземная руда, выгодная ввиду своей чистоты, казалась ответом на молитвы валлийских металлургов. Если владельцы фабрик были особенно удачливы, в руде можно было обнаружить много серебра. Вплоть до 1850-х большая часть меди всего мира все еще выплавлялась в Уэльсе.
В долговременной перспективе Корнуолл и Уэльс едва ли могли надеяться на сохранение лидирующего положения в металлургической промышленности. Их шахтеры, терявшие работу из-за закрытия истощавшихся рудников, давно уже увозили свои таланты за океан. Редко на какой шахте Нового Света нельзя было встретить «кузена Джека», как называли корнуольцев. В конце XIX века литейщики Уэльса также начали эмигрировать. С их помощью усовершенствованные технологии Америки вскоре превзошли металлургию Старого Света.
С появлением в «медных» районах Монтаны, Юты и Аризоны железной дороги возникли новые торговые возможности. Опыт Джерома был типичным. К 1882 году здесь на полных парах шло литье и город стал важным центром как горнодобывающей, так и металлургической промышленности.{563} Качественный валлийский кокс (обожженный уголь) отправлялся мимо мыса Горн в Сан-Франциско. Оттуда железной дорогой в Эшфорк, штат Аризона, где пути заканчивались. А оттуда на повозках, запряженных мулами, последние 60 миль по горам Монтаны в Джером. Там кокс выплавлял из местной руды чистую медь, которую отправляли обратно в Европу тем же маршрутом — все вместе более 32 000 миль, производственный цикл, который впечатляет даже современного производителя компьютеров.{564}
* * *
XIX век принес в мировую торговлю изменения, не сравнимые с изменениями XX века. К 1900 году межконтинентальная торговля как предметами роскоши, так и массовыми товарами стала обычным делом. Вообразите на секунду двух путешественников во времени: первый попадает из 1800 в 1900 год, а второй из 1900 в 2000. Прибывший в XX век уже знаком с мгновенной связью, скоростью пассажирских поездов свыше 60 миль/ч и скоропортящимися товарами, привезенными от антиподов в холодильных камерах вагонов и кораблей. По сравнению с ним путешественник из XVIII века, прибывший в XIX, никогда не видел, чтобы информация, люди или товары перемещались быстрее скорости лошади. Для него сама мысль, что можно купить тюльпаны, выращенные на другом конце континента, или съесть зимой клубнику, привезенную из-за океана, или прочитать новости со всех концов планеты в тот же день, показалась бы фантастикой.
Историю революции в торговле XIX века невозможно рассказать по порядку, ибо она включает в себя несколько пересекающихся, почти одновременно произошедших событий. Этот век видел появление паровых машин, железных дорог, телеграфа и новой системы натурального и искусственного замораживания, помноженные на новый процесс производства дешевой высококачественной стали. Все это сопровождалось ростом сельского хозяйства в Новом Свете, Австралии и на Украине, что, в свою очередь, привело к протекционистской реакции в континентальной Европе, которая продолжается по сей день.
* * *
С самого своего рождения в 1776 году Соединенные Штаты были небольшой аграрной конфедерацией, расположенной исключительно вдоль восточного побережья Северной Америки и стиснутой горами Аппалачи. Северные и южные штаты были разделены не только специфическим институтом рабства, но и глубоко укоренившимися различиями в торговой политике. Не будет преувеличением сказать, что борьба за пошлины была, наряду с борьбой за освобождение, причиной Гражданской войны. Лишь меньшинство южан владело рабами, и еще меньше северян были аболиционистами, но почти все американцы либо потребляли, либо производили товары. В начале 1830-х споры вокруг пошлин почти вызвали преждевременный армагеддон, предотвращенный лишь политическим гением Эндрю Джексона, Генри Клея и пожилого Джеймса Мэдисона.
Неумолимая сила британской промышленности пугала маленькие, но растущие производящие концерны, сгруппированные в Новой Англии и средне-атлантических штатах. Александр Гамильтон четко понимал, что юной индустрии Америки необходима защита от иностранных мастодонтов, хотя бы в виде субсидий, а не только пошлин. Почти столь же влиятельным был блестящий немецкий экономист Георг Фридрих Лист, который провел несколько лет в Америке, зарабатывая состояние на железных дорогах. По возвращении в Германию в 1832 году в качестве американского посла он занялся экономикой торговли. Адам Смит и Давид Рикардо ошибались, считал он. Они оба писали, что страна получает выгоду из свободной торговли даже перед лицом протекционизма со стороны соседей, но Лист утверждал, что репрессалии эффективнее. В Соединенных Штатах он пришел в восхищение от Национальной системы Гамильтона — плана по развитию инфраструктуры страны, оплачиваемой, по большей части, за счет пошлин на ввоз. Лист также был согласен с Гамильтоном по поводу зарождающейся индустрии: страны должны защищать свои молодые предприятия от более сильных и опытных конкурентов, таких как Англия.{565} Ведущим учеником Листа в Америке был влиятельный Генри Кэри, страховой магнат и экономист из Филадельфии, который еще лучше понимал, что путь к национальному процветанию пролегает через высокие таможенные пошлины.
Когда наступают тяжелые времена, и фермеры, и рабочие требуют защиты. Именно так и произошло, когда после наполеоновских войн упали цены на зерно. Американские фермеры пытались удержать за собой местный рынок зерна, а владельцы перерабатывающих производств в Новой Англии требовали защиты от убийственной конкуренции с ланкаширскими мельницами. До принятия подоходного налога в XX веке 90% государственного аппарата управления оплачивались из пошлин на ввоз.[78] Это означало, что тарифы были подняты во время экономического спада, а именно этого не стоило делать во время кризиса. Эти три элемента — страх перед британским производством, частые экономические спады и потребность в повышении доходов — спровоцировали протекционизм Севера, который продолжался вплоть до XX века.
Юг, напротив, предпочитал свободную торговлю. Случайный посетитель портов довоенного Юга понял бы, почему это так. В любой день 1798 года он насчитал бы не менее 117 судов в гавани Чарльстона, либо привезших грузы из Ливерпуля, Глазго, Лондона, Бордо, Кадиса, Бремена и с Мадейры, либо отправляющихся обратно с хлопком, табаком, рисом и индиго, и ничто из этого не нуждалось даже в намеке на тарифную протекцию.{566}
До 1820 года Юг относительно редко конфликтовал с Севером. Южане в целом поддерживали Национальную систему. Но в этом году Миссурийский компромисс дал понять Югу, что северное большинство может ограничить рабовладение. Это, в свою очередь, обратило внимание южан на другие разногласия с Севером, основным из которых был вопрос пошлин. Две эти проблемы завершили эру доброго согласия.
Экспорт хлопка, индиго и риса продолжал процветать, но с распространением нации на восток и север все больше европейских товаров попадало в Нью-Йорк. Этот растущий мегаполис быстро стал национальным финансовым центром и, после 1825 года, местом распределения экспортных товаров через канал Эри. В возвышении Нью-Йорка южане почуяли заговор, а конгресс подлил масла в огонь, проведя в 1820-х несколько внушительных повышений тарифов. В глазах южан самым вопиющим фактом было низкое качество британской шерсти, или «одежды негров», которую носили рабы. Члены палаты представителей среднеатлантических штатов проголосовали 60 к 15 за акт 1824 года, тогда как южане проголосовали против него с соотношением 64 к 3.[79] Если бы вопрос об отмене рабства был вынесен на голосование конгресса в тот год, едва ли результаты могли быть более полярными.
Двумя главными героями спора о пошлинах 1820-1830 годов были Эндрю Джексон и Джон Кэлхун из Южной Каролины. Последний был вице-президентом при Джексоне и его предшественнике Джоне Квинси Адамсе. Коалиция Джексона заверила Кэлхуна, что не пропустит даже более ограничивающую пошлину, которой угрожали люди Адамса. Обещание они не сдержали. Коалиция Джексона голосовала с людьми Адамса за драконовский акт 1828 года, более известный как «Тариф мерзостей». Этот законопроект воспламенил тлеющий конфликт между Севером и Югом.{567}
Нигде гнев не был так силен, как в Южной Каролине, которая была заселена почти 200 лет назад перебравшимися с Барбадоса плантаторами. Между переписями 1790 и 1830 годов доля рабов выросла с 42 до 54% от общего числа населения. Это делало штат американской Спартой, где небольшая белая элита восседала на плечах черных невольников. Южная Каролина, беспокоясь как о своенравности черных у себя дома, так и об аболиционистах на севере, встала в оппозицию к новым пошлинам и заявила о праве штатов на отмену тех федеральных актов, которые она сочла неконституционными. Один из конгрессменов Южной Каролины, рассудительный Джордж Макдаффи, набросился с бранью на акты 1824 и 1828 годов и предложил «теорию сорока мешков», которая ошибочно приравнивала 40-процентную пошлину на импортный текстиль к 40-процентному сокращению жизненного уровня. «Фабрикант просто врывается к вам на склад и отнимает у вас 40 мешков с каждой сотни, которую вы произвели».{568},[80]
После принятия «Тарифа мерзостей» в 1828 году законодательный орган Южной Каролины попросил у вице-президента Кэлхуна, самого лучшего консультанта Юга, совета, как штат может аннулировать этот акт. Он дал совет, но тайно. В течение четырех лет Юг прилагал все усилия к снижению налогов.
Эндрю Джексон, рожденный в Южной Каролине и воспитанный в Теннесси, вступил на пост президента в 1829 году с намерением успокоить гнев рабовладельцев и свободных торговцев Юга. Но он также хотел выплатить национальный долг, а это требовало сохранения пошлин. Балансируя между двумя этими конфликтующими целями, он поддерживал единство нации, придерживаясь «среднего и справедливого курса»: умеренного тарифа 1832 года.{569} Помогал Джексону восьмидесятилетний Джеймс Мэдисон, который предостерегал своих собратьев-южан от слишком сильного давления на Север. Мэдисон обратил свою силу убеждения на Генри Клея, лидера новой протекционистской партии вигов и преданного сторонника Национальной системы Гамильтона.
Акт 1832 года лишь слегка снижал пошлины на некоторые товары. Джексон подумал, что эти уступки умиротворят Юг, но этого не произошло, поскольку акт сохранил тарифы на импортный текстиль, особенно на негритянскую одежду, в размере примерно 50%.{570} 24 ноября 1832 года конвент штата Южная Каролина воззвал к тайной законной стратегии Кэлхуна, чтобы провести «Указ об аннулировании», который объявлял тарифы как 1828, так и 1832 годов незаконными в пределах своих границ. К концу года Кэлхун вышел в отставку, вернулся домой и был избран сенатором. Джексон быстро отреагировал, сначала словами (объявив Южную Каролину «штатом безумия»), а затем послав морской корпус в Чарльстон, и даже угрожал арестовать губернатора Виргинии, если тот сглупит и воспрепятствует федеральным силам добраться до Южной Каролины.{571},[81]
К тому времени Джексон кипел праведным гневом в адрес южан и, видимо, жаждал военного столкновения. Но протекционист Генри Клэй, «Великий Соглашатель», спас президента от него самого. Клэй понял две вещи: во-первых, только дальнейшее сокращение пошлин на импорт помешает Южной Каролине аннулировать предыдущие тарифные акты и приблизить развязку; во-вторых, Джексон хочет, чтобы власти поставили на колени этот все более радикальный штат.{572}
Клэй добился обеих целей и поэтому отсрочил на четверть века Гражданскую войну. 1 марта 1833 года конгресс принял «Тариф компромиссов», согласно которому пошлины медленно снижались в течение нескольких последующих лет. Он отколол неистовую Южную Каролину, с ее преобладанием рабского населения и призывами к аннулированию, от остального Юга. В тот же день был принят и «Билль о применении силы», который давал президенту полномочия на любые действия для сбора пошлины и поддержания Союза. Побежденному Кэлхуну не оставалось ничего иного, кроме как отступить, и 3 марта он под ледяным дождем в открытой почтовой телеге поспешил в Южную Каролину, чтобы помешать конвенту штата принять декрет о аннулировании.
Восемь дней спустя конвент, убежденный Кэлхуном в том, что «Тариф компромиссов» лишил их поддержки других южных штатов, согласился. Он аннулировал «Билль о применении силы», но это был пустой жест: принятие «Тарифа компромиссов» означало, что нет нужды прибегать к «Биллю о применении силы».
Благодаря искусному политическому маневру Джексона и Клэя Южная Каролина осталась один на один с федеральным правительством в борьбе за аннулирование тарифных актов. По правде говоря, Кэлхун все еще верил в Союз, даже несмотря на то, что многие его земляки эту веру потеряли. Он видел в аннулировании способ ослабить раскол и сохранить свой родной штат в национальной системе, где он действительно оставался еще одно поколение.{573}
Через 20 лет, в 1856 году, скудные свидетельства аболициониста Джона Фримонта, первого республиканского кандидата в президенты, обвиняющие Джеймса Бьюкенена, убедили новую партию в том, что ее позиция против рабства сама была неадекватной. Пенсильвания, самый протекционистский штат в Союзе, стала краеугольным камнем выборов и оставалась им на выборах 1860 года. Уже будучи под чарами архи-протекциониста Генри Кэри, Авраам Линкольн поднял голос за повышение пошлин и выиграл и этот штат, и Белый дом. Кэри стал его главным советником по экономике.{574}
Когда Южная Каролина снова инициировала конфликт в 1861 году, сторонники отделения получили большинство голосов по всему Югу и Север не был столь терпеливым, как раньше. В соответствии с мифологией Конфедерации, виргинский унионист полковник Джон Болдуин предложил Линкольну условия отсрочки отделения штата в обмен на эвакуацию форта Самтер. Говорят, Линкольн ответил: «Что же станет с моим тарифом?»{575}
К 1861 году баланс экономических сил и военного потенциала сдвинулся в пользу Севера. Если бы Джексон, Клэй и Мэдисон действовали менее мудро, противодействие тарифам 1830-х и последующий кризис могли бы окончиться поражением Союза.
Корни недовольства южан, разумеется, выходят далеко за рамки тарифной политики. В 1833-м умеренные в Конгрессе обвинили приверженцев аннулирования, стоящих за права штата и сохранение рабовладения, в использовании тарифных актов в качестве удобного оправдания расколу Союза.{576} Кэлхун признал это. Обращаясь к другу с севера, он пояснил: «Тариф — это повод, а не истинная причина бедственного положения дел».{577} Тем не менее нет никаких сомнений в значении расхождений между фритредерами и протекционистами для начала Гражданской войны. После выборов Линкольна редакция издания с говорящим названием «Натчезский фритредер» написала:
До 4 марта, дня инаугурации, веление времени состоит в формировании Южной Конфедерации и установлении принципов свободной торговли. Затем Север, распростертый во прахе, осознает со всей остротой, что за жемчужину они потеряли навеки. Югу не нужна таможня, он достигнет процветания единственно благодаря свободной торговле.{578}
В 1861 году отделение и война потребовали от Севера средств на финансирование армии, а позже — и на пенсии, и на Реконструкцию. Все это требовало миллиардных пошлин на ввоз. Союз, уже убежденный в оппозиции Юга, был готов возвести один из самых высоких тарифных барьеров в мире. Больше полувека после Гражданской войны этот выдающийся барьер защищал американскую индустрию от британского соперничества.
* * *
Насколько дебаты о протекционизме перетряхнули Соединенные Штаты и Европу в начале XIX века, настолько же эта тема прозвучала и в грандиозном падении цен на перевозку. После 1830 года дешевый фрахт создал совершенно новый глобальный рынок для самого важного оптового товара — зерна.
Историк-экономист Поль Берош подсчитал, что в 1830 году пшеницу в Европе продавали в среднем за 95 долларов за тонну, а цена на перевозку одной тонны за 1000 миль составляла 4,62 доллара чрез океан, 28 долларов по реке или каналу и 174 доллара по суше. (Цены указаны в долларах 2007 года.) Богатые новые земли Америки могли производить зерно, грубо говоря, в два раза дешевле, чем в Европе — за 47,50 долларов за тонну. Однако, если принять во внимание цены на транспортировку, хранение и страховку, точка самоокупаемости учитывала бы не более нескольких десятков миль по суше от американских портов.{579}
Эти цифры показывают, что в середине XIX века цены на транспорт были такими высокими, что зерно и другой сыпучий товар из Америки не могли соперничать с Европой. Другими словами, цены на наземные перевозки были столь высоки, что взимаемые за товары пошлины не имели значения.
Ни Миссисипи, ни Великие озера не обладали достаточно дешевой или эффективной системой транспортных путей. Решением проблемы мог стать канал Эри, длиной 364 мили, который прорезал неосвоенные леса к югу от Ниагарского водопада к реке Гудзон в Олбани, пересекая по пути возвышенность в несколько сот футов.
По открытому в 1825 году каналу проходили на восток 185 000 тонн груза ежегодно. Движение по водному пути вскоре так возросло, что канал пришлось расширить и ограничить к нему доступ. В 1845 году по нему транспортировали миллион тонн грузов. В 1852-м — 2 миллиона. А в 1880-м, на пике его популярности, — 4,6 миллиона тонн. Успех канала Эри ознаменовал бум каналов Америки, общая протяженность которых к 1840 году составляла 3326 миль.
Историки давно удивляются, что перевозки по каналу Эри продолжали возрастать в течение 55 лет, несмотря на конкуренцию со стороны железных дорог.{580} Тоннаж транспортируемого через канал груза рос так стремительно благодаря паровозу. До железных дорог канал страдал от тех же недостатков, что и морское сообщение: из-за астрономической стоимости сухопутных перевозок груз зерна, выращенный за 20-30 миль от порта, был так же недосягаем, как и доставляемый с Луны. Примитивные технологии пара и железа середины XIX века не были способны доставить зерно в порты и перевезти его через океан. Потребовались более прогрессивные металлургические технологии, чтобы сделать возможной новую систему доставки грузов по суше.
Основным стопором были механические свойства железа. Кованые железные рельсы были слишком мягкими для тяжелых вагонов и быстро изнашивались. Паровые котлы из железа были недостаточно прочными, чтобы выдерживать высокое давление.
Для рельсов и котлов требовалась твердая, прочная, гибкая сталь, но пока Анри Бессемер не изобрел в 1850-х свой процесс продувки, это было слишком дорого. После улучшения бессемеровского процесса Чарльзом Уильямом Сименсом и Пьером Мартеном цена на сталь упала всего до нескольких фунтов за тонну, то есть примерно в 10 раз.{581}
Переход от чугуна к более прочной и гибкой стали для котлов и поршней открывал путь для более совершенных двигателей и, самое важное, для более высокого давления и эффективности топлива. Однако всякие улучшения обычно создают новые проблемы: деревянные корпуса не выносили нагрузок новых двигателей. Стальные платформы позволяли использовать более крепкие и легкие корпуса, а стальные лопасти и валы лучше переносили высокую скорость вращения, чем железные. Место триумфа пара переместилось на океан.
Победа пара в открытом море далась не легко. В то самое время, когда конструкции новых стальных двигателей и корпусов позволили создавать океанские пароходы, радикальные изменения произошли и в области конструкции парусников и деревянных корпусов, особенно описанных в 11 главе клиперов. Потребность парохода в дозаправке означала, что чем длиннее маршрут, тем менее конкурентоспособным становился пар. В конце XIX века конструкция «квинтэссенции клипера», воплощенная в «Катти Сарк», позволяла развивать скорость более 15 узлов и доминировала на дальних маршрутах.{582}В «ревущих сороковых» хорошо снаряженный клипер мог развить до 20 узлов — с такой скоростью не мог тогда сравниться ни один пароход.{583}
Историки-экономисты подсчитали, как падала грузоподъемность пароходов (тоннаж, не занятый углем, и поэтому свободный для груза) вместе с расстоянием, что показано на схеме 12-1. При грузовместимости ниже примерно 75% (то есть при использовании более четверти пространства для угля) пар не мог соперничать с парусами. В течение XIX века эта граница «пар — парус» постепенно смещалась, поскольку более совершенные двигатели потребляли все меньше топлива. В 1850 году пар проигрывал ветру на дистанции 3000 миль, но к 1890 году граница сдвинулась до 10 000 миль. Эпическая борьба между паром и парусами почти полностью завершилась к концу века. К началу XX века паровые машины стали экономически выгодными даже на самых продолжительных океанских маршрутах.[82]
Рис. 12-1. Точка рентабельности в соревновании пар-парус
Металлические пароходы обладали и другими недостатками. Цена парохода была примерно на 50% больше, чем у деревянного судна того же размера, и требовала в два раза большей команды. Пароходные компании тратили огромные средства на чистку железных днищ, поскольку те быстро обрастали ракушками и водорослями. (Медь эффективней справлялась с этой напастью. Тонкий слой меди несложно было приделать и к корпусу парохода, но взаимодействие металлов приводило к разрушению стального корпуса.) Если докеры или морские чиновники не были уверены, ожидать ли им парусное или паровое судно, то все сомнения развеивались, едва корабль показывался на горизонте. Джозеф Конрад писал:
Парусное судно, каким я знавал его во времена его совершенства, было существом разумным… Никакое железное парусное судно недавнего прошлого не достигало никогда той волшебной быстроты хода, которой славные в свое время моряки добивались от его деревянных, обшитых медью предшественников.[83]
Еще два фактора помогали парусникам выживать. Первым был дешевый американский лес. В середине XIX века Соединенные Штаты ненадолго отняли у Англии лидирующее положение в судостроении (хотя большая часть американских клиперов ходила под британским флагом). Вторым фактором были достижения в области метеорологии. Начиная с путешествий капитана Джеймса Кука в XVIII веке, британские и американские моряки и географы систематически наносили на карты свои маршруты, используя ненадежный приблизительный метод, но могли придерживаться самого удобного маршрута в определенное время года. В XIX веке прогресс в этой области сократил путешествие в 11 000 миль из Англии вокруг мыса Доброй Надежды к Австралии со 125 до 92 дней.
Постепенно растущая эффективность паровых двигателей поборола доблестные арьергардные атаки парусов. К 1855 году пароходы взяли на себя одну треть английской торговли с западным Средиземноморьем и почти всю торговлю с Северной Европой, а к 1865-му пар перевозил грузы и в Александрию. В 1865 году пароход «Халли» прибыл с грузом кофе из Рио-де-Жанейро в Нью-Йорк, разрушив миф о том, что лишь деревянные суда могут сохранить вкус зерен. Стальные пароходы стали преобладать в водах у восточного побережья Северной и Южной Америк.{584}
Открытие Суэцкого канала 17 ноября 1869 года сократило расстояние между Лондоном и Бомбеем с 11 500 до 6200 миль. Дальность самостоятельного плавания парусников перестала быть существенной. Поскольку пар догнал паруса (на схеме 12-1) к 1870 году на отметке в 7000 миль, то это означало, что открытие канала резко лишает эффективности парусный флот между Европой и Азией. Хуже того, парусники не могли идти на север к Красному морю против господствующих встречных ветров, и в обоих направлениях по каналу их приходилось тянуть на буксире. В первые пять лет работы канала едва ли одно из 20 прошедших судов было парусным.
График на рис. 12-2 изображает значительное снижение производства деревянных судов после открытия Суэцкого канала. Через 20 лет после этого оставшиеся деревянные суда сошли с дистанции и были заменены железными. В 1890 году тоннаж пароходов по всему миру окончательно превзошел тоннаж парусников.{585}
Рис. 12-2. Изменение конструкции кораблей в мире по годам
Теоретически, парусники должны были хорошо показать себя в торговле с Китаем. Но поскольку китайский экспорт состоял по большей части в дорогом чае, перевозчики с радостью платили больше за пароходы после открытия Суэцкого канала. Последний легендарный клипер покинул порт Кантон в 1870-х годах.
Поскольку канал сокращал маршрут между Сиднеем и Лондоном всего на 100 миль, для парусников была открыта большая часть австралийских перевозок. Но даже тут дорогостоящий «товар» — пассажиры и предметы роскоши — грузили на пароходы, оставляя парусникам только дешевую руду и соль.{586} В 1914 году открытие Панамского канала, сделавшего ненужным долгий путь вокруг мыса Горн, стало финальным аккордом века парусного флота.
* * *
Пар и сталь выковали торговую революцию не только в океане, но и на реках, каналах и суше. Эти изменения были особенно важны на просторах Нового Света, недостижимых для лодок. Наше повествование возвращается к каналу Эри.
Когда канал был открыт в 1825 году, он значительно сократил стоимость речных перевозок, но еще оставалось препятствие в виде транспортировки по суше. Без надежного сухопутного транспорта система Великих озер была доступна только узкому отрезку побережья длиной в пару десятков миль, у озер Эри, Гурон и Мичиган.
Прочные дешевые стальные рельсы и бойлеры высокого давления везли плоды американских трудов остальному миру. В 1830 году перевезти поездом тонну товаров на 1000 миль стоило 173,82 доллара. В 1910-м цена перевозки того же груза составляла всего 22,43 доллара, что стоило в восемь раз меньше, а сама перевозка происходила в несколько раз быстрее, чем в 1830-м.{587}
Ни один пункт назначения в Англии не находился более чем в 70 милях от берега. Столетиями этот географический факт в сочетании с высокими затратами на наземные перевозки давал Англии неоценимое преимущество перед соседями с континента. С появлением дешевого речного транспорта оно исчезло. Для фермеров всего мира мир стал плоским, после того как из тиглей Бессемера вышла первая сталь.
Когда канал Сент-Мерис соединил озеро Верхнее с системой Великих озер и каналом Эри в 1855 году, открылся доступ не только к сельскохозяйственной продукции Великих равнин, но и к гигантским залежам железного угля в Миннесоте, из которого можно было сделать еще больше стальных рельсов, бойлеров и обшивки для кораблей.
Поскольку законы физики утверждают, что водный транспорт существенно более эффективный, чем наземный, речная перевозка оставалась более дешевой, чем железнодорожная. Со временем, однако, перевозчики повысили скорость и надежность железных дорог. Зерно, отправленное прямо к Восточному побережью, прибывало быстрее, реже портилось летом и не требовало двух дорогостоящих и рискованных перегрузок в системе озер: с поезда на речной пароход, с парохода на баржу. Перевозчики платили высокие страховые взносы за грузы на озерах, тогда как железные дороги мудро брали на себя прямую ответственность за содержимое своих вагонов. Вдобавок, поезда могли ходить почти в любую погоду, кроме самых сильных холодов, тогда как озера замерзали.
В течение XIX века преимущества железной дороги возрастали. Примерно до 1873 года пшеницу отправляли через Чикаго на восток поездом, только если замерзали озера. Но позже уже почти вся пшеница транспортировалась только по рельсам. Переход к более дешевому зерну произошел в 1884 году. Превращение Чикаго в железнодорожный узел не было случайным. Доставка по железной дороге с южного побережья озера Мичиган предпочтительнее восточного пути по озеру, поскольку железная дорога из Чикаго к восточному побережью гораздо короче, чем дуга по озерам Мичиган и Гурон. Хотя тоннаж канала Эри вырос за более чем полвека после открытия и достиг максимума в 1885 году, ценность перевозимых по воде грузов начала падать задолго до этого, еще в 1853-м, потому что железная дорога забрала себе все ценные грузы и оставила на долю озер и каналов перевозку дешевого сырья вроде железной руды.{588}
До открытия канала Эри Нью-Йорк и Пенсильвания считались соответственно первым и вторым штатами по производству пшеницы. После примерно 1870 года Иллинойс и Айова переняли у них пальму первенства. Каналы Сент-Мари открыли Верхнее озеро и обеспечили легкий доступ к северной части Великих равнин, что существенно изменило сельскохозяйственный ландшафт страны. К 1895 году Дакота и Миннесота заправляли хлебной корзиной.{589}
Североамериканские производители пшеницы и зерна получали громадную прибыль благодаря возможности насыпать зерно прямо в вагоны, которые везли его к пароходам, отправлявшимся в Европу, но они были не одиноки. Фермеры Аргентины, Австралии, Новой Зеландии и Украины также приветствовали наступление эры дешевого транспорта.
* * *
5 сентября 1833 года американский клипер «Тоскана» показался в устье индийской реки Хугли, взял на борт речного лоцмана и отправился к Калькутте. Новость о его прибытии быстро распространилась вверх по реке и взбудоражила город, название которого означает «душный зной». «Тоскана» везла новый и бесценный груз — более тонны кристально-чистого льда из Новой Англии.
К тому году лед перевозили на большие расстояния уже почти 30 лет. Торговля этим товаром была детищем эксцентричного бостонца Фредерика Тюдора. В молодости, будучи однажды летом в жарком аду Гаваны, он подумал, что мог бы заработать состояние, снабжая город холодными напитками. Он был прав. Начиная с Карибских островов, он расширил свои торговые операции на всю Европу и Соединенные Штаты, и в частности на Новый Орлеан, где лёд Тюдора прославил местный мятный джулеп.
Доставить замороженный груз из Массачусетса в Индию на паруснике не так сложно, как кажется — чем крупнее глыба льда, тем медленнее он тает. Слой опилок и немного вентиляции — достаточно для сохранения одной трети от 150 тонн льда на протяжении четырех месяцев пути.
Сложной задачей в перевозке льда в тропики был сбор чистого, холодного груза подходящего объема, качества и формы. Эта проблема была решена Натаниэлем Витом, владельцем гостиницы, который по совместительству продавал лед Тюдору. Изобретение Вита, запатентованное в 1829 году, породило одну из самых крупных индустрии XIX века. Его приспособление на лошадиной тяге, снабженное зубьями на прямоугольной раме, выдавало блоки по 20 дюймов, которые легко грузились и занимали мало места.
Начиная с первой карибской доставки, Тюдор стал отправлять в своих охлаждающих хранилищах свежие фрукты — обычно яблоки в Гавану и апельсины на север. Еще севернее по каналу Эри шли первые баржи с замороженной рыбой из Великих озер в Нью-Йорк. Странно, но Тюдор мало что сделал, чтобы воспользоваться своим преимуществом. До самой смерти в 1864 году он занимался почти исключительно льдом и позволил другим развить то, что стало гораздо более крупным предприятием — перевозкой скоропортящихся продуктов.{590}
Вплоть до середины XX века большую часть льда в Америке собирали с прудов и рек Новой Англии и Верхнего Среднего Запада, грузили на корабли, баржи и специально сконструированные вагоны и охлаждали все большее число продуктов, отправляющихся к Восточному побережью, на Карибские острова и в Европу.
Одним из незначительных источников Тюдора был Уолденский пруд. Генри Дэвид Торо, демонстрируя неверное понимание торговых маршрутов Индийского океана, морских температур и физики температурных колебаний, размышлял о блоке тюдоровского льда, болтающемся в гавани Калькутты:
Чистая вода Уолдена смешалась со священными водами Ганга. Подгоняемая попутным ветром, она течет мимо мифических островов Атлантиды и Гесперид, по пути, пройденному Ганноном, мимо Терната и Тидора, мимо входа в Персидский залив, согревается теплыми ветрами Индийского океана и течет дальше к берегам, которые Александр знал только по названиям.{591}
Охлаждаемые транспортные средства начали появляться в 1830-х годах. Фотографии, сделанные в Промонтори, штат Юта, в 1869 году, сразу после открытия трансконтинентального железнодорожного сообщения, запечатлели длинную колонну узнаваемых грузовиков «Юнион Пасифик», везущих несезонный виноград, груши и персики пораженным уроженцам Востока. Ассортимент охлажденных грузов варьировался от цветов до сырого мяса, и эти экзотические продукты удовлетворяли потребности взыскательных клиентов. В середине XIX века из Бостона в Индию, Европу и вокруг мыса Горн к Восточному побережью отгружали больше льда, чем любых других товаров. Время от времени грузы отправлялись даже в Китай или Австралию.{592}
Примерно в то же время упаковщик мяса в Новой Англии, Густавус Свифт, решил перевезти свой бизнес на чикагский железнодорожный узел. Обнаружив, что железнодорожные компании не желают, да и не могут обеспечить вагонами-рефрижераторами, он начал экспериментировать с разными конструкциями вагонов. Он остановился на разработке Эндрю Чей-за, которая включала в себя два легко загружаемых контейнера для льда по обеим сторонам. Эту схему позже улучшил другой торговец мясом, Филип Армор, применив эффективную охлаждающую смесь колотого льда и соли.{593} В 1880 году железные дороги и частные перевозчики владели более чем 1300 рефрижераторными вагонами. К 1900 году это число превышало 87 000, а к 1930-му достигло максимума в 181 000 вагонов.{594}
В 1875 году американский торговец мясом Тимоти Истмен отправил первый замороженный кусок мяса из Нью-Йорка в Англию. Он заполнил примерно четверть объема камеры льдом и охлаждал соседний груз с помощью вентиляторов. Королева Виктория сочла мясо «весьма неплохим», продолжив вековую традицию королевского одобрения новых товаров и принеся тем самым замороженное американское мясо на столы англичан.
Немногие населенные области земли обладают устойчивым зимним периодом. Даже в окрестностях Бостона, где работал Тюдор, мягкие зимы часто приводили к «порче урожая», вызывая панику среди более утонченных южан и заставляя сборщиков льда переезжать в штат Мэн. В XIX веке озабоченность клиентов стала вызывать чистота льда, собранного с помощью лошадиной силы на загаженных прудах и реках. И американцы, и европейцы начали исследовать искусственное охлаждение.
До середины XX века домашнее охлаждение означало ящики со льдом. В начале XX века большинство американских семей имели такой «холодильник» — изолированный кедровый или дубовый ящик для хранения небольшого куска мяса или молочных продуктов, лед в котором следовало менять каждый день.
У механического охлаждения не было своего Александра Белла или Томаса Эдисона. Основные принципы искусственного замораживания были известны с доисторических времен благодаря ледяному ветру или мокрой коже. (Говоря языком современной техники, испарение поглощает тепло и создает охлаждение.) В Древнем Египте богачи заставляли рабов увлажнять стенки глиняных кувшинов, которые охлаждались на ночном ветерке. Индусы записали рецепт приготовления первого искусственного льда с помощью похожего использования ям, заполненных водой.
В 1755 году Уильям Каллен, шотландский физик, сделал простое, но далеко идущее открытие, когда создал вакуум в наполненном водой сосуде. Это заставило воду вскипеть при комнатной температуре (какова бы она ни была в Шотландии). Поскольку кипение — это, по сути, очень быстрое испарение, оно создало существенное охлаждение — тот же феномен происходит, когда вы после купания выходите на сквозняк. Вскоре Каллен смог делать лед при комнатной температуре. Варианты базовой технологии Каллена множились: самым рискованным из них было использование для ускорения испарения концентрированной серной кислоты, которая агрессивно абсорбирует воду.
Рис. 12-3. Схема работы простого холодильника
Физики улучшили метод Каллена, применив эфир, который кипит при гораздо более низкой температуре, чем вода, и поэтому является более эффективным охлаждающим веществом. В конце концов открытие термодинамики привело к пониманию, что определенные газы, а именно аммиак и углекислый газ, могут существовать в твердой или жидкой форме при достаточно низкой температуре или достаточно высоком давлении, что обеспечило еще более эффективное охлаждение.
Схема на рис. 12-3 показывает действие простого, механического холодильника. Компрессор откачивает аммиак из системы слева, создавая низкое давление, и сжимает его в правой части. Когда аммиак вскипает при низком давлении, он охлаждает кожух рассола (у которого низкая температура замерзания), который циркулирует и выполняет свою задачу — замораживает лед или охлаждает отсек корабля. Со стороны высокого давления аммиак конденсируется, производя «лишнее» тепло, которое отводится наружу.
Первые тяжелые, мало эффективные паровые механические холодильники, изготовленные десятками изобретателей по многочисленным патентам, применялись на фабриках по производству льда вдали от источников натурального — на Карибских островах, к югу от линии Мэйсона — Диксона, в городах Западного побережья и особенно на мясоперерабатывающих комбинатах Аргентины и Австралии. Торговля Тюдора с Калькуттой, которая постоянно росла с момента первой поставки в 1833 году, резко прекратилась вскоре после открытия в городе первой фабрики искусственного льда в 1878 году.{595}
Искусственная и натуральная продукция отлично дополняли друг друга. Лед, сделанный на фабриках в Новом Орлеане или Калифорнии, наполнял холодильные камеры вагонов-рефрижераторов, едущих на север или восток. Блоки льда, собранные с рек и прудов в центре и на востоке Новой Англии, охлаждали грузы, отправляющиеся на юг или запад.
Партнер Тимоти Истмана, Генри Белл, подозревал, что новые машины искусственного охлаждения могут стать более экономичными для морских перевозок, чем лед. В 1877 году он обсудил с известным физиком сэром Уильямом Томпсоном (позже лордом Кельвином) возможность транспортировки искусственно охлажденного и замороженного мяса. (Американская фирма «Кельвинатор» впоследствии присвоит себе его имя.) Не обладая временем и склонностью к коммерческим схемам, Томпсон представил Белла своему ассистенту Дж. Дж. Колеману, и они основали компанию «Белл — Колеман меканикл рефриджерейшн компани».{596} Вместе они построили флот искусственно охлаждающих кораблей, один из которых, «Циркассия», перевез первое американское мясо, замороженное новыми установками.[84]
В 1881 году в Австралии насчитывалось 65 миллионов овец, 8 миллионов голов крупного рогатого скота и всего чуть более 2 миллионов человек. Искусственное охлаждение позволило баранине найти дорогу к мясным лавкам Европы. К 1910 году Соединенные Штаты отправляли около 400 тысяч тонн мяса в Англию каждый год, а Аргентина — еще большее количество говядины и баранины. (Американское мясо было охлажденным, тогда как австралийское и аргентинское замороженным до 60 градусов по Фаренгейту, ввиду большего расстояния.) В канун Первой мировой войны почти 40% мяса, потребляемого британцами, было иностранного происхождения.{597} Лондонский корреспондент «Сайентифик Американ» пишет:
Я часто стоял возле большого склада на Темзе и видел баржи, с которых разгружали туши овец… которые складывали как дрова, с которыми обращались как с дровами и набивали ими помещения под огромными арками моста Кэнон-стрит, по 80 000 штук. Тут вы найдете баранину из Новой Зеландии и Южной Америки, которую искусственно заморозили при отправке, держали на холоде в пути, хранили под арками моста и доставили в магазины. Все это мясо развозится Армором, Хаммондом, Истманом и другими грузоотправителями.{598}
Производство охлажденного мяса получило поддержку еще и от Эдварда Л. Бернейса, пионера в области связей с общественностью и племянника Зигмунда Фрейда. К 1920-м годам занятые американцы и британцы сократили время своих завтраков с помощью быстро приготовленных соков, тостов и кофе или чая. Бернейс провел первую кампанию «три из четырех рекомендаций доктора» для нью-йоркской «Бичнат пэкинг ком-пани». Он популяризировал здоровый завтрак (и здоровые артерии) и утвердил бекон с яичницей в качестве традиционного утреннего блюда англоговорящих по обе стороны Атлантики.{599}
* * *
По мере исторического развития рост объемов продаж всегда приносил пользу одним и вредил другим. Падение цен на транспортировку позволило фермерам и крестьянам в Соединенных Штатах, Канаде, Аргентине, Новой Зеландии, Австралии и на Украине завалить Европу грудами зерна и мяса. С другой стороны, американские судостроители, полагавшиеся на дешевую местную латунь и свой опыт управления парусным флотом, проиграли британскому пару и стали. С 1850-го по 1910 год две пятых атлантических грузов перевозились под британским флагом, и только одна пятая — под звездно-полосатым.{600}
Индия тоже оказалась среди проигравших. Производители хлопка и джута разбогатели, но индийский парусный флот был разорен с появлением пароходов и Суэцкого канала. К началу Первой мировой корабли Индии не могли служить даже для собственной прибрежной торговли, а ее судостроение было почти полностью уничтожено.{601}
В то время как оптимистичные наблюдатели, вроде корреспондента «Сайентифик Америкэн», восхищались чудесами всемирной торговли, возрастало ее негативное воздействие. Европейский протест против лавины сельскохозяйственных продуктов из Нового Света задержал примерно на полвека развитие свободной торговли, послужил серьезной причиной двух разрушительных мировых конфликтов и почвой для нынешних битв вокруг глобализации.
ГЛАВА 13. КОЛЛАПС
Мы усвоили, что запретительная защитная пошлина — это пушка, которая стреляет в нас самих.{601}
Корделл ХаллВ наше время считается, что хуже всего быть американцем. По всему миру политические лидеры и журналисты осуждают нашу внешнюю политику, которая им, совершенно справедливо, кажется однобокой, вызывающей, опасной. Возмущенные европейцы бойкотируют наши товары. Как писал один итальянский бизнесмен другому: «Водитель американского автомобиля в нашей провинции, особенно в городе, постоянно делает непристойные жесты и использует выражения, не подобающие цивилизованным людям».{603} Французы, как всегда, досадуют на растущую мощь Соединенных Штатов. Парижский журналист полагает сопротивление заокеанскому монстру долгом каждого европейца, видя в этом «единственный способ бороться с американской гегемонией».{604}
Что же послужило причиной такого жесткого антиамериканизма? Вторжение в Ирак? Война во Вьетнаме? Вездесущие «Макдоналдсы», «Майкрософт» и Дисней? Обсудим период 1930-1933 годов и рассмотрим закон Смута— Хоули.
Это один из самых знаменитых законов, когда-либо принятых конгрессом США, но при этом и один из самых малопонятных. Этот закон существенно поднял пошлины на импортные товары, хотя они и так уже были высоки. Что еще более важно, вопреки общепринятому мнению, он не вызвал Великую депрессию и даже не углубил ее, к тому же он не сильно уводил от торговой политики США, принятой до этого. Скорее, закон Смута-Хоули представлял собой прилив мирового протекционизма, который затопил глобальную сельскохозяйственную торговлю.
Начнем эту историю с короткого обзора теории торговли XX века. Великие мыслители предыдущей эпохи — Генри Мартин, Адам Смит и Давид Рикардо — описывали общую выгоду от свободной торговли. Они осознавали, но обычно игнорировали тот факт, что от этого страдает заметное меньшая, но все-таки заметная часть ни в чем не повинных людей. Преемники мыслителей в XX веке — Бертиль Олин, Эли Хекшер, Пол Самуэльсон и Вольфганг Столпер — наметили рамки, определяющие, кто выигрывает, кто проигрывает и как они действуют.
* * *
К 1860 году Северная Европа, кажется, твердо стояла на пути к свободной торговле, отогреваясь после отмены «хлебных законов», воспевая договор Кобдена-Шевалье и «тарифное разоружение». Но этот приятный и выгодный путь вел недалеко.
Дешевый транспорт означает сближение цен. С конца 1850-х до 1912 года стоимость доставки бушеля зерна из Чикаго в Ливерпуль упала с 35 центов до почти десяти. Более быстрая и надежная доставка означала также меньшие затраты на хранение и страхование, то есть потребители экономили еще больше.
Нетрудно сделать вывод, что за последние шесть десятилетий перед Первой мировой войной цены на пшеницу в Старом Свете и в Новом сблизились, что и видно на рис. 13-1.{605}
Похожее сближение цен в конце XIX века наблюдалось на такие промышленные товары и сырье, как говядина, медь, железо, машинное оборудование и ткани. В 1870 году мясо в Ливерпуле стоило на 93% дороже, чем в Чикаго. К 1913 году разница сократилась до 16%.
Рис. 13-1. Цены на пшеницу в Ливерпуле и в Чикаго, 1850-1913
Резкое повышение эффективности перевозок не только вызвало сближение цен на продукцию сельского хозяйства, но и лишило фермера «друзей» — высоких цен, — которые выручали в трудные времена. В мире, где закупиться зерном в соседней долине обходилось слишком дорого, не говоря уже о закупках за океаном, плохой урожай отлично компенсировался повышением цен. На всемирном сельскохозяйственном рынке, где доставка обходилась дешево, исчезло даже это утешение.{606}Потерю этой удобной диванной подушечки сочли душераздирающим примером рисков глобальной экономики.
Обратная ситуация складывалась с промышленными товарами, которые вначале обходились дешевле в Старом Свете, более богатом рабочей силой и капиталом. В 1870 году чугун в США стоил на 85% дороже, чем в Англии. К 1913 году этот разрыв уменьшился до 19%. За этот промежуток времени разница в цене на медь упала с 32% до нуля, а структура цен на ткани полностью преобразилась — ткани, стоившие в 1870 году в Бостоне на 13,7% дороже, чем в Манчестере, в 1913 году оказались на 2,6% дороже в Манчестере.{607}
Сближаться по всей планете начали не только цены на традиционные зерновые культуры, вместе с ними запрыгали цены и на главный продукт Востока — рис. Пшеницу и рис связал рынок Индии. Повышение цен на пшеницу в Бомбее вызывало повышение цен на рис, потому что индийцы ели и то и другое. Пзднейшее появление дальних подводных и надземных телеграфных линий в 60-70-е годы XIX века привело к тому, что изменение цен в Калькутте тут же отражалось на рынках Лондона, Сиднея и Гонконга.{608}
В начале XX века два шведских экономиста — Эли Хекшер и Бертиль Олин — задумались над этими данными и пришли к заключению, что произошли изменения еще более глубокие. «Классическая экономика» Адама Смита, Давида Рикардо и Джона Стюарта Милля выделяла три основных продукта: труд, землю и капитал, за которые платили, соответственно, заработную плату, земельную ренту и процент.[85] Открытие Хекшера и Олина состояло в том, что снижение стоимости перевозки привело не только к глобальному сближению цен на товары, но и к сближению стоимости трех основных факторов: заработной платы, земельной ренты и процента.{609}
Недавние исследования подтвердили их гипотезу. В начале XIX века Старый Свет был намного богаче Нового рабочей силой и капиталом. Следовательно, заработная плата и проценты были низкими в Старом Свете и высокими в Новом. И наоборот, земли в Новом Свете было больше, так что рента была низкой. Специалисты по истории экономики Кевин О'Рурк и Джеффри Вильямсон заметили, что в 1870 году в Новом Свете средняя заработная плата (которая определялась как действительная покупательская способность) была на 136% выше, чем в Старом Свете. К 1913 году этот разрыв сократился до 87%. Гораздо более поразительно, что за этот период земельная рента в Америке выросла на 248,9%, а в Британии упала на 43,3%!{610}
Причины сближения цен вполне ясны. Дешевый транспорт наводнил Европу зерном и мясом, сбив цены в Старом Свете и подняв их в Новом, где они до этого были совсем ничтожными. Это, в свою очередь, понизило в цене фермерские хозяйства в Старом Свете и повысило в Новом.
Сближение рынков капитала понять еще проще. С появлением телеграфа исчезла неопределенность, связанная с процентами на удаленных рынках, появилась возможность передавать капитал и кредиты «по проводам».
Причины уравнивания заработной платы более противоречивы. Наиболее очевидное и вероятное объяснение состоит в миграции, которую вызвала возможность заработать в Новом Свете. Европейцы ехали через океан не за свободой и не потому, что там улицы вымощены золотом, — просто за более высокой почасовой оплатой. В конце XIX века ирландский столяр мог гораздо лучше заработать в Нью-Йорке, а итальянский крестьянин мог процветать в бескрайних аргентинских пампасах так, как никогда не удалось бы ему на клочке родимой земли. Но как только через океан направилось слишком много народу, эта разница постепенно исчезла, сократив миграцию еще до того, как за это взялись при помощи законов. В 1900 году в Аргентине заработки были почти втрое выше, чем в Италии. К 1950 году они уравнялись, а к 1985 году средний итальянец зарабатывал в четыре раза больше, чем его родственники-эмигранты в Аргентине.{611}
Если разложить итоги транспортной революции XIX века по пунктам, то рабочие Старого Света и землевладельцы (в основном фермеры) Нового выиграли, а рабочие Нового Света и землевладельцы Старого проиграли. Интересно, что многие американские рабочие в период 1870-1913 годов стали жить лучше, но эти улучшения незаметны по сравнению с качеством жизни их британских коллег. То же самое нельзя сказать про английских землевладельцев, потому что земельная рента снизилась катастрофически.
В 1941 году, на волне последствий закона Смута—Хоули, посреди мировой войны, которой он способствовал, преподаватель Гарвардского университета и австриец по происхождению Вольфганг Столпер вместе с молодым коллегой Полом Самуэльсоном задался вопросами теории торговли. Он хотел знать, почему классическая экономика учит, что все государства получают от торговли прибыль, а в работах Хекшера и Олина утверждается, что с увеличением торговли заработная плата в некоторых странах должна упасть, к несчастью для рабочих.
Самуэльсон предположил, что Столпер на пути к большому открытию, и оба они взялись за работу над тем, что позже будет названо теоремой Столпера—Самуэльсона, моделью, позволившей заглянуть в политику глобальной экономики — кому повезет, кому нет, и, что самое главное, как последствия политических процессов влияют на судьбы наций.
Язык экономиста — математика, и для создания рабочей модели Столпер и Самуэльсон взяли только два продукта и два фактора, один из которых используется данным государством мало, по сравнению с другими государствами, а другой сравнительно интенсивно. Эта модель предсказывает, что протекционизм по отношению к владельцам ресурса, который используется сравнительно мало, вредит владельцам второго ресурса.{612},[86] При свободной торговле происходит обратное. (Рассматриваются факторы, типичные для классической экономики: земля, труд и капитал.)
Посмотрим, как эта модель действует. Если в государство А бедно трудом, а в государстве Б его в избытке, то заработная плата будет ниже в Б, следовательно, продукт, произведенный в Б, будет дешевле. При свободной торговле продавцы и потребители предпочтут менее дорогие товары, произведенные в Б. Рабочие Б выигрывают, а рабочие А проигрывают. Для двух других факторов это тоже верно. Свободная торговля идет на пользу фермерам в странах, богатых землей, и капиталистам в странах, богатых капиталом. Она вредит капиталистам в странах, бедных капиталом.[87]
В терминах Столпера и Самуэльсона, «свободный рынок» и «протекционизм» касаются не только пошлин и запретительных мер, но и стоимости перевозки. Снижение стоимости доставки играет ту же роль, что и снижение тарифов. Иными словами, снижение стоимости перевозки одного бушеля зерна на 50 центов и снижение таможенной пошлины на 50 центов за бушель зерна увеличит торговлю зерном примерно в равной степени.
Что же это означает на практике? До 1870 года Англия, по сравнению с другими государствами, была богата капиталом и трудом, но бедна землей. За определенный период резко выросли тарифы по всему миру, особенно в США после Гражданской войны, но торговля росла, по мере того как снижалась стоимость перевозок, когда рост тарифов не успевал компенсировать это снижение. Табл. 13-1 показывает «решетку Столпера—Самуэльсона» для нескольких стран в разные периоды времени.
Таблица 13-1.
Категории Столпера—Самуэльсона
Сильные факторы (за свободную торговлю) — Слабые факторы (за протекционизм)
США до 1900 г. …… земля — труд, капитал
США после 1900 г. …… земля, капитал — труд
Англия с 1750 г. по наст, время …… труд, капитал — земля
Германия до 1870 г. …… труд, земля — капитал
Германия 1870-1960 гг. …… труд — капитал, земля
Германия после 1960 г. …… труд, капитал — земля
Теорема Столпера—Самуэльсона позволяет предсказать, что главная выгода от выросшей торговли в каждом государстве достается обладателям фактора, который используется интенсивно — капиталистам и рабочим в Англии и землевладельцам (фермерам) в США. В точности так все и произошло, и не случайно, все три группы стояли за свободную торговлю. Точно так же неудивительно, что обладатели фактора, который использовался меньше — английские землевладельцы, американские рабочие и капиталисты — поддерживали протекционизм.
А как же континентальная Европа? В целом, эти государства имели недостаток в капитале и земле, зато избыток рабочей силы. Теорема Столпера—Самуэльсона предсказывает, что падение транспортных расходов после 1870 года должно вызвать волну протекционизма для континентальных капиталистов и фермеров. И снова теория попадает в точку. Европейские фермеры отреагировали бурно и положили конец эпохе свободной торговли, которая началась с договора Кобдена—Шевалье и отмены «хлебных законов».
Впрочем, французов этот закон никогда не радовал. Демократические силы и фермеры рассматривали его как монархический государственный переворот деспотичного Наполеона III. Когда унизительно проигранная франко-прусская война (1870-1871 гг.) положила конец Второй империи Наполеона III, французская поддержка свободной торговли сошла на нет.
Когда родилось новое французское государство — Третья республика, — почти сразу же из Нового Света хлынул поток пшеницы. С незапамятных времен французских фермеров, особенно тех, кто жил в глубине страны, защищали расстояния и географические особенности. Железные дороги и пароходы разрушили эти удобные барьеры, и к 1881 году импорт зерна превысил отметку в миллион тонн. Дешевое импортное зерно разоряло все больше французских земледельцев. Они жаловались, что на смену старой изоляции, вызванной плохими телегами и разбитыми дорогами, пришла новая напасть. Слишком много было во Франции земледельцев, чтобы правительство могло не обращать на них внимания. Даже в конце XIX века около половины рабочей силы страны все еще трудилось на полях. Протекционистские меры были поддержаны и французскими финансистами в погонах, владельцами другого незначительного фактора — капитала. Местные финансисты, все в долгах после провальной франко-прусской войны, также видели спасение в повышении ввозных пошлин. Это сочетание интересов французских капиталистов и фермеров оказалось решающим. В Англии, наоборот, только одна шестая рабочей силы была занята в сельском хозяйстве. А английские финансисты, источником капитала которых была промышленность и торговля, противились протекционизму.{613}
И снова разный доход Англии и Франции согласуются с теоремой Столпера—Самуэльсона. В Британии обладатели сильных факторов труда и капитала (т. е. рабочие и капиталисты) предпочитали свободную торговлю. Они объединились, чтобы одолеть приверженцев протекционизма, представителей слабого фактора, землевладельцев. Во Франции представители слабого фактора (капиталисты и землевладельцы) объединились, чтобы одолеть рабочих, сторонников свободной торговли.
Во второй половине XIX века в каждом крупном государстве имелись свои поборники идей Фридриха Листа, его национальной экономики, как стали называть эту ветвь протекционизма: Генри Кэри в США, Джозеф Чемберлен в Англии и Поль-Луи Ковэ во Франции, декан юридического факультета Сорбонны. В 1884 году Франция отменила закон, который около столетия до этого приняло революционное правительство. Закон запрещал земледельцам и другим работникам создавать объединения по экономическим интересам. Почти сразу после отмены этого закона возникли сельскохозяйственные синдикаты и потребовали ввести тарифный барьер. Поднялась законодательная суматоха, постепенно повысились пошлины на импортные зерно и мясо домашних животных. Всеобщие выборы 1889 года привели в Национальное собрание много депутатов-протекционистов, особенно из сельскохозяйственных провинций — Нормандии и Бретани.
Последовал ряд парламентских дебатов и манипуляций, высшей точкой накала которых стала словесная дуэль между либеральным экономистом и министром финансов Леоном Сэем и протекционистом Феликсом Жюлем Мелином, последователем Ковэ и будущим премьер-министром Франции. Яростно выступая против дальнейшего повышения пошлин, Сэй утверждал, что идет борьба не между протекционизмом и свободной торговлей, но великая битва между личностью и государством.{614} Красноречия Сэя не хватило, чтобы убедить Собрание, которое в начале 1892 года ввело «тариф Мелина». Тариф увеличил пошлины почти вдвое и держался, даже возрастая, до самой Второй мировой войны.
Ввозные пошлины не смогли остановить распад сельского хозяйства во Франции и только послужили лишним бременем для ее граждан, покупавших продукты по более высоким ценам. Хотя многие недооценивали страхи соотечественников перед глобальной экономикой, некоторые видели ее неотвратимость.
Экономист Анри Трюши в комментарии, описывающем (вполне узнаваемый и сегодня) французский национальный характер, как он представлялся в 1904 году, отмечает:
Мы считаем, что для нас лучше безбедно довольствоваться собственным рынком, чем рисковать и рваться на рынок мировой. И мы строим прочную стену из пошлин. В пределах этого ограниченного, но безопасного рынка Франция живет спокойно, достаточно комфортно и оставляет другим великие амбиции. Мы лишь зрители в борьбе за экономическое превосходство.{615}
Однако мало кто из англичан проливал слезы над тем, что земельная аристократия пострадает ради дешевого зерна и мяса из Нового Света. Как писал специалист по истории экономики Чарльз Киндлбергер:
Ничего не сделано, чтобы остановить падение цен на продукты, ни чтобы помочь сообществу земледельцев… Рента упала, молодые люди уезжают из села в город, площадь возделанных земель быстро сокращается. Ответом на снижение мировых цен на пшеницу стала окончательная ликвидация сельского хозяйства — одной из самых мощных экономических прослоек Британии.{616}
После 1890 года некоторые отрасли британской промышленности — особенно сталелитейная, сахаропроизводящая и ювелирная — на себе прочувствовали, каково пришлось землевладельцам, и начали конкуренцию с Америкой с криками о «честной торговле». Англия подхватила инфлюэнцу протекционизма, которую распространял Джозеф Чемберлен, известный политик (первое лицо в либеральной партии, а затем и в либерал-юнионистской партии), президент Торговой палаты, отец будущего премьер-министра Невилла Чемберлена. Его протекционизм был особого покроя, отличного от принятого на континенте. Он подразумевал высокий тарифный барьер вокруг целой империи и нескольких республик. Внутри этой территории должна царить свободная торговля — так называемая имперская преференция. Но Англия не была готова проститься со свободной торговлей. Предложения Чемберлена стали главным событием всеобщих выборов 1906 года, в которых он и его сторонники проиграли.{617}
Пока континентальная Европа отгораживалась от импорта и даже англичане беспокоились за свою свободную торговлю, одно из государств выбрало другой путь, и рассчитывало оно, прежде всего, на свиней и коров. Лучшее мясо получается из молодых животных, а ранний забой требует интенсивного кормления, чтобы животное успело набрать вес. После 1870 года звезды высокого спроса, недорогой транспортировки на кораблях с холодильниками и дешевых кукурузных кормов сложились в почти идеальный гороскоп для производителей говядины, свинины, сыра, молока и масла. Веками страны Северной Европы держали первенство в высококлассном животноводстве, но интересно, что только Дания открыла свой рынок и воспользовалась моментом.
Великая индустрия обычно рождается из обычных фирм в стесненных условиях. В 1882 году группа владельцев молочных ферм из деревни Йедин, на западе Ютландии (Дания представляет собой большой полуостров), организовала кооператив, чтобы закупить чуть ли не самые дорогие молочные сепараторы и сообща продавать сливки и масло. Они выбрали трех директоров и после долгой ночи переговоров пришли к соглашению, ставшему краеугольным камнем, заложенным в основу датского благополучия в начале XX века.
Этот контракт может служить образцом простоты. Каждое утро молоко собирает кооперативная цистерна и отвозит на завод, где его перерабатывают квалифицированные работники. Обезжиренное молоко возвращается на ферму, масло продают на открытом рынке, а кооперативную прибыль делят между участниками, соответственно количеству и качеству сданного молока. Участники согласны сдавать в кооператив свежий надой, который не используется в хозяйстве сразу же, и собирать его в соответствии со строгими стандартами гигиены. Эта схема оказалась очень действенной, и менее чем за десятилетие фермеры Дании организовали более пятисот таких кооперативов.
Но все это было лишь прелюдией к главному — бекону! В 1887 году группа свиноводов с востока Ютландии, недовольная тем, как их обслуживает железная дорога, объединилась по примеру фермеров из Йедина и построила современнейший завод по упаковке мяса. На этот раз приложило руку и правительство. Качество свинины варьируется сильнее, чем качество молока, поэтому министерство сельского хозяйства Дании построило опытные станции, чтобы поставлять фермерам лучших породистых свиней. В 1871 году в Дании насчитывалось 442 000 свиней. К 1914 году их число достигло 2,5 миллионов. За это время экспорт свинины вырос с 11 миллионов фунтов до 300 миллионов. К началу 1930-х годов в кооперативах было занято более половины взрослого населения Дании, и государство экспортировало 731 миллион фунтов свинины — около половины мирового рынка.
Правительство подбодрило фермеров и навело их на мысль, что их кооперативы могут служить гарантом качества датской продукции за рубежом. Бренд «Лур», который включен в современное название «Лурпак», встречается сегодня в супермаркетах по всему миру.{618}
Производство и сливок, и свинины требовало довольно много заимствованного капитала для приобретения заводов, оборудования, транспортных средств и рабочей силы. Датский опыт по сей день остается ценным, хотя уже почти забытым уроком того, как правительство должно реагировать на глобальную конкуренцию — поддерживать и финансировать, но без протекционизма.
Гораздо худшее действие недорогие сельскохозяйственные продукты из Нового Света и промышленные изделия из Британии оказали на Германию. Веками в немецкой экономике и политической жизни доминировали юнкеры, прусский вариант английской земельной аристократии.[88] Эти свободные помещики доминировали на «Диком Востоке» Германии — на границе с Польшей и Россией, и веками все больше пахотных земель попадало в их руки. Ничто их не останавливало, даже отмена крепостного права в Пруссии в 1807 году позволяла юнкерам использовать связи и приобретать большую часть крестьянской земли. (Ничто их и не остановило, пока в 1945 году советская власть не конфисковала их имения.)
До 1880 года земля — фактор, который юнкеры интенсивно использовали — была в достатке, по сравнению с соседями Германии в то время. Германия экспортировала пшеницу и рожь и была одним из главных поставщиков этих двух важнейших для Европы культур. Естественно, что в те дни юнкеры стояли за свободную торговлю. Специалист по экономической истории Александр Гершенкрон писал, что они
в своей философской системе не всегда, но очень к месту находили место для Адама Смита, и ничего, кроме ненависти и насмешек не вызывали у них протекционистские доктрины земляка Фридриха Листа.{619}
После 1880 года немецкие землевладельцы выглядели детьми, по сравнению с такими сельскохозяйственными китами, как Соединенные Штаты, Канада, Аргентина, Австралия, Новая Зеландия и Россия. Неожиданно юнкеры превратились из богатых землей фритредеров в бедных протекционистов. Как и во Франции, резко поднялись ввозные пошлины, особенно на зерно, к примеру, в 1902 году появился знаменитый «тариф Бюлова».
Этот протекционизм был выгоден только аристократии, которая занималась зерновыми, для всех остальных он был полной катастрофой. Между делом, юнкеры обманули северонемецких крестьян, заявив, что поддерживают этот тариф на импортный скот и мясо, чтобы защитить их свиней и коров. При таких соседях, как умелые хозяева-датчане, эти бедные фермеры обнаружили, что лишились дешевого кормового зерна, которое было им необходимо. Еще раз протекционизм — «тихий убийца» — нанес удар, повысив цены на сырье, необходимое для ведения хозяйства.
Худшее было впереди. Взгляните еще раз на табл. 13-1. Обратите внимание, что в каждом государстве, в каждый промежуток времени обладатели фактора очень успешно противостоят друг другу, когда находятся в сочетании двое против одного.[89] В Англии и в Америке до 1900 года труд и капитал оказывались по одну сторону. В первой политику определяли фритредеры, во второй протекционисты. В Германии капитал и земля (так называемая «коалиция железа и ржи», потому что литейная промышленность была важным потребителем слабого капитала) оказались в оппозиции городским рабочим, что повлекло к распространению марксизма.
Немецкие городские рабочие предпочитали свободную торговлю не только потому, что представляли сильный фактор, но потому, что это соответствовало марксистскому мировоззрению. Свободная торговля — существенный ингредиент в рецепте революции, потому что она поддерживала промышленное развитие и полноценный капитализм, который неизбежно рушился, открывая дорогу коммунизму.{620} Конечно, Маркс осуждал тарифы:
Но вообще говоря, покровительственная система в наши дни является консервативной, между тем как система свободной торговли действует разрушительно. Она вызывает распад прежних национальностей и доводит до крайности антагонизм между пролетариатом и буржуазией. Одним словом, система свободной торговли ускоряет социальную революцию. И вот, господа, только в этом революционном смысле и подаю я свой голос за свободу торговли.[90]
Определяя, кто поддерживает свободный рынок, а кто нет, теорема Столпера—Самуэльсона помогает объяснить политические альянсы. В XX веке мир увидит, что германская коалиция землевладельцев — ксенофобов и протекционистов — и капиталистов, направленная против рабочих — социалистов и фритредеров — стала предпосылкой к фашизму. В Англии XIX века, напротив, капиталисты и рабочие объединились за свободную торговлю против старой земельной олигархии, и этот союз получил демократическое развитие. (Американские капиталисты и рабочие сделали то же самое, но ради другой цели — протекционизма.) Очевидно, эта интерпретация теоремы Столпера—Самуэльсона, разработанная Рональдом Роговски, политологом из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, есть простая модель, которая не учитывает ни расы, ни культуры, ни истории. Сам Роговски неоднократно предупреждал, что его модель — только часть картины. Но возможность взглянуть на мировые политические процессы с ее помощью замечательна.[91]
Быстрое возведение тарифных барьеров в 1880-1914 годах должно было разрушить мировую торговлю. На самом деле ничего подобного не случилось. За это время объем мировой торговли утроился, и двигали ею две силы. Во-первых, мощность паровых двигателей успевала расти быстрее, чем таможенные пошлины. Во-вторых, планета стала гораздо богаче. Мировой ВВП вырос почти вчетверо за эти 34 года. При всех равных условиях, богатое общество торгует больше, потому что у него есть больше товаров на обмен. Это означает, вообще говоря, что объем торговли растет быстрее, чем благосостояние. С 1720 по 1998 год мировой ВВП рос в среднем на 1,5% в год, а объем торговли — на 2,7%.{621}
Даже после Гражданской войны американская тарифная политика вошла в монотонный цикл протекционизма при республиканцах и умеренности при демократах. На выборах 1888 года республиканец Бенджамин Гаррисон едва не проиграл демократу Гроверу Кливленду (который набрал большинство голосов избирателей). Республиканская делегация конгресса под предводительством сенатора Уильяма Маккинли провела тариф, названный его именем, что через восемь лет привело его на кресло президента. С избранием в 1912 году Вудро Вильсона тариф Маккинли был заменен тарифом Андервуда, который постепенно довел пошлину на импорт до исторически низкого уровня в 16% (1920 год).
Тариф Андервуда был недолговечной победой американских фритредеров. Вскоре после нее президентское кресло и Конгресс вновь стали республиканскими. В 1922 году был назначен протекционистский тариф Фордни—Маккамбера, закон подписал президент Гардинг. Вскоре пошлины снова поднялись до 40%.
Республиканские тарифы были не только абсурдно высокими, но еще и «автономными». Так было заявлено в Конгрессе, и президент имел власть наказывать торговых партнеров повышением пошлин, но не обладал правом их снижать. Тарифы демократов, такие как тариф Андервуда, вообще оставляли возможность понижения и переговоров с партнерами, хотя эти возможности использовали редко, боясь нападок со стороны республиканцев.{622}
С 1830 по 1910 год стоимость доставки товара по морям, каналам или рекам и земле упала соответственно на 65, 80 и 87%. К Первой мировой войне большая часть соков из апельсина эффективности транспортировки была выжата. Конечно, главные удобства транспортировки — двигатель внутреннего сгорания, самолет и контейнеровоз — пришли в XX веке. Но на заре Великой войны даже такие насыпные грузы, как руда, гуано и лес запросто перевозили мимо мыса Горн — даже под парусами. Скорость улучшения перевозок падала и уже не могла компенсировать роста тарифов. Мировая экономика двинулась в сторону глубокого упадка. К несчастью, мировая экономическая депрессия и рост тарифов совпали, что и привело к катастрофе, приписанной Герберту Гуверу.
Преуспевающий горный инженер, сменивший эту работу на служение обществу, Гувер сделал многое, чтобы помочь охваченной войной Европе. Когда его спросили, насколько разумно кормить русских, часть из которых большевики, спасая их от последствий революции, он, как говорят, ответил: «Двадцать миллионов человек голодает. Какой бы они не придерживались политики, их нужно накормить!»{623}
Гувер всегда был протекционистом и остался им, когда служил секретарем по вопросам торговли при Гардинге и Кулидже. Хорошо знакомый с трудами по горному делу, он не читал или не понимал трудов Рикардо и считал, что всякое государство должно импортировать только те товары, которые не может производить само. В 1928 году он публично обратился к фермерам, всегда бывшим традиционным электоратом демократов, которые пострадали от снижения цен на продукты:
Мы понимаем, что существуют определенные виды промышленности, которые не могут конкурировать с зарубежными аналогами из-за низкой оплаты труда и низкой стоимости жизни за рубежом. Мы ручаемся, что следующий конгресс республиканской партии проверит, а где необходимо и пересмотрит этот список так, чтобы в этих областях на нашем рынке снова правил американский труд, чтобы он устанавливал наш уровень жизни, чтобы обеспечивал постоянную занятость в этих отраслях.{624}
Точнее было бы назвать подписанный закон «тарифом Гувера», но бесчестье назвать его своим именем выпала двум республиканцам: сенатору Риду Смуту из Юты и представителю Уиллису Хоули из Орегона. Подняв ввозную пошлину на импортные товары почти до 60%, тариф Смута—Хоули не произвел эффекта грома с ясного неба. Вернее сказать, запустил уже и так поднятые законом Фордни—Маккамбера тарифы прямиком в стратосферу.
Еще до принятия тарифа Смута—Хоули на него с ужасом отреагировали две группы — европейцы и экономисты. К тому времени как закон попал в Сенат, министры иностранных дел всего мира уже присылали в Государственный департамент протесты, а бойкоты были уже в пути. Почти все американские экономисты всех рангов — всего 1028 человек — подписали петицию к Гуверу, призывая наложить на закон вето.{625}
Безрезультатно. 17 июня 1930 года он подписал закон, запустив механизм воздаяния и торговой войны. Охватывая десятки тысяч товаров, закон, казалось, ущемил всех торговых партнеров до единого. Он наставил еще и множество «нетарифных барьеров». Например, бутылочные пробки, которые составляли около половины испанского экспорта в США. Новый закон не просто поднял пошлины на пробки до неприемлемого уровня, но и потребовал, чтобы на каждой пробке ставилось клеймо страны производителя, а эта операция обходилась дороже, чем сама пробка.
Закон установил высокие пошлины на импортные часы, особенно недорогие, которые конкурировали с американскими «часами за доллар». Это задело каждого десятого швейцарского работника часовой индустрии или смежной с ней, так что миролюбивая и приятная страна разразилась праведным гневом. Эти часы и пробки отлично иллюстрируют бессилие маленьких государств. Если часы для США составляли 10% швейцарского экспорта, то торговля в обратном направлении составляла только 1% американского экспорта. Чувство беспомощности рождало в швейцарцах и испанцах гнев.
Крупные страны континента — Италия, Франция и Германия — оказались в лучшем положении. Они смогли ответить, что и сделали, ударив по гордости американской промышленности — автомобилям и радио, — подняв ввозные пошлины далеко за 50%. Это сыграло не последнюю роль в том, что Бенито Муссолини решил действовать по-своему. Страстный любитель автомобилей, пренебрегавший посредственного качества машинами крупнейшего итальянского производителя, концерна «Фиат», дуче долгие годы сопротивлялся протекционистским требованиям ее президента Джованни Аньелли. После введения тарифа Смута—Хоули терпение Муссолини лопнуло, и он ответил стопроцентной ввозной пошлиной на автомобили, почти полностью отрезав импорт американских машин.{626} (Некоторые вещи не меняются. Аньелли по-прежнему контролируют «Фиат», производящий безобразные машины, и в XXI веке требуют протекционистских мер.) В 1932 году отреагировала даже фритредерская Англия, введя десятипроцентную пошлину на большинство импортных товаров и созвав конференцию в Оттаве, которая утвердила вокруг империи протекционистский барьер.
Так и пошло по всему миру. В 1930 году, через три года после принятия тарифа Смута—Хоули, французские кружева, испанские фрукты, канадский лес, аргентинская говядина, швейцарские часы и американские автомобили постепенно исчезли из гаваней мира. К 1933 году, казалось, экономику всего мира охватило то, что экономисты называют автаркией — состояние, в котором государство обходится собственными товарами, какими бы неподходящими для производства они ни были.
Америка привела мир на грань международного торгового коллапса, и американцу этот процесс пришлось поворачивать вспять. Корделл Халл родился в деревянном домишке, среди табачных полей восточной части Теннеси. Он на своем опыте прочувствовал экономику Рикардо и, что еще важнее, моральные ценности торговли. Его понимание этого вопроса лучше всего выражается в этом отрывке из его воспоминаний:
Когда я был мальчишкой и жил в Теннеси, у нас было два соседа — назову их Дженкинс и Джонс, — которые враждовали между собой. Много лет между ними сохранялась враждебность, не знаю из-за чего. Когда они встречались на дороге, в городе или в церкви, то лишь молча обменивались холодными взглядами.
Как-то по весне один из мулов Дженкинса захромал, как раз в самую пахоту. В это время Джонсу очень понадобилась кукуруза на корм свиньям. И так случилось, что Джонс уже закончил пахать, мул его был свободен, а у Дженкинса были полные закрома кукурузы. Общий приятель свел этих людей вместе, и Джонс позволил Дженкинсу воспользоваться его мулом в обмен на корм для свиней.
В результате, скоро два старых врага стали лучшими друзьями. Принципы общей торговли и простые соседские отношения позволили им выручить друг друга из нужды и помирили.{627}
Пробыв конгрессменом от демократов почти четверть века, Халл сыграл важную роль в борьбе против закона Фордни— Маккамбера и тарифа Смута—Хоули, а в 1930 году он выиграл место в Сенате и оставил его через два года, только потому что Рузвельт взял его на должность государственного секретаря. Прибыв в Фогги-Боттом,[92] он сразу же получил от иностранных государств целых 34 официальных протеста против американской тарифной политики.
* * *
Как Кобден столетием раньше, Халл выступил с обращением в своей стране, а затем и за границей. Торговля почти замерла, и мир стоял на пороге депрессии, когда он обратился ко всем, кто слушал его в этих плачевных обстоятельствах: «Всем должно быть очевидно, что высокие тарифы не являются необходимым и неизбежным средством достижения благополучия, как их пытались представить».{628} «Нельзя ожидать, что другие страны, — продолжал он затем, — будут покупать наши товары, если они не могут заработать денег, продавая нам свои».
Его самым несговорчивым слушателем стал новый президент, чей страх перед республиканцами заставил его почти сразу же отступиться от предвыборных обещаний о свободной торговле. Постепенно Халл убедил его, объясняя, что закон Фордни—Маккамбера и тариф Смута—Хоули выхолащивают его попытки завязать международные торговые отношения. Хитрый Халл предложил Рузвельту хотя бы «доработать» закон Фордни—Маккамбера, чтобы президент мог уменьшать или увеличивать пошлины наполовину и чтобы он мог предложить другим государствам ограниченные уступки, такие как список беспошлинных товаров. В результате появился Закон о взаимных торговых соглашениях 1934 года, остановивший почти полувековой путь мира к протекционизму и автаркии. Он действовал три года, потом Конгресс его регулярно возобновлял.
Халл начал скромно и первым делом договорился с Кубой, затем оттащил Канаду от Оттавского соглашения. Затем он договорился почти со всем остальным полушарием, потом с крупными европейскими странами, Австралией и Новой Зеландией. Наконец последовал очень символичный договор с Англией, словно дав Европе зеленый свет, второй раз на памяти этого поколения. Халл дольше всех в истории Америки прослужил государственным секретарем, почти 12 лет. Только в 1944 году он оставил этот пост по состоянию здоровья.
Нашлись, конечно, и те, кто выиграл на катастрофе 1930— 1933 годов: «Фиат», виноградари Калифорнии, часовщики Уолтэма (Массачусетс) и производители радиотехники Германии. Но в целом ущерб был. Насколько большой? Исходя из экономических перспектив, удивительно небольшой. В этом случае, если экономический рост является мощным двигателем торговли, то еще большой вопрос, работает ли этот эффект в обратную сторону — делает ли протекционизм мир беднее (или делает ли свободная торговля мир богаче)? В период с 1929 по 1932 год мировой ВВП упал на 17%, а в США на 26%, но сейчас специалисты по экономической истории считают, что тарифные войны внесли небольшой вклад в это падение, как в США, так и в мире.
Грубые подсчеты это подтверждают. Когда действовал тариф Смута—Хоули, объем торговли составлял только 9% мировой продукции. Если не считать международную торговлю и не считать товары, которые до этого шли на экспорт, мировой ВВП сократится на те же 9%. С 1930 по 1933 год объем мировой торговли сократился на треть или даже наполовину. В зависимости от того, как считать, это составило от 3 до 5% мирового ВВП, причем эти потери отчасти возмещались дорогими товарами отечественного производства.[93] Таким образом, ущерб, вероятно, не превысил 1-2% мирового ВВП, а не 17%, как во время Великой депрессии.
Что еще более удивительно, самые зависимые от торговли страны пострадали не больше всех. Например, Голландия, где торговля давала 17% ВВП, потеряла за эти годы только 8% своей экономики. И наоборот, США, торговля которых составляла только 4% ВВП, во время Великой депрессии потеряли 26% своей экономики.{629} Отсюда неизбежно следует, что вопреки общему мнению тариф Смута—Хоули не явился причиной, а скорее значительно усугубил Великую депрессию.{630},[94]
Если в 30-х годах торговая война не слишком повредила мировой экономике, то международную коммерцию она, несомненно, подорвала. Как уже говорилось, за годы действия тарифа Смута—Хоули мировая торговля сократилась значительно. В период с 1914 по 1944 год ее объем оставался без изменений, причем за эти три десятилетия, из-за двух глобальных военных конфликтов, мировой ВВП вырос приблизительно вдвое.
Недавно специалисты по экономической истории подсчитали, что тарифные войны 30-х годов послужили причиной меньшей части экономического упадка. Большая его часть приходится на долю самой Великой депрессии, снизившей спрос на товары. Интересно, что сочетание «специальных тарифов» и дефляции приводило к тому, что ненамеренно наносимый ущерб оказывался, по меньшей мере, таким же, каким было преднамеренное повышение пошлин. Специальные тарифы начислялись на фунт веса или на единицу товара. Если цена фунта товара падала, а пошлина за фунт товара нет, то выходило, что адвалорная пошлина повышается. Скажем, специальная пошлина в 20 центов за фунт мяса составляла при цене в 40 центов пошлину в 50%. Если цена мяса падала до 20 центов, значит, эффективная адвалорная пошлина становилась равна 100%.{631}
Настоящий долгосрочный ущерб от тарифных войн понесла не мировая экономика — там он был минимальным, — и даже не мировая коммерция — там он скоро компенсировался. Этот ущерб пришелся на неосязаемую часть торговли — на расширение круга потребляемых товаров с отечественных на иностранные, на проживание среди иностранцев, торговлю с ними, понимание их интересов и образа действий. Фермеры Дженкинс и Джонс в притче Халла в конце концов пришли к пониманию, что живые они полезнее друг другу, чем мертвые. Когда назревала Вторая мировая война, разные государства не смогли этого понять, пока не стало слишком поздно. Политические и моральные преимущества торговли примерно за сотню лет до этих событий красноречиво описаны Джоном Стюартом Миллем:
Экономические преимущества торговли превосходят по своей значимости интеллектуальные и моральные. При нынешнем, низком развитии человечества трудно переоценить значение того, что люди входят в контакт с другими, непохожими на них, со способами мышления и действия, отличными от тех, к которым они привыкли… Торговля первая научила государства по-доброму смотреть на богатство и процветание соседей. Раньше патриот (если только он не достиг такой высокой степени сознания, чтобы считать своим домом весь мир) предпочитал видеть все страны, кроме своей, слабыми, бедными и дурно управляемыми. Теперь же он видит в богатстве и развитии других стран источник богатства и развития своей собственной.{632}
За первую половину XX века патриоты во всем мире все меньше и меньше ощущали своим домом весь мир и нисколько этот мир не жалели. Америка выучила трудный урок — протекционизм вызывает ответные меры. Нельзя торговать на экспорт, ничего не импортируя.
Еще Америка осознала, что торговая война может вызвать войну настоящую, и еще до того, как США вступили во Вторую мировую, историки и государственные деятели почувствовали, что в этой катастрофе повинны изоляционизм и протекционизм. Историк Джон Белл Кондлифф в 1940 году написал пророческие строки: «Если восстанавливать международную систему, это должна быть система с Америкой в главной роли, на основе Pax Americana».{633} Альберт Хиршман, участник событий того времени, писал в 1945 году:
Несомненно, торговые войны обострили международное противостояние. К тому же, они предоставили государственным лидерам прекрасную возможность поднять свою популярность… Международные экономические отношения предоставили им прекрасные инструменты для достижения своих целей, например, обещания скорой и полной победы, благодаря превосходству в воздухе, как несомненно определяющему фактору в этой войне.{634}
По мере того, как Соединенные Штаты отходили от ужасов Второй мировой, начиналась долгая и трудная работа по сносу тарифных барьеров, которые возводились почти все предыдущее столетие. Тот, кто ищет истоки сегодняшней, глобализированной, многополярной экономики, найдет их в ныне позабытом докладе Государственного департамента за 1945 год, озаглавленном «Предложения по расширению торговли и занятости» (Proposals for the Expansion of Trade and Employment). Хотя этот замечательный документ был создан американской бюрократией военного времени, он проникнут духом Смита, Рикардо, Кобдена и Халла.[95]
Его приверженцы осознавали себя актерами в уникальной исторической сцене — весь мир вокруг лежал в хаосе, и судьба всего мира зависела от того, как они сыграют пьесу. Впечатляет первая фраза «Предложений»: «Главная награда за победу Соединенных Штатов — ограниченная и временная власть устроить по своему разумению мир, в котором мы хотим жить».{635}
«Предложения» продолжаются списком допущенных ошибок и размышлениями о том, как их избегать вообще и, более конкретно, как разобраться с протекционизмом, связавшим международную торговлю с 1880 года. Это был ни много ни мало план создания нового коммерческого Pax Americana. Специалист по истории экономики Клэр Уилкокс писал в 1948 году, подытоживая преобразование Америки из автаркии в лидера нового международного коммерческого порядка:
После Первой мировой войны мы наделали во всем мире долгов, теперь мы вновь делаем долги. Затем мы решили поправить дела, вернув сумму, уплаченную союзникам на продолжение войны. И в то же время, мы подняли тарифы так быстро и так высоко, что сделали затруднительным, а то и невозможным оплатить эти долги. Однако теперь мы аннулировали баланс военного времени с его расчетами по ленд-лизу и начали снижать торговые барьеры. Мы, наконец, пришли к тому, чтобы осознать нашу востребованность как крупнейшего мирового кредитора. Мы показали, что можем извлекать из истории уроки.{636},[96]
Первым делом требовалось выручить Великобританию. К 1945 году США и Англия поменялись ролями. Погрязшая в долгах Великобритания была вынуждена прекратить импорт, чтобы сохранить остатки валютных резервов, в то время как американский госдепартамент спешил как можно скорее открыть международную торговлю. После бурных переговоров победители пришли к компромиссу. Они решили проводить многосторонние переговоры по вопросам торговли, но каждый из участников имел право отказаться от обязательств, если окажется, что снижение тарифов «неожиданно и масштабно ущемляет интересы производителей».
Новая мировая торговля была, по крайней мере вначале, порождением Америки, окончанием однополярной международной торговли в послевоенных условиях. В тех условиях американцам — ни фермерам, ни рабочим, ни капиталистам — нечего было опасаться иностранных конкурентов. В послевоенные годы среди американцев всех классов не наблюдалось особенного противодействия снижению тарифов.{637}
В начале 1947 года торговые представители 22 крупных государств, используя «Предложения» как заготовку, собрались на переговоры в Женеве и провели более тысячи двусторонних встреч по более 50 000 наименованиям товаров. В результате, появился документ под названием «Генеральное соглашение по тарифам и торговле» (ГАТТ), подписанное 18 ноября 1947 года представителями 23 государств (за время переговоров родилось государство Пакистан).
Всего через три дня 56 государств начали в Гаване переговоры о создании Международной торговой организации (ITO), которая собиралась пересмотреть решения ГАТТ. Как ни странно, ITO испустила дух, пав жертвой безразличия американского Конгресса и победы республиканской партии на выборах 1946 года, в то время, как ГАТТ процветало.{638} К концу третьего круга переговоров (1951 год, Торки, Англия) довоенные барьеры для промышленных товаров были, практически, сняты. Это отразилось на американских ввозных пошлинах, представленных в виде графика на рис. 13-2.
Рис. 13-2. Американские ввозные пошлины в период действия ГАТТ
Таблица 13-2.
Раунды переговоров ГАТТ
(Год …… Место проведения/название раунда — Результаты)
1947 …… Женева — Снижение двусторонних тарифов на 45 000 товаров, что составило 1/5 объема мировой торговли.
1949 …… Аннанси, Франция — Снижение двусторонних тарифов на 5000 товаров.
1951 …… Торки, Англия — Снижение двусторонних тарифов на 8700 товаров, большей частью из тех, что не обсуждались прежде.
1955-1956 …… Женева — Двусторонние тарифы снижены на общую сумму 2,5 млрд. долларов.
1960-1962 …… Раунд Диллона — Двусторонние тарифы снижены на общую сумму 5 млрд. долларов. Начались переговоры о создании ЕЭС.
1964-1967 …… Раунд Кеннеди — Двусторонние тарифы снижены на общую сумму 40 млрд. долларов. Установлены правила торговли.
1973-1979 …… Токийский раунд — Двусторонние тарифы снижены на общую сумму 300 млрд. долларов. Установлены процедуры обсуждения решений, демпинга, лицензирования.
1986-1993 …… Уругвайский раунд — Дальнейшее снижение тарифов. Затруднения с рационализацией тарифов на сельскохозяйственные товары.
1995 …… Создана ВТО — Процедурами ГАТТ занимается ВТО.
2001 - настоящее время …… Доха-раунд — Зашли в тупик переговоры по вопросам севера - юга и сельскохозяйственных субсидий.
Безымянные авторы «Предложений» невольно решили одну из центральных проблем свободной торговли, которую принято называть логикой коллективных действий.{639} Свободная торговля предполагает умеренную выгоду для большей части населения и большой ущерб для малых групп, занятых в определенном производстве. Представьте себе, например, что Соединенные Штаты запретили импорт риса. Это сильно обогатило бы американских производителей риса, они заработали бы миллионы, зато все остальные американцы заметили бы, что счета из бакалейных магазинов выросли на несколько долларов. При таком положении дел отечественные производители, которым достался жирный куш, будут противиться всякой попытке открыть рынок для иностранного риса. Они будут вести себя гораздо активнее, чем сотни миллионов покупателей, каждый из которых теряет небольшую сумму из-за отсутствия дешевого импортного риса. По сути дела, ГАТТ создал «глобальный союз потребителей», представлявший миллиарды несущих убытки покупателей, каждый из которых недосчитывается нескольких пенни или франков.
В грубом приближении, мы можем разбить историю современной глобализации на четыре периода. Первый период приходится на 1830-1885 годы, когда быстрое удешевление транспорта и коммуникаций совпало с относительно низкими тарифами (не считая США), что резко увеличило объемы торговли и вызвало сближение заработной платы, ренты и цен на землю, а также процентных ставок в разных регионах. Во время второго периода (1885-1930) мощная сельскохозяйственная конкуренция между Америкой, Австралией, Новой Зеландией и Украиной вызвала в Европе волну протекционизма. Она с легкостью была преодолена путем дальнейшего снижения транспортных расходов.{640} Третий период, который начался принятием тарифа Смута—Хоули (1930), отличался медленным усовершенствованием транспорта и высоким ростом тарифов. Эти процессы привели к значительному упадку мировой торговли.{641} За время четвертого периода, который начался в 1945 году, фритредерская инициатива США, изложенная в «Предложениях», подняла затвор на плотине, сдерживавшей мировую торговлю. Ее объем во второй половине столетия начал расти с потрясающей скоростью 6,4% в год. С 1945 по 1998 год этот объем вырос с 5,5% мирового ВВП до 17,2%.
Послевоенный взлет объема торговли и почти синхронный с ним рост профсоюзов портовых рабочих сделали путешествие груза со склада до машины (все чаще, дизельного грузовика) почти таким же дорогим, как перевозка его через море. Исчерпывающее правительственное исследование фрахта, проведенное на одном трансатлантическом пароходе «Уорриор», показало, что третью часть расходов по доставке груза к месту назначения составляют портовые платежи. А для грузов, доставляемых на Гавайские острова и с них, они составляют около 50%.
Отцы-основатели Америки сделали немного ошибок, когда сочиняли конституцию. Но ни одна из ошибок не нанесла столько вреда, как несколько «лишних» слов в разделе 8 статьи 1, где указывается на право федерального правительства «регулировать торговлю с иностранными государствами, между отдельными штатами и с племенами индейцев».{642} Полномочия регулировать торговые отношения между отдельными штатами послужили образованию в 1887 году Межштатовой комиссии по вопросам торговли (ICC), которая регулировала почти все вопросы дальних перевозок в США, разрушила почти все, к чему прикасалась, и задушила всякое нововведение в американском транспорте, пока в 1995 году ее не упразднили.
Более столетия торговцы использовали схему, которая позволяла без задержек перегружать товары с одного вида транспорта на другой, будь то поезд, грузовик или корабль. В 1837 году Джеймс О'Коннор, грузоотправитель из Питтсбурга, придумал такой контейнер, который можно было поставить на железнодорожные колеса или погрузить на баржу. А в 1926 году железнодорожная компания «Чикаго Норт Шор энд Милуоки рейлуэй» ввела в практику комбинированные перевозки, когда товар в фургонах перевозился на железнодорожных платформах. ICC решила, что такие перевозки попадают под ее юрисдикцию, и развитие транспорта в этом направлении остановилось.
Рис. 13-3. Объем мировой торговли в период 1720-2000 гг. (по курсу доллара 1998 года)
В середине 1950-х годов два события произвели революцию в этой технологии. Первое было изобретением прозорливого администратора по перевозкам Малькольма Маклина — прототип современного контейнера, выполненный так, чтобы его можно было укладывать штабелями в военном танкере, который был выбран за относительно прямоугольные формы корпуса. Вторым событием стало решение суда от 1956 года, выводящее контейнерные перевозки из-под юрисдикции ICC.
За последующие несколько десятилетий новая система Маклина, распространившись, резко снизила портовые сборы. Если до 1960 года фрахт дешевел, то после стал почти бесплатным или, выражаясь малопонятным языком экономистов, компромиссным.{643} Товары избавились от бремени тарифов и портовых сборов и начали свободнее циркулировать по миру. Если рубашки или машины в одной стране производились хоть немного дешевле, чем в другой, это уже был хороший повод для экспорта.
Затраты на доставку сводились почти к нулю, а Европа в то же время становилась богаче. Капиталисты Европы — обладатели сильного фактора — теперь вместе с рабочими стояли за снижение тарифов. Как предсказывали Столпер и Самуэльсон, европейцы приветствовали свободную торговлю и демократию. Хотя Европейское сообщество субсидировало своих фермеров в рамках так называемой Общей сельскохозяйственной политики, это не смогло спасти сельское хозяйство от упадка. Если в 1950 году фермеры составляли 35% рабочей силы материка, то в 1980 году — только 15%.
После Второй мировой войны в торговой политике главных партий Америки произошел еще более значительный переворот. По мере того как страна все больше богатела, и капитал становился все более сильным фактором, республиканцы — традиционно капиталистическая партия — сменили ориентацию с протекционизма на фритредерство. (Этот переход произошел во время правления Эйзенхауэра.) С другой стороны, демократы традиционно представляли интересы рабочих (обладателей слабого фактора) и фермеров (обладателей сильного фактора). В XX столетии относительный объем рабочей силы вырос, тогда как количество фермеров уменьшилось. Сегодня фермеры составляют около одного процента рабочей силы. В результате таких изменений в своем составе, демократы стали поддерживать протекционизм, а ущемленные фермеры массово переметнулись к республиканцам.
Рональд Роговски рассматривает последнюю забавную гримасу теоремы Столпера—Самюэльсона. Поскольку эта парадигма позволяет узнать, кто будет поддерживать свободную торговлю, а кто будет противостоять ей, она еще и позволяет узнать, какие группы получат власть или потеряют ее в ходе государственной торговой политики. Подъем протекционизма 30-х годов усилил обладателей слабого фактора как в США (труд, который представляла Демократическая партия), так и в Германии (земля и капитал, наиболее яростно представленные нацистами). Так же случилось с подъемом свободной торговли, которая сегодня усилила тех, кто поддержал ее, что особенно хорошо видно на примере американских обладателей сильных факторов — земли и капитала, представленных республиканской партией. В 1987 году Роговски писал:
Насколько сейчас можно предсказывать, демократы… будут все больше склоняться к протекционизму и, как это случилось с британскими лейбористами, будут все больше нисходить до уровня региональной партии промышленного упадка. В процветающих, ориентированных на экспорт западных и южных штатах республиканская партия стала уже чуть ли не единственной.{644},[97]
На протяжении следующих 20 лет предсказания Роговски сбывались все больше. Только совсем недавно протекционизм снова обрел силу в долго сопротивлявшихся республиканских штатах запада и юга. Посмотрим, насколько республиканцам удастся сохранить влияние в этих штатах после колоссальных ошибок администрации Буша в международной политике.
* * *
Хотя ГАТТ резко изменила баланс сил на поле битвы между протекционизмом и свободной торговлей, это коснулось не всех видов товаров. Сельскохозяйственная продукция и ткани считаются древнейшими секторами экономики. Веками оба эти сектора играли определяющую роль в политике и пропаганде, и теперь они смогли избежать застоя на мировом рынке, подняв цены на товары. В большинстве стран крестьяне позиционировались как «душа народа», несмотря на то, что они составляли лишь небольшую часть рабочей силы в наиболее развитых странах.
С самого начала сельскохозяйственную продукцию и ткани смогли исключить из сферы действия ГАТТ и сохранить на них высокие тарифы и, что еще важнее, нетарифные барьеры, такие как квоты, ограничения и субсидии.
Сохранение протекционистских позиций по отношению к сельскохозяйственной продукции и тканям дорого обошлось развивающимся странам, потому что в этих сферах у них оставалось сравнительное преимущество. Есть разные мнения о том, как и почему оно возникло. Одни полагают, что ГАТТ — еще один механизм для раздачи крошек со стола белого человека беднейшим народам, и сыплются они точно в те места, которые больше всех готовы к конкуренции. Другое объяснение говорит, что развивающиеся страны одержимы автаркией, им наплевать на решения ГАТТ, они не могут или не хотят идти на компромисс со странами развитыми.
Последнее объяснение хорошо согласуется с фактами. Развивающиеся страны облагают импортные сельхозпродукты налогом более 50% (Индия — более 100%). Для сравнения, в Европе это 30%, а в США 15%. К тому же, совсем недавно многие развивающиеся страны, начиная с Индии, открыто объявили о политике «замещения импорта», при помощи высоких тарифов на импорт стимулировав отечественное производство. (Индийскую автаркию символизирует чакра, изображенная на флаге Ганди. Это колесо прялки. Еще до объявления независимости оно, к огорчению Ганди, было заменено «чакрой Ашоки», колесом закона.) Наконец, как мы увидим в главе 14, развивающиеся страны, которые открыли себя для международной торговли, очень преуспели.{645}
Чтобы разглядеть лицо сегодняшнего протекционизма, познакомьтесь с братьями Фанхуль. Потомки богатых кубинских сахарных плантаторов, бежавших с острова после победы Фиделя Кастро в 1958 году, эти трое братьев сегодня владеют 160 000 акров лучших тростниковых плантаций Флориды и 240 000 акров в Доминиканской Республике и являются одним из богатейших семейств Флориды. Министерство труда постоянно отмечает, что их холдинговая компания «Фло-Сан» плохо обращается с рабочими и мало им платит, а министерство внутренних дел аннулировало их крупный контракт из-за ядовитых выбросов, которые попадают с их полей в национальный парк Эверглейдс.{646}
Одно федеральное агентство все же взглянуло на братьев Фанхуль добрее. Министерство сельского хозяйства, которое уже несколько лет платит за их сахар в среднем по 65 миллионов долларов ежегодно — более чем в два раза дороже по сравнению с мировыми ценами. Считается, что это часть большой системы поддержки сельского хозяйства, которая ежегодно обходится налогоплательщикам в 8 миллиардов долларов.[98] Для братьев Фанхуль эти 65 миллионов субсидий — просто крупные чаевые. Самое главное — это квоты, благодаря которым в американских магазинах взвинчиваются цены на импортные товары. Только в 1998 году американского потребителя на одном только сахаре «нагрели» на два миллиарда долларов!{647} Не случайно, Доминиканская Республика — вотчина плантаторов Фанхуль — имеет самые высокие квоты на ввоз сахара. И это еще не все. Инженерные войска ежегодно тратят 52 миллиона долларов на дренаж этих сахарных плантаций, а ущерб окружающей среде наносится на еще большую сумму.{648}
Как же удается братьям Фанхуль и их прислужникам десятилетиями пользоваться такой масштабной государственной поддержкой? При помощи благородной поддержки политических кампаний, как прямым спонсированием, так и косвенным образом. Одна из наиболее захватывающих современных историй, связанных с Белым домом, это история, когда Уильяму Клинтону грозил импичмент после скандала с Моникой Левински. Тогда президент продемонстрировал талант прекрасно улаживать конфликты по телефону. И только однажды он попросил своего молодого помощника выйти из комнаты, чтобы тот не мог слышать разговора. Его собеседником тогда был не премьер-министр Великобритании и не папа римский, а Альфонсо («Альфи») Фанхуль.{649}
ГАТТ почти во всех странах сделала все возможное, чтобы снизить барьеры на сельхозтовары — в богатых странах нетарифные, а в бедных прямые тарифы.[99] После событий 11 сентября США и Европа собрали Доха-раунд — переговоры ГАТТ, посвященные недавно образованной Всемирной торговой организации, преемницы Международной торговой организации. На переговорах предполагалось к 2013 году прекратить всякие субсидии, чтобы снизить бедность в развивающихся странах и лишить мировой терроризм подпитки.
В июле 2006 года переговоры провалились с треском, закончившись взаимными обвинениями. Ни одна из основных сторон — ни американцы, ни европейцы, ни развивающиеся страны — не решилась ущемить своих неприкосновенных фермеров. Один из очевидцев заметил, что провал переговоров стал большой победой фермерских лоббистов, а представитель Индии заявил: «Мы не можем торговаться о пропитании и средствах на проживание, не следует даже просить нас об этом».
Переговорщик со стороны Европы, Питер Мандельсон, перед прениями еще более откровенно заметил, что если переговоры провалятся, Европа потеряет меньше малого.{650} Сожалений не возникло — по мере того, как мир становился богаче, защищенные сектора еды и одежды занимали все меньшее место в глобальной экономике. (В 2006 году, например, американцы тратили менее 10% своего дохода наеду, а в 1929 году — 24%.){651} Мировая торговля еще не дошла до точки, описанной Джоном Стюартом Миллем в эпиграфе к главе 12, чтобы все товары производить там, где трудовые ресурсы и капитал позволяют производить их в наибольшем количестве и наивысшем качестве, но дело быстро продвигается к этому. На этом пути препятствия и кризисы, описанные в предыдущих главах, будут только усиливаться и умножаться.
ГЛАВА 14. СИЭТЛСКАЯ БАТАЛИЯ
В нашем утверждении нет политических нападок на протекционизм… Доказывается, что ущерб, который свободная торговля наносит одному из факторов производства, неизменно меньше, чем выигрыш, который она приносит другому. Следовательно, всегда можно подкупить пострадавших при помощи субсидий или других инструментов перераспределения, чтобы результатами свободной торговли остались довольны обладатели всех факторов производства.
Вольфганг Столпер и Пол Самуэльсон{652}В январе 1999 года политические лидеры Сиэтла имели все основания гордиться, когда их городу отдали предпочтение перед Сан-Диего для проведения конференции министров торговли конференции стран членов ВТО. Не просто тысячи посетителей хлынут в отели и рестораны города, но на встречу приедут лидеры мирового масштаба, включая президента и государственного секретаря США.
Норму Стэмперу, заслуженному шефу полиции Сиэтла, было известно и то, что конференция привлечет десятки тысяч антиглобалистов, и что последняя конференция ВТО, проходившая 18 месяцев назад в Женеве, обернулась кошмаром. Но это Америка, а не Европа, страна на протяжении целого поколения не видела бурных политических протестов, а 1200 его вышколенных сотрудников, определенно, были готовы отразить любой натиск. Вдобавок, главный протестный контингент, АФТ-КПП (Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов) пообещала провалить конференцию.
Ни Стэмпер, ни АФТ-КПП не удержали ситуацию. Протесты огромных масс молодежи, хорошо снабженных бутылками, противогазами, ломами, молотками и треножниками, с которых наблюдатели могли смотреть поверх голов толпы, вылились в беспорядки. К третьему дню конференции Сиэтл совершенно вышел из-под контроля. Толпы резали колеса автомобилей, били стекла, грабили магазины, а более тысячи нападавших взяли в осаду здание, где проходила встреча. Они удерживали осаду несколько часов, пока измученные защитники отбивались при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль.{653}
Протестующие вынудили раньше срока свернуть конференцию и приковали внимание всего мира к вопросам свободной торговли. Но привнесла ли Сиэтлская баталия что-нибудь новое в историю мировой торговли?
Едва ли. Мятежники Сиэтла в экономическом, идеологическом и даже тактическом смысле почти ничем не отличались от антиглобалистов прошлого — плантаторов Мадейры, возмущенных экспортом сахара из Нового Света; испанских парикмахеров и производителей шелка из Мехико, возмущенных притоком дешевой рабочей силы и тканей из Азии; английских переработчиков мусковадо в рафинад, недовольных конкуренцией с Барбадосом; ткачей, напавших на дом Джосайи Чайлда, штаб-квартиру Ост-Индской компании и парламент; дебоширов «Бостонского чаепития». Если бы археологи установили, что четыре тысячи лет назад крестьяне Дильмуна, недовольные низкими ценами на шумерское зерно, разгромили таможню, едва ли это нас удивило бы.
В этой последней главе рассмотрены два вопроса. Чему нас научила история торговли? Как мы можем применить полученные знания в сегодняшних спорах о глобализации?
* * *
Склонность к торговле и обмену является частью человеческой природы, и всякая попытка ее подавить в конце концов обречена на провал. С тех самых пор, как человек впервые покорил моря и пустыни с помощью кораблей и верблюдов, он возит через них товары. На заре нашей эры Европа встретилась с Азией, они предложили друг другу свои предметы роскоши. К концу XIX века сформировалась большая часть характеристик современной торговли, которые мы считаем очень важными: надежные коммуникации, дальняя торговля товарами широкого потребления и скоропортящимися товарами и межконтинентальный цикл производства. Сегодняшние споры о глобализации почти дословно повторяют дискуссии прошлого. Где бы ни возникала торговля, всюду за ней следуют возмущение, протекционизм и их постоянные спутники — смута, свержение власти, а то и война.
* * *
Корабли всегда были и в обозримом будущем всегда будут самым эффективным способом перевозки грузов на дальние расстояния. В свою очередь, торговля по морю требует политической стабильности в ключевых точках морских путей. С давних времен сложная география береговой линии Европы научила торговцев и мореходов ценить стратегически важные проливы и проходы, захват которых может вызвать в стране голод. На протяжении, по крайней мере, двух с половиной тысяч лет Геллеспонт и Босфор считались средоточием морских перевозок. Они сохраняют эту роль и сегодня. Когда европейцы устремились в Индийский океан путем Васко да Гамы, первыми их целями (впрочем, не все они были достигнуты) стали проливы: Малаккский, Ормузский и Баб-эль-мандебский.
Изменилось немногое. Разве что прибавилась пара ключевых точек в виде Суэцкого и Панамского канала. Сегодня в мире около 80% товаров перевозится морем, и большая часть его проходит через одну, а то и две-три из этих семи точек.
Нефть — самый важны из перевозимых товаров, по каким критериям бы мы ни считали — по физическому объему, по стоимости, по стратегической важности. На долю нефти в любой момент времени приходится почти половина тоннажа всех коммерческих грузов планеты. Каждый день в мире заливается и перевозится ее около 80 миллионов баррелей, из которых США потребляют четверть — 20 миллионов баррелей. Около 2/5 этого объема (12 миллионов баррелей) Америке приходится импортировать. Нефть не только повелевает миром, но и смазывает его, удобряет и поставляет сырье для самого вездесущего промышленного материала наших дней — пластика. Если всерьез перекрыть поставки нефти, то немалая часть планеты буквально замрет, и сотни миллионов людей начнут голодать.
Объем импорта нефти Америкой примерно соответствует ее количеству, ежедневно проходящему через ворота в Персидский залив — Ормузский пролив. Меньший, но тоже стратегически важный объем проходит через Дарданеллы и Босфор (два эти пролива вместе иногда называют Турецкими), Баб-эль-мандебский пролив, Суэцкий канал, Суэцко-Средиземноморский нефтепровод (параллельный Суэцкому каналу) и Панамский канал. И наконец, основная часть нефти, прошедшая через проливы Среднего Востока, должна пройти и через Малакку. Если внезапно перекрыть любой из этих проходов, в мировой экономике начнется хаос.
В ближайшие несколько десятилетий такое событие не просто возможно или вероятно, но оно, определенно, произойдет. Тем, кто в этом сомневается, стоит вспомнить новейшую историю. Только в XX веке в районе Суэцкого канала разгорелось два конфликта. В одном (1956 год) участвовали Египет, Израиль, Великобритания и Франция. Другой — Шестидневная война 1967 года, закрывшая канал на 15 лет.
Ормуз — еще более проблемная зона. В своем обращении «О положении страны» в 1980 году президент Картер провозгласил то, что вошло в историю как доктрина Картера:
Попытка внешней силы овладеть контролем над Персидским заливом будет рассматриваться как посягательство на жизненно важные интересы Соединенных Штатов Америки, и такое нападение будет отражено всеми необходимыми средствами, включая военную силу.{654}
Во время ирано-иракской войны 1981-1988 годов эти страны применяли «войну танкеров» — нападали на корабли противника и нейтральных государств, особенно Кувейта. Самое страшное, что Ирак постоянно пытался вывести из строя главную нефтеналивную базу на острове Кхарг. Пока лондонские дельцы взвинчивали страховку на суда, ходившие в Персидском заливе, Советский Союз и Соединенные Штаты фрахтовали танкеры и вывешивали на них свои флаги, чтобы вояки дважды подумали, прежде чем нападать.
Но толку от этого не было, если не считать того факта, что к концу 80-х годов залив патрулировало, по меньшей мере, 10 европейских флотов и 8 местных. 17 мая 1987 года иракская ракета «по ошибке» попала в американский военный корабль «Старк», убив 37 моряков. Поскольку Соединенные Штаты заигрывали с Ираком, президент Рейган свалил все на Иран. Обвинение было несправедливым и нелепым.
Когда иранцы напали на «Си Айл Сити» — один из кувейтских танкеров, шедших под американским флагом, вооруженные силы США уничтожили две иранские нефтяные платформы.{655} После заключения перемирия в августе 1988 года ситуация несколько успокоилась, но в 2000 году вновь накалилась, когда «Аль-Кайеда» поразила у пристани Адена в Баб-эль-мандебском проливе американский военный корабль «Коул», убив 17 человек. Вообще, мировая торговая система наиболее уязвима в этих трех точках — Суэцком канале, Ормузском и Баб-эль-мандебском проливах, потому что все они находятся в нестабильном регионе, где орудует множество государственных и негосударственных врагов Запада.
Даже у «безопасных» проходов имеются свои проблемы. Хотя в Турецких проливах последние несколько десятилетий все спокойно, жестокие битвы кипели там во время Крымской и Первой мировой войны. В 1936 году конвенция Монтре, формально отдав контроль над проливами Турции, позволила кораблям всех стран свободно ходить по ним. Фактически, эта конвенция позволила Турции считать трафик судов через проливы, но не позволила подниматься на борт и инспектировать транзитные грузы.
Казалось бы, невелика разница, но всякий, кто видел прекрасный, романтичный Босфор, поймет. Ширина его в самом узком месте чуть более 1000 ярдов, а в длину он тянется на 20 миль. Обе стороны пролива застроены богатыми домами, а сам пролив круглые сутки забит идущими в обе стороны непрерывными цепочками танкеров, контейнеровозов, дальних паромов и роскошных лайнеров. Между ними, к северу и к югу, протискиваются вереницы из тысяч судов поменьше. Пролив давно работает на пределе своей пропускной способности, столкновения и заторы в нем стали обычным делом. Хуже того, если в пролив входит судно более пятисот футов длиной, встречное движение останавливается — слишком велик радиус разворота у этих «бегемотов».
Недавно открытые нефтяные резервы каспийского региона тоже текут через эти проливы, и опасность случайного разлива нефти приводит к тому, что Турция пробует на прочность конвенцию Монтре и превышает свою власть, запрещая, например, проход крупных танкеров по ночам. В 2001 году Турция заявила, что собирается взимать с танкеров значительную пошлину, хотя подобные сборы, по крайней мере, технически являются нарушением конвенции Монтре и международных законов.
К счастью, эти вопросы решаются дипломатическим путем. Гораздо опаснее террористические акты, которые могут устроить «Аль-Кайеда» или курдские сепаратисты. Ученые подсчитали, что взрыв крупного танкера со сжиженным газом в Босфорском проливе вызовет взрывную волну большую, чем землетрясение в 8 баллов по Рихтеру.{656}
Далее на востоке нефть, предназначенная для Японии, Кореи и Китая, проходит через Малаккский пролив, где обстановку осложняют пираты, террористы из группы «Джемайя Исламия» и споры о том, какая из прибрежных стран — Малайзия, Индонезия или Сингапур — должна оплачивать углубительные работы. Сейчас этот пролив патрулирует Седьмой флот США, так что нетрудно вообразить конфликт Америки с Китаем из-за желания Китая контролировать этот пролив, приобретающий все большее значение для Среднего Востока и Европы.
Нет безопасности даже в ключевых точках Западного полушария. В 1989 году силовик Мануэль Норьега аннулировал избрание Гильермо Эндары президентом Панамы, Соединенные Штаты вмешались и восстановили власть Эндары. Если бы события пошли так же, как в Гондурасе или Парагвае, американские войска вряд ли смогли бы войти в страну, а зарвавшийся лидер не оказался бы в тюрьме Майами.
Ключевые точки способны поссорить даже добрых соседей. Существование Северо-Западного прохода долгое время отрицалось европейскими исследователями, пока в 1906 году им не прошел Руаль Амундсен. Недавно из-за этого пути возникла конфронтация между США, которые рассматривали это проход как международный водный путь, и Канадой, которая заявила права на восточный вход в пролив Дэвиса (между Гренландией и Баффиновой землей). В 1969 году первый коммерческий рейс через пролив осуществил танкер «Манхэттен» компании «Хамбл Ойл». Это вызвало возмущение Канады, а когда в 1985 году там прошел ледокол американской береговой охраны, канадцы заявили официальный протест.{657}
Из-за глобального потепления Северо-Западный проход, возможно, станет судоходным круглый год за пару десятилетий, а между Оттавой и Вашигтоном возникнет повод для споров на годы. Возможно, вслед за открытием этого прохода повышение температуры на планете позволит использовать приполярный регион, задействовав Берингов пролив и связав дальний Восток и Европу, а также северное побережье Америки. Этот путь окажется втрое короче нынешнего, через Суэц. Возможно, появятся и новые пути из Европы к западному побережью Северной Америки. Такие трансполярные пути наверняка вызовут напряженность в отношениях между США и Россией и вопросы о том, кто будет контролировать Берингов пролив.{658}
* * *
Приверженцы свободной торговли переоценили ее экономические преимущества. История XIX века позволяет усомниться в том, что свободная торговля — двигатель прогресса. Будь она путем к процветанию государства, Соединенные Штаты, которые завели самые высокие тарифы в истории, никогда бы не преуспели. «Золотой век» снижения тарифов в Европе (1860—1880) сменился периодом еще более высоких тарифов (1880— 1900), периодом протекционизма. Фактически, рост США приходится на это время. Кроме того, после 1880 года экономика протекционистской Северной Европы росла быстрее, чем экономика фритредерской Англии.
Об этом говорят и самые знаменитые из американских протекционистов, например Патрик Бьюкенен, кандидат в президенты в 1996 году:
Под защитой тарифного барьера, который воздвигли Вашингтон, Гамильтон, Клей, Линкольн и последующие президенты-республиканцы, Соединенные Штаты из прибрежной аграрной республики превратились в величайшую промышленную державу, какая только существовала в мире — и все это за одно столетие. Таков был успех политики, названной протекционизмом, который сегодня так ругают.{659}
В этом мнении Бьюкенен не одинок. С ним целая фаланга специалистов по экономической истории, в том числе и уважаемый Поль Берош позднего периода.{660} Современные методы расчетов свидетельствуют о том, что свободная торговля в XIX веке была, в лучшем случае, плохим двигателем прогресса. На самом же деле ряд детальных исследований поддерживает вывод о том, что в 1800-х годах, возможно, именно протекционизм стимулировал экономическое развитие. Подробный анализ альтернативных вариантов развития американского протекционизма начала XIX века, проведенный специалистом по экономической истории Марком Билзом, показывает, что Гамильтон, сторонники Адамса и Рона Кэри были все время правы — без высоких тарифов «около половины промышленного сектора Новой Англии разорилось бы».{661} Другой почтенный историк, Кевин О'Рурк, изучал восемь крупных европейских стран, США и Канаду конца XIX века. Он обнаружил положительную зависимость между размером тарифов и экономическим ростом — чем выше был тариф, тем лучше жила страна. Выражаясь недомолвками, как это принято у академических экономистов, он заключил:
Оказалось, что гипотеза Бероша (о том, что в XIX столетии размер тарифа положительно влиял на экономический рост), если ее проверить с учетом недавно полученных данных, если учитывать другие факторы, влияющие на экономический рост, прекрасно подтверждается.{662}
Тщательно проведенное исследования периода, когда Англия в 1932 году отошла от свободной торговли, также показало, что в том году тарифы подняли экономику страны.{663}
Не все специалисты по истории торговли согласны с тем, что в XIX веке высокие тарифы пошли Америке на пользу. Брэдвор Делонг из Беркли замечает, что протекционизм помешал Новой Англии обзавестись предпринимателями, которые развивали передовые английские паровые и промышленные технологии, что тормозило производство, которое могло бы выиграть от таких технологий. Билз, вероятно, был прав, сказав, что понижение тарифа уничтожит существующие английские заводы, но Делонг возразил, что тогда государство сможет развивать вместо них другой, более выгодный, капиталоемкий и высокотехнологичный промышленный сектор.{664}
Однако после 1945 года картина меняется. Анализ, проведенный историком Эдвардом Денисоном, показал, что снижение тарифов, которое предпринимала ГАТТ в 1950-1960 годах, все-таки привело к небольшому экономическому росту — в Северной Европе только 1% за всю эту декаду. На Соединенных Штатах оно никак не отразилось.{665}
После I960 года ситуация складывалась в пользу свободной торговли, особенно в развивающихся странах. В 1995 году экономисты Джефри Сакс и Эндрю Уорнер провели эксперимент с открытыми международными рынками конца XX века. Они делили развивающиеся страны на три группы: те, что всегда проводили политику разумно открытого рынка, те, что временами обращались к протекционизму, и те, которые всегда старались придерживаться протекционизма. Табл. 14-1 перечисляет страны первой и третьей групп.{666},[100]
Таблица 14-1.
ВВП на душу населения в странах, открытых и закрытых для мировой торговли
(Страны …… ВВП на душу населения, 2006 год, $)
Всегда открытые страны
Барбадос …… 17610
Кипр …… 21 177
Гонконг …… 33 479
Маврикий …… 12 895
Сингапур …… 28 368
Таиланд …… 8368
Йемен …… 751
Всегда закрытые страны
Алжир …… 7189
Ангола …… 2813
Бангладеш …… 2011
Буркина-Фасо …… 1285
Бурунди …… 700
Центрально-Африканская Республика …… 1128
Чад …… 1519
Китай …… 2001
Конго …… 1369
Кот-д'Ивуар …… 1600
Доминиканская Республика …… 7627
Египет …… 4317
Эфиопия …… 823
Габон …… 7055
Гаити …… 1719
Иран …… 7980
Ирак …… 2900
Мадагаскар …… 900
Малави …… 596
Мавритания …… 2535
Мозамбик …… 1379
Мьянма …… 1693
Нигер …… 872
Нигерия …… 1188
Пакистан …… 2653
Папуа — Новая Гвинея …… 2418
Руанда …… 1380
Сенегал …… 1759
Сьерра-Леоне …… 903
Сомали …… 600
Сирия …… 3847
Танзания …… 723
Того …… 1675
Заир …… 774
Зимбабве …… 2607
Оба списка говорят сами за себя. В 2006 году средний ВВП на человека составлял $17,521 в «открытых» странах и $2,362 в «закрытых». Затем Сакс и его коллеги рассмотрели воздействие торговой политики на способность государства входить в «клуб сближения» с наиболее преуспевающими экономиками мира.[101] На сей раз они исследовали отношение между ВВП на душу населения в 1970 году и ростом процентных ставок в последующие 20 лет, как в развитых, так и развивающихся странах. Особенно актуально это было для тех, кто в 1970 году имел низкий ВВП на душу населения. В этих странах ставки зачастую росли по 5% в год. В изначально богатых странах эта тенденция проявлялась не так сильно, по 2-3% в год. Другими словами, бедные страны, ставшие на путь свободной торговли, стремились догнать богатых.
Затем Сакс и Уорнер проделали то же самое с государствами, которые в тот же период придерживались протекционизма. Их ВВП на душу населения подрастал с трудом, едва достигая, в среднем, показателя 0,5% за год.
Когда бедные начинают защищать свою экономику, у них начинается застой и падение, еще хуже, чем у развитых стран. (Позже профессор Сакс стал известен своими спорными взглядами на необходимость распределения богатства между развитыми и развивающимися странами. Его раннее исследование связи между ростом и управлением торговли пользуется среди экономистов большим уважением, нежели более поздние заявления.)
Но как же быть с разницей в данных XIX и XX веков? Сакс и Уорнер начали с того, что обратили внимание на исследование, выполненное другими учеными. Оно показывало, что в Японии и США доходы в отдельных префектурах и штатах, соответственно, на протяжении XIX и XX веков сближались, тогда как в развивающихся странах экономики, путем торговли, сблизились в конце XX века.
Здесь и кроется разгадка. В XIX веке торговля внутри страны считалась важнее внешней торговли. Пока внутренние рынки страны были открытыми, тарифный барьер против заграничных товаров большого вреда не наносил. До XX века для большинства стран внешняя торговля составляла крошечную часть экономики. Например, в 1870 году в США экспорт составлял 2,5% ВВП, а во Франции 4,9%. И даже во фритредерской Англии всего лишь 12,2%. По мере роста торговли мировая экономика все больше от нее зависела. В 1870 году экспорт составлял 4,6% мирового ВВП, а в 1998 году уже 17,2%.
География тоже играет важную роль. Чем страна больше и разнообразнее экономически, тем более она самодостаточна, тем менее важен для нее импорт. Со времен провозглашения независимости США стали самой самодостаточной из крупных стран. Сегодня импорт составляет только 14% их ВВП. На другом конце списка находится Голландия — импорт составляет 61% ее экономики.{667} Это согласуется с данными Эдварда Денисона за период 1950-1962 годов, которые показывают, что самую большую выгоду из мирового снижения тарифов извлекли Нидерланды, Бельгия и Норвегия. Меньшей оказалась выгода более крупной и разнообразной экономики Германии, а также Франции. США вообще не получили выгоды.{668}
В XIX веке страны, особенно крупные, самодостаточные страны, такие как США, могли развлекаться политикой протекционизма. В глобальной, интегрированной экономике XXI столетия автаркия стала делом рискованным. Более того, чаще всего развивающиеся страны самый серьезный ущерб своей экономике наносят сами. Перефразируя Корделла Халла, протекционизм — это ружье, отдача которого бьет самого невезучего.
* * *
Заслуги свободной торговли, плохо заметные простым глазом, обычно недооценивают. Полтора столетия назад французский экономист Фредерик Бастиа неоднократно говорил: «Если через границу не пускать товары, там пройдут солдаты».[102] Не зря Нобелевский комитет удостоил в 1945 году Корделла Халла премии за роль, которую он сыграл в развитии мировой торговли в 30-40-х годах.
Постепенно жизнь на земле становилась все менее жестокой, во многом благодаря представлениям о том, что живой сосед полезнее мертвого. Те, у кого это оптимистическое утверждение вызывает сомнения, должен познакомиться с данными Всемирной организации здравоохранения. Статистика говорит о том, что в 2004 году только 1,3% смертельных случаев в мире произошло из-за насилия. Это число постоянно снижалось. В начале XXI века на войне погибло людей в тридцать раз меньше, чем в 50-х годах. Похоже, это часть большой исторической тенденции. Археологические данные свидетельствуют о том, что в каменном веке более 20% населения погибало насильственной смертью. Это открытие согласуется с результатами исследования современных сообществ охотников-собирателей.{669} Но пожалуй, самым очевидным свидетельством связи между торговлей и миром может служить Евросоюз, который погасил военные конфликты на целом континенте, где до 1945 года войны шли более-менее постоянно. Выражаясь в терминах микроэкономики, нет смысла бомбить тех, кто покупает или производит наши рубашки, ноутбуки и автомобили.
Сегодня самая большая угроза миру исходит не столько от регулярных армий, сколько от террористов, которые базируются в самых слабых странах — как раз в тех местах земного шара, которые выиграли бы от свободной торговли и которые разоряются при помощи сельскохозяйственных субсидий. Перефразируя Фредерика Бастиа, если хлопок, сахар и рис могут пересечь границу, то террористы, пожалуй, этого не смогут.
* * *
Хотя свободная торговля идет на пользу человечеству в целом, она порождает и множество неудачников. Будущая экспансия мировой торговли, происходящая из увеличения благосостояния, снижения тарифов и затрат на перевозку, породит еще больше тех, кто извлечет из нее выгоду, но число проигравших, хоть они и останутся в меньшинстве, тоже будет расти. Не считаться с этими проигравшими, значит, создавать предпосылки к будущему поражению. И снова Столпер и Самуэльсон наметили основные рамки. Рассмотрим теперь не два или три фактора, а только труд. Разделим его на две категории: квалифицированный и неквалифицированный. Развитые страны, по сравнению с остальным миром, имеют относительно развитую сферу квалифицированного труда и плохо обеспеченную — неквалифицированного.
Кого ущемляет свободная торговля в развитых странах? Относительно слабый фактор — сферу неквалифицированного труда. Кто выигрывает? Высококвалифицированные работники. Далее, глобализация повышает разницу доходов в богатых странах, поскольку с поправкой на инфляцию быстро повышаются доходы квалифицированных специалистов и медленно повышаются, а то даже и снижаются доходы неквалифицированных.
Рис. 14-1. Распределение национального дохода
И снова Столпер и Самуэльсон оказываются близки к реальности. За время жизни последнего поколения в Соединенных Штатах значительно выросла разница в доходах. Рис. 14-1 показывает данные Бюро переписи населения. Американские семьи разбиты на две группы: верхушка, составляющая одну пятую или 20%, и остальные 80%. Подсчитывается их доля в общем национальном доходе за последние 35 лет.
Из этого графика ясно видно, что в Америке верхние 20% населения стали значительно богаче. Их доля от национального дохода повысилась на 1/6 (с 41% до 48%) за период с 1970 по 2005 год. Все остальные стали, соответственно, относительно беднее.
Большинство тех, кто находился в 2005 году на нижней границе верхнего квинтиля, можно считать людьми со скромным достатком (ежегодный заработок $103 100). Чтобы поглядеть, как дела у богатых, верхушку населения нужно разложить более подробно. Те 5%, что в 2005 году получали более $ 184 500, за последние 35 лет увеличили свой кусок пирога более чем на треть. Самый верхний слой — 1% (те, чьи доходы превышали в 2005 году $340 000) — увеличил свою часть вдвое.
Хотя в последние десятилетия доход квалифицированных специалистов и менеджеров повысился, доход среднего мужчины-рабочего, с поправкой на инфляцию, за время жизни последнего поколения не вырос.{670} В представлении современных американцев о глобализации есть немалая доля истины — хорошо оплачиваемая работа на заводе уходит куда-то за море, ее сменяют дешевые места в фаст-фуде.
Хуже того, несмотря на то, что за последние 20 лет безработица снизилась, за то же время катастрофически повысилась ненадежность работы. Средний рабочий на треть чаще теряет работу, чем 20 лет назад. А когда он находит новую работу, ему платят почти на 14% меньше, если ему вообще повезет найти новую работу. (Трети рабочих и такая удача не достается.) В 1998 году «Уолл-стрит джорнал» проводил среди американцев опрос, согласны ли они с таким утверждением: «Внешняя торговля вредит американской экономике, потому что из-за дешевых импортных товаров снижается заработная плата». Как и предсказывали Столпер и Самуэльсон, в этом вопросе страна разделилась на два лагеря. Среди тех, кто получает в год более $100 000, с этим согласилась треть опрошенных, зато среди «синих воротничков» и членов профсоюзов — уже две трети.{671},[103]
Столпер и Самуэльсон ошиблись, по крайней мере, в одном — предсказав, что свободная торговля повысит отрыв развивающихся стран, поощряя квалифицированных специалистов. На самом же деле происходит обратное. Большинство квалифицированных промышленных рабочих лучше зарабатывают в коллцентрах и на международных предприятиях, увеличивая разрыв в доходах между теми, кому посчастливилось найти такую работу, и теми, кому не повезло.{672} Хотя условия работы на азиатской фабрике «Найк» могут привести в ужас человека из развитой страны, заводы американских фирм пользуются самым большим спросом во вьетнамских «зонах развития». Гораздо менее охотно идут на работу на китайские заводы, условия на которых можно очень мягко назвать спартанскими. Ноесть и другая работа, еще хуже, чем на заводе — крестьянская, которой хватает только на прокорм, и проституция.{673}
Развивающиеся страны экспортируют в США не только рубашки, кроссовки и электронику, но также и свой богатый человеческий капитал — неквалифицированных рабочих, которые конкурируют с американскими, сбивая уровень зарплаты, повышая разрыв в доходах и антииммигрантсткие настроения. Неудивительно, что многие члены профсоюзов горячо выступают за ужесточение миграционной политики.
И опять ничего нового тут нет. В XIX столетии, когда увеличивался разрыв в доходах, точно так же боялись иммиграции. Столетием раньше США, Канада, Австралия, Бразилия и Аргентина принялись ограничивать поток иммигрантов. Эта беда никак не была связана с факторами, на которые традиционно возлагают за нее вину — тяжелым экономическим положением и расизмом. Вернее сказать, что началось это в точности тогда, когда конкуренция со стороны недавних европейцев начала влиять на бедную часть электората.{674}
Откуда такая шумиха вокруг разрыва доходов? Может, это просто знак того, что экономика стала здоровее, эффективнее и амбициознее? Вовсе нет. Экономисты и демографы используют несколько величин для измерения экономического расслоения. Самая популярная из них — индекс Джини. Он изменяется от нуля до одного. Страна, в которой все население имеет строго одинаковый доход, получает индекс Джини, равный нулю. Страна, в которой один человек забирает весь доход себе, получает индекс, равный единице.
Индекс Джини самых богатых стран варьируется от 0,25 (Швеция) до 0,41 (США). Список стран с самым высоким индексом не удивляет: Намибия (0,74), Ботсвана (0,63), Боливия (0,60) и Парагвай (0,58).{675} Более систематическое исследование наводит на мысль о том, что экономическое расслоение приводит к социальной и политической нестабильности, а это, в свою очередь, оборачивается снижением инвестирования и экономического развития.{676}
Современные развитые страны как правило снижают свой индекс Джини путем распределения налогов и программ социальной помощи. Эти дорогостоящие схемы могут мешать экономическому развитию, зато ценой уменьшения расслоения покупается социальное спокойствие, которое возмещает неэффективные расходы на социальные нужды. Один из ведущих авторитетов в этой области, Джеффри Гаррет, заметил:
Поскольку богатое государство смягчает конфликт, снижая вызванную рынком неравномерность распределения риска и богатства, это может иметь для бизнеса последствия скорее благие, нежели разрушительные. Таким образом, государственные расходы могут стимулировать инвестиции двумя путями — повышая производительность посредством улучшения человеческого и физического капитала и повышая стабильность посредством поддержания открытого рынка.{677}
Иными словами, важно найти золотую середину между Сциллой дорогостоящих и экономически вредных социальных программ и Харбидой слишком тонкой страховочной сетки, сильного расслоения. Соединенные Штаты и Северная Европа почти одинаково богаты, только в США около 30% ВВП циркулирует через федеральное правительство, правительства штатов и местное управление, а правительства Северной Европы тратят около половины ВВП, большая часть которого идет на оплату социальных программ. Значит, золотая середина лежит где-то между этими двумя позициями.
Проблема в том, что не все расслоение и даже не большую его часть можно свалить на свободную торговлю. Экономисты горячо спорят, какой же именно ущерб наносится при переносе производства за рубеж и снижении числа рабочих мест и насколько нужно поднимать зарплату квалифицированным, хорошо обученным работникам.
Рассмотрим две фермы, одна из которых выращивает пшеницу с производительностью 99,5%, а другая 95%. Конечно, работники первой могут получать зарплату выше, чем на второй, но не слишком намного. Теперь представим завод, выпускающий сложный микрочип, производство которого требует сотню производственных стадий, причем ошибка на любой из них приведет к порче продукта. Здесь работа, проделанная на каждом этапе с точностью 99,5%, дает в результате 39% брака. А работа, проделанная с точностью 95% дает в итоге 99,4% брака. Таким образом, в областях, где используются высокие технологии, квалифицированный работник может рассчитывать на значительное увеличение заработной платы. (Эта парадигма называется теорией уплотнительного кольца. Она получила такое название после крушения шаттла «Челлинджер», которое произошло из-за дефекта маленькой детали.){678}
Пол Кругман считает, что почти все расслоение доходов в США происходит из-за этого премирования высококвалифицированных кадров (а в последнее время еще и из-за перемен в налоговой политике). А вот данные экономиста Адриана Вуда говорят, что во многом, если не во всем, расслоение обязано росту международной торговли. Истина, вероятно, где-то посередине. Возможно, на четверть или на пятую рост разрыва доходов в США и обеспечивается за счет торговли, но остальное идет в налоговые отчисления, направленные на повышение благосостояния и на расходы отечественного образования и обучения.{679},[104]
Закон о свободной торговле между США и Канадой 1989 года дал в руки исследователей почти идеальный инструмент для наблюдения компромиссов глобализации. Этот закон снизил тарифы с 8 до 1% на товары, которые направляются на север, и с 4 до 1% на товары, которые направляются на юг. Обе страны имеют свои устойчивые законодательные, банковские и политические институты, а поскольку США доминирует над экономикой Канады, наиболее драматические последствия закона сказались по северную сторону от границы.
Экономист Дэниел Трефлер подсчитал, что хотя в целом закон принес Канаде значительную выгоду и в долгосрочной перспективе производительность в некоторых отраслях поднялась на 15%, но при этом он стал причиной тому, что в Канаде исчезло 5% рабочих мест и до 12% наименований продукции в различных отраслях. Однако это уменьшение числа рабочих мест просуществовало не дольше десятилетия. Общая безработица в Канаде после принятия закона снизилась. Комментируя это обстоятельство, Трефлер писал, что главный вопрос торговой политики состоит в том, чтобы понять, «как свободная торговля отразится на индустриализированной экономике, и с точки зрения долгосрочной выгоды, и с точки зрения сиюминутных расходов на рабочих и прочее».{680}
* * *
За почти два десятилетия экономисты и политики столкнулись с проблемой, как компенсировать ущерб тем, кто пострадал от свободной торговли, и можно ли вообще это делать. В 1825 году Джон Стюарт Милль подсчитал, что хотя «хлебные законы» добавили денег в карманы землевладельцев, государству они стоили в несколько раз дороже. Он рассуждал, что дешевле было бы откупиться от землевладельцев:
Землевладельцы должны подсчитать вероятный ущерб от отмены «хлебных законов» и обратиться за компенсацией. Кое-кто, правда, может спросить, как далеко это зайдет, потому что собственный заработок людей, обремененный самым тяжелым из налогов (т. е. «хлебными законами»), тоже подлежит компенсации из-за упущенных возможностей, которые они никогда не получат. Но лучше отменить «хлебные законы», пусть даже ценой компенсации, чем не получить вообще ничего. И если выбор у нас только один, никто не пожалуется на перемену, которая предотвратит огромное зло и не сделает никому худа.{681}
Другими словами, дешевле и лучше для всех прямо компенсировать ущерб проигравшим. Почти через два столетия после того, как эти слова были написаны, и через полстолетия после «Предложений» Корделла Халла мир начал движение к свободной торговле. И вот, расслоения несостыковки готовы нарушить этот процесс. В самом деле, может ли свободная торговля, при всей своей выгодности, спасти пострадавших?
Многие американские защитники свободной торговли считают, что для сохранения существующей более или менее свободной торговли нужно расширить государственные социальные программы, но обычно это только пустые слова. Джагдиш Бхагвати — наверное, самый известный из сегодняшних защитников либерализации торговли. Это заслуженный ученый, у которого учились многие из наиболее известных современных экономистов. Его книга «В защиту глобализации» представляет собой три сотни страниц того, о чем сказано в названии. Менее двух страниц занимает вопрос «программ помощи для приспособления к торговле». Следующий абзац этой книги проникнут тоном, который используют многие фритредеры в спорах о рабочих, лишившихся места.
Если сталелитейный завод в Пенсильвании закрывается из-за того, что сталь из Калифорнии оказалась дешевле, то рабочие обычно спокойно воспринимают это, считая пособие по безработице нормальным средством выживания в ситуации, которую было невозможно предвидеть. Однако те же рабочие приходят в ярость, когда теряют работу из-за какого-то производителя из Южной Кореи или Бразилии. Они организуют демонстрации, агитируя за антидемпинговые меры… Они также требуют дополнительной компенсации по безработице, включая программы переквалификации.{682}
Профессор Бхагвати очень настороженно относится к необходимости компенсации. Говоря о «страховочной сетке», призванной защитить рабочие места от импортной продукции, он продолжает: «Такая квазиксенофобия — реальный факт. Когда осуществляется либерализация торговли, целесообразнее предусмотреть несколько видов специальных программ помощи и пытаться оказывать содействие в адаптации к новым условиям, а не вводить протекционистские меры, которые могут обойтись намного дороже».{683}
Подобное отношение не только враждебно настраивает рабочих, но еще и нечестно. Американская промышленность, на самом деле, имеет гораздо больше инструментов адаптации, чем труд по протекции, особенно в форме нетарифных барьеров — квот, субсидий, антидемпинговых законов и тому подобного.{684} Экономисты понемногу начинают понимать, что пора бы им уже перестать быть врагами самим себе. Дэни Родрик из Гарвардского института государственного управления имени Кеннеди очень тщательно рассмотрел социальные беспорядки, вызванные возрастающей мобильностью товаров и услуг, исследовал необходимость компенсаций и подумал о том, как они могли бы действовать. Он считает, что не случайно те развитые страны, в которых отношение объема торговли к ВВП выше, имеют и самые развитые механизмы социальной помощи.{685}Свободная торговля и «страховочная сетка» укрепляют друг друга. Стабильное, богатое торговое государство, если оно хочет таким оставаться, не может отправить на свалку тех, чей труд легко можно «заменить» во все более компромиссной мировой экономике. Согласно Родрику,
социальные расходы имеют важное значение — такой ценой покупается общественное спокойствие. Охотно соглашаясь с необходимостью избегать ненужных расходов, я настаиваю на том, что потребность в социальных расходах не исчезнет, а будет расти по мере роста глобализации.{686}
Через пятьдесят с лишним лет после того, как Столпер и Самуэльсон расписали, кто проиграет, а кто выиграет, Пол Самуэльсон, которого многие считают величайшим в мире из ныне живущих экономистов, снова удивил коллег предположением, что от свободной торговли может проиграть целое государство. Он пояснил сжатым языком данных, разобрать который способен лишь экономист, что конкуренция с трудом в других странах вызывает смену работы, но не потерю ее. (В самом деле, сейчас безработица в США составляет менее 5%.) Да, американцы по-прежнему работают, только теперь они делают это там, где платят меньше и работа менее выгодная. Самуэльсон подсчитал, что затраты на компенсации превышают выгоду, и страна в целом от свободной торговли проигрывает:
Жители Южной Дакоты, получившие среднее образование и имеющие высокий IQ, получают в полтора раза больше уровня средней зарплаты в США, так что я с 1990 года не справляюсь по телефону о состоянии моего счета. Теперь мои дела ведет нанятый сотрудник в Бомбее. Его зарплата намного ниже, чем получают в Южной Дакоте, зато она намного больше, чем его дядюшкам и тетушкам когда-либо доводилось зарабатывать.{687}
Насмешка истории выглядит почти утонченной — пожалуй, ни одна страна в XVIII-XIX веках не пострадала от свободной торговли так сильно, как Индия. Месть сладка.
К концу Второй мировой войны на долю Соединенных Штатов приходилась почти половина мирового ВВП. С тех пор их доля упала менее чем на четверть. Если бы Америка в 1945 году захлопнула дверь, которую десятилетием раньше открыл Корделл Халл, ей почти наверняка достался бы больший кусок мирового пирога, и единственная проблема была бы в том, что пирог этот оказался бы маленьким и подгорелым. В 1900 году Британия правила морями. Сегодня она играет вторую скрипку у американского гегемона. Но кто, находясь в здравом уме, предпочел бы жить в Англии 1900 года, а не в нынешней Англии?
Самуэльсон продолжает:
Из этого вовсе не следует, что страны должны или не должны применять некоторые протекционистские меры. Даже там, где, прихотью судьбы, нанесенный ущерб компенсируется преимуществами свободной торговли, демократия в целях самозащиты зачастую стреляет в собственную ногу.{688}
Когда государства воздвигают тарифные барьеры, уверяет Самуэльсон, возникает индустриальная стагнация. Лучше защищать рабочих, чем защищать промышленность. Но даже если и так, Самуэльсон не слишком оптимистично настроен по поводу возможности «подкупить слабый фактор» в стране, большая часть населения которой находится в затруднительном положении. (Того же мнения и Родрик, который отмечает трудности оплаты схем социального обеспечения при помощи налогов в мире, где корпорации с легкостью могут перемещать через государственные границы капитал и заводы.){689}
Мировая торговля рождает не только изобилие материальных ценностей, но также и интеллектуальный, и культурный капитал, способность понять соседа и желание продавать вещи другим, а не уничтожать их. Но в процессе довольно значительное меньшинство граждан оказываются ущемлены. Чем свободнее люди, товары и финансовые активы будут вращаться по миру, тем легче и неизбежнее будут возникать диспропорции в их распределении.
Дилемму свободной торговли можно выразить словами Черчилля: «Демократия — худшая форма правления, если не считать всех остальных, которые пробовались время от времени».{690} Порой доводы протекционистов действительно могут привести к мысли о том, что курс на свободную торговлю пора менять, но, как показала история XX века, на самом деле альтернативы нет.
Мало кто станет утверждать, что человечество не стало лучше, пройдя торговым путем от шумеров до Сиэтла. Попытки повернуть назад знаменуют собой самые черные эпизоды истории XX века. Помня об узких проливах, что нами пройдены, мы можем постараться больше не сесть на мель.
БЛАГОДАРНОСТИ
Еще ни одному автору не удавалось написать не художественную книгу, любого объема и масштаба, не сев бессовестно на шею семье, друзьям, коллегам, издателям и всем мимо проходящим, постоянно обращаясь к ним за советами и помощью. И я не смог бы написать эту книгу без помощи многих людей.
Леонард Андайя, Лайэм Броки, Питер Дауни, Ли Дрейго, Кристофер Эрет, Дэвид Элтис, Марк Гаррисон, Дермот Гейтли, Кэтрин Джиглер, Петер Готтсхальк, Майкл Гуаско, Джонатан Израэль, Гленн Мэй, Джоэл Мокир, Дж. П. Макнил, покойный Кларк Рейнолдс, Джорджо Риэлло, Патричия Риссо, Дэни Родрик, Рон Руп, Брэдли Роджерс, Санджай Субрахманьям, Стив Винсон, Дэвид Уорш, Роджер Уэллер, Джонатан Уэндел и Биллем Вольтере предоставили мне множество нужных сведений.
Особенно я хотел бы поблагодарить следующих людей за помощь в специальных областях: Уолтера Блума и Джереми Грина (находки австралийских серебряных монет); Роджера Берта (история британских и американских горных разработок); Фреда Дрогулу и Жана-Поля Родрига (морские геостратегические точки); Майкла Лаффана (восстание на Тернате); Джонатана Риса (загадки из истории рефрежераторных перевозок); Дональда Роговски (политика в свете теоремы Столпера—Самуэльсона); Ричарда Сил-лу (первые наброски книги); Дэниела Трефлера (новейшая история канадской торговли); Карла Троцки (пристрастие к опиуму в Китае XIX века); Шелли Уошманн (история древнего мореходства) и Джеффри Уильямсона (количественные аспекты современной экономической теории).
У некоторых людей я отнял непростительно много времени. Они заслужили не благодарностей, но извинений. Это Дональд Каган, помогавший мне маскировать скудное знание древнегреческой истории; Марк Уилис, пополнивший мою работу сведениями из микробиологии о бацилле чумы; Сидни Минц, устроивший мне ценный экскурс в историю торговли сахаром в Вест-Индии; и наконец, но не в последнюю очередь, Дуг Ирвин, который помогал мне прокладывать путь через поучительную историю вечной борьбы протекционизма и свободной торговли.
Два гиганта экономики и финансовой журналистики — Питер Бернстайн и Джейсон Цвейг — дали мне бесценные советы. Тем же помогли и друзья: Барни Шерман, Боб Апхоз и Эд Тауэр, а также студенты Эда в его прекрасном новом курсе международной торговли и экономического развития, а именно Эрик Шварц и Марк Марвелли.
От начала до конца проекта Уэсли Неф любезно делился своим многолетним литературным опытом. Тоби Манди, Морган Энтрекин, Люба Осташевски и Майкл Хорнберг из издательства «Гроувз Атлантик» профессионально отредактировали книгу. Мэтью Эрик-сон нарисовал карты для нее. Льюис О'Брайен помог с иллюстрациями, а Молли Блейлок-Корал с материалами для ссылок.
Отдельного упоминания заслуживают двое редакторов издательства «Гроувз Атлантик Пресс» — Брандо Скайхорс и Джофи Феррари-Олдер. Брандо научил меня множеству полезных вещей, которых мне отчаянно не хватало. Это дало мне сил одолеть тему, казавшуюся неохватной. Джофи отполировал текст до блеска, чего мне никак не удавалось сделать самому, и терпеливо провел книгу через все трудности ее создания.
И наконец, моя жена, Джейн Джиглер, уделила сверхчеловеческое терпение и немалую долю драгоценного свободного времени, что создало эффект, буквально, алхимического свойства. Несколько последних лет она показывала мне, как превратить бесформенную массу путаного, разрозненного текста в странички, которые можно отправить редактору. Благодарю с полным осознанием того, что я ее не достоин.
Примечания
1
Проводить параллели с современностью трудно, но в древности дневной заработок умелого ремесленника составлял одну греческую драхму, маленькую серебряную монетку весом около 1/8 унции. Если соотношение стоимости золота к серебру принять как 12:1, то цена унции золота или шелка составляла заработок за 96 дней.
(обратно)2
Только в XII веке экономисты начали вполне оценивать непредсказуемость рыночных цен. По странному совпадению, создатель теории фракталов Бенуа Мандельброт вдохновлялся, рассматривая колебания цен на хлопок, который перевозили по Нилу.
(обратно)3
Динар, как и большинство стандартных золотых монет прошлого, весил около 1/8 унции и стоил около 80 долларов в современной валюте. Таким образом, годовой доход в сотню динаров приблизительно соответствовал 8000 современных долларов.
(обратно)4
Идентификация Индии как «Офиры» — предмет спора: историки предлагают в качестве других возможный вариантов Йемен, Судан и Эфиопию. См.: Maria Eugenia Aubert. The Phoenicians and the West, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). P. 44-45.
(обратно)5
Не ранее 205 г. до н.э. (более двух столетий после написания «Истории») Эратосфен смог точно определить окружность Земли по разнице углов положения солнца в Александрии и Сиене, и установить, что экватор находится намного южнее Александрии.
(обратно)6
Мысль о том, что современная западная традиция контролировать стратегические морские порты восходит к особенностям изрезанного и гористого побережья Европы, лучше всего выразил Чаудхури: «Нуждается в объяснении не азиатская (мирная), а как раз европейская (военная) торговая система. Историки до сих пор не привели внятного и подробного объяснения. Однако в Средиземноморье греко-римской эпохи, а может быть, еще раньше, очень важно было научиться контролировать главные морские пути, чтобы держать под контролем и экономические ресурсы, и политический режим. В Индийском океане больше нигде нет такого сочетания географических, политических, экономических факторов и исторического опыта, кроме Персидского залива и акватории Индонезийских островов». См.: К. N. Chaudhuri. Trade and Civilization in the Indian Ocean (New Delhi: Munshiram Mano- harlal, 1985). P. 14.
(обратно)7
Верблюды чувствительны к сырому климату и страдают от укусов мухи цеце — переносчика трипаносомоза. Только это и помешало верблюдам заменить ослов на гораздо большей территории.
(обратно)8
И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курения, и стали при входе в скинию собрания; так же и Моисей и Аарон. (Чис 16:18).
(обратно)9
Грум утверждает, что путь проходил примерно в ста милях к востоку от Мекки, а Ходжсон упорно полагает Мекку на главном караванном пути. См.: Groom, 192; и Marshall G. S. Hodgson. The Venture of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1974), 1:152.
(обратно)10
Rodinson. P. 36. Этот автор проник в самую суть ислама, не смотря ни на атеизм, ни на марксистские убеждения.
(обратно)11
Сура 4:29. («Аль-мунтахаб»).
(обратно)12
Цифры появились намного позже, когда современные историки, такие как Ш. Д. Гойтейн и Фредерик Лэйн, проанализировали бухгалтерские книги и письма каирских и венецианских купцов с прокурорской дотошностью.
(обратно)13
Есть противоречие в отношении точного размера самого большого корабля флота. Одни ученые определяют максимальный размер только в 300 футов. См.: Ma Huan. Р. 31.
(обратно)14
Gavin Menzies. 1421: The Year China Discovered America (New York: Morrow, 2003). Проницательную критику тезисов Мензиса см.: Robert Finlay. «How Not to (Re)Write World History: Gawin Menzies and the Chinese Discovery of America». Journal of World History. 15:2 (June 2004). P. 229-242. Резюме: «…основано на мешанине расхожих рассуждений, странных предположений, искаженных источников и небрежных исследованиях. На самом деле описанные путешествия не имели места».
(обратно)15
Торт, в котором всех составляющих поровну, «по фунту».
(обратно)16
Выяснилось это только в начале XX века, когда мигранты из китайской империи Хань наводнили Маньчжурию и принялись там охотиться на этих зверьков ради ценного меха. Среди мигрантов разразилась эпидемия, унесшая около 60 000 жизней. См.: Wu Lien-Teh et al. Plague (Shanghai Station: National Quarantine Service, 1936) P. 31-35.
(обратно)17
Извлеченные недавно экстракты пульпы из зубов вероятных жертв той эпидемии, показали наличие Salmonella enterica, возбудителя брюшного тифа. См.: М. J. Papagrigorakis et al. «DNA examination of ancient dental pulp incriminates typhoid fever as a probable cause of the Plague of Athens». International Journal of Infectious Diseases 10, no. 3 (May 2006). P. 206-214.
(обратно)18
Еще более смертельна третья форма — септическая чума, передающаяся через кровь. В современном мире она встречается редко, но во времена Черной Смерти была обычным делом. Уилис, из неопубликованного. См. также: Wu. P. 3, 317, 325.
(обратно)19
Так в оригинале (OCR)
(обратно)20
Марк Уилис, неопубликованный материал, из личной переписки. Это лишь предполагаемая последовательность событий. Специалисты по истории медицины отмечают, что чума 1331 года в Китае описана плохо, а доказательства вспышки болезни на Иссык-Куле имеют, в основном, антропологический характер. Среди других возможных механизмов проникновения чумы в Каффу через восемь лет можно назвать долговременный резервуар норных грызунов в при каспийском регионе, получивший бациллу с юга, из Персии, или медленную миграцию инфекции из Китая на запад с крысами и табарганами, без вмешательства человека.
(обратно)21
Вероятно, Габриэль де Мюсси был очень искусным компилятором, подбирая впечатления из первых и вторых рук, потому что сам никогда не покидал родного города Пьяченцы. Некоторые сомневаются в том, что именно Каффа сыграла главную роль в передаче чумы в Европу. Бацилла, по меньшей мере, десятилетие кружила по Средней Азии, перепрыгивая с блохи на крысу, норных грызунов, лошадей, верблюдов и людей, продвигаясь все дальше на запад. Многие черноморские порты находились под контролем монголов, и болезнь могла с тем же успехом быть передана через них.
(обратно)22
Самый доступный и авторитетный источник данных по истории мировой экономики и статистике населения доступен на сайте Энгуса Мэддисона в формате Excel: son /HistoricaLStatistic/ horizontal-file.xls
(обратно)23
Имеется в виду догосударственное состояние «войны всех против всех», сформулированное Томасом Гоббсом.
(обратно)24
Можно не сомневаться, что он действительно их обнаружил, потому что записи папского секретаря упоминают о молуккских попугаях и особенностях жизни темнокожих островитян. См.: N. М. Penzer, ed., and John Frampton, trans., The Most Noble and Fa mous Travels of Marco Polo Together with the Travels of Niccolm de' Conti (London: Adam and Charles Black, 1973). P. 133. См. также: Howe. P. 70-74.
(обратно)25
Это вымышленная история о том, как Колумб, вернувшись из путешествия через Атлантику, сидел на обеде среди завистников- аристократов, утверждавших, что нет ничего проще — всякий мог бы поплыть на запад с попутным ветром и открыть Новый Свет. Колумб спросил их: «Кто из вас, господа, может поставить яйцо вертикально?» Каждый из собеседников попытался и не смог, тог да все заявили, что это невозможно. Колумб с размаху поставил яйцо на стол. Он сказал: «Господа, что может быть проще — проделать то, что вы сочли невозможным? Всякий мог бы сделать это после того, как вам показали, как это делается!» http: / / lesson.com/display.php?author=olcott&book=holidays& story=egg
(обратно)26
В отличие от большинства истово убежденных людей, Колумб не терял связи с окружающими. Даже после того, как Жуан II отверг его первое предложение, он несколько раз приглашал моряка на дальнейшие дискуссии. А влиятельное генуэзское семейство Чентурионе, нанимавшее Колумба на работу, когда он еще ходил по Средиземному морю, поручилось за него, когда он отправлялся в третье плавание в Новый Свет. (См. Fernandez-Armesto, 9.)
(обратно)27
Речь идет о находках, говорящих в пользу соблазнительных гипотез о донорвежских посещениях Нового Света. В Венесуэле найдены римские монеты, азиатские мотивы обнаружены на образцах тканей доколумбовских культур. См.: Stephen Jett. Crossing Ancient Oceans (New-York: Springer, 2006).
(обратно)28
Марлот — длинное шелковое или шерстяное платье, какое носили в Персии и Индии.
(обратно)29
Магнитные компасы.
(обратно)30
Первый корабль Серрана слишком обветшал, чтобы продолжать путь. Печальная участь остаться на рифах постигла джонку, купленную по пути. См. Leonard Y. Andaya, The World of Maluku (Ho nolulu: University of Hawaii Press, 1993). P. 115.
(обратно)31
Один из кораблей вернулся домой после бунта. Один потерялся в шторм. Один (как в экспедиции Васко да Гамы) пришлось бросить из-за нехватки людей. И еще один — «Тринидад» — захвати ли португальцы. Из 31 человека — тех, что вернулись на «Виктории» — 13 оказались в плену у португальцев на островах Зеленого Мыса, но позже были отпущены. См. Tim Joyner. Magellan (Cam den, ME: International Marine, 1992). P. 252-265.
(обратно)32
Утверждается, однако, что те двадцать три еврея были первыми в Северной Америке, но это спорно. Например, см. Jonathan D. Sarna. «American Jewish History», Modern Judaism 10, no. 3 (October 1990). P. 244-245.
(обратно)33
В тропических регионах потоки воздуха в нижних слоях атмосферы движутся вдоль экватора. В этом направлении они поворачивают на восток медленнее, чем Земля под ними, из-за увеличения ее диаметра в районе экватора. Таким образом, для этих воздушных масс Земля как бы движется на запад — эффект Кориолиса. В более высоких широтах в обоих полушариях все происходит наоборот. Воздушные потоки движутся к полюсам в западном направлении быстрее, чем Земля под ними. Так как у полюсов сечение Земли уменьшается, скорость вращения стремится к нулю. Это одна из причин, по которой ураганы вращаются по часовой стрелке в Южном полушарии.
(обратно)34
Хотя Арельяно, бросив основной отряд экспедиции, прибыл в Мексику первым, его осудили, а первооткрывателем признали Урданета. См. Thor Heyerdahl. «Feasible Ocean Routes to and from the Americas in Pre- Columbian Times», American Antiquity 28, no. 4 (April 1963). P. 486.
(обратно)35
Позднее было установлено, что те двадцать три бразильских еврея были не первыми, так как их встретили евреи ашкенази.
(обратно)36
Самым явным последствием закрытия иберийских портов стало то, что Голландия и другие европейские потребители перестали покупать испанскую соль, необходимую для заготовки рыбы. Еще в начале 1599 года около 120 голландских кораблей, наряду с десятками английских, французских и итальянских, каждый год приезжали за солью в Пунта-де-Арайю (в совр. Венесуэле). См.: Philip Cuttin. The Rise and Fall of the Plantation Complex, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1998). P. 90.
(обратно)37
Через триста лет американский экономист Ирвинг Фишер за метил, что в тех странах, где дома строились из соломы и глины, процентные ставки были высоки. В странах с кирпичными домами процентные ставки были очень низкими. См.: Irving Fisher. The Theory of Interest (Philadelphia: Porcupine, 1977). P. 375-382.
(обратно)38
Данные пересчитаны на доллары по курсу 2006 года, по сравнению с расчетами 1990 года, см.: Angus Maddison. The World Eco nomy: A Millennial Perspective (Paris: OECD, 2001). P. 264.
(обратно)39
По курсу 1600 года, примерно 10 гульденов за английский фунт стерлингов.
(обратно)40
Голландцы взяли Рун в 1666 году в ходе второй англо-голландской войны, а на следующий год официально закрепи ли права на него, подписав мирный договор в Бреде. Это закрепление прав очень похоже на то, как английские войска сначала заняли Манхэттен, а потом англичане «приобрели остров по обмену».
(обратно)41
Вот ваша вера (фр.).
(обратно)42
Первым дошедшим до нас упоминанием европейца о кофе, вероятно, следует считать записи известного немецкого врача Леонарда Раувольфа, который увидел кофе в 70-х годах XVI века, путешествуя по Леванту в поисках лекарств, которыми можно торговать. См.: William H. Ukers. All About Coffee (New york: Tee and Cof fee Trade Journal Company, 1935). P. 21.
(обратно)43
Homer and Sylla. P. 124, 155. Это данные по долгам короны, обеспеченным налогами. В 1726 году, когда вошли в обиход лотерейные билеты — всеобщий «отскок» к старомодному механизму заема правительства у населения, — проценты по ссудам упали до трех.
(обратно)44
Glamann. P. 204-206, из расчета, что бахар равен 400 фунтов.
(обратно)45
О ценах на кофе в Мокке см.: Glamann, 205. Цена в 0,8 гульдена за фунт рассчитана исходя из цены в 245 испанских реалов за местный бахар (735 фунтов) при курсе 2,4 гульдена за реал. Еще о весах и валютах на кофейном рынке см.: Glamann. P. 304.
(обратно)46
Человеко-день означает объем работы, который один человек выполняет за один день.
(обратно)47
Значение 13 дней получено из общей суммы человеко-дней, деленной на 8 фунтов.
(обратно)48
Thomas Mun. England's Treasure by Foreign Trade, in Leonard D. Abbot, ed. Masterworks of Economics (New York: Mc-Graw-Hill, 1973). P. 6. Мен занимал любопытную позицию, будучи одновременно меркантилистом и поставщиком Английской Ост-Индской компании. В качестве дополнительного довода он пояснял, что компания может выручить больше денег на перепродаже ситца, который отправляет в Европу, чем потратит на него в Индии. См. William J. Barber. British Economic Thought and India 1600-1858 (Oxford: Clarendon, 1975). P. 10-27.
(обратно)49
Обнаружить изъян в теории меркантилизма просто. Если страна имеет сильный позитивный баланс в торговле, ее денежная масса растет, вызывая общее повышение цен (как и случилось в Голландии XVII века). Таким образом, экспортные товары дорожают. Торговый баланс от этого снижается или вовсе становится отрицательным. В стране с отрицательным балансом возникает обратный эффект — деньги кончаются, цены падают, экспорт становится более привлекательным.
(обратно)50
Еще более интересно, что Мартин за 75 лет до Адама Смита отлично описал всю магию разделения труда. Он за метил: если часовщик или портной выполняет каждую стадию призводства, то было бы лучше, чтобы каждый работник выполнял только отдельный вид работы, тот, который ему лучше всего удается: «Прядильщик, сукновал, красильщик или портной должны быть более умелыми и проворными в своем деле, которым должны заниматься полностью и постоянно. Это куда лучше, чем если этим занимается кто придется, люди, чьи навыки неразвиты и которых отвлекают на множество других дел». Р. 43.
(обратно)51
Первое сражение Гражданской войны в США (12-13 апреля 1861 года).
(обратно)52
Стром Тэрмонд — американский сенатор от штата Южная Каролина. В 1957 году, пытаясь не допустить принятия законопроекта, уравнивающего в правах белых и черных американцев, он говорил без перерыва 24 часа 18 минут.
(обратно)53
Кантонская система предусматривала девять правил. (1) Никаких военных судов в Жемчужной реке. (2) Никакого оружия в факториях. (3) Иностранные торговцы допускались в Кантон только в торговый сезон (с сентября по март). (4) Все экипажи китайских судов, нанимаемые иностранцами, должны быть лицензированы. (5) Число слуг у иностранцев было строго ограничено. (6) Посещение иностранцами собственно Кантона строго ограничивалось. (7) Не допускались контрабанда и предоставление кредита иностранцам. (8) Иностранные суда не должны были подниматься по течению выше острова Вампу. (9) Все транзакции осуществлялись через монополию факторий, санкционированную губернатором. См. Maurice Collis. Foreign Mud (New York: New Directions, 2002). P. 15.
(обратно)54
В 1772 году, за четыре года до публикации «Богатства наций» Смита хотели послать в составе комиссии Ост-Индской компании в Бенгалию для расследования преступления, но из-за парламентской оппозиции он не был отправлен. См. William J. Barber. British Economic Thought and India 1600-1858 (Oxford: Clarendon, 1975). P. 88-89.
(обратно)55
Плесси было лишь одним из сражений Семилетней войны, по дарившей англичанам богатую добычу: не только Бенгалию, но так же Канаду и Малые Антильские острова.
(обратно)56
Единственное исключение из неучастия Ост-Индской компании в прямой продаже опиума имело место в 1782 году, когда из-за войны с Испанией не поступало серебра или товаров, чтобы оплатить чай, и генерал-губернатор Бенгалии, Уоррен Хастингс одобрил отправку двух судов с опиумом. См. Greenberg. Р. 108.
(обратно)57
Богатство Астора было обусловлено торговлей не только мехом, но также чаем и сандаловым деревом. В начале XIX века одно из пересекавших Тихий океан судов запаслось дровами на Гавайях. По прибытии в Кантон капитану предложили 500$ за тонну этого дерева. Астору удалось сохранять секрет своего бизнеса более 20 лет. За это время он вырубил на островах все сандаловые деревья и приобрел особняк на Манхэттене. См. статью «China and the Foreign Devils», Bulletin of the Business Historical Society» 3, no. 6 (November 1929); 15.
(обратно)58
Китайские деньги переводились в универсальную валюту — испанские доллары. Испанский доллар (восемь реалов) был эквивалентен серебряному доллару США. Обменный курс составлял 5 долларов за фунт стерлингов.
(обратно)59
У барка три мачты. На бизани косые паруса, а на фок- и грот- мачтах — квадратные. Изначально «Принс де Нефшатель» был бригантиной, у которой только две мачты (фок- и бизань-) с косым парусным вооружением на корме и квадратным на носу. Среди других видов кораблей с квадратными и косыми парусами можно назвать баркентину, бриг и шхуну. Если собрать воедино все эти конфигурации и водрузить на округлый, но узкий корпус, получится клипер.
(обратно)60
За первым победоносным плаванием «Ред Ровера» последовали долгие годы проб и ошибок. В 1826 году Клифтон женился на дочери Франсуа Вриньона, преуспевающего судовладельца из Калькутты. Результатом стала провальная попытка добраться до Китая при помощи клипера и паровой тяги. В то же самое время маленькая частная яхта, выполненная на манер клипера — «Фалькон», — совершила неудачное зимнее плавание из Сингапура в Китай. Первой сумела успешно пройти муссоны, скорее всего, в 1827 году шхуна «Долли» балтиморского типа. Однако она была меньше и тихоходнее, чем «Ред Ровер», и совершила только один рейс. См. Lubbock. P. 62-78; Blake. P. 54.
(обратно)61
Из-за того, что клипер — корабль недолговечный, сегодня со хранился только один ярко выраженный представитель этого класса — знаменитый парусник «Катти Сарк». Он стоял в Гринвиче как экспонат, пока в 2007 году не пострадал от пожара.
(обратно)62
Разногласия случались даже в этой фирме. В 1849 году Дональд Мэтисон, владевший фирмой вместе со своим дядюшкой, выразил протест против этой торговли. См.: Trocki. P. 163; Peter Ward Fay. «The Opening of China», in Maggie Keswick, ed. The Thistle and the Jade (London: Octopus, 1982). P. 66-67.
(обратно)63
Цит. по Karl Marx. Capital (New York: International, 1967). P. 1:432. Предположительно, эта фраза взята из письма, написанного генерал-губернатором в 1834 году, но Маркс, вероятно, переиначил ее. Проверка по письмам Бентинка за 1834 год и близкие к нему года не обнаружила источник цитаты. Эти два драматических и красноречивых предложения хотя и подходят стилю Маркса, порой исполненного эмоций, но совершенно не похожи на стиль Бентинка, формальный, сухой и беспристрастный. См.: С. Н. Philips, ed. The Correspondence of Lord William Cavendish Bentick, Governor-Ge neral of India, 1828-1835, 2 (Oxford University Press, 1977); and Morris D. Morris. «Trends and Tendencies in Indian Economic History, in Indian Economy in the Nineteenth Century: A Symposium (Delhi: Hindustan, 1969). P. 165.
(обратно)64
Последние экономические исследования показали довольно четкую зависимость между продолжительностью европейского правления и последующим экономическим прогрессом. Чем дольше период колониального правления, тем выше ВВП современного государства. См., напр., James Freyer and Bruce Sacerdote. «Colonia lism and Modern Income — Islands as Natural Experiments» (October 2006).
(обратно)65
Это не очень отличается от отказа американцев XXI века ездить на малолитражных автомобилях.
(обратно)66
Фактически, Джон Стюарт Милль более понятно описал этот принцип в своем труде, озаглавленном почти так же — «Принципы политической экономии». Эта книга вышла в свет поколением поз же. Авторы более раннего периода (XVII—XVIII вв.), такие как Смит, Роберт Торренс и Генри Мартин, излагали эту концепцию в общем виде. Тем не менее специалисты по истории экономики ставят в заслугу Рикардо математическое обоснование взаимовыгодной при роды свободной торговли. См. Irwin. P. 89-93.
(обратно)67
Антипатию министра иностранных дел к рабочему классу обессмертил Шелли после избиения в 1819 году, которое прозвали «Питерлоо»:
И вот гляжу, в лучах зари,
Лицом совсем как Кэстельри,
Убийство, с ликом роковым,
И семь ищеек вслед за ним.
(Пер. с англ. К. Бальмонта)
(обратно)68
Более сотни лет среди специалистов по истории экономики шли оживленные споры о том, служили ли «хлебные законы» основ ной причиной высоких цен на зерно и могла ли их отмена привести к падению цен. Наконец они пришли к согласию и ответили на оба вопроса утвердительно. Для сравнения по этому вопросу см. Fairlie. Р. 562-575.
(обратно)69
Закон 1828 года устанавливал налог в 34 и 2/3 шиллинга при цене ниже 52 шиллингов. Налог постепенно снижался, и при цене 72 шиллинга он достигал одного шиллинга. См. Barnes. P. 200-201.
(обратно)70
Протекционисты всегда упускают из вида этот момент: огромные пошлины на импорт и установление торговых барьеров повышают цены на импортируемое сырье, что в результате делает более затратной отечественную продукцию и снижает ее конкурентоспособность.
(обратно)71
Если считать прибыль от собственности за 6% в год, то выходит, что стоимость одного голоса составила приблизительно £33 (2 фунта в год за недвижимость разделить на 0,06). Это было вполне по силам тщательно сбалансированному бюджету Лиги в «карманных» округах, где какая-нибудь дюжина голосов легко могла определить, кто будет сидеть в палате общин.
(обратно)72
Современный читатель обнаружит очевидное сходство между благочестивой заботой английской земельной аристократии об условиях работы на английских фабриках и заботой современных американских рабочих движений об условиях труда рабочих в развивающихся странах. В спорах о «хлебных законах» многие, по обе стороны баррикад, считали, как оказалось ошибочно, что участники Лиги, владевшие заводами, видели в дешевом хлебе источник выгоды для себя. Дескать, хлеб для рабочих будет обходиться дешевле, значит, и платить им можно меньше, а значит, получать еще более высокие прибыли. (Кобден, как всегда, был прав, считая, что дешевый хлеб повысит жизненные стандарты рабочих, а не прибыли промышленников.)
Была такая популярная песенка.
Что за ревущая толпа
Сулит дешевые хлеба
За прибыль с нашего горба?
Лига!
Им хлебный помешал закон!
А нас — на скотский рацион.
Но прибыль принесет и он Лиге!
Кто хочет одурачить нас,
Подсунув хартию, как раз,
Чтобы отвлечь рабочий класс?
Лига!
Цит. Hinde. P. 70.
(обратно)73
Дизраэли поносил Пиля с бойкостью опытного писателя-романиста: «Он торговал чужими идеями и чужим разумом. Вся его жизнь — один большой свод условий приватизации. Это взломщик чужого интеллекта». Цит. Barnes. Р. 278.
(обратно)74
На практике, «отмена» означала, что до 1 февраля 1849 года пошлины существенно снижались, а с этой даты они падали до одного шиллинга за кварту. С 1869 года их отменили совсем. См. Ernie. Р. 274.
(обратно)75
Гладстон в то время был либералом (его партия стала преемницей вигов) и канцлером казначейства.
(обратно)76
Германия и Польша — главные поставщики зерна в Англию до 1846 года — тоже больше не могли прокормить самих себя. См. Fairlie. P. 568.
(обратно)77
Медь обладает очень высоким удельным весом и весит в 9 раз больше объема воды, которую вытесняет. Медная руда состоит из смеси медоносных компонентов и минеральных примесей, почти все из которых легче меди. Поэтому чем выше содержание меди в руде, тем она тяжелее.
(обратно)78
Одним исключением из пошлин на ввоз был краткий период высоких поступлений от публичной продажи земли в 1830-х. См. Mark Thornton and Robert B. Ekelund Jr. Tariffs, Blockades and Inflation (Wilmington, DE: Scholarly Resourses, 2004). P. 13.
(обратно)79
Представители Новой Англии также одобряли этот тариф, хотя и менее единодушно. См. Thornton and Ekelund. P. 19-20.
(обратно)80
Ошибка в рассуждениях Макдаффи в том, что Южная Каролина тратила лишь небольшую часть своего дохода на импортные товары. И все же факт остается фактом, что Юг платил за защиту северной промышленности, тогда как их собственный экспорт в таковой не нуждался.
(обратно)81
He в первый раз Южная Каролина аннулировала федеральный закон. В 1822 году штат принял законопроект об аресте всех черных матросов, прибывающих в его порты, что было прямым нарушением федерального закона и договорных обязательств с Англией. Федеральное правительство, не желая конфронтации, закрыло глаза на применение этого закона, дав таким образом Южной Каролине de facto право на аннулирование. См. Free- hling. P. 254.
(обратно)82
В поздних документах Харли утверждал, что в конце 1860-х граница между паром и парусами проходила между 3000 и 5000 милями, что значительно меньше, чем указанная в графике граница в 7000 миль. Тем не менее основа модели сохраняется: развитие конструкции двигателей и корпусов привело к постепенному сдвигу границы на протяжении XIX века. См. С. Knick Harley. «Ocean Freight Rates and Productivity, 1740-1913: The Primacy of Mechanical Invention Reaffirmed». Journal of Economic History 48, no. 4 (De cember 1988). P. 863-864.
(обратно)83
Конрад, стр. 47-48. Возможно, он не был самым бесстрастным свидетелем. Конрад прошел обучение на деревянных судах и недолгое время владел кораблем, но лишился работы с подъемом парового флота и занялся писательством. Век пара, таким образом, по родил не только более эффективную торговлю, но и лучшее понимание ужасов колониализма.
(обратно)84
Почетное место в перевозке искусственно замороженных продуктов принадлежит, вероятно, французу Шарлю Телье, который в 1876-1877 гг. перевез замороженное мясо на пароходе «Фрижорифик», оснащенном механизмом на аммиаке, из Буэнос-Айреса в Руан. См.: Е. G. Jones. «The Argentine Refrigerated Meat Industry», Economica 26 (June 1929). P. 160.
(обратно)85
Под земельной рентой здесь подразумевается цена земли, взятой в рассрочку, в аренду или просто оплаченной.
(обратно)86
В упрощенном виде теорема Столпера—Самуэльсона состоит вот в чем. Когда относительная цена товара возрастает, то же происходит с фактором, который наиболее интенсивно используется при производстве продукта, и обратный процесс происходит с фактором, который используется меньше.
(обратно)87
Модель справедлива для «сегментированных рынков», там, где капитал не может беспрепятственно переходить границы. Конечно, сегодня это не так.
(обратно)88
Название произошло от немецкого «Jungherr» — «молодой господин».
(обратно)89
Теоретически возможна картина, когда все три фактора в стране будут в достатке или в недостатке, но встречалась ли такая кар тина на практике, вопрос спорный.
(обратно)90
Karl Marx. The Poverty of Philosophy (New York: International Publishers, 1963). P. 224. Маркс ошибался. Позднейшая история XX века доказала венгерскую максиму, что коммунизм — самый долгий путь от капитализма к капитализму. William D. Nordhaus. «Soviet Economic Reform: The Longest Road». Brookings Papers on Economic Activity 1990, no. 1 (1990). P. 287.
(обратно)91
В предыдущих страницах я приводил противоречивую, «широкую» трактовку теоремы Столпера—Самуэльсона, которая была предложена Роговски в Commerce and Coalitions (Princeton: Prin ceton University Press, 1989). P. 1-60. С другой стороны, в интерпретации Роговски теорема Столпера—Самуэльсона расширяет модель двух товаров и двух факторов. См. Douglas A. Irwin. Review: [Untitled], Journal of Economic History 50, no. 2 (June 1990). P. 509- 510. Сами Столпер и Самуэльсон рассматривают эту проблему в своей работе, замечая, что хотя существуют крайние случаи, когда большинство рабочих от свободной торговли страдает (как в Австралии или колониальных Соединенных Штатах), в современном мире такое случается очень редко: «Из этого не следует, что американским рабочим сегодня будет лучше, если закрыть торговлю с тропическими странами, потому что земли, подходящей для выращивания бананов, кофе или каучука, у нас еще меньше, чем рабочей силы». (Stolper and Samuelson, 73). С другой стороны, либеральная интерпретация Роговски теоремы Столпера—Самуэльсона служит прекрасным историческим памятником, несмотря на свои теоретические изъяны. См. O'Rourke and Williamson, Globalization and History, 109-110. О дальнейшем разъяснении тезиса Роговски см. Paul Midford. «The International Trade and Domestic Politics: Improving on Rogowski's Model of Political Alignments». International Organization 47, no. 4 (Autumn 1993). P. 535-564. Далее, даже когда рабочие, в среднем, не страдают от свободной торговли, возникают группы, которым, определенно, приходится плохо. И что важнее всего, большинство рабочих или фермеров могут вести себя так, как если бы они пострадали от свободной торговли, хотя на самом деле этого не случилось, так было с крестьянами северной Германии, которых юнкеры обманом заставили поддержать протекционизм.
(обратно)92
Историческое название местности, где сейчас расположен Государственный департамент США.
(обратно)93
Падение мировой торговли трудно вычислить точно. Поль Берош оценивает его в 60% по стоимости и в 35% по объему. Поскольку это происходило в период значительной дефляции, реальное значение должно находиться где-то между этими двумя. См. Bai- roch. Economics and World History. P. 9.
(обратно)94
Некоторые авторы считают, что протекционизм даже повысил национальный доход крупных стран, в частности, США и Англии. См. John Conybeare. «Trade Wars: A Com parative Study of Anglo-Hanse, Franco-Italian and Hawley-Smoot Conflicts». World Politics 38, no. 1 (October 1985). P. 169-170; and Michael Kitson and Solomos Solomu. Protectionism and Economic Revival: The British Interwar Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1990). P. 100-102.
(обратно)95
Proposals for the Expansion of Trade and Employment, United States Departament of State Publication 2411, November 1945. Этот документ был написан заинтересованной частью различных департаментов правительства под управлением заместителя государственного секретаря Уильяма Клейтона. Считать «Предложения» точкой отсчета современной глобализации — преувеличение, но небольшое. Примечательно, что оно малоизвестно и труднодоступно. Найти его можно по адресу: / files/proposals.pdf
(обратно)96
Следует заметить, что за последние полстолетия Соединенные Штаты из крупнейшего мирового кредитора превратились в крупнейшего мирового должника.
(обратно)97
Исключением стали протекционист Патрик Бьюкенен и Уильям Клинтон, приверженец НАФТА, Североамериканской зоны свободной торговли.
(обратно)98
Технически, эти платежи считаются «займами» у министерства сельского хозяйства, обеспеченными урожаем. «Заемщики» могут в удобное им время погасить «заем» сахаром, пшеницей, хлопком, кукурузой или рисом по цене в 2-3 раза выше рыночной. Естественно, они предпочитают так и делать.
(обратно)99
Обсуждение истории главных соглашений ГАТТ по сельскохозяйственным товарам и тканям (Краткосрочное соглашение по хлопковым тканям, Долгосрочное соглашение по международной торговле хлопковыми тканями, Соглашение по смесовым тканям и Уругвайское соглашение по сельскому хозяйству) выходит за рамки этой книги. Подробнее освещение этого вопроса см. John Barton et al. The Evolution of the Trade Regime (Princeton: Princeton University Press, 2006). P. 92-108.
(обратно)100
Главная трудность в определении воздействия свободной торговли на экономику заключалась в проблеме «эндогенности». Так, если экономический рост сам по себе является мощным двигателем торговли, обратный эффект доказать довольно трудно. Как заметил Дуглас Ирвин, симплицистический анализ Бероша и Бьюкенена, «основанный на сомнительном утверждении, что состояние торговли можно выяснить, просто проанализировав экономический рост. Главная проблема этого подхода в том, что влияние торговой политики на экономический рост маскируется действием других факторов». Douglas A. Irwin. «Tariffs and Growth in Late Nineteenth Century America». Рабочие материалы, июнь 2000 год. Для уточнения этого действия экономисты недавно разработали уточняющие статистические инструменты и, что еще важнее, «инструментальные переменные», такие как географическое положение. Подобные методы позволили утвердить и расширить взгляды Сакса и Уорнера. Напр., см. O'Rourke. P. 456; Alan M. Taylor. «On the Costs of Inward-Looking Development: Price Distortions, Growth, and Divergence in Latin America». The Journal of Economic History 58, no. 1 (March 1998). P. 1-28; Nicholas Crafts. «Globalization and Growth in the Twentieth Century» IMF Working Paper WP/00/44; Douglas A. Irwin and Marko Tervio. «Does Trade Raise Income? Evidence from the Twentieth Century». Journal of International Economics 58(2002). P. 1-18; Jeffrey A. Frankel and David Romer. «Does Trade Cause Growth?» The American Economic Review 89, no. 3 (June 1999). P. 379-399; Sebastian Edwards. «Openness, Productivity, and Growth: What Do We Really Know?» The Economic Journal 108, no. 447 (March 1998). P. 383-398.
(обратно)101
Термин «клуб сближения» первоначально был введен в обиход экономистом Уильямом Баумолом. См. William J. Baumol. «Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show». The American Economic Review 76, no. 5 (December 1986). P. 1079.
(обратно)102
Процитировать точно эту известную фразу трудно. Эта мысль пронизывает труды Бастиа по экономике, но нигде не встречается так сжато. Эту фразу можно встретить в трудах Корделла Халла, который любил цитировать Бастиа. См.: Hull. The Memoirs of Cordell Hull. 1:363-365.
(обратно)103
Ключевое слово здесь «относительно». В США больше квалифицированных работников относительно остального мира, а неквалифицированных меньше.
(обратно)104
Для процесса из 100 стадий 99-процентная производительность на каждой стадии оборачивается вероятностью успеха 0,95100, то есть, 0,6%.
(обратно)Ссылки
1
Т. Е. Page et al., eds., The Scriptores Historiae Augustae (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1940), II: 115, 157.
(обратно)2
Ювенал. Сатиры IV, 259-260.
(обратно)3
Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел. XI, 3. Пер. С. Маркиша.
(обратно)4
Е. Н. Warmington. The Commerce between the Roman Empire and India (New Delhi: Munshriram Manoharlal, 1995). P. 147-165, 174-175, 180-183. О хлопке в Римской империи см. С. 210-212. О трудностях производства хлопка в доиндустриальном мире см. С. 253-254.
(обратно)5
S. D. Goitein. A Mediterranean Society (Berkeley: University of California Press, 1967). I. P. 347-348.
(обратно)6
Ibid. P. 298.
(обратно)7
Ibid. P. 299-300.
(обратно)8
Ibid. P. 340-342.
(обратно)9
Ibid. P. 219.
(обратно)10
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. 1,2. М., 1962.
(обратно)11
Paul Melars. «The Impossible Coincindence. A Single-Species Model for the Origins of Modern Human Behavior in Europe», Evolutionary Anthropology, 14:1 (February, 2005). P. 12-27.
(обратно)12
Фридман Т. Плоский мир. Краткая история XXI века. М., 2007 г.
(обратно)13
Warmington, P. 35-39. См. также: William H. McNeill. Plagues and Peoples (New York: Anchor, 1998). P. 128.
(обратно)14
Warmington, P. 279-284. См. также: Ian Carapace. Review of Roman Coins from India (Paula J. Turner) in The Classical Review, 41 (January 1991). P. 264-265.
(обратно)15
Alfred W. Crosby. The Columbian Exchange (Westport, CT: Greenwood, 1973). P. 75-81.
(обратно)16
Ibid. P. 88.
(обратно)17
Ibid. P. 21.
(обратно)18
Из личной переписки с Патрисией Риссо.
(обратно)19
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. VI. Пер. Н. Любимовой.
(обратно)20
Daniel Boorstin. Hidden History (New York, Harper and Row, 1987). P. 14.
(обратно)21
Robert L. O'Connell. Soul of the Sword (New York: Free Press, 2002). P. 9-23.
(обратно)22
Ibid.
(обратно)23
Mellars, P. 12-27.
(обратно)24
Геродот. История. IV. Пер. Г. А. Стратановского.
(обратно)25
P. F. de Moraes Fairas. «Silent Trade: Myth and Historical Evidence», History in Africa, I (1974). P. 9-24.
(обратно)26
Colin Renfrew. «Trade and Culture Process in European History», Current Anthropology 10 (April—June 1969). P. 151-169. Более доступную версию текста см.: J. E. Dixon, J. R. Cann, and Colin Renfrew, «Obsidian and the Origins of Trade», Scientific American, 218 (March 1968). P. 38-46.
(обратно)27
Detlev Elmers. «The Beginnings of Boatbuilding in Central Europe», in The Earliest Ships (Annapolis, MD, Naval Institute Press, 1996). P. 10, 11, 20.
(обратно)28
Phyllis Deane. The First Industrial Revolution (Cambridge: Cambridge University Press, 1981). P. 82.
(обратно)29
Геродот. История. I. Пер. Г. А. Стратановского.
(обратно)30
Gil. J. Stein. Rethinking World Systems (Tuscon: University of Arizona Press, 1999). P. 83-84.
(обратно)31
Christopher Edens. «Dynamics of Trade in the Ancient Mesopotamian World System», American Anthropologist, 94 (March 1992). P. 118-127.
(обратно)32
Jacquetta Hawkes. The First Great Civilizations: Life in Mesopotamia, the Indus Valley and Egypt (New York: Knopf, 1973). P. 110-111,138-139.
(обратно)33
Ibid.; A. L. Oppenheim. «The Seafaring Merchants of Ur», Journal of the American Oriental Society, 74:1 (January—March 1954). P. 10-11.
(обратно)34
Robert Raymond. Out of the Fiery Furnace (University Park: Pensylvania State University Press, 1968). P. 1-18; R. F. Tylcote, A History of Metallurgy (London: Metals Society, 1976). P. 9, 11.
(обратно)35
Donald Harden. The Phoenicians (New York: Praeger, 1962). P. 171.
(обратно)36
Christoph Bachhuber. «Aspects of Late Helladic Sea Trade», master's thesis, Texas A&M University, December 2003, 100.
(обратно)37
James D. Muhly. «Sources of Tin and the Beginnings of Bronze Metallurgy», American Journal of Archaeology, 89 (April 1985). P. 276. См. также Peter Throckmorton, «Sailors in the Time of Troy», in The Sea Remembers (New York: Weidenfeld and Nicholson, 1987). 32.
(обратно)38
Oppenheim, 8.
(обратно)39
H. E. W. Crawford. «Mesopotamia's Invisible Exports in the Third Millenium ВС», World Archaeology, 5 (October 1973). P. 232-241.
(обратно)40
Edens, 130.
(обратно)41
Ibid. 118-119.
(обратно)42
Albano Beja-Pereira et al. «African Origins of the Domestic Donkey», Science, 304 (June 18, 2004). P. 1781-1782.
(обратно)43
Stein. P. 88.
(обратно)44
Ibid. P. 117-169.
(обратно)45
George F. Hourani and John Carswell, Arab Seafaring (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995). P. 7.
(обратно)46
Shelley Wachmann. «Paddled and Oared Boats before the Iron Age», in Robert Gardiner, ed. The Age of the Galley (Edison, NJ: Chartwell, 2000) P. 21-22.
(обратно)47
3 Цар 9: 26-28.
(обратно)48
Harden. P. 157-179.
(обратно)49
Геродот. История. IV. Пер. Г. А. Стратановского.
(обратно)50
Hourani and Carswell. P. 8-19.
(обратно)51
Ibid. P. 19.
(обратно)52
Carol A. Redmount. «The Wadi Tumilat and the 'Canal of the Pha raohs'», Journal of Near Eastern Studies, 54:2 (April 1995). P. 127-135; and Joseph Rabino. «The Statistical Story of the Suez Canal», Journal of the Royal Statistical Society, 50:3 (September 1887). P. 496-498.
(обратно)53
Jack Turner. Spice (New York: Vintage, 2004). P. 69-70.
(обратно)54
Warmington. P. 183, 303-304.
(обратно)55
Персии Флакк Авл. Сатира пятая. Пер. Ф. А. Петровского.
(обратно)56
Плиний Старший. Естественная история. 4,21. Пер. В. Севергина.
(обратно)57
Там же, 12:83.
(обратно)58
Warnington. P. 261-318.
(обратно)59
Ibid. Р. 273.
(обратно)60
Dennis Flynn and Arturio Giraldez. «Path dependence, time lags, and the birth of globalization: A critique of O'Rourke and Williamson», European Review of Economic History, 8 (April 2004). P. 81-86.
(обратно)61
Rustichello. The Travels of Marco Polo (NewYork: Signet Clas sics, 2004). P. xxiv.
(обратно)62
Flynn and Giraldez, 85. Курсив автора.
(обратно)63
Фукидид. История. VII, 68. Пер. Ф. Г. Мищенко.
(обратно)64
Tome Pires, The Suma Oriental of Tome Pires and The Book of Francisco Rodrigues, Armando Cortesao, ed., (Glasgow, Robert Maclehose, 1944), 11:87.
(обратно)65
Фукидид. История. VII, 87. Пер. Ф. Г. Мищенко.
(обратно)66
William H. McNeill, Plagues and Peoples, 112.
(обратно)67
Фукидид. История. Т. I. Пер. Г. Стратановского.
(обратно)68
Ellen Churchill Semple. «Geographic Factors in the Ancient Mediterranean Grain Trade», Annals of Association of American Geo graphers, 11 (1921). P. 47-48, 54.
(обратно)69
Геродот. История. 172. Пер. Г. Стратановского.
(обратно)70
Геродот. История. 49. Пер. Г. Стратановского.
(обратно)71
Donald Kagan. The Peloponnesian War (New York: Viking, 2003). P. 8-9, 65, 85-86.
(обратно)72
Фукидид. История. VI, 20.
(обратно)73
Ксенофонт. Греческая история. II. Пер. С. Я. Лурье.
(обратно)74
Leila Hadley. A Journey with Elsa Cloud (New York: Penguin, 1998). P. 468.
(обратно)75
Bertram Thomas. Arabia Felix (New York: Scribner, 1932). P. 172-174.
(обратно)76
Richard W. Bulliet. The Camel and The Wheel (New York: Columbia University Press, 1990). P. 28-35.
(обратно)77
Jared Diamond. Guns, Germs, and Steel (New York: Norton, 1999). P. 168-175.
(обратно)78
Bulliet. P. 37-38,87-89,281.
(обратно)79
Ibid. Р. 141-171.
(обратно)80
С сайта ФАО ( sions/docs/greece04/App40.pdf). Про австралийскую популяцию см.: Simon Worrall. «Full Speed Ahead», Smithsonian, 36:10 (January 2006). P. 93.
(обратно)81
Janet Abu-Lughod. Before European Hegemony (Oxford: Oxford University Press, 1969). P. 176.
(обратно)82
Nigel Groom. Frankincense and Myrrh (Beirut: Librairie du Liban, 1981). P. 5, 148-154, 177-213.
(обратно)83
Притч 7: 16-20.
(обратно)84
Pliny, 45 (12:64).
(обратно)85
Ibid. 43 (12:58).
(обратно)86
Феофраст. Исследование о растениях. Книга IX. Пер. М. Е. Сергеенко.
(обратно)87
Groom, 136.
(обратно)88
Ibid. P. 6-7.
(обратно)89
Pliny, 12:111-113.
(обратно)90
Ibid. 12:65.
(обратно)91
Ibid. 43; 12:59.
(обратно)92
Groom. P. 149-162.
(обратно)93
Maxime Rodinson. Mohammed (New York: Pantheon, 1971) P. 11-14.
(обратно)94
Ibid. P. 39-40.
(обратно)95
J. J. Saunders. The History of Medieval Islam (New York: Barnes and Noble, 1965). P. 22.
(обратно)96
Bultiett. P.105-106.
(обратно)97
Rodinson. P. 32.
(обратно)98
Saunders. P. 13-14.
(обратно)99
Karen Armstrong. Muhammad (New York: Harper San Francisco, 1993). P. 65-86.
(обратно)100
Хадисы ибн-Аббаса, 3:34:311 и Хакима бин Низама 3:34:296. / bukhari/034.sbt.html#003.034.264.
(обратно)101
Там же, рассказ Джабира бин Абдуллы, 3:34:310.
(обратно)102
Saunders. P. 47.
(обратно)103
Ibid. Р. 91.
(обратно)104
Hourani. Р. 57-61.
(обратно)105
Bengt E. Hovftn. «Ninth-century dirham hoards from Sweden». Journal of Baltic Studies, 13:3 (Autumn 1982). P. 202-219.
(обратно)106
Edwin O. Reischauer. «Notes on T'ang Dynasty Sea Routes». Harvard Journal of Asiatic Studies, 5 (June 1940). P. 142-144.
(обратно)107
Saunders. P. 115-122.
(обратно)108
Hourani. P. 52.
(обратно)109
Subhi Y. Labib, «Capitalism in Medieval Islam». The Journal of Economic History 29:1 (March 1969). P. 93-94.
(обратно)110
Марко Поло. Книга о разнообразии мира. Пер. И. Минаева. М., Эксмо, 2005. Главы VII-XXIV.
(обратно)111
Чжао Жугуа, Чжу Фань Чжи (Сообщение о государстве Шриваджая)// Восток, № 6, 1996.
(обратно)112
Там же, С. 27.
(обратно)113
Friedrich Hirth, «The Mystery of Fu-lin», Journal of the American Oriental Society, 33 (1913). P. 193-208.
(обратно)114
Чжао Жугуа.
(обратно)115
Там же.
(обратно)116
Цит. по: Hourani, P. 64.
(обратно)117
Цит. по: S. Maqbul Ahmad, ed., Arabic Classical Accounts of India and China (Shimla: Indian Institute of Advanced Study, 1989) P. 36.
(обратно)118
Ibid. P. 46.
(обратно)119
Ibid. P. 51-52.
(обратно)120
Цит. по: Arabic Classical Accounts of India and China. P. 38- 40, 46-47, 52-52, 56.
(обратно)121
Бурзуг ибн-Шахрияр. Книга о чудесах Индии. М., 1959.
(обратно)122
Там же.
(обратно)123
Там же.
(обратно)124
Там же.
(обратно)125
Там же.
(обратно)126
Там же.
(обратно)127
Hourani. P. 11.
(обратно)128
Edward H. Schafer. The Golden Peaches of Samarkand (Los Angeles: University of California Press, 1963) P. 16.
(обратно)129
Чжао Жугуа. Чжу Фань Чжи. Пер. М. Ю. Ульянова.
(обратно)130
Там же.
(обратно)131
Там же.
(обратно)132
Quoted on Howe. P. 37-39.
(обратно)133
Ibid. P. 39.
(обратно)134
Тысяча и одна ночь / Пер. М. А. Салье. М., Художественная литература, 1988. Т. 2. С. 223.
(обратно)135
М. N. Pearson. «Introduction I: The Subject», in Ashin Das Gupta, ed., India and the Indian Ocean 1500-1800 (Calcutta: Oxford University Press, 1987) P. 15.
(обратно)136
Тысяча и одна ночь. Т. 2. С. 207.
(обратно)137
Там же. С. 229.
(обратно)138
Там же. С. 230.
(обратно)139
Igor de Rachewiltz. Papal Envoys to the Great Khans (London: Faber and Faber, 1971) P. 202.
(обратно)140
Chaudhuri. Trade and Civilisation in the Indian Ocean, 29.
(обратно)141
Цит. по: Samuel Lee trans. The Travels oflbn Battuta (Mineola, NY: Dover, 2004) P. 108.
(обратно)142
Ross E. Dunn. The Adventures of Ibn Battuta (Berkeley: University of California Press, 1989) P. 196.
(обратно)143
Цит. no: Lee. P. 108-109.
(обратно)144
Цит. по: Labib. P. 90.
(обратно)145
Цит. по: Dunn. P. 191.
(обратно)146
Цит. по: Rustichello. P. 204.
(обратно)147
Цит. по: Dunn. P. 223.
(обратно)148
Цит. по: Lee. P. 204-205.
(обратно)149
С. Defremery and В. R. Sanguinetti. Voyages d'Ibn Battuta (Paris, 1970), 4. P. 282-283, quoted in Dunn. P. 258.
(обратно)150
Цит. по: Lee. P. 209.
(обратно)151
Цит. по: Rustichello. P. 204.
(обратно)152
Lee, 216; and Dunn. P. 260.
(обратно)153
Patricia Risso. Merchants of Faith (Boulder, CO: Westview, 1995). P. 19-20.
(обратно)154
Pearson. P. 18.
(обратно)155
Louise Levathes. When China Ruled the Seas (Oxford: Oxford University Press, 1994) P. 42-43.
(обратно)156
Цит. по: М. H. Moreland. «The Ships of the Arabian Sea around AD 1500». The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (January 1939). P. 67.
(обратно)157
Ibid. P. 68.
(обратно)158
Ibid. P. 182-192.
(обратно)159
William J. Bernstein. The Birth of Plenty (New York: McGraw-Hill, 2004).
(обратно)160
Ma Huan. Ying-Yai Sheng-Lan (Cambridge: Cambridge University Press for the Hakluyt Society, 1970) P. 6.
(обратно)161
Joseph Needham. Science and Civilisation in China (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), IV:3:480-482.
(обратно)162
Levathes. P. 73-74.
(обратно)163
Цит. по: Ma Huan. P. 108-109.
(обратно)164
Ibid. Р. 139.
(обратно)165
Levathes. Р. 119, 140-141.
(обратно)166
Ibid. Р. 186.
(обратно)167
Ma Huan. Р. 6-7, 10-11.
(обратно)168
Цит. по: The Suma Oriental of Tome Fires and The Book of Fransisco Rodrigues. 1:42.
(обратно)169
Ibid. 1:41-42.
(обратно)170
Ibid. 11:234.
(обратно)171
Ibid. 11:234.
(обратно)172
Abu-Lughod. P. 309.
(обратно)173
Robert Sabatino Lopez. «European Merchants in the Medieval Indes: The Evidence of Commercial Documents». Journal of Economic History, 3 (November 1943). P. 165.
(обратно)174
The Suma Oriental of Tome Fires and The Book of Francisco Rodriguez. 11:270.
(обратно)175
Ibid. 11:253.
(обратно)176
Ibid. 11:273-274.
(обратно)177
Risso. P. 54.
(обратно)178
С R. Boxer. The Portuguese Seaborne Empire (New York: Knopf, 1969) P. 45.
(обратно)179
E. Ashtor. «Profits from Trade with the Levant in the Fifteenth Century». Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 38 (1975). P. 250-257. Цитаты см.: Стефан Цвейг. Магеллан. Пер. А. Кулишер.
(обратно)180
Frederic С. Lane. «Venetian Shipping during the Commercial Revolution». The American Historical Review, 38:2 (January 1933). P. 228.
(обратно)181
Abu-Lughod. P. 52-68.
(обратно)182
Чосер Дж. Кентерберийские рассказы. Рассказ о сэре Томасе. Пер. И. Кашкина.
(обратно)183
Andrew Dalby. Dangerous Tastes (Berkeley: University of California Press, 2000) P. 16, 78.
(обратно)184
Pliny, 12:30.
(обратно)185
Joanna Hall Brierly. Spices (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994) P. 4-8.
(обратно)186
John Villiers. «Trade and Society in the Banda Islands in the Sixteenth Century». Modern Asian Studies, 15, no. 4 (1981). P. 738
(обратно)187
Warmington. 227-228.
(обратно)188
Цитируется по Dalby. P. 40.
(обратно)189
Чжао Жугуа. Описание всего иноземного / Пер. с китайского Ульянов М. Ю. См. также: Geoffrey Hudson, «Medieval Trade of China» in D. S. Richards, ed., Islam and the Trade of Asia (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1970) P. 163.
(обратно)190
Turner. P. 85, 92.
(обратно)191
Ibn Khurdadhbih. Al-Masalik Wa'l Mamalik («Книга путей») in Arabic Classical Accounts of India and China (Shimla: Indian Insti tute of Advanced Study, 1989) P. 7. Henry Yule, ed. The Book of Mar co Polo (London: John Murray, 1921), ii: 272.
(обратно)192
Жан де Жуанвиль, Жоффруа де Виллардуэн. История Крестовых походов. Гл. 9. Пер. Илана Е. Полоцка.
(обратно)193
Ibid.
(обратно)194
Howe. P. 33.
(обратно)195
David Ayalon. The Mamluk Military Society (London: Variorum Reprints, 1979), IX:46.
(обратно)196
Daniel Pipes. Slave Soldiers and Islam (New Haven: Yale University Press, 1981) P. 78.
(обратно)197
Lynn White, Jr. Medieval Technology and Social Change (Ox ford: Clarendon, 1962) P. 10-25. Критику этого утверждения см.: P. H. Sawyer and R. H. Hilton, «Technical Determinism: The Stirrup and the Plough». Past and Present, 24 (April 1963). P. 90-100.
(обратно)198
Andrew Ehrenkreutz. «Strategic Implications of the Slave Trade between Genoa and Mamluk Egypt in the Second Half of the Thirteenth Century». In A. L. Udovitch, ed. The Islamic Middle East, 700-1900 (Princeton, NJ: Darwin, 1981) P. 337.
(обратно)199
David Ayalon. «The Circassians in the Mamluk Kingdom». Journal of the American Oriental Society, 69 (July — September 1949). P. 146.
(обратно)200
David Ayalon. «Studies on the Structure of the Mamluk Army — I». Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 15 (1953). P. 206-207.
(обратно)201
Ayalon. «The Circassians in the Mamluk Kingdom». 146.
(обратно)202
Pipes. P. 83.
(обратно)203
Ibid. P. 83-84.
(обратно)204
Ayalon. The Mamluk Military Society, Xb:6.
(обратно)205
Ibid. Xb: 15.
(обратно)206
Ibid. Xa: 197, 221.
(обратно)207
Ehrenkreutz. P. 336.
(обратно)208
Saunders. P. 165.
(обратно)209
Ibid. P. 47, 49.
(обратно)210
David Ayalon. The Mamluk Military Society, VIII:49.
(обратно)211
Michael W. Dols. The Black Death in the Middle East (Princeton: Princeton University Press, 1977) P. 21, 56-57.
(обратно)212
Ehrenkreutz. P. 343.
(обратно)213
Howe. P. 98-99.
(обратно)214
S. D. Goitein. «New Light on the Beginnings of the Karim Merchants». Journal of Economic and Social History of the Orient 1 (August 1957). P. 182-183.
(обратно)215
Labib. P. 84.
(обратно)216
Ibid. P. 83.
(обратно)217
Walter J Fischel. «The Spice Trade in Mamluk Egypt». Journal of Economic and Social History of the Orient 1 (August 1957). P. 161-173.
(обратно)218
Ibid. P. 74-75.
(обратно)219
Mark Wheelis, из личной переписки.
(обратно)220
Wu, 289-291. См. также: Rosemary Horrox. The Black Death (Manchester, England: Manchester University Press, 1994) P. 5.
(обратно)221
A. B. Christie et al. «Plague in camels and goats: their role in human epidemics». Journal of Infectious Disease, 141:6 (June 1980). P. 724-726.
(обратно)222
Гиппократ. Эпидемии. Пер. В. И. Руднева.
(обратно)223
Фукидид. История. II. Пер. Г. А. Стратановского.
(обратно)224
J. F.Gilliam. «The Plague under Marcus Aurelius». The American Journal of Philology 82, no. 3 (July 1961). P. 225-251. См. также McNeill. P. 131.
(обратно)225
Ibid. Р. 178-179.
(обратно)226
Прокопий Кесарийский. Война с персами. Пер. А. Чекалова.
(обратно)227
Там же.
(обратно)228
Там же.
(обратно)229
Там же.
(обратно)230
Dols. P.21-27.
(обратно)231
Josiah С. Russell. «That Earlier Plague». Demography 5, no. 1 (1968). P. 174-184.
(обратно)232
McNeill. P. 147-148.
(обратно)233
Ibid. P. 138-139,142.
(обратно)234
Ibid. P. 173-176.
(обратно)235
Horrox. Р. 17.
(обратно)236
Ibid.
(обратно)237
Mark Wheelis. «Biological warfare at the 1346 Siege of Kaffa». Emerg. Infect. Dis. [serial online] September 2002 [accsessed Decem ber 15, 2005]: 8. Available from URL: / EID/vol8no9/01 -0536.htm
(обратно)238
Horrox. Р. 36.
(обратно)239
Ibid. P. 39.
(обратно)240
Allan Evans. Review of Genova marinara nel duecento: Bene detto Zaccaria, ammirglio e mercante. Speculum 11, no. 3 (July 1936). P. 417.
(обратно)241
Марк Уилис, неопубликованный материал.
(обратно)242
McNeill. P. 179, 182.
(обратно)243
Horrox. P. 20.
(обратно)244
Ibid. P. 9-13.
(обратно)245
Ibid. P. 209-210.
(обратно)246
Ibid. P. 13-18.
(обратно)247
Frederic С Lane. Venice: A Maritime Republic (Baltimore: John Hopkins University Press, 1973) P. 19; B. Z. Kedar. Merchants in Crisis (New Haven: Yale University Press, 1976) P. 5.
(обратно)248
Dols. P. 58-59.
(обратно)249
Horrox. P. 18.
(обратно)250
Ibid. P. 25. Сведения о численности населения см.: Daron Ace-moglu et al. «Reversal of Fortune: Geography and Institutions and the Making of the Modern World Income Distribution». Quarterly Journal of Economics, 117 (November 2002). P. 1231-1294.
(обратно)251
Dols. P. 60.
(обратно)252
Ibid. P. 65.
(обратно)253
Ibid. P. 57.
(обратно)254
David Neustadt (Ayalon), «The Plague and its Effects upon the Mamluk Army». Journal of the Royal Asiatic Society (1946). P. 67-73.
(обратно)255
Dols. P. 188.
(обратно)256
Abu-Lughod. P. 236-239; Dols. P. 197, 265.
(обратно)257
McNeill. Р. 130.
(обратно)258
Ibn Khaldun, trans. Franz Rosenthal. The Muqaddimah: An Introduction to History (New York: Pantheon, 1958) P. 64.
(обратно)259
Robert В. Serjeant. The Portuguese off the South Arabian Coast: Hadrami Chronicles (Oxford: Clarendon, 1963) P. 43.
(обратно)260
Ehrenkreutz. P. 338-339.
(обратно)261
Charles E. Nowell. «The Historical Prester John». Speculum, 28:3 (July 1953). P. 434-445.
(обратно)262
Robert Silverberg. In the Realm of Prester John (Garden City, NY: Doubleday, 1972). P. 3-7, quote, 45.
(обратно)263
Ibid. P. 43.
(обратно)264
Ibid. P. 2.
(обратно)265
Pearson. P.83.
(обратно)266
Dana B. Durand. Review of Precursori di Colombo? Il tentativo di viaggio transoceanio dei genovesi fratelli Vivaldi nel 1291 by Alberto Magnaghi, Geographical Review, 26:3 (July 1936). P. 525-526.
(обратно)267
Felipe Fernandez-Armesto. Columbus (Oxford: Oxford University Press, 191). P. 9.
(обратно)268
J. H. Plumb, Introduction, in С R. Boxer, The Portuguese Sea borne Empire, P. xxxvi.
(обратно)269
Silverberg. P. 194-195.
(обратно)270
Boxer. The Portuguese Seaborne Empire. P. 28-29.
(обратно)271
Howe. P. 105.
(обратно)272
Samuel Eliot Morison. Admiral of the Ocean Sea (Boston: Little, Brown, 1970). P. 24-26,41.
(обратно)273
Ibid. P. 33-34, 64.
(обратно)274
Сравнительный анализ историографии побудительных мотивов Колумба см. Cecil Jane. Select Documents Illustrating the Four Voyages of Christopher Columbus (London: Hakluyt Society, 1930). P. xiii-cl.
(обратно)275
C. Varela, ed. Crisobal Colon: Textos у documentos completos (Madrid: 1984) P. 256, quoted in Fernandes-Armesto, 134.
(обратно)276
Quoted in Fernandez-Armesto. P. 97.
(обратно)277
Ibid. P. 54-108.
(обратно)278
Zweig. P. 26.
(обратно)279
Acemogluetal. P. 1231-1294.
(обратно)280
A.R. Disney. Twilight of the Pepper Empire (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978) P. 21.
(обратно)281
Boxer. The Portuguese Seaborne Empire. P. 20-22.
(обратно)282
Morison. P. 368-374.
(обратно)283
M. N. Pearson. «India and the Indian Ocean in the Sixteenth Century» in India and the Indian Ocean. P. 78.
(обратно)284
Рутейру. Введение.
(обратно)285
Там же. Река Добрых Знаков.
(обратно)286
Там же. Мозамбик.
(обратно)287
Там же.
(обратно)288
Там же. Момбаса.
(обратно)289
Там же. Малинди.
(обратно)290
Sanjay Subrahmanyam, The Career and Legend of Vasco da Gama (Cambridge: Cambridge University Press, 1977). P. 121-128.
(обратно)291
Рутейру. Каликут.
(обратно)292
Там же.
(обратно)293
Там же.
(обратно)294
Там же.
(обратно)295
Там же. Царь посылает за Диогу Диашем.
(обратно)296
Там же. Через Аравийское море.
(обратно)297
Earl J. Hamilton. «American Treasure and the Rise of Capitalism». Economica 27 (November 1929). P. 348.
(обратно)298
Boxer, The Portuguese Seaborne Empire, 206.
(обратно)299
William Brooks Greenlee, trans. The Voyage of Pedro Shares Cabral to Brazil and India (London: Hakluyt Society, 1938). P. xxiii- xxviii, 83-85.
(обратно)300
Quoted in Subrahmanyam. P. 205.
(обратно)301
Ibid. P. 214.
(обратно)302
Ibid. P. 215.
(обратно)303
Boxer. The Portuguese Seaborne Empire. P. xxiii.
(обратно)304
Ibid. P. 227.
(обратно)305
Genevieve Bouchon and Denys Lombard. «The Indian Ocean in the Fifteenth Century» in India and the Indian Ocean, ed. A. D. Gupta and M. N. Pearson (Calcutta: Oxford University Press, 1987). P. 55-56.
(обратно)306
Quoted in Silverberg. P. 216.
(обратно)307
Pearson. «India and the Indian Ocean in the Sixteenth Century». P. 67-68.
(обратно)308
Ibid. P. 87.
(обратно)309
Quoted in Zweig. P. 52.
(обратно)310
Zweig. P. 33-69.
(обратно)311
Ibid. P. 192-240.
(обратно)312
Pearson. «India and the Indian Ocean in the Sixteenth Century». P. 90.
(обратно)313
Quoted in Frederic С. Lane. «The Mediterranean Spice Trade: Fur ther Evidence of Its Revival in the Sixteenth Century». American Historical Review, 45:3 (April 1940). P. 589.
(обратно)314
Ibid. P. 587.
(обратно)315
Frederic С Lane. «Venetian Shipping during the Commercial Revolution». P. 228-234.
(обратно)316
Om Prakash. «European Commercial Enterprise in Precolonial Europe» in The New Cambridge History of India (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 11:5, 45.
(обратно)317
Ibid. P. 581, 287-588. Противоположную точку зрения см.: С. Н. Н. Wake. «The Changing Pattern of Europe's Pepper and Spice Imports, ca. 1400-1700». Journal of European Economic History. (Fall 1979). P. 361-403. Но даже Уэйк отмечает, что в XVI веке через Красное море и Венецию шел значительный поток пряностей.
(обратно)318
М. N. Pearson. The New Cambridge History of India (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 1:1, 44.
(обратно)319
Boxer. The Portuguese Seaborne Empire. P. 59.
(обратно)320
Charles R. Boxer. «A Note on Portuguese Reactions to the Revival of the Red Sea Spice Trade and the Rise of Atjeh, 1540-1600». Journal of Southeast Asian History 10 (1969). P. 420.
(обратно)321
Ibid. P. 425.
(обратно)322
Charles R. Boxer. The Great Ship from Amacon (Lisbon: Centro de Estudios Histyricos Ultramarinos, 1959). P. 1-2.
(обратно)323
Ibid. P. 22.
(обратно)324
Ibid. P. 15-16.
(обратно)325
Ibid. P. 16-18.
(обратно)326
M. N. Pearson. The New Cambridge History of India, 1:1. P. 37-39.
(обратно)327
M. A. P. Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1962). P. 144.
(обратно)328
Ibid. P. 43.
(обратно)329
Prakash. P. 54.
(обратно)330
John Villiers. «Las Yslas de Esperar en Dios: The Jesuit Mission in Moro 1546-1571». Modern Asian Studies 22, no. 3 (1988, special issue). P. 597.
(обратно)331
Paramita R. Abdurachman. «Niachile Pokaraga»: A Sad Story of a Moluccan Queen». Modern Asian Studies 22, no. 3 (1988, special issue). P. 589.
(обратно)332
Andaya. P. 116-141.
(обратно)333
Disney. P. 20-21.
(обратно)334
Homer H. Dubs and Robert S. Smith. «Chinese in Mexico City in 1635». Far Eastern Quarterly 1, no. 4 (August 1942). P. 387.
(обратно)335
Horace Stern. «The First Jewish Settlers in America: Their Strug gle for Religious Freedom», Jewish Quarterly Review 45, no. 4 (April 1955). P. 289, 292-293, цит. 293.
(обратно)336
Philippa Scott. «The Book of Silk» (London: Thames and Hudson, 1993) P. 22, 24, 33.
(обратно)337
J. H. Parry. Review of «Friar Andras de Urdaneta, O. S. A»., Hispanic American Historical Review 47, no.2 (May 1967). P. 262.
(обратно)338
William Lytle Schurz. «Mexico, Peru, and the Manila Galleon», American Historical Review 1, no. 4 (November 1918). P. 390.
(обратно)339
Ibid. P. 394-395.
(обратно)340
Dubs and Smith. P. 387.
(обратно)341
Ibid. P. 398.
(обратно)342
Ibid. P. 391.
(обратно)343
Ibid. P. 387
(обратно)344
Потребление сахара — / show_cdr.asp?urlJile=/docrep/009/J7927e/j7927e07.htm. Население Евросоюза 457 миллионов — cations/factbook/rankorder/2119rank.html; население США 299 миллионов — ckus.html. Средневековое европейское потребление — Henry Hobhouse. Seeds of Change (New York: Harper and Row, 1986). P. 44.
(обратно)345
Norge W. Jerome, in James M. Weiffenbach, ed. Taste and Development: The Genesis of Sweet Preference, Washington D.C.: Natio nal Institutes of Health, 1974) P. 243.
(обратно)346
Sidney W. Mintz Sweetness and Power, (New York: «Penguin», 1986)P.xxi,6.
(обратно)347
Paul Hentzner— / hentzner.html
(обратно)348
J. H. Galloway. The Mediterranean Sugar Industry, Geographical Review 67, no. 2 (April 1977) P. 182-188.
(обратно)349
Mintz. P. 23.
(обратно)350
Galloway. P. 180.
(обратно)351
Alberto Vieria. «Sugar Islands» and «Introduction», in Stuart B. Schwartz, ed. Tropical Babylons (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004) P. 10, 62-73.
(обратно)352
Jonathan I. Israel. Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740 (Oxford: Clarendon, 1989) P. 161-168.
(обратно)353
Stern. P. 289. Для более детального изучения вопроса см. Arnold Wiznitzer «The Exodus from Brazil and Arrival in New Am sterdam of the Jewish Pilgrim Fathers, 1654», Publication of the Ame rican Jewish Historical Society44, no. 1 (September 1954). P. 80-95.
(обратно)354
J. E. Heeres. «Het Aandeel der Nederlanders in de Ontdekking van Australie, 1606-1765», Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill, 1899. P. xii-xiv. Также см. Estensen. P. 126-127.
(обратно)355
Ibid. P. 156-164. Более подробно о крушении «Батавии» см. Mike Dash. Batavias Graveyard (New York, Crown Publishers, 2002).
(обратно)356
John J. McCusker. Money and Exchange in Europe and Ame rica 1600-1775 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1978). P. 7-8.
(обратно)357
Kristof Glamann. Dutch-Asiatic Trade 1620-1740 ('s-Graven-hage, Netherlands: Martinus Nijhoff, 1981). P. 64-65.
(обратно)358
Jeremy N. Green. «The Wreck of the Dutch East Indiaman the Vergulde Draek, 1656», International Journal of Nautical Archaeo logy and Underwater Exploration 2, № 2 (1973). P. 272-274, 278- 279. Более подробно см. Miriam Estensen. Discovery, the Quest of the Great South Land (New York: St. Martin's, 1998). P. 193-194.
(обратно)359
Donald Simpson. «The Treasure in the Vergulde Draek: A Sample of V. О. С Bullion Exports in the 17th Century», Great Circle 2, no. 1 (April 1980). P. 13.
(обратно)360
Derek Wilson. The World Encompassed: Francis Drake and His Great Voyage (New York: Harper and Row, 1977). P. 60-63.
(обратно)361
Marguerite Eyer Wilbur. The East India Company (Stanford University Press. 1945). P. 5-9.
(обратно)362
Charles Boxer, The Dutch Seaborne Empire (New York: Penguin, 1988). P. 21.
(обратно)363
Arthur Coke Burnell, ed. The Voyage of John Huyghen van Linschoten to the East Indies (New York: Burt Franklin, 1885). I: xxvi.
(обратно)364
Ibid. P. 112.
(обратно)365
John Bastin. «The Changing Balance of the Southeast Asian Pepper Trade», in M. N. Pearson, Spices in the Indian Ocean World (Aldershot: Variorum, 1996). P. 285.
(обратно)366
Ibid. 25.
(обратно)367
Ibid.
(обратно)368
Michael Greenberg. British Trade and the Opening of China (Cambridge: Cambridge University Press, 1969). P. 2.
(обратно)369
Wilbur. P. 18-24.
(обратно)370
Charles Boxer. The Portuguese Seaborne Empire. P. 110.
(обратно)371
Sidney Homer and Richard Sylla. A History of Interest Rates (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1996). P. 137-138.
(обратно)372
Jan De Vries and Van Der Woude. The First Modern Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1996). P. 137-138.
(обратно)373
Israel. P. 21-22.
(обратно)374
Ibid. P. 27.
(обратно)375
Цит. по Т. S. Ashton. The Industrial Revolution, 1760-1830 (Oxford, Oxford University Press, 1967). P. 9.
(обратно)376
Wilbur, 21. См. также Jonathan В. Baskin and Paul J. Miranti. A History of Corporate Finance (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). P. 75.
(обратно)377
Meilink-Roelofsz. P. 195-196.
(обратно)378
Vincent С Loth. «Armed Incidents and Unpaid Bills: Anglo-Dutch Rivalry in the Banda Islands in the Seventeenth Century». Modern Asi an Studies 29, no. 4 (October 1995). P. 707.
(обратно)379
Meilink-Roelofsz. P. 193.
(обратно)380
Boxer. The Dutch Seaborne Empire. P. 75.
(обратно)381
Andaya. P. 152-155.
(обратно)382
Israel. P. 185.
(обратно)383
Boxer. The Dutch Seaborne Empire. P. 107.
(обратно)384
Ibid. P. 164.
(обратно)385
Loth. 705-740.
(обратно)386
Niels Steensgaard. The Asian Trade Revolution of the Seven teenth Century (Chicago, University of Chicago Press, 1974). P. 345-397.
(обратно)387
Meilink-Roelofsz. P. 222-225.
(обратно)388
Boxer. The Dutch Seaborne Empire. P. 128.
(обратно)389
Ibid. P. 265-267. Цит. по: С R. Boxer. Jan Compagnie in Japan, 1600-1850 (The Hague: Nijhoff, 1950). P. 90.
(обратно)390
Israel. P. 172-175.
(обратно)391
Ibid. P. 177.
(обратно)392
Ibid. P. 91-92.
(обратно)393
De Vries and Van Der Woude. P. 642-646; цит. 643.
(обратно)394
Hobhouse. P. 105.
(обратно)395
Glamann. P. 47-34.
(обратно)396
Ibid. P. 108-111.
(обратно)397
Israel. P. 199-202.
(обратно)398
Ibid. P. 208-224, 262-269, 287.
(обратно)399
Arthur Meier Schlesinger. «The Uprising Against the East India Company». Political Science Quarterly 32, no. 1 (March 1917). P. 60-79.
(обратно)400
Ibid. P. 67-68.
(обратно)401
Ibid. P. 69.
(обратно)402
Ibid. P. 70.
(обратно)403
Jean de La Roque. A voyage to Arabia foelix through the Eastern Ocean and the Streights of the Red Sea, being the first made by the French in the years 1708,1709 and 1710 (London: Printed for James Hodges, 1742). P. 296-297.
(обратно)404
Ibid. P. 309.
(обратно)405
Ralph S. Coffee and Coffeehouses (Seattle: University of Washington Press, 1988). P. 22-26.
(обратно)406
Ibid. P. 335.
(обратно)407
Ibid. P. 313.
(обратно)408
Ibid. P. 321, Hattox. P. 36-37.
(обратно)409
La Roque. P. 336. См. также Bennett Alan Weinberg and Bonnie K. Bealer, The World of Caffeine (New York: Routledge, 2001). P. 14.
(обратно)410
Цит. по Weinberg and Bealer. P. 13.
(обратно)411
Ibid. P. 15.
(обратно)412
Цит. по Fernand Braudel. Capitalism and Material Life MOO- WOO (New York: Harper and Row, 1967). P. 184.
(обратно)413
Ibid. P. 46.
(обратно)414
David Liss. The Coffee Trader (New York: Random House, 2003). P. 15.
(обратно)415
Douglass С. North and Barry R. Weingast. «Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutional Governing Public Choice in Seventeenth-Century England», Journal of Academic History 49 (December 1989). P. 803-32.
(обратно)416
Ibid. P. 200-201.
(обратно)417
Ibid. P. 207-211.
(обратно)418
Про голландского священника см.: Boxer. Jan Compagnie, p. 61. Цитата из: Braudel. P. 186.
(обратно)419
Boxer. Jan Compagnie. P. 61-62.
(обратно)420
Jonathan F. Wendel and Richard C. Cronin. «Polyploidity and the Evolutionary History of Cotton», Advances in Agronomy 78 (2003). P. 139-186.
(обратно)421
Neil McKendrick, John Brewer, and J. H. Plumb. The Birth of a Consumer Society (London: Europa, 1982). P. 36-37.
(обратно)422
Hobhouse, 144.
(обратно)423
Audrey W. Douglas. «Cotton Textiles in England: The East India Company's Attempt to Exploit Developments in Fashion 1660-1727». Journal of British Studies 8, no. 2 (May 1969). P. 29.
(обратно)424
Ibid. P. 30.
(обратно)425
Defoe's Review (New York: Columbia University Press, 1938), no. 43 (January 6, 1712). P. 8.
(обратно)426
Ibid. no. 11 (January 26, 1706). P. 3.
(обратно)427
Douglas. P. 33.
(обратно)428
Ramakrishna Mukherjee. The Rise and Fall of the East India Company (Berlin: VEB Deutsher Verlag der Wissenschaften, 1958). P. 226.
(обратно)429
Ibid. P. 282.
(обратно)430
Alfred С. Wood. A History of the Levant Company (London: Frank Cass, 1964). P. 1-11, 102-105.
(обратно)431
Ibid. P. 103-104.
(обратно)432
Ibid. P. 104.
(обратно)433
Ibid. P. 104-105.
(обратно)434
Цит. по: Douglas Irwin. Against the Tide (Princeton: Princeton University Press, 1996). P. 48.
(обратно)435
Charles Davenant. Essay on the East-India-Trade (London: Printed for author, 1696). P. 22, 26, 32.
(обратно)436
Henri Martyn. Considerations on the East India Trade (London: Printed for J. Roberts, 1701). P. 10, фоторепродукция в: J. R. McCul- louch. Early English Tracts on Commerce (Cambridge: Cambridge University Press, 1970). Есть сомнение в том, кому принадлежит авторство этого трактата. На титульном листе автор не указан, но большинство исследователей считают автором Мартина. См.: P. J. Thomas. Merchantilism and the East India Trade (London: Frank Cass, 1963). P. 171-173.
(обратно)437
Ibid. P. 37.
(обратно)438
Ibid. P. 32-33.
(обратно)439
George L. Cherry. «The Development of the English Free-Trade Movement in Parliament, 1689-1702», Journal of Modern History 25, no. 2 (June 1953). P. 103-119.
(обратно)440
Ibid. P. 110.
(обратно)441
K. N. Chaudhuri. The Trading World of Asia and the English East India Company (Cambridge: Cambridge University Press, 1978). P. 294-295.
(обратно)442
Цит по Thomas. P. 136.
(обратно)443
Beverly Lemire. Fashion's Favourite (Oxford: Oxford University Press, 1991). P. 32.
(обратно)444
Ibid. P. 145-146.
(обратно)445
Ibid. P. 34-42, 160.
(обратно)446
Т. К. Derry and Trevor I. Williams. A Short History of Technology (New York: Dover, 1993). P. 105-107, 558-561.
(обратно)447
E. J. Hobsbawm. «The Machine Breakers», Past and Present 1 (February 1952). P. 57-70.
(обратно)448
Lemire. P. 54.
(обратно)449
McKendricketal. P. 34-39.
(обратно)450
Hobhouse. P. 148-154.
(обратно)451
С.R. Harler. The Culture and Marketing of Tea, 2nd ed. (London: Oxford University Press, 1958). P. 109, 225.
(обратно)452
Chaudhuri. The Trading World of Asia and the English East India Company. P. 386.
(обратно)453
James Walvin. Fruits of Empire (New York: New York University Press, 197). P. 16-19.
(обратно)454
N. McKendrick. «Josiah Wedgwood: An Eighteen-Century Entrepreneur in Salesmanship and Marketing Techniques», Economic History Review 12, no. 3 (1960). P. 412-426.
(обратно)455
Jonas Hanway цит. по: Walvin. P. 22.
(обратно)456
Philip Curtin. The Rise and Fall of the Plantation Complex. P. 83.
(обратно)457
Richard S. Dunn. Sugar and Slaves (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1972). P. 7-21, 61, 64-65.
(обратно)458
Richard Ligon. A True & Exact History of the Island Barbadoes (London: Peter Parker, 1673). P. 20-21.
(обратно)459
Цит. по David Eltis. The Rise of African Slavery in the Americas (Cambridge: Cambridge University Press, 2000). P. 201.
(обратно)460
Ibid. P. 127, 201-202.
(обратно)461
Ligon. P. 96.
(обратно)462
Hugh Thomas. The slave Trade (New York: Simon and Schuster, 1999). P. 201-207.
(обратно)463
Dunn. Р. 112-116.
(обратно)464
Ibid. P. 73.
(обратно)465
Расчет из Eltis, 50, таблица 2-2.
(обратно)466
Philip Curtin. The Atlantic Slave Trade (Madison: University of Wisconsin Press, 1969). P. 69, 81.
(обратно)467
Paul Bairoch. Economics and World History (Chicago: University of Chicago Press, 1993). P. 146.
(обратно)468
Curtin. The Rise and Fall of the Plantation Complex. P. 39-40.
(обратно)469
David Brion Davis. Inhuman Bondage (Oxford: Oxford University Press, 2006). P. 90-91.
(обратно)470
Eltis. The Rise of African Slavery in the Americas. P. 176.
(обратно)471
Цит. по: Davis. Inhuman Bondage. P. 92.
(обратно)472
Профессор Кертин опубликовал свои первые научные расчеты в 1967 году в ключевой работе «Атлантическая работорговля» («The Atlantic Slave Trade»). Основные его заключения подтвердил и уточнил профессор Элтис. См. The Rise of African Slavery in the Americas, «The Volume and Structure of the Transatlantic Slave Tra de: A Reassessment». William and Mary Quarterly. 58, no. 1 (January 2001). P. 17-46, и David Eltis and David Richardson. «Prises of African Slaves Newly Arrived in the Americas, 1673-1865: New Evidence on Long-Run Trends and Regional Differentials», in David Eltis, ed. Slavery in the Development of the Americas (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). P. 181-211.
(обратно)473
Curtin, The Atlantic Slave Trade. P. 268. Более свежие и, на верное, более точные оценки трансатлантических перевозок рабов см. Eltis. «The Volume and Structure of the Transatlantic Slave Trade: A Reassessment». P. 17-46.
(обратно)474
Davis. Inhuman Bondage. P. 80.
(обратно)475
Ibid. P. 11-12,40-41.
(обратно)476
Michael Tadman. «The Demodraphic Cost of Sugar: Debates on Slave Societies and Natural Increase in the Americas», American Historical Review, 105, no. 5 (December 2000). P. 1556.
(обратно)477
Ibid. P. 1554-1555, 1561.
(обратно)478
Ibid. P. 1536.
(обратно)479
Цит. по: Greenberg. P. 45.
(обратно)480
Ibid. P. 78-79.
(обратно)481
Jehangir R. P. Mody. Jamsetjee Jeejeebhoy (Bombay: R.M.D.C. Press. 1959). P. 2-Й, 21-28.
(обратно)482
Hsin-pao Chan. Comissioner Lin and the Opium War (New York, Norton, 1964). P. 121-122.
(обратно)483
Цитируется по J. R.Ward. «The Industrial Revolution and British Imperialism, 1750-1850», Economic History Review 47, no 1 (Febru ary 1994). P. 47.
(обратно)484
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2007. Гл. VIII.
(обратно)485
Там же, гл. IX.
(обратно)486
Anthony Webster. «The Political Economy of Trade Liberalization: The East India Company Charter Act of 1813», The Economic History Review 43, no. 3 (August 1990). P. 404-419.
(обратно)487
Jack Beeching. The Chinese Opium Wars (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975). P. 51.
(обратно)488
W. Travis Hanes III. The Opium Wars (Naperville IL: Source books, 2002). P. 13-19.
(обратно)489
Hsin-pao. P. 9-10.
(обратно)490
Greenberg. P.86.
(обратно)491
Ibid. P. 5.
(обратно)492
Hsin-pao. P. 4.
(обратно)493
Greenberg. P. 6, 8.
(обратно)494
Carl Trocki. Opium, Empire and the Global Political Economy (London: Routledge, 1999). P. 6, 14-21.
(обратно)495
Hsin-pao. P. 16-17.
(обратно)496
Trocki. P. 34.
(обратно)497
Paul Johnson. The Birth of the Modern (New York: Harper Collins, 1991). P. 761-774; Hsin-pao, 95-96.
(обратно)498
Greenberg. P. 110.
(обратно)499
Robert Blake. Sardine Matheson (London: Wieldfield & Nicholson, 1999). P. 44-45.
(обратно)500
Сомерсет Моэм. «На китайской ширме». М., 2002.
(обратно)501
R.K. Newman. «Opium Smoking in Late Imperial China: A Recon sideration», Modern Asian Studies 24, no. 4 (October 1995); 784.
(обратно)502
Hsin-pao. P. 85-91.
(обратно)503
Greenberg. P. 22-28.
(обратно)504
Ibid. P. 96-97.
(обратно)505
Greenberg. P. 36-41, 136-139.
(обратно)506
Blake. P. 46.
(обратно)507
Trocki. Р. 103.
(обратно)508
Basil Lubbock. The Opium Clippers (Glasgow: Brown, Son, and Ferguson, 1933). P. 72-77.
(обратно)509
Trocki. P. 106.
(обратно)510
Неизвестный корреспондент XIX века, цит. «Behind the Mask», Economist, March 18, 2004.
(обратно)511
Greenberg. P. 13.
(обратно)512
Ibid. P. 112-113, 142.
(обратно)513
Hsin-pao. P. 51-61.
(обратно)514
Ibid. P. 62.
(обратно)515
Ibid. P. 189-203. См. также Hanes. P. 66-83.
(обратно)516
Edward Le Fevour. Western Enterprise in Late Ching China (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968). P. 13.
(обратно)517
Trocki. P. 110-115.
(обратно)518
Джавахарлал Неру. Открытие Индии. М., 1955 г.
(обратно)519
Colin Simmons. «De-industrialization, Industrialization, and the Indian Economy, c. 185-1947», Modern Asia Studies 19, no. 3 (April 1985). P. 600.
(обратно)520
B. R. Tomlinson. «The Economy of Modern India», The New Cambridge History of India, vol. 3, 3. (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). P. 102.
(обратно)521
Morris D. Morris. «Towards a Reinterpretation of Nineteenth Century Indian Economic History», Journal of Economic History 23, no. 4 (December 1963). P. 613.
(обратно)522
См., напр., Morris; Tomlinson; and Tirthankar Roy. «Economic History and Modern India: Redefinding the Link», Journal of Economic Perspectives 16, no. 3 (Summer 2002). P. 19-130.
(обратно)523
Paul Bairoch. «European Trade Policy, 1815-1914», in Peter Mathias and Sidney Pollard, eds. The Cambridge Economic History of Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 1989). P. VIII: 109.
(обратно)524
Jeffrey Williamson. «De-Industrialization and Underdevelopment: A Comparative Assessment around Periphery 1750-1939» (December 2004). P. 15.
(обратно)525
Расчеты из: Donald Grove Barnes. A History of the English Corn Laws (New York: Augustus M. Kelley, 1961). P. 295-296.
(обратно)526
Интерполировано из: Maddison. The World Economy, 95.
(обратно)527
Ibid. P. 299-300; and S. Fairlie. «The Corn Laws Reconsidered», Economic History Review 18, no. 3 (1965). P. 563.
(обратно)528
Barnes. P. 72-73.
(обратно)529
Ibid. P. 5-89.
(обратно)530
David Weatherall. David Ricardo, A Biography (The Hague: Martinus Nijhoff, 1976). P. 1-3.
(обратно)531
Ibid. P. 38-39; P. 69-71.
(обратно)532
David Ricardo. Principles of Political Economy and Taxation (London: Dutton, 1911). P. 77-93, цит. 77.
(обратно)533
Barnes. Р. 133-135, 177-179.
(обратно)534
Weatherall. Р. 101-106, 135-137.
(обратно)535
Joyce Marlow. ThePeterloo Massacre (London: Panther, 1969). P. 53-54.
(обратно)536
Wendy Hinde. Richard Cobden (New Haven, CT: Yale University Press, 1987). P. 1-2.
(обратно)537
Richard Cobden. England, Ireland and America (Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1980). P. 94.
(обратно)538
Ibid. P. 29.
(обратно)539
Norman McCord. The Anti-Corn League (London: George Allen and Unwin, 1958). P. 34-36.
(обратно)540
Johnson. P. 167.
(обратно)541
Hinde. P. 50-52, цит. 51.
(обратно)542
Ibid. P. 52.
(обратно)543
Barnes. P. 254.
(обратно)544
Henry Donaldson Jordan. «The Political Methods of the Anti-Corn Law League». Political Science Quarterly 42, no. 1 (March 1972). P. 66.
(обратно)545
G. Kitson Clark. «The Repeal of the Corn Laws and the Politics of the Forties». The Economic History Review 4, no. 1 (1951). P. 5.
(обратно)546
Jordan. P. 69-73.
(обратно)547
Fay. Р. 105.
(обратно)548
Цит. Hinde. Р. 147.
(обратно)549
Lord Ernie. English Farming (Chicago: Quadrangle, 1961). P. 274.
(обратно)550
Fay. P. 98; см. также Fairlie. P. 571.
(обратно)551
Barnes. P. 274-276. См. также Michael Lusztig. «Solving Peel's Puzzle: Repeal of the Corn Laws and Institutional Preservation», Comparative Politics 27, no. 4 (July 1995). P. 400-401.
(обратно)552
Hinde. P. 103-104, 135-168.
(обратно)553
Jeffrey G. Williamson. «The Impact of the Corn Laws Just Prior to Repeal», Explorations in Economic History 27 (1990). P. 127-129.
(обратно)554
J. A. Hobson. Richard Cobden, the International Man (London: Earnest Benn, 1968). P..248.
(обратно)555
John Morley. The Life of Richard Cobden (London: T. Fisher Unwin, 1903). P. 721.
(обратно)556
Charles Kindleberger. «The Rise of Free Trade in Western Europe, 1820-1875», Journal of Economic History 31 no. 1 (March 1975). P. 37-38.
(обратно)557
Цит. Bairoch. P. 29-30.
(обратно)558
Morley. 751.
(обратно)559
Bairoch. «European trade policy, 1815-1914». P. 39-45.
(обратно)560
Fay. P. 106: Barnes. P. 291.
(обратно)561
Милль Джон Стюарт. Основания политической экономии. Киев; Харьков, 1860.
(обратно)562
Конрад Джозеф. Зеркало морей. М.: Географиздат, 1958.
(обратно)563
Herbert V. Young. They Came to Jerome (Jerome, AZ: Jerome Historical Society, 1972). P. 17.
(обратно)564
Из личной беседы с Рональдом Рупом; Ronald Prain. Copper (London: Mining Journal Books, 1975). P. 17-18, 21-22.
(обратно)565
W. O. Henderson. Friedrich List (London: Frank Cass, 1983). P. 68-75, 143-182.
(обратно)566
John G. Van Deusen. «Economic Bases of Disunion in South Caro lina» (Ph. D. thesis, Columbia University, 1928). P. 182-183.
(обратно)567
F. W. Taussig. The Tariff History of the United States (New York: Capricorn, 1964). P. 68-110. См. также Donald J. Ratcliffe. «The Nullification Crisis, Southern Discontent, and the American Political Process», American Nineteenth Century History 1, no. 2 (Summer 2000). P. 3-5.
(обратно)568
William W. Freehling. The Road to Disunion (Oxford: Oxford University Press), 1:256.
(обратно)569
Richard B. Latner. «The Nullification Crisis and Republican Subversion». Journal of Southern History 43, no. 1 (February 1977). P. 21.
(обратно)570
Richard E. Ellis. The Union at Risk (Oxford: Oxford University Press, 1987). P. 46.
(обратно)571
Ibid. P. 23, 33.
(обратно)572
Ellis. P. 158-177.
(обратно)573
Ratckiff. P. 8, 22-23.
(обратно)574
Reonhard H. Luthin. «Abraham Lincoln and the Tariff», The American Historical Review 49, no. 4 (July 1944). P. 612, 622.
(обратно)575
Lyon G. Tyler. «The South and Self-Determination». Willem and Mary Collage Quarterly Historical Magazine 27, no. 4 (April 1919). P. 224.
(обратно)576
John L. Conger. «South Carolina and the Early Tariffs». The Mississippi Valley Historical Review 5, no. 4 (March 1919). P. 431-433.
(обратно)577
Freehling. P. 272.
(обратно)578
Natchez Free Trader. November 27, 1860, цитата по P. L. Rain water, «Economic Benefits of Secession: Opinions in Mississippi in the 1850s». The Journal of Southern History 1, no. 4 (November 1935). P. 47-471.
(обратно)579
Пересчитано по Paul Bairoch. «European Trade Policy, 1815— 1914». 56, по коэффициенту пересчета инфляции 1,75 на 2007/ 1988.
(обратно)580
F. Dabiel Larkin. «Erie Canal Freight». New York State Aechives Time Machine, nal/ErieEssey/ecf.html, accessed February 12, 2007.
(обратно)581
David Landes. The Unbound Prometheus (Cambridge: Cambridge University Press, 1966). P. 251-259; и W. T. Jeans, The Creation of the Age of Steel (New York: Scribner, 1884). P. 29.
(обратно)582
Charles K. Harley. «The Shift from Sailing Ships to Steamships, 1850-1890: A Study in Technological Change and Its Diffusion»: in Donald N. McCloskey, ed., Essay on a Mature Economy (Princeton University Press, 1971). P. 215-225.
(обратно)583
Gerald S. Graham. «The Ascendancy of the Sailing Ship 1850- 1885». Economic History Reviw 9, no. 1 (1956). P. 79.
(обратно)584
Juan E. Oribe Stemper. «Freight Rates in the Trade between Europe and Soucth America, 1840-1914». Journal of Latin American Stu dies 21, no. 1 (February 1989). P. 44.
(обратно)585
Экстраполировано из таблицы IV, Lewis R. Fisher and Helge W. Nordvik. «Maritime Transport and the Integration of the North Atlantic Economy, 1850-1914»; in Wolfram Fisher et al., eds. The Emergence of a World Economy 1500-1914 (Wiesbaden, Commissioned by Franz Steiner Verlag, 1986), 11:531.
(обратно)586
Harley. P. 221-225.
(обратно)587
Bairoch Paul. Economics and world History (Chikago: University of Chicago Press, 1993). P. 56.
(обратно)588
Robert W. Filante. «A Note on the Economic Viability of the Erie Canal, 1825-1860, Business History Review 48, no. 1 (Spring 1974). P. 100.
(обратно)589
George G. Tunnel. «The Diversion of the Flour and Grain Traffic from the Great Lakes to the Railroads». Journal of Political Economy 5, no. 3 (June 1897). P. 340-361.
(обратно)590
Gavin Weightman. The Frozen Water Trade (New York: Hy perion, 2003). P. 7, 71, 105-109, 127-143. Более подробное описание изобретения Вита и подсобных инструментов для колки льда см. Oscar Edward Anderson Jr. Refrigeration in America (Princeton: Princeton University Press for the University of Cincinnati, 1953). P. 13-35.
(обратно)591
Topo Генри Д. Уолден, или Жизнь в лесу. М.: «Наука», 1979.
(обратно)592
Weightman. Р. 163,207.
(обратно)593
Anderson, 21-22, 50-52.
(обратно)594
John H. White. The Great Yellow Fleet (San Marino, CA: Golden West, 1986). P. 11-13.
(обратно)595
Weightman. P. 163,207.
(обратно)596
James Troubridge Critchell and Joseph Raymond. A History of the Frozen Meat Trade, 2nd ed. (London: Constable, 1912). P. 25.
(обратно)597
Critchell and Raymond. P. 3,9,26-29. Подробнее об относительном преимуществе охлажденного и замороженного мяса см. Richard Perren, «The North American Beef and Cattle Trade with Great Britain, 1870-1914», Economic History Review 24, no. 3 (August 1917). P. 430-434.
(обратно)598
«Coal Ammonia for Refrigeration», Scientific American LXIV (1891). P. 241.
(обратно)599
Larry Туе. The Father of Spin (NewYork: Crown, 1998).P. 51-52.
(обратно)600
Fisher and Nordvik. 11:526.
(обратно)601
Max Fletcher. «The Suez Canal and World Shipping, 1869- 1914», Journal of Economic History 18, no. 4 (December 1958). P. 556-573.
(обратно)602
Cordell Hull. International Trade and Domestic Prosperity (Washington, DC: United States Government Printing Office, 1934). P. 5.
(обратно)603
Joseph M. Jones Jr. Tariff Retaliation (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1934). P. 74.
(обратно)604
Ibid. P. 1931.
(обратно)605
С. Knick Harley. «Transportation, the World Wheat Trade, and the Kuznets Cycle, 1850-1913». Explorations in Economic History 17, no. 3 (July 1980). P. 223, 246-247.
(обратно)606
C. P. Kindleberger. «Group Behavior and International Trade», Journal of Political Economy 59, no. 1 (February 1951). P. 31.
(обратно)607
Kevin O'Rourke and Jefferey G. Williamson. «The Late Nineteenth Century Anglo-American Price Convergence: Were Heckscher and Oh- lin Right?» Journal of Economic History 54, no. 4 (December 1994). P. 900.
(обратно)608
A. J. H. Latham and Larry Neal. «The International Market in Rice and Wheat, 1868-1914», Economic History Review 36, no. 2 (May 1983). P. 260-280.
(обратно)609
Bertil Ohlin. Interregional and International Trade (Cambridge: Harvard University Press, 1957). P. 35-50; Eli Heckscher. «The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income», in Readings in the Theory of International Trade (Homewood IL: Irwin, 1950). P. 272- 300. Наиболее краткую формулировку их теоремы см.: Ohlin. P. 35; Heckscher. P. 287.
(обратно)610
O'Rourke and Williamson. «Late Nineteenth Century Anglo-American Price Convergence: Were Heckscher and Ohlin Right?». P. 894-895, 908.
(обратно)611
Jefferey G. Williamson. «The Evolution of Global Labor Markets since 1830: Background Evidence and Hypotheses», Explorations in Economic History 32 (1995). P. 141-196; Kevin O'Rourke and Jefferey G. Williamson. Globalization and History (Cambridge: MIT Press, 1999). P. 286.
(обратно)612
Wolfgang F. Stolper and Paul Samuelson. «Protection and Real Wages», Review of Economic Studies 9, no. 1 (November 1941). P. 58-73.
(обратно)613
Eugene Owen Golob. TheMeline Tariff (New York: AMS, 1968). P. 22-23, 78-79; Angus Maddison. The World Economy. P. 95.
(обратно)614
Golob. P. 83-85, 189-190.
(обратно)615
Ibid. 245.
(обратно)616
Kindleberger. «Group Behavior and International Trade». P. 32-33.
(обратно)617
Douglas A. Irwin. «The Political Economy of Free Trade: Voting in the British General Election of 1906». Journal of Law and Economics 37, no. 1 (April 1994). P. 75-108.
(обратно)618
Einar Jensen. Danish Agriculture (Copenhagen: J. H. Schultz Forlag, 1937). P. 251,315-334; Harald Faber. Co-operation in Danish Agriculture (New York: Longmans, Green, 1937). P. 31-70,105-106; Henry С Taylor and Anne Dewees Taylor. World Trade in Agricultu ral Products (New York: Macmillan, 1943). P. 179; Alexander Gerschenkron. Bread and Democracy in Germany (Ithaca NY: Cornell University Press, 1989). P. 39.
(обратно)619
Gerschenkron. P. 42.
(обратно)620
Gerschenkron. P. 3-80.
(обратно)621
Рассчитано из данных W. W. Rostow. The World Economy (Aus tin: University of Texas, 1978). P. 669; and Maddison. 361, 362.
(обратно)622
Carolyn Rhodes. Reciprocity, U. S. Trade Policy, and the GATT Regime (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993). P. 23-45.
(обратно)623
от 7 марта 2007 года.
(обратно)624
Coleen M. Callahan et al. «Who Voted for Smoot—Hawley?» Journal of Economic History 54, no. 3 (September 1994). P. 683-684.
(обратно)625
Charles P. Kindleberger. «Commercial Policy between the Wars», in Peter Mathias and Sidney Pollard, eds., The Cambridge Economic History of Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), VIII: 170-171.
(обратно)626
Jones. Tariff Retaliation. P. 40, 76-82, 105-109.
(обратно)627
Cordell Hull. The Memoirs of Cordell Hull (New York: Macmillan, 1948), 1:364-365.
(обратно)628
Hull. International Trade and Domestic Prosperity. P. 2.
(обратно)629
Maddison, The World Economy, 363; and Monitoring the World Economy (Paris: OECD, 1995). P. 182-183, 196.
(обратно)630
Напр. см. Giorgio Basevi. «The Restrictive Effect of the U. S. Tariff and its Welfare Value». American Economic Review 58, no. 4 (September 1968). P. 851.
(обратно)631
Duoglas A. Irwin. «The Smoot-Howley Tariff: A Quantitative Assessment», Review of Economics and Statistics 80, № 2 (May 1998). P. 326-334; Jakob B. Madsen. «Trade Barriers and the Collapse of World trade during the Great Depression», Southern Economic Journal 64, № 4 (April 2001). P. 848-868.
(обратно)632
John Stuart Mill. Principles of Political Economy, 389-390.
(обратно)633
J. B. Condliffe. The Reconstruction of World Trade (New York: Norton, 1940). P. 394.
(обратно)634
Albert O. Hirschman. National Power and the Structure of Foreign Trade (Berkeley: University of California Press, 1980). P. 72-73.
(обратно)635
Ibid. P. 1.
(обратно)636
Clair Wilcox. A Charter for World Trade (New York: Macmillan, 1949). P. 24. Про историю создания «Предложений» см.: Wilcox. P. 21-24 and 38-40.
(обратно)637
Rhodes. P. 46-77.
(обратно)638
Т. N. Srinivasan. Developing Countries and the Multilateral Tra ding System (Boulder, CO: Westview, 1998). P. 9-11; John H. Jackson. The World Trading System, 2nd ed. (Cambridge, MA: MIT Press, 1997). P. 36-38. Книга Джексона рассматривается большинством ученых как «стандартный» англоязычный текст о законодательном и ведомственном основании современной торговой системы.
(обратно)639
Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп. М.: Издательство ФЭИ, 1995.
(обратно)640
Bairoch. Economics and World History. P. 26.
(обратно)641
Harley. «Ocean Freight Rates and Productivity. 1740-1913: The Primacy of Mechanical Invention Reaffirmed». P. 861.
(обратно)642
Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство. Пер. В. Лафитского.
(обратно)643
Marc Levinson. The Box (Princeton: Princeton University Press, 2006). P. 7-53; Marc Rosenstein. «The Rise of Containerization in the Port of Oakland», New York University master's thesis, 2000, 23-31, -wind.com/mbr/maritime-writings/thesis. pdf. Оба источника интересны и хорошо написаны. Из них диссертация Розенстайна более взвешенна, удобна для чтения и доступна.
(обратно)644
Rogowski P. 100-101; цит.: 121.
(обратно)645
Т. N. Srinivasan. «Developing Countries in the World Trading System: From GATT, 1947, to the Third Ministerial Meeting of WTO, 1999». World Economy 22, no. 8 (1999). P. 1052.
(обратно)646
Jane Mayer and Jose de Cordoba. «Sweet Life: First Family of Su gar is Tough on Workers, Generous to Politicians». The Wall Street Journal (July 29, 1991), Al.
(обратно)647
«Sugar Program: Supporting Sugar Prices Has Increased Users' Costs While Benefiting Producers», General Accounting Office GAO/ RCED-00-126 (June 2000).
(обратно)648
Timothy P. Carney. The Big Ripoff (New York: Wiley, 2006). P. 56-61.
(обратно)649
Mary Anastasia O'Grady. «Americas: Clinton's Sugar Daddy Ga mes Now Threaten NAFTA's Future», The Wall Street Journal (De cember 20, 2002). Al 5.
(обратно)650
Scott Miller and Marc Champion. «At WTO Talks, Stances Are Hardening», The Wall Street Journal (January 27,2006), A7; Scott Kil- man and Roger Thurow. «Politics and Economics, U.S. Farm-Subsidy Cuts a Long Shot as Doha Falters», The Wall Street Journal (July 26, 2006), A 10; Bernard K. Gordon. «Doha Aground», The Wall Street Journal (May 26, 2006), A 14.
(обратно)651
United States Department of Agriculture, «Food Spending in Rela tion to Income». Food Cost Review, 1950-1997, . usda.gov/Publications/AER780/; Food Remains a Bargain for Oregon and U.S. Consumers». Oregon Department of Agriculture.
(обратно)652
Stolper and Samuelson. P. 73.
(обратно)653
Norm Stamper. «A Good Cop Wasted», excerpted in Seattle Weekly (June 1,2005).
(обратно)654
(обратно)655
«The Tanker War, 1984-1987». from Iraq, Library of Congress Studies, -bin/query/rpfrd/cstdy:@field (DOCID+iq0105).
(обратно)656
Yuksel Inan. «The Current Regime of the Turkish Straits». Perceptions: Journal of International Affairs 6, no. 1 (March —May 2001) по ссылке: / March-May2001 /inan06.PDF
(обратно)657
См. Rodrigue, см. также Donna J. Nincic. «Sea Lane Security and U.S. Maritime Trade: Chokepoints as Scarce Resources», in Sam J. Tangredi, ed. Globalization and Maritime Power (Washington, DC: National Defence University Press, 2002). P. 143-169.
(обратно)658
Jessie C. Carman. «Economic and Strategic Implications of Ice-Free Arctic Seas», in Globalization and Maritime Power 171-188.
(обратно)659
Patrick J. Buchanan. The Great Betrayal (Boston: Little, Brown, 1998). P. 224.
(обратно)660
Bairoch, Economics and World History, 47-55, 135-138.
(обратно)661
Mark Bils. «Tariff Protection and Production in the U.S. Cotton Textile Industry». The Journal of Economic History, 44, no. 4 (Decem ber 1984). P. 1041, 1045.
(обратно)662
Kevin O'Rourke. «Tariffs and Growth in the Late 19th Century». The Economic Journal 110 (April 2000). P. 456-683; quote, 473. Работы Рурка и Билза представляют целый пласт литературы.
(обратно)663
Kitson and Solomu. 102.
(обратно)664
J. Bradford DeLong. «Trade Policy and America's Standard of Living: An Historical Perspective». Рабочие материалы 1995.
(обратно)665
Edward F. Denison. Why Growth Rates Differ (Washington DC: Brookings Institution, 1967). P. 260-263.
(обратно)666
Jeffrey D. Sachs and Andrew Warner. «Economic Reform and the Process of Global Integration». Brookings Papers on Economic Activity 1995, no. 1 (1995). P. 41.
(обратно)667
Maddison. The World Economy. P. 363.
(обратно)668
Denison. P. 262.
(обратно)669
Steven Pinker. «A History of Violence». New Republic (March 19, 2007); World Health Organization, / 2004/annex/topic/en/annex_2_en.pdf
(обратно)670
United States Census Bureau. «Historical Income Tables — People».
(обратно)671
Henry S. Farber. «What do we know about job loss in the United States? Evidence from the Displaced Workers Survey, 1984-2004». Working paper, 2006. См. также Peter Gottschalk et al. «The Growth of Earnings Instability in the U.S. Labor Market». Brookings Papers on Economic Activity 1994 no. 2 (1994). P. 217-272. Про общее положение с расхождением зарплат и ненадежности рабочего места в США см. Jacob Hacker. The Great Risk Shift (New York: Oxford University Press, 2006). См. также Jackie Calmes. «Despite Buoyant Economic Times, Americans Don't Buy Free Trade». The Wall Street Journal (December 10, 1998), A10.
(обратно)672
Susan Chun Zhu and Daniel Tefler. «Trade and inequality in developing countries: a general equilibrium analysis» Journal of Inter national Economics 65 (2005). P. 21-48.
(обратно)673
Katheryn Gigler. Personal Communication. См. также «Secrets, Lies, and Sweatshops». Busyness Week (November 27, 2006).
(обратно)674
Ashley S. Timmer and Jeffrey G Williamson. «Immigraton Policy Prior to the 1930s: Labor Markets, Policy Interactions, and Globalization Backlash». Population and Development Review 21, no. 4 (De cember 1998). P. 739-771.
(обратно)675
Human Development Report, 2006 (New York: United Nations, 2006). P. 335-338.
(обратно)676
Alberto Alesina and Roberto Perotti. «Income Distribution, political Instability, and investment». European Economic Review 40 (1996). P. 1203-1228.
(обратно)677
Geoffrey Garrett. «Global Markets and National Politics: Collision Course or Virtuous Cycle?» International Organization 52, no. 4 (Autumn, 1998). P. 798.
(обратно)678
Cm. Michael Kremer. «The O-Ring Theory of Economic Development». The Quarterly Journal of Economics 108 no. 3 (August 1993). P. 551-575.
(обратно)679
См. Adrian Wood and Cristybal Ridao-Cano. «Skill, Trade, and In ternational Inequality, working paper; and Paul Krugman, «Growing World Trade: Causes and Consequences». Brookings Papers on Economic Activity 1995, no. 1 (1995). P. 327-377. Прекрасное резюме этих противоречивых данных см. Ethan В. Kapstein. «Review: Winners and Losers in the Global Economy». International Organization 54, no. 2 (Spring 2000). P. 359-384.
(обратно)680
Личная беседа с Дэниелом Трефлером. См. также Daniel Trefler. «The Long and Short of the Canada-U.S. Free Trade Agreement». American Economic Review 94, no. 4 (September 2004). P. 888.
(обратно)681
Westminster Review (April 1825). P. 400-401. Эта статья не подписана. Авторство Милля установлено в статье: Frank W. Fetter. «Economic Articles in the Westminster Review and Their Authors, 1824-1851, The Journal of Political Economy 70, no. 6 (December 1962). P. 584.
(обратно)682
Джагдиш Бхагвати. В защиту глобализации. Пер. В. Иноземцев. «Ладомир», 2005 г.
(обратно)683
Там же.
(обратно)684
Daniel Trefler. «Trade Liberalization and the Theory of Endogenous Protection: An Econometric Study of U.S. Import Policy». Journal of Political Economy 101, no. 1 (February 1993). P. 157.
(обратно)685
Dani Rodrik. Has Globalization Gone Too Far? (Washington, DC: Institute for International Economics, 1997). P. 5-7.
(обратно)686
Ibid. P. 79.
(обратно)687
Paul Samuelson. «Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization». The Journal of Economic Perspectives, 18, no. 3 (Summer 2004). P. 137. Прекрасное радиоинтервью с профессором «Самуэльсоном на эту тему см. 0927_b_main.asp
Как и следовало ожидать, эта статья Самуэльсона вызвала много споров среди экономистов, и не все они признают корректность и точность такой модели. Наиболее основательную критику см.: Jagdish Bhagwati et al. «The Middle over Outsourcing». Economic Perspectives 18, no. 4 (Fall 2004). P. 93-114.
(обратно)688
Samuelson. P. 142.
(обратно)689
Rodrik. P. 54.
(обратно)690
The Oxford Dictionary of Quotes, 3ed Ed. (Oxford University Press, 1979). P. 150.
(обратно)
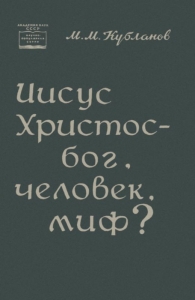



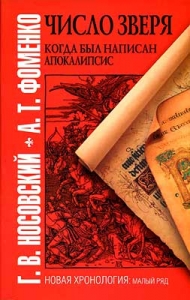
Комментарии к книге «Великолепный обмен: история мировой торговли», Уильям Дж. Бернстайн
Всего 0 комментариев