УБИЙСТВО ВО ИМЯ ИДЕИ
1
Убийство человека — одно из наиболее тяжких уголовных преступлений. Убийство крупного сановника, правителя — преступление еще и тяжкое политическое.
В первом случае есть немало смягчающих вину обстоятельств. Во втором такое обстоятельство только одно: свержение существующей власти. В остальных случаях преступников ждет самое суровое наказание.
Подготовить и осуществить убийство частного лица в государстве с отлаженной системой расследования преступлений, — задача не из легких. Но она вдесятеро сложней, когда речь идет о высшем должностном лице, о верховном правителе. Тут противостоят преступникам не только охранники, но и профессиональные сыщики, следователи, полицейские, а в сущности, вся система министерства внутренних дел.
Убийце-уголовнику самое трудное — продумать свои действия так, чтобы замести следы преступления. Организаторы политических убийств более всего озабочены тем, чтобы их замысел не был раскрыт заранее, прежде чем удалось осуществить задуманное. Они понимают, что у них мало шансов остаться в живых.
И все-таки недостатка в политических убийцах не было. Особенно — в России XIX века. Не потому, что наш народ склонен к жестоким расправам. Тут даже о характере народа и речи быть не может.
До XX века в русском народе отношение к царям было уважительное. Не потому, что все верили в божественное происхождение царской власти. Люди понимали: конкретное зло, несправедливость, жестокость творят представители местной власти, помещики, купцы, промышленники. Только царь может призвать их к ответу, наказать, урезонить. Или — самосуд.
Многочисленные крестьянские бунты были направлены не против царя и самодержавия. Почти все бунтари оставались, по выражению И. В. Сталина, «царистами». Даже предводителю крупнейшего восстания Емельяну Пугачеву пришлось выдавать себя за Петра III, а то народные массы могли бы и не пойти за ним. Ведь он не имел никаких прав на высшую власть над страной: ни по законам самодержавия, ни как выдающийся государственный или военный деятель — благодетель или спаситель Отечества.
Так почему же появились — и в немалом числе — желающие совершить цареубийство? И почему целью террористов стал император, по праву получивший имя Освободителя, отменив крепостное право? Как готовились покушения на его жизнь и как свершилось преступление? Кто были эти злодеи? Какими целями они руководствовались? Какими были последствия убийства императора?
Эти вопросы нам предстоит обдумать.
История покушений на императора Александра II, завершившихся его убийством, не должна быть криминальным чтивом, подобием захватывающего детектива. Это — реальная трагедия не только отдельных личностей или семей, но и всего общественного устройства. Она свидетельствует о серьезных его недугах, приведших к летальному исходу (имея в виду царскую власть в России).
2
Много ли сласти в царской власти?
Для русских правителей она слишком часто была нелегким и смертельно опасным бременем. Главная опасность долгое время исходила от людей своего круга: бояр, вельмож, знати, высшего дворянства. Убийство императора Петра III и воцарение Екатерины II, убийство императора Павла I, восстание декабристов — три ярких примера. Они показали, что от «священной особы Государя» можно избавляться насильственным образом.
В XIX веке образованная часть российского общества окончательно разуверилась в божественной основе царской власти. Но в народе все еще сохранялась вера в «батюшку-царя».
Анархист — из богатых дворян — Михаил Бакунин писал в 1873 году: «Русский народный идеал омрачен тремя… чертами, против которых поэтому мы всеми силами должны бороться и против которых борьба тем возможнее, что она уже существует в самом народе.
Эти три затемняющие черты: 1) патриархальность, 2) поглощение лица миром, 3) вера в царя.
Можно было бы прибавить в виде четвертой черты христианскую веру, официально-православную или сектантскую, но, по нашему мнению, у нас в России этот вопрос далеко не представляет той важности, какую он представляет в Западной Европе.
…Социальные революционеры знают это и потому убеждены, что религиозность в народе можно убить только социальной революцией. <…>
Мы указали на три несчастные черты, омрачающие главным образом идеал русского народа. Теперь заметим, что две последние: поглощение лица миром и богопочитание царя, собственно, вытекают, как естественные результаты, из первой, т. е. из патриархальности, и что поэтому патриархальность есть то главное историческое, но, к несчастию, совершенно народное зло, против которого мы обязаны бороться всеми силами.
Оно исказило всю русскую жизнь, наложив на нее тот характер тупоумной неподвижности, той непроходимой грязи родной, той коренной лжи, алчного лицемерия и, наконец, того холопского рабства, которые делают ее нестерпимой. <…>
Воображаемый царь — отец, попечитель и благодетель народа — помещен высоко, высоко, чуть ли не в небесную даль, а царь настоящий, царь-кнут, царь-вор, царь-губитель своего государства, занимает его место. Из этого вытекает, естественно, тот странный факт, что народ наш в одно и то же время боготворит царя воображаемого, небывалого и ненавидит царя действительного, осуществленного в государстве.
Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство, ненавидит всех представителей его, в каком бы виде они перед ним ни являлись…
Государство окончательно раздавило, развратило русскую общину, уже и без того развращенную своим патриархальным началом. Под его гнетом само общинное избирательство стало обманом, а лица, временно избираемые самим народом: головы, старосты, десятские, старшины, — превратились, с одной стороны, в орудия власти, а с другой, в подкупленных слуг богатых мужиков-кулаков. При таких условиях последние остатки справедливости, правды, простого человеколюбия должны были исчезнуть из общин, к тому же разоренных государственными податями и повинностями и до конца придавленных».
Вывод очевиден: необходимо всеми возможными способами избавиться прежде всего от царя как олицетворения всей государственной системы Российской империи. И если Бакунин не призывал к цареубийству, то было немало решительно настроенных террористов-революционеров, готовых если не осуществить, то приветствовать такую акцию.
3
Императору Александру II было, можно сказать, предопределено стать первой высокопоставленной жертвой революционного террора. Для этого был целый ряд предпосылок, прежде всего связанных с особенностями развития европейской цивилизации, России, а также эволюцией общественного сознания.
Об этих наиболее общих причинах мы еще поговорим. А сейчас подчеркнем частную причину — личность Александра II. На его трагической судьбе парадоксальным образом сказались именно достойные черты его характера: мужество, самообладание, стремление ввести демократические элементы в государственную систему.
Он отменил крепостное право, и эту акцию приветствовали русские революционеры, отвергавшие террористические методы, в частности, А. И. Герцен.
Но те, кто стремился обострить противоречия в российском обществе, искусственно нагнетая революционную ситуацию, восприняли путь либеральных реформ резко отрицательно. Для них убийство императора казалось наилучшим способом расшатать государственную систему, вызвать встречную волну полицейского террора и, возможно, начать гражданскую войну.
То, что Александр II был человеком не робкого десятка, показывает такой случай. Однажды на охоте он выстрелил в медведя и ранил его. Зверь смял охотника, бросившегося вперед с рогатиной. Царь, не потеряв самообладания, подошел к медведю и застрелил его в упор. (Отдавая должное императору, следует помнить и о мужестве медвежатника.)
Писатель ВТ. Короленко имел все основания назвать Александра II «лучшим царем из дома Романовых». По-видимому, так оно и было, если иметь в виду те «послабления», которые он дал крестьянству при значительном ослаблении судейского бесправия. Хотя как государственный деятель Петр I Романов был для России важнейшей фигурой (его жестокость была проявлением не только жестокости характера, но и жестокостей того времени).
Не по стечению обстоятельств, а по неумолимому ходу эволюции государства, социальных слоев и общественного сознания именно этого «лучшего царя» из династии Романовых ждала печальная участь. Почему? Кто и как покушался на его жизнь? В этом нам предстоит разобраться.
Глава 1 НА ПРИЦЕЛЕ — ИМПЕРАТОР
ПЕРВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
В ту пору, когда многие страны Западной Европы провозгласили, закрепив в конституциях, демократические свободы, в Соединенных Штатах Северной Америки сохранялось рабство, а в России — крепостное право.
Политические свободы вовсе не исключали (так же как не исключают и теперь) реальное экономическое рабство и бесправие бедняков. Однако это не мешало в середине XIX века правителям крупнейших держав Европы вести идеологическую борьбу против России как «империи зла», попирающей права человека.
При этом, правда, обычно имелся в виду не русский крестьянин или рабочий, а польские националисты. Хотя именно в Польском царстве с правами личности положение было лучше: там не было крепостного права, существовали органы самоуправления.
Самодержавие предполагает четкую иерархию, подобную пирамиде, на вершине которой находится царь как олицетворение власти. Все подданные формально одинаково зависят от его воли.
Таково своеобразное равенство при диктатуре личности. В принципе оно ничуть не лучше равенства при демократии. Просто в первом случае имеют привилегии те, кто находится ближе к трону, на верхних ступенях социальной иерархии, а во втором, помимо крупных чиновников еще и богачи.
Это простейшая схема. Казалось бы, какая разница, кто руководит страной: унаследовавший этот пост или избранный большинством граждан? Всегда будут недовольные правителем и даже те, кто желал бы его убить. Об этом свидетельствуют многочисленные покушения как на королей и царей, так и на президентов.
И все-таки покушение на жизнь императора, выражаясь по-современному, престижнее. Это уже посягательство не просто на частное лицо или представителя какой-то партии, а на всю государственную систему. Это — акт революционного террора, имеющего целью разрушить всю иерархию власти, установить новое общественное устройство.
В этом случае не имеет никакого значения, кто именно стоит во главе империи. Более того, для террористов предпочтительней убить именно славного, достойного государя, а не какое-нибудь ничтожество. Недаром в истории прославлен убийца Юлия Цезаря, последние слова которого — «И ты, Брут» — стали крылатым выражением.
На ситуации в России могла сказываться «психическая эпидемия» покушений, прокатившаяся в предшествующие годы по миру. 14 января 1858 года республиканец Феличе Орсини, борец за независимость и единство Италии, попытался бросить бомбу в карету императора Наполеона III, считая его угнетателем итальянского и французского народа, врагом Италии и европейской демократии. Акция не удалась, Орсини был схвачен и казнен. Он надеялся этим убийством зажечь революционный пожар в Европе. Ответом было усиление реакции.
В Америке в 1865 году был застрелен президент Линкольн. Рабочий Гедель, а затем доктор Нобилинг стреляли в императора Германии. Испанский рабочий Монкаси попытался убить короля Альфонса XII. Повар Пасанате бросился с ножом на итальянского короля.
Первое покушение на российского императора осуществил русский революционер, да еще дворянин (не из богатых). И произошло это несмотря на то, что именно Александру II выпала историческая миссия освобождения крестьян от крепостного права. Эту реформу пришлось ему подготавливать много лет вопреки противодействию крупных влиятельных помещиков.
Но не только они были раздосадованы, а то и озлоблены его реформами. Для революционеров-террористов, стремящихся расшатать, а затем разрушить до основания существующую систему, он стал особо привлекательной целью. Можно даже сказать — добычей, ибо с некоторых пор они начали охотиться за ним с жестоким охотничьим азартом.
Отправной точкой революционного террора в России вообще, а в частности, направленного непосредственно против самодержца, стал выстрел Каракозова в Александра II. Как говорится, лиха беда начало.
Это произошло в 1866 году, через пять лет после эпохальной отмены крепостного права (март 1861). Это покушение на императора было акцией одиночки без хорошо продуманного плана и с небольшими шансами на успех. В то же время оно стало результатом активной революционной пропаганды, которая к тому времени стала набирать силу. О ней следует сказать особо.
…Как известно, расследование тяжкого уголовного преступления начинается с вопросов «кому это выгодно», каковы мотивы преступника, был ли это продуманный поступок или произошло случайное стечение обстоятельств, не действовал ли рецидивист-профессионал и т. д.
Политические преступления чаще всего совершаются не из личной выгоды, имеют более или менее очевидные причины, не бывают случайными, а преступник руководствуется прежде всего идейными соображениями. При расследовании таких преступлений наиболее важно выяснить их причины в контексте общественных отношений, социально-политической ситуации в стране, особенностей массового сознания и его разновидностей…
Нередко на первый план выдвигают экономические факторы. Они, конечно, сказываются, однако именно политические преступления особенно ярко высвечивают значение духовных факторов, а не материальных. Причем не только в общественной жизни вообще, но в определенной среде и у определенных типов личности.
Революционные настроения во многих странах (Россия — не исключение) находят наиболее благодатную почву среди студенчества. Это естественно. Учащуюся молодежь всегда вдохновляют радикальные идеи, проникнутые романтикой решительных преобразований, бурных событий; не имея навыков созидания, она охотно соглашается разрушать существующий порядок. Азы высшего образования способствуют росту самомнения при слишком упрощенных представлениях о жизни природы и общества.
Большинство студентов впервые начинают самостоятельную жизнь, и пьянящее ощущение свободы склоняет их к анархизму. Тем более что у молодежи обычно притуплено чувство ответственности за свои поступки. Наконец, сказываются нетерпение и оптимизм юности: надо решительно действовать, а там будь что будет, пан или пропал, авось, обойдется…
Помимо всего прочего на революционные настроения в России немалое влияние оказывали веяния из Западной Европы. В крестьянской феодальной России происходили народные бунты и дворцовые перевороты, тогда как революционная идеология была порождением западных мыслителей и буржуазной демократии. Студенты, более чем кто-либо, жадно воспринимали их, не считаясь с отечественной историей и действительностью.
Первое русское покушение на жизнь Александра II было подготовлено именно такими обстоятельствами. Другой, сколько-нибудь профессиональной, подготовки к убийству не было.
В студенческой среде возникли очаги революционной агитации, где обретали популярность идеи террора и прежде всего цареубийства как наиболее верного способа свергнуть самодержавие.
…19 мая 1862 года московский обер-полицмейстер доносил генерал-губернатору, что «неизвестные лица начали разбрасывать на бульварах и у подъездов домов возмутительного социального содержания воззвания под заглавием Молодая Россия» (Феличе Орсини, покушавшийся незадолго до этого на императора Франции, в юности был членом тайной революционной организации «Молодая Италия».)
Вот некоторые фрагменты прокламации:
«Россия вступает в революционный период своего существования…
Снизу слышится глухой и затаенный ропот народа — народа, угнетаемого и ограбленного всеми, у кого в руках есть хоть доля власти: народа, который грабят чиновники и помещики, продающие ему его же собственность — землю, грабит и царь, увеличивающий более чем вдвое прямые и косвенные подати и употребляющий полученные деньги не на пользу государства, а на увеличение распутства двора…
Опираясь на сотни тысяч штыков, царь отрезывает у большей части народа (у казенных крестьян) землю, полученную им от своих отцов и дедов, делает это в видах государственной необходимости и в то же время… дарит по нескольку тысяч десятин генералам, покрывшим русское оружие неувядаемой славой побед над безоружными толпами крестьян; чиновникам, вся заслуга которых — немилосердный грабеж народа…
Это всеми притесняемая, всеми оскорбляемая партия — народ.
Сверху над ней стоит небольшая кучка людей довольных, счастливых. Это помещики, предки которых или они сами были награждены населенными имениями за свою прежнюю холопскую службу; это потомки бывших любовников императриц, щедро одаренных при отставке; это купцы, нажившие себе капиталы грабежом и обманом; это чиновники, накравшие себе состояния, — одним словом, все имущие, все, у кого есть собственность, родовая или благоприобретенная. Во главе ее царь. Ни он без нее, ни она без него существовать не могут. Падет один — уничтожится и другая».
Последнюю фразу толковать можно по-разному. Наиболее явный и наивно простой вывод: надо убить императора, и рухнет вся государственная система, как карточный домик. Подумав, придется согласиться, что власть в стране держится вовсе не на нем, стоящем на верху иерархической пирамиды, а на всех тех, кто упомянут с ним заодно. И это, конечно же, понимал автор манифеста. Он писал:
«Выход из этого гнетущего, страшного положения… один — революция, революция кровавая и неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка.
Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это и все-таки приветствуем ее наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная!
…Мы изучали историю Запада, и это изучение не прошло для нас даром; мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах.
…Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком „Да здравствует социальная и демократическая республика русская!“ двинем на Зимний дворец истреблять живущих там. Может случиться, что все дело кончится одним истреблением императорской фамилии, т. е. какой-нибудь сотни, другой людей, но может случиться — и это последнее вернее, — что вся императорская партия как один человек встанет за государя, потому что здесь будет идти вопрос о том, существовать ли ей самой или нет.
В этом последнем случае с полной верой в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой выпало на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: „В топоры!“ — и тогда… тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет он нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам!
Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот будет против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами».
Что на это скажешь? Сурово, уверенно, жестоко, вдохновенно, во многом справедливо и пророчески верно. Если не считать, что до победоносной революции, а затем кровавой гражданской войны оставалось еще 55 лет.
Появилась прокламация в чрезвычайно неудачное время. Вскоре после ее появления, в Духов день 26 мая, вспыхнул страшный пожар Апраксина двора в Петербурге и перекинулся на некоторые другие здания: В народе прошел слух, что сделали это революционеры, студенты (виновники пожара так и не были обнаружены). Затем произошло несколько громких событий.
Русский офицер стрелял в варшавского наместника графа Людерса, а когда его сменил великий князь Константин Николаевич (наиболее активный деятель по освобождению крепостных крестьян), то 26 июня последовало покушение и на него. В августе польские националисты устроили покушение на маркиза Александра Велепольского, вице-председателя Государственного совета царства Польского.
Все эти совпадения обеспокоили царское правительство и не на шутку напугали всех, опасавшихся революции на западный манер (хотя в России издавна вспыхивали только бунты, да были дворцовые перевороты). Отозвался из своею лондонского далека Александр Герцен: «В Петербурге террор, самый опасный и бессмысленный из всех, террор оторопелой трусости, террор не львиный, а телячий, — террор, в котором угорелому правительству, не знающему, откуда опасность, не знающему ни своей силы, ни своей слабости и потому готовому драться зря, — помогает общество, литература, народ, прогресс и регресс…
„День“ запрещен, „Современник“ и „Русское слово“ запрещены, воскресные школы заперты, Шахматный клуб заперт, читальные залы заперты, деньги, назначенные для бедных студентов, отобраны, типографии отданы под двойной надзор, два министра и Третье отделение должны разрешать чтение публичных лекций; беспрестанные аресты, офицеры, флигель-адъютанты в казематах…
Оставляя в стороне смирительную литературу и будущих жильцов смирительного дома, мы обращаемся к действительно честным, но слабым людям и спрашиваем их: они-то чего испугались „Молодой России“? Добро бы они верили, что русский народ так и схватится за топор по первому крику: „Да здравствует социальная и демократическая республика русская“. Нет, они все хором твердят, что это невозможно, что народ этих слов не понимает и, напротив, озлобленный за пожары, готов растерзать тех, которые их произносят».
Вот уж поистине страх лишает рассудка. Наибольший вред государству от прокламации запальчивой и заносчивой, но по сути беспомощной, наносила именно такая нервная и непомерно сильная реакция. Если в ответ на слабый возглас разносятся громогласные вопли, если в ответ на детскую хлопушку следуют пушечные выстрелы (из пушек по воробьям), то не удивительно, что общество содрогается.
Герцен справедливо заметил, что «Молодая Россия» — «вовсе не русская; это одна из вариаций на тему западного социализма, метафизика французской революции». Она неуместна и несвоевременна, что усугубило ее совпадение с пожарами. «Ясно, что молодые люди, писавшие ее, больше жили в мире товарищей и книг, чем в мире фактов… Речь их такою и вышла, в ней нет той внутренней сдержанности, которую дает или свой опыт, или строй организованной партии».
И все-таки эту прокламацию запоем читали, переписывали и передавали из рук в руки именно те, к кому она была обращена — романтически настроенная русская молодежь, преимущественно студенты. В подобных случаях остается только дожидаться момента, когда отчаянный одиночка или сплоченная группа единомышленников постараются перейти от слов к делу.
Правда, какого-нибудь серьезного организованного выступления быть не могло за неимением соответствующей политической партии и полной отрешенности русского народа от подобных идей. Оставался лишь путь политического террора. В этом случае самой заманчивой целью был верховный правитель Российской империи.
Первым в ряду покушавшихся на жизнь царя суждено было стать Дмитрию Каракозову.
ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Дмитрий Владимирович Каракозов (1840–1866) происходил из мелкопоместных дворян Саратовской губернии. Поступил учиться на юридический факультет Казанского университета. Его исключили за участие в студенческих волнениях; правда, спустя год восстановили. Он перешел в Московский университет, но через несколько месяцев был отчислен за невнесение платы за обучение.
У него, безусловно, были причины относиться без уважения или даже с ненавистью к существующему в России общественному укладу. Хотя он и принадлежал к привилегированному классу, но был беден. Однако, вступая на революционную стезю, он вряд ли руководствовался исключительно личными мотивами. Покушение на императора ничего хорошего ему не сулило.
К этому решению Каракозов пришел не сразу. Поначалу его увлекла борьба за студенческие свободы. По-видимому, на него произвели большое впечатление революционные события в Западной Европе и, главным образом, во Франции.
О причинах его решения переехать в Москву сказать трудно. Скорее всего, сыграла свою роль давняя дружба с его двоюродным братом Ишутиным, человеком незаурядным.
Николай Андреевич Ишутин (1840–1879) был потомственным почетным гражданином города Сердобска Саратовской губернии. С детства был решительным, бойким, общительным, любил и умел властвовать над сверстниками. Под его влиянием находился и Дмитрий Каракозов, отличавшийся нервностью, нерешительностью, внушаемостью.
В 1863 году Ишутин поступил вольным слушателем в Московский университет. Вскоре он организовал революционный кружок, назвав его загадочно — «Организация»). В это тайное общество входили студенты университета и Петровской сельскохозяйственной академии, преимущественно разночинцы. Их вдохновляли идеи Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, а также западных социалистов.
Правда, сам Ишутин, возможно, увлечен был прежде всего своей ролью руководителя и вдохновителя группы заговорщиков. Ему нравилось чувствовать свое превосходство над простыми обывателями, студентами, вести двойную жизнь, не считаясь при этом с нравственными нормами.
«Ишутинцы» мечтали, сохранив в стране традиционный российский уклад, перестроить его на принципах социализма. По их мнению, российское общество должно строиться на началах крестьянских общин и кооперативных артелей. Для этого надо было сокрушить существующий строй, свергнуть царя. Однако такие цели приходилось скрывать от большинства участников кружка. Ишутин понимал: в народе радикальные меры не найдут поддержки.
Почему? Население по большей части бедствует, едва сводя концы с концами; находящиеся «при власти» неправедно богатеют, нередко за счет казнокрадства. Разве плохо отказаться от такого государственного устройства?
В данном случае, как это часто бывает, сказывалась распространенная в массах легенда о том, что верховный правитель хорош, а дурны его подчиненные, чиновники. Отчасти мнение было справедливое. Тем более что убийство царя само по себе могло бы принести народу не освобождение, а дополнительное порабощение. Кто знает, какой человек воссядет на трон? И почему бы ему быть добрее своего убиенного предшественника?
Однако все это оставалось в области мечтаний. В сущности, кружковцы никак не были связаны с народом. Пора было действовать. Но что предпринять? В сущности, они были слабы для серьезных выступлений. Именно это подвигло их на индивидуальный террор.
На основе своего кружка Ишутин стал сколачивать группу с характерным названием «Ад». Ближайшей ее задачей было цареубийство и уничтожение предателей, после чего, как предполагалось, народ встряхнется от вековой спячки и сбросит иго эксплуататоров. Или, во всяком случае, на престол взойдет государь более либерального направления и проявивший больше заботы о русском народе.
А. А. Шилов, один из авторов многотомника «Деятели революционного движения в России», выходившего с конца 1920-х годов, так характеризовал Николая Ишутина на основе имевшихся документов: «Ишутин как-то не подходил под общее представление о российских революционерах, и если с кем-то его можно сопоставить, то только с Нечаевым, одинаково окружавшим себя таинственностью и также неразборчивым в средствах…
Кинжал, веревка, смерть за непослушание и измену — вот средства, рекомендованные Ишутиным. „Кто не за нас, тот против нас!“ — постоянно говорил он в подобных случаях. От него исходили предложения об убийстве, отравлении, ограблении в целях добывания средств». Он утверждал, что цель оправдывает средства, а террор — лучший способ вызвать крестьянское восстание и заставить правительство отказаться от самодержавия в пользу социализма.
Трудно сказать, насколько глубоко и серьезно верил Ишутин в те принципы, которые внушал своим соратникам. Во всяком случае, сам он не решился организовать покушение на императора.
Был еще один человек, которого также можно считать одним из первых идеологов революционного террора в России и вдохновителем Каракозова — Петр Григорьевич Зайчиевский (1842–1896), автор прокламации «Молодая Россия». Он принадлежал к среднепоместным дворянам Орловской губернии. Проявил способности к естественным наукам и в 1858 году поступил на физико-математический факультет Московского университета.
Зайчиевский увлекся революционными идеями. После разгона в феврале 1861 года демонстрации в Варшаве с требованием отделения Польши от России он во время мессы по убитым ее участникам произнес речь, предлагая объединить усилия русских и польских борцов за свободу. В том же году он вместе со студентом юридического факультета П. Э. Аргиропуло организовал подпольный революционный кружок.
Во время летних каникул он вел пропаганду среди крестьян Подольского и Мценского уездов, призывая к неповиновению властям и общинному землевладению. В народе его речи не нашли отзвука. Хорошо еще, что его не передали полиции.
Но эта участь Зайчиевского не миновала. За ним учредили негласный надзор и в одном из перехваченных его писем Аргиропуло обнаружили революционные высказывания. Материал представили императору. Он наложил резолюцию: «Письмо это столь преступного и опасного содержания, что считаю необходимым арестовать немедленно и того, и другого и выслать их со всеми их бумагами сюда».
Судя по тому, что дело было доложено в высшую инстанцию, оно было из ряда вон выходящим. Арестованного Зайчиевского доставили в Петербург, допросили и отправили в Москву. Находясь в заключении, двадцатилетний революционер не пал, а напротив, воспрянул духом и сочинил прокламацию «Молодая Россия», фрагменты которой приведены выше.
В 1862 году его приговорили к 2 годам 8 месяцам каторги. Отбыв ее в Усольском соляном заводе (Иркутская губерния), он находился на поселении в Забайкалье до 1869 года, после чего вернулся в Европейскую Россию. Здесь он продолжал революционную пропаганду, создавал тайные кружки. В 1889 году его вторично арестовали и судили. Два года он провел в тюрьме, после был сослан в Иркутск на 5 лет. Работая в иностранном отделе газеты «Восточное обозрение», он продолжал вести революционную пропаганду. Последний год жизни провел в Смоленске.
Петр Зайчиевский был одним из наиболее ярких идеологов насильственного свержения существующего строя любыми средствами, а Николай Ишутин попытался приступить к реализации «революционного проекта».
После ареста, давая показания в Следственной комиссии, он утверждал, что целью созданной им «Организации» была пропаганда социалистических идей в народе, сближение с крестьянами и рабочим классом, устройство артелей и агентурной сети. По его словам: «Государственные вопросы решаются с рассмотрения депутатов всех обществ или областей. Государь есть полный выразитель общественных нужд и потребностей страны».
Судя по всему, тут он лукавил, стараясь избежать обвинения в подготовке убийства императора. Он даже утверждал, будто «никогда не имелось в виду цареубийство». Впрочем, членов «Организации» действительно могли не информировать о такой террористической акции. Ее предполагалось осуществить членами глубоко законспирированной группы «Ад», о которой мы уже упоминали.
«Цель этого кружка была цареубийство, — сказал Ишутин, — в случае, ежели правительство не согласится с требованиями. Член „Ада“ должен отчуждаться от всех порядочных людей и, чтобы отвлечь от себя подозрения правительства, сделаться абсолютными негодяем, взяточником и вообще окружить себя самой гадкой обстановкою… Для пробы характера и нравственной силы членов, третью часть членов по жребию сделать доносчиками… В случае революции члены „Ада“ не должны делаться вожаками… Член „Ада“ должен был в случае необходимости жертвовать жизнию своею, не задумавшись. Жертвовать жизнию других, тормозящих дело и мешающих своим влиянием… Член „Ада“ должен жить под чужим именем и бросить семейные связи; не должен жениться, бросить прежних друзей и вообще вести жизнь только для одной исключительной цели».
И хотя этой целью Ишутин называл благо родины, совершенно непонятно, почему ради этого надо сделаться абсолютным негодяем? (Позже такую роль играл знаменитый провокатор эсер Азеф.) Разве не целесообразнее стать скромным служащим, обывателем, семьянином? Кто заподозрит в таком субъекте свирепого революционера? И почему надо брать взятки? Не ради же материальной поддержки революции (ведь члены «Ада» слишком конспиративны и не должны общаться с порядочными людьми), а для того, чтобы вести распутную разгульную жизнь.
Создается впечатление, что втайне от самого себя Ишутин мечтал жить вне законов не только государственных, но и нравственных, вкушая все прелести разврата во имя «высшей цели». Для него, атеиста, ад был не посмертной карой за грехи, а олицетворением всевозможных грехов, среди которых есть и весьма привлекательные.
…Итак, в 1862–1865 годах в кругах российских студентов витала идея убийства императора. И если такие, как Петр Зайчиевский, имели в виду теоретическую возможность цареубийства, то Николай Ишутин начал создавать террористическую организацию, а Дмитрий Каракозов решился посягнуть на жизнь Александра II, не дожидаясь, когда в стране сама собой возникнет революционная ситуация. Возможно, он считал, что после его выстрела она и появится.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Принято считать, что бытие определяет сознание. Для многих, называемых обычно обывателями, так оно и есть. Они приспосабливаются к существующей в обществе ситуации, можно сказать, плывут по течению житейского моря.
Но для людей, увлеченных идеями, имеющих общественные и личные идеалы, к которым они стремятся, сознание определяет бытие, судьбу, а то и смерть. Для Дмитрия Каракозова было именно так.
Никакой личной смертельной ненависти к императору России у него не было. Убить его он решил из «высших соображений» под влиянием Николая Ишутина с его пропагандой революционного террора. Такова была общая идейная установка. Но помимо этого сказались и другие факторы.
«С моей точки зрения, — писал А. А. Шилов, — требует более серьезного изучения и чисто медицинский аспект поступка Каракозова. Как известно, незадолго до покушения он лежал в клинике Московского университета, считая себя неизлечимым больным, подумывал и говорил о самоубийстве. Попытку самоубийства он совершил, находясь в заключении. Почти все, общавшиеся с Каракозовым, находили его, по меньшей мере, странным».
Об этом свидетельствует и то, что после попытки самоубийства он тем не менее подал прошение царю о помиловании. По-видимому, как у многих невротиков, у него резко менялось настроение, а порой обуревали навязчивые идеи. Могла сыграть свою роль и его мнимая или реальная неизлечимая болезнь, вызвав желание завершить жизнь героически.
Накануне покушения он написал и распространял прокламацию «Друзьям-рабочимъ». В ней он писал:
«Грустно, тяжко мне стало, что так погибает мой любимый народ, и вот я решил уничтожить царя-злодея и самому умереть за свой любезный народ. Удастся мне мой замысел, — я умру с мыслью, что смертью своею принес пользу дорогому моему другу — русскому мужичку. А не удастся, так все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось — им удастся. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их. Пусть узнает русский народ своего главного могучего врага — будь он Александр второй или Александр третий и так далее, это все равно. Справится народ со своим главным врагом, остальные мелкие — помещики, вельможи, чиновники и богатеи струсят, потому что число их вовсе незначительно. Тогда-то и будет настоящая воля».
Короче, чтобы «из искры возгорелось пламя», чтобы начались революционные выступления рабочих и крестьян, он решил убить царя. Правда, поведение Каракозова во время и после покушения было вовсе не героическим. Он вел себя как человек, слабо владеющий собой, испытавший сильное потрясение и забывший в результате принципы, которые провозгласил в своей недавно написанной прокламации.
Как гласил обвинительный акт Верховного Уголовного суда, обстоятельства дела были таковы:
«4 апреля 1866 года, около 4 часов пополудни, когда Государь Император, по окончании прогулки в Летнем саду, выйдя на набережную р. Невы, приблизился к своему экипажу, неизвестный человек, стоявший в толпе народа, собравшейся у ворот сада, выстрелил в Священную Особу Его Императорского Величества.
Провидению было угодно сохранить драгоценную для России жизнь возлюбленного монарха.
Крестьянин Костромской губернии, Буйского уезда, Молвитинской волости, села Молвитина, Осип Комиссаров, стоявший в толпе народа, увидевший направленный в Государя Императора пистолет, толкнул преступника в локоть, вследствие чего пуля пролетела над головою Его Величества.
Сделавший выстрел побежал вдоль Невы, по направлению к Прачешному мосту, но был задержан городовым, унтер-офицером дворцовой команды Степаном Заболотиным (бляха № 66), который вырвал у него двуствольный пистолет, другой курок которого был взведен, и унтер-офицером жандармского эскадрона Лукьяном Слесарчуком и доставлен в III отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии».
Государь записал в дневнике об этом событии кратко «Гулял с Марусей и Колей (детьми. — Р.Б.) в Летнем саду… выстрелили из пистолета, мимо… Убийцу схватили… Общее участие. Я домой — в Казанский собор. Ура — вся гвардия в белом зале…»
При задержании Каракозов назвал себя крестьянином одной из южных губерний Алексеем Петровым. При нем оказались: две прокламации «Друзьям рабочим!»; фунт пороха и пять пуль; стеклянный пузырек с синильной кислотой, порция стрихнина и 8 порошков морфия. Все это — сильнодействующие яды.
Принято считать, что решение стрелять в императора Каракозов принял самостоятельно. Но тот факт, что он имел при себе прокламацию и яд, свидетельствует о следовании правилам, которые Ишутин предписал членам «Ада»: в случае необходимости покончить с жизнью, имея при себе только революционную листовку, а чтобы труп не опознали, разгрызть капсулу с гремучей ртутью, произведя взрыв. Не имея такой капсулы, Каракозов обзавелся ядом.
Но тут проявляются странности его поведения. Из двуствольного пистолета при дополнительных пяти зарядах он сделал лишь один выстрел, дав промах. После этого не застрелился на глазах ошеломленной публики, не принял яд хотя бы одного типа, а то и всех трех, выкрикнув предсмертные призывы, а бросился наутек, словно нашкодивший мальчишка. Слыша шаги догонявших, он не выстрелил в них, а когда его схватили, не оказал сопротивления.
На следствии его, по-видимому, пытали, в частности, лишением сна. Так полагал П. А. Кропоткин, слышавший об этом от одного офицера.
Суд приговорил Каракозова к повешению. На его прошении о помиловании Александр II наложил резолюцию: «Лично в душе моей давно простил ему, но как представитель Верховной власти, я не считаю себя в праве прощения подобного преступника».
Каракозова казнили при огромном стечении народа 3 сентября 1866 года на Смоленском поле в Петербурге, на краю Васильевского острова.
Ишутина арестовали по тому же делу и судили, приговорив к смертной казни как «зачинщика замыслов о цареубийстве». На следующий день после казни его двоюродного брата на то же лобное место с виселицей доставили под конвоем Николая Ишутина. Подержав его у позорного столба, надели на него саван, накинули на шею петлю.
В последний момент, как бывало не раз, подъехал фельдъегерь и привез пакет с царским помилованием. Испытание страхом смерти не прошло для него даром. В Шлиссельбургской крепости он стал проявлять признаки психического расстройства. Его отправили в Сибирь на пожизненные каторжные работы. После ареста он прожил всего 7 лет, не дотянув до сорокалетнего возраста.
Возможно, помилование он получил за то, что выдал участников своей тайной «Организации». Во всяком случае, всех их арестовали и судили. Один из них. Дмитрий Юрасов (1842–1918), на следственной комиссии показал, что после появления плана особо тайного кружка «Ад», некоторые члены «Организации» высказались против, и осуществление этого адского плана постоянно откладывали. «Когда же Каракозов, — сказал Юрасов, — сообщил кому-то из живущих со мной о своем преступном намерении и пропал из Москвы, тогда сделалось ясно, что словами нельзя шутить!» (Юрасова приговорили к бессрочной каторге, сокращенной до 10 лет.)
Покушение Каракозова стало триумфом Осипа Ивановича Комиссарова (1838–1892). Этот московский мастеровой из крестьян был возведен в дворянское достоинство и награжден деньгами как спасший жизнь императора. Хотя уже тогда высказывались резонные сомнения в этой официальной версии, более всего похожей на ловкий пропагандистский прием.
Действительно, если Осип Комиссаров толкнул Каракозова, помешав ему сделать прицельный выстрел, то почему не схватил преступника за руку? Почему не задержал его на месте преступления? Или если опешил, почему тотчас не бросился за ним вдогонку?
Промах Каракозова проще всего объяснить тем, что он не умел хорошо стрелять и вдобавок сильно волновался. Даже хладнокровный убийца без предварительных тренировок имеет мало шансов попасть навскидку в движущуюся цель с расстояния в 20–30 м. А тут вовсе не хладнокровный убийца, а нервная неуравновешенная личность, и не мишень, а человек.
Судьбоносным выстрел Каракозова оказался не только для него, но и для императора.
От этого покушения на убийство никто не пострадал. Александр II даже не испытал сильной моральной травмы. Тем не менее посмевший посягнуть на его жизнь был казнен.
Трудно сказать, почему Александр II решил подписать смертный приговор Каракозову. Ссылка на то, что сделал он это не по личным мотивам, а как представитель верховной власти, ничего не объясняет. Именно как самодержец он мог помиловать преступника.
Странно, что никто ему не объяснил пользу такого решения. Оно много бы изменило в революционном движении. Казнь Каракозова не могла напугать террористов. Она лишь укрепила их в мысли покончить с императором-злодеем. Тут уже был уместен призыв: кровь за кровь, смерть за смерть. Ведь казнили человека, не пролившего кровь, никого не убившего и даже не ранившего!
Да, он посмел посягнуть на жизнь священной особы. Но ведь священна она, эта особа, именем всемилостивейшего Бога, завещавшего прощать врагов своих, не воздавать злом за зло, дабы оно не возрастало в мире. С этих позиций христианского смирения и прощения императору следовало помиловать Каракозова.
Ясно, что политик, государственный деятель, а тем более самодержец не может всегда и во всем следовать религиозным заповедям. (В личной жизни Александр II, подобно всем другим императорам, не раз нарушал их.) Но в данном конкретном случае бессрочная каторга или пожизненное заточение в крепости были бы не бог весть какой царской милостью. Зато в общественном мнении, а особенно в народе, такой поступок вызвал бы одобрение и умиление, моральный авторитет царской власти поднялся бы на новую высоту.
Это могло бы стать, пожалуй, самым сокрушительным ударом по террористам. Кто решился бы готовить очередное покушение на такого императора? Если он ценит человеческую жизнь, если он милостив даже к тому, кто хотел лишить его жизни, то каким же надо быть извергом, чтобы его убить?!
Террористу необходимо оправдание своей акции. Казнь Каракозова, не причинившего никому никакого вреда, давала такое оправдание. Безусловно, и без этого нашлись бы оголтелые сторонники цареубийства. Однако им было бы трудно подыскать сообщников и над ними довлело бы общественное мнение. В такой обстановке вряд ли кто-то решился посягнуть на жизнь «милосердного» государя, а решившись, имел бы ничтожно мало шансов на успех.
Короче говоря, выстрел Каракозова, промахнувшегося в царя, мог бы стать точным попаданием в революционеров-террористов в случае отмены смертной казни для совершившего это преступление. Ничего подобного не произошло, и для Александра II начался отсчет времени до трагического завершения жизни.
Сам того не желая, он поощрил своих будущих убийц.
Революционеров, отвергавших индивидуальный террор (а таких было подавляющее большинство), покушение Каракозова ошеломило и возмутило не меньше, чем сторонников самодержавия.
«Выстрел 4 апреля был нам не по душе, — писал Герцен. — Мы ждали от него бедствий, нас возмущала ответственность, которую брал на себя какой-то фанатик. Мы вообще терпеть не можем сюрпризов ни на именинах, ни на площадях: первые никогда не удаются, вторые почти всегда вредны. Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами». (Это замечание было опровергнуто последующими историческими событиями, вплоть до нашего времени.)
Ему ответил неистовый революционер-анархист М. А. Бакунин: «Я так же, как и ты, не ожидаю ни малейшей пользы от цареубийства в России, готов даже согласиться, что оно положительно вредно, возбуждая в пользу царя временную реакцию, но не удивлюсь отнюдь, что не все разделяют это мнение и что под тягостью настоящего невыносимого, говорят, положения нашелся человек, менее философски развитый, но зато и более энергичный, чем мы, который подумал, что гордиев узел можно развязать одним уларом. Несмотря на теоретический промах его, мы не можем отказать ему в своем уважении и должны признать его „нашим“ перед гнусной толпой лакействующих царепоклонников».
Не совсем прав Бакунин, предполагая «теоретический промах» у террориста. Да, безусловно, ответом на покушение было ужесточение карательных мер со стороны правительства. Но именно этого добивались некоторые теоретики индивидуального террора.
По их мнению, обострение борьбы между революционерами и их противниками должно привести в конце концов к открытому столкновению, социальному взрыву. Индивидуальный террор провоцирует аналогичные меры со стороны государства. Таким путем предполагалось вызвать дестабилизацию общества, страх перед новыми покушениями, растерянность и смуту.
Кроме того, громкие террористические акции должны были, по мнению их сторонников, напоминать властям и народу, а также просвещенным гражданам других стран, что в России действуют тайные общества революционеров, бросивших вызов самодержавию. Слабых духом это заставляло трепетать, а сильных вдохновляло на революционные подвиги (или на противодействие им).
…В период либеральных реформ Александра II большинство идейных революционеров отвергали метод террора. А желающих совершить цареубийство даже ценой собственной жизни было, по-видимому, немало. П. А. Кропоткин, член тайного кружка народников «чайковцев», свидетельствовал:
«Из южных губерний приехал однажды в Петербург молодой человек с твердым намерением убить Александра II.
Узнав об этом, некоторые чайковцы долго убеждали юношу не делать этого; но так как они не могли переубедить его, то заявили, что помешают ему силой. Зная, как слабо охранялся в ту пору Зимний дворец, я могу утвердительно сказать, что чайковцы тогда спасли Александра II. Так твердо была настроена тогда молодежь против той самой войны, в которую она бросилась потом с самоотвержением, когда чаша ее страданий переполнилась».
Если у кого-то была надежда запугать покушениями царя и вынудить его пойти на уступки, она ни в коей мере не оправдалась. Как бы ни относиться к русским царям, трусостью они не отличались. В частности, во время покушений на его жизнь Александр II проявлял спокойствие и мужество. Но ему, пожалуй, не хватило рассудительности и трезвого расчета, чтобы использовать покушение Каракозова в своих и государственных целях. Или, вернее сказать, не было у него советника, подсказавшего правильное решение.
Либеральные реформы Александра II и относительная свобода печати вызвали «демократическое брожение» в российском обществе. Они возбудили в среде значительной части образованных сословий надежды на дальнейшую модернизацию государственной системы, вплоть до принятия конституции (к чему стремились главным образом демократы-западники) или укрепления местного самоуправления и сельских общин, о чем мечтали славянофилы и революционеры-народники.
Время шло, а дальнейшего развития реформы царя-Освободителя не имели. Не потому, что ему чрезвычайно нравилось чувствовать себя самодержавным владыкой огромной империи. Он находился в трудном положении, опасаясь, что будут поколеблены устои российского общества, начнется борьба за власть, а там еще народные бунты, революция, распад державы.
По мнению Петра Кропоткина, Александр II был храбр перед реальной опасностью, «но он беспрерывно трепетал перед призраками, созданными его собственным воображением. Единственно чтобы охранить свою императорскую власть, он окружил себя людьми самого реакционного направления, которым не было никакого дела до него, а просто нужно было удержать свои выгодные места».
И все-таки ситуация для царя была не так проста. В его ближайшем окружении не было единства. С одной стороны на него оказывали давление влиятельнейшие представители имперской власти, привилегированные слои общества, недовольные либеральными реформами. С другой — не менее влиятельные силы стояли за дальнейшие постепенные преобразования и установление в конце концов конституционной монархии.
Высшее дворянство претендовало на свою долю «самодержавия», тогда как революционеры стремились либо свергнуть любую власть (анархисты), либо установить народовластие (неведомо какое), либо — меньшинство — полагали, что социализм победит в России после установления буржуазной демократии.
С момента покушения Каракозова и уничтожения ишутинской «Организации» с ее «Адом» особое беспокойство стали вызывать террористы. Как показали дальнейшие события, им не удалось запугать Александра II, Но возник вопрос: как с ними бороться? В окружении императора возобладало мнение о том, что нельзя допускать каких-либо послаблений, когда и без того отмена крепостного права возбудила в обществе иллюзии о слабости самодержавия.
С террористами решено было действовать такими же террористическими методами, чтобы нагнать на них страх и принудить отказаться от преступных замыслов.
…Принято повторять: история не имеет сослагательного наклонения, ее следует принимать и обсуждать только как свершившийся факт. Однако всегда остается искушение подумать: а что было бы, если бы то или иное знаменательное событие произошло иначе? Например, что было бы в случае убийства молодого Петра I и воцарения Софьи? Или в результате победы восстания Пугачева?
В связи с событиями последних полутора столетий фантазировать на темы «альтернативной истории» стало, пожалуй, проще. И в таком контексте — вновь повторю — покушение Каракозова и его казнь выглядят одним из переломных моментов истории России, как бы это ни показалось странным на первый взгляд.
Борьба против индивидуального революционного террора методом государственного террора, как показала практика, может обеспечить только временные победы. Ведь у революционеров-террористов именно такая цель: обострить ситуацию в стране всеми силами, даже путем отдельных неудач. Почему это не осознал и не принял к сведению Александр II, остается только догадываться.
«Плетью обуха не перешибешь», — гласит пословица. Да, конечно, одним лишь индивидуальным террором государственную власть не свергнешь, даже не пошатнешь. И это ясно сознавали теоретики и практики терроризма. Они находились в ничтожном меньшинстве и не пользовались популярностью в народе. Для них это не было секретом. Они в этом убеждались постоянно, ведя революционную пропаганду.
У террористов, как мы уже говорили, главной целью было — ожесточить власть имущих, остановить либеральные (условно говоря) реформы, усилить напряженность в обществе, вызвать на себя ответные удары властей, показать, что с самодержавием можно и нужно бороться.
Представим себе, какие были настроения в многотысячной толпе, присутствовавшей на казни Каракозова. Вряд ли все одобряли узаконенное убийство этого молодого человека, не причинившего вреда никому. Да, он достоин сурового наказания, но разве по-христиански лишать его жизни? Неужели батюшка-царь в последнюю минуту не повелит отменить казнь?
Не отменил! И закачалось тело Каракозова, вздрогнув в последний раз, и многие мужики сняли шапки, а бабы крестились. Наверняка кто-то в толпе нахмурился и подумал: нет, не от Иисуса Христа царская власть, ежели она столь жестока. Были, пожалуй, и лихие головы, в которых мелькнула мысль: а что если и впрямь царя укокошат? У этого бедолаги не получилось, да ведь вряд ли он один такой отчаянный. Глядишь, не станет царя, испугаются его сатрапы, мироеды, и облегчат жизнь народа! Тут надо еще разобраться, кто прав, а кто виноват…
Так или иначе, но вряд ли эта казнь усилила в народе неприязнь к революционерам и, тем более, не испугала потенциальных террористов, которые и без того знали, что рискуют жизнью.
А как бы реагировала та же толпа, если бы в последний момент пришло помилование царем преступника, покусившегося на его священную особу? Кто-то мог бы посетовать на излишнюю мягкость власти к злодею. Да ведь и окончить жизнь на каторге или сгнить в каземате — кара жестокая, кому это не понятно. Зато православный царь показала всему миру, что для него заповеди Иисуса Христа — не звук пустой. А помилованный преступник будет молиться за него и горько раскаиваться в своем поступке. Глядишь, и кто другой, замысливший цареубийство, остановится, одумается, побоится гнева и презрения народного…
Слух о милосердии Александра II прошел бы по всей России. Даже в среде революционно настроенной молодежи его поступок был бы одобрен, хотя и не без оговорок. Помилование Каракозова показало бы не слабость, а силу верховной власти и содействовало бы укреплению авторитета царя в народе.
ПОКУШЕНИЕ № 2
Сильная Российская держава вызывала опасение и скрытую, а то и явную неприязнь ее «конкурентов» на мировой арене. Поэтому на Западе поддерживали революционное движение в Российской империи (прежде всего в царстве Польском), которое в середине XIX века набирало силу.
Отсутствие сильной центральной власти всегда грозило России распадом на отдельные «вотчины», расчленением. Об этом не раз говорил Александр II в беседах со своими вельможами. Оно могло начаться, например, с отделения царства Польского. Именно в этом были заинтересованы ее многочисленные зарубежные недруги, включая Англию.
Об этой ненависти к России западных держав, скрывающих ее под маской радетелей за демократию и права человека, написал под впечатлением Крымской войны Федор Тютчев в октябре 1854 года:
Все богохульные умы. Все богомерзкие народы Со дна воздвиглись царства тьмы Во имя света и свободы!«В январе 1863 года Польша восстала против русского владычества, — вспоминал П. А. Кропоткин. — Образовались отряды повстанцев, и началась война, продолжавшаяся полтора года. Лондонские эмигранты умоляли польские революционные комитеты отложить восстание, так как предвидели, что революция будет подавлена и что она положит конец реформам в России. Но ничего нельзя уже было сделать. Свирепые казачьи расправы с националистическими манифестациями на улицах Варшавы в 1861 году, жестокие беспричинные казни, последовавшие затем, привели поляков в отчаяние. Англия и Франция обещали им поддержку…
Даже многие умеренные люди открыто высказывались в те годы, что России выгоднее иметь Польшу хорошим соседом, чем враждебно настроенной подчиненной страной. Польша никогда не потеряет своего национального характера: он слишком резко вычеканен. Она имеет и будет иметь свое собственное искусство, свою литературу и свою промышленность. Держать ее в рабстве Россия может лишь при помощи грубой физической силы; а такое положение дел всегда благоприятствовало и будет благоприятствовать господству гнета в самой России.
…Общество одобрительно приветствовало передовую статью, которую славянофил Иван Аксаков имел мужество напечатать в своей газете „День“. Он начинал с предположения, что русские войска очистили Польшу, и указывал благие последствия для самой Польши и для России. Когда началась революция 1863 года, несколько русских офицеров отказались идти против поляков, а некоторые даже открыто присоединились к ним и умерли или на эшафоте, или на поле битвы. Деньги на восстание собирались по всей России, а в Сибири даже открыто. В университетах студенты снаряжали тех товарищей, которые отправлялись к повстанцам.
Но вот среди общего возбуждения распространилось известие, что в ночь на 10 января повстанцы напали на солдат, квартировавших по деревням, и перерезали сонных, хотя накануне казалось, что отношения между населением и войсками дружеские. Происшествие… произвело, конечно, самое удручающее впечатление на общество. Снова между двумя народами, столь сродными по происхождению, но столь различными по национальному характеру, воскресла старая вражда… Но в то же время стало известно, что революционный комитет требует восстановления Польши в старых границах, со включением Украины, православное население которой ненавидит панов и не раз в течение трех последних веков начинало восстание против них кровавой резней.
Кроме того, Наполеон III и Англия стали угрожать России новой войной, и эта пустая угроза принесла полякам более вреда, чем все остальные причины, взятые вместе. Наконец, радикальная часть русского общества с сожалением убедилась, что в Польше берут верх чисто националистические стремления. Революционное правительство меньше всего думало о наделении крепостных землей, и этой ошибкой русское правительство не преминуло воспользоваться, чтобы выступить в роли защитника холопов против польских панов».
Бороться с польскими повстанцами-партизанами было нелегко. Их поддерживало население. Для местных крестьян не было никакой принципиальной разницы между польскими и русскими помещиками, а первые были вроде бы издавна «своими», привычными.
Самым слабым звеном в политике польских националистов была их шляхетская политическая установка, не предполагавшая освобождения холопов. Этим воспользовалось русское правительство. Александр II послал в Польшу графа Н. А. Милютина с полномочием освободить крестьян, по тому плану, который тот предлагал осуществить в России.
— Поезжайте в Польшу и там примените против помещиков вашу красную программу, — сказал император.
Так и произошло: значительная часть земель польских помещиков была передана крестьянам, которым только требовалось платить определенный налог в казну.
Двоюродный брат П. А. Кропоткина, воевавший в Польше в составе гвардейского уланского полка, рассказывал:
— Банды нападали беспрестанно на наши небольшие отряды; а так как повстанцы сражались превосходно, отлично знали местность и находили поддержку в населении, то они оставались победителями в таких случаях. Поэтому мы вынуждены были ходить всегда большими колоннами. И вот мы ходили все время по всему краю, взад и вперед, среди лесов, а конца восстанию не предвиделось. Пока мы пересекали какую-нибудь местность, мы не встречали никакого следа повстанцев. Но как только мы возвращались, то узнавали, что банды опять появлялись в тылу и собирали патриотическую подать. И если какой-нибудь крестьянин оказал услуги нашим войскам, мы находили его повешенным повстанцами. Так дело тянулось несколько месяцев, без всякой надежды на скорый конец, покуда не прибыли Милютин и Черкасский. Как только они освободили крестьян и дали им землю, все сразу изменилось. Крестьяне перешли на нашу сторону и стали помогать нам ловить повстанцев. Революция кончилась.
Польских повстанцев ждала нелегкая судьба: одних казнили, других сослали в Сибирь (среди них был впоследствии известный географ и геолог И. Д. Черский), третьи бежали за границу, главным образом во Францию и в Англию.
Об отношении к русского правительства к полякам Александр II сказал 25 мая 1865 года в Зимнем дворце на приеме высших гражданских чинов и членов знатных дворянских родов царства Польского:
«Я желаю, чтобы слова мои вы передали вашим заблужденным соотечественникам. Надеюсь, что вы будете содействовать к образумлению их. При сем случае не могу не припомнить слов, поставляемых мне в укор, как бы оскорбление для Польши, которые я сказал еще в 1856 году в Варшаве, по прибытии туда в первый еще раз Императором. Я был встречен тогда с увлечением и в Лазенковском дворце говорил вашим соотечественникам: „Оставьте мечтания!“ („Point de reveries!“) Я люблю одинаково всех моих верных подданных: русских, поляков, финляндцев, лифляндцев и других; они мне все одинаково дороги, но никогда не допущу, чтобы дозволена была мысль об отделении Царства Польского от России и самостоятельное без нее существование его; оно создано Императором и всем обязано России».
Однако через два года Александр II едва не пал от руки польского эмигранта, революционера-националиста. Если учесть, что эта акция связывала в один узел политику России, Польши и Франции, то можно сказать о проявлении международного терроризма.
Это произошло летом 1867 года в Париже. В то время отношения России и Франции были натянутыми. Французское правительство поддерживала выступления польских националистов против власти русского императора.
Император Наполеон III пригласил Александра II посетить Парижскую всемирную выставку и быть его гостем. Летом русский царь прибыл в Париж. Он произвел прекрасное впечатление на французскую аристократию своим внушительной и красивой внешностью, безукоризненным поведением и прекрасной французской речью.
Однако не обошлось и без неприятностей. Во время его официального посещения Дворца правосудия один из французских адвокатов, прерывая торжественное мероприятие, закричал, размахивая руками и злобно глядя на императора: «Да здравствует Польша!» Александру II не осталось ничего, как поклониться председателю суда и выйти из зала.
Трудно сказать, была ли столь вульгарная и наглая акция как-то связана с французским правительством, но ее результатом стало еще большее охлаждение отношений между двумя императорами.
А затем произошел другой инцидент, едва не стоивший русскому царю жизни.
Оба императора ехали в открытом экипаже через Булонский лес, возвращаясь с военного парада. Приветствовала их большая толпа, а потому кортеж двигался медленно.
Вдруг к карете, в которой находились императоры, бросился молодой человек с револьвером в руке. Он выстрелил в Александра II. Пуля прошла через ноздри коня офицера охраны, обрызгав кровью императоров, и, не задев никого из них, ранила женщину на противоположной стороне улицы.
Террорист подбежал вплотную к карете и почти в упор, прицелившись, нажал спусковой крючок. Раздался выстрел. Но русского царя словно охраняли высшие силы: револьвер взорвался в руках нападавшего, который упал на землю и был схвачен полицейскими.
Террористом оказался поляк Антон Березовский. Он участвовал в восстании 1863 года, а после его разгрома бежал во Францию, где получал из казны небольшое денежное пособие. На что он рассчитывал, покушаясь на русского царя, сказать трудно. Скорее всего, им двигала слепая злоба. Во-первых, он мог случайно убить императора Франции, что непременно печально сказалось бы на судьбе польских эмигрантов во Франции. Во-вторых, гибель русского царя ничуть не улучшила бы положения поляков на родине и лишь закрепила бы господство над Польшей нового императора России.
Этот инцидент можно рассматривать как злобную и нелепую акцию врагов России: ничего хорошего для Польши убийство Александра II принести не могло. Преступника осудили на пожизненную каторгу на острове Новая Каледония.
«Польская революция положила конец всем реформам, — писал П. А. Кропоткин. — Правда, в 1864 и 1866 годах ввели земскую и судебную реформы, но они были готовы еще в 1862 году. Кроме того, в последний момент Александр II отдал предпочтение плану земской реформы, выработанному не Николаем Милютиным, а реакционною партией Валуева по австро-немецким образцам. Затем, немедленно после обнародования обеих реформ, значение их сократили, а в некоторых случаях даже уничтожили при помощи многочисленных временных правил.
Хуже всего было то, что само общественное мнение сразу повернуло на путь реакции. Героем дня стал Катков, парадировавший теперь как русский „патриот“ и увлекавший за собою значительную часть петербургского и московского общества. Он немедленно помещал в разряд изменников всех тех, кто еще дерзал говорить о реформах».
По-видимому, Антон Березовский не случайно хотел убить Александра II именно в Париже. В случае успешного покушения можно было рассчитывать на резкое обострение отношений между Россией и Францией, очередную вспышку повстанческой войны в Польше и, возможно, ее отделение от Российской империи благодаря вмешательству Англии и Франции. Нельзя было исключить не только растерянность русского правительства, но и возможного дворцового переворота. Буйные головы могли даже вообразить, что этот переворот будет носить радикальный характер и завершится принятием конституции.
Ныне подобные варианты выглядят фантастическими, однако в то время для многих государственных деятелей, не говоря уже о наиболее пылких и нетерпеливых революционерах, падение самодержавия представлялось вполне возможным. Некоторые предпосылки для этого имелись. О них надо упомянуть, ибо они имеют непосредственную, хотя и не очевидную, связь с дальнейшими покушениями на императора России.
САMОДЕРЖАВИЕ НА РАСПУТЬЕ
Осенью 1861 года в Петербурге появилась прокламация «К молодому поколению». В ней молодежи предлагалось бороться с самодержавием, идти к крестьянам, искать союза с солдатами. Написал прокламацию Н. В. Шелгунов при участии М. Л. Михайлова. Последний был арестован, взял всю вину на себя и был осужден на каторгу.
Тогда же тайный кружок «Великорусе» (П. И. Боков, В. Ф. Лугинин) выпустил три листка того же названия. Выдвигались требования передачи крестьянам всей земли, которой они пользовались до реформы с выкупом «за счет нации» (государства), принятия конституции, установления суда присяжных, свободы слова и печати, устранения сословных привилегий и введения местного самоуправления. За распространение прокламаций и участие в «Великоруссе» сотрудник «Современника» В. А. Обручев был осужден на каторгу.
Репрессии царского правительства против противников самодержавия содействовали созданию и укреплению другой тайной революционной организации — «Земля и воля». Она продолжала существовать и когда летом 1862 года арестовали ее руководителей Н. Г. Чернышевского и Н. А. Серно-Соловьевича. Была организована нелегальная типография. Издали прокламации к народу, войску и «образованным классам». Вышло также два номера листка «Свобода».
Во главе этого общества стоял «Русский центральный народный комитет». Его филиалы были в ряде крупных городах России. Например, Варшавское отделение насчитывало около 200 человек, преимущественно офицеров.
Предполагалось, что когда в стране начнутся крестьянские волнения (рассчитывали, что это произойдет весной 1863 года), все оппозиционные силы сплотятся вокруг «Земли и воли». Предполагалась передача за вознаграждение части помещичьих земель крестьянам, замена правительственных чиновников выборными (для борьбы, как теперь говорят, с коррупцией, взяточничеством, самодурством на местах), сокращение расходов на войско и царский двор, участие представителей народа в определении податей и повинностей.
Некоторые группы (в частности, московское отделение) ратовали за парламент, установление республики и национализацию земли. Другие считали достаточным конституционную монархию. Наиболее резко обнаружились разногласия во время польского восстания 1863 года. Одни предлагали выступить на стороне поляков, другие называли это предательством интересов России. Сошлись на том, чтобы выразить сочувствие польским повстанцам.
Александр II поступил мудро, распорядившись начать «раскрепощение» крестьян с Польши. «Шляхетский бунт» был подавлен. На некоторое время революционный пыл русской учащейся молодежи поостыл. Однако идеи народников продолжали воздействовать на умы. Их убеждение в своеобразном пути России — в отличие от Запада — были вполне резонны: особенности нашей страны (размеры и географическое положение, народы, культура, история) определяют ее уникальность.
Дискуссии на темы радикальных государственных перемен запрещались правительством. Они проходили в узких кругах интеллигентов. Например, отец нашего великого ученого В. И. Вернадского экономист, статистик и журналист Иван Васильевич спорил с Чернышевским, доказывая ему преимущества частных сельских хозяйств типа хуторов и небольших ферм перед общественными. Однако для природных условий на почти всей территории России, как показал опыт и доказали более поздние экономисты, крупные коллективные хозяйства значительно продуктивнее, чем мелкие частные. Тем более, когда происходит индустриализация не только промышленности, но и сельского хозяйства.
Само стремление более или менее обеспеченной учащейся молодежи идти в народ и бороться за права крестьян показывает высокий моральный уровень, совестливость значительной части русской интеллигенции того времени. Этому способствовала великая русская литература. Но вместо того чтобы поддержать такое движение и придать ему легальный характер при условиях сохранения или мирной эволюции существующего строя (Александр II уже осуществил, в сущности, революционное преобразование, отменив крепостное право), царское правительство пошло на обострение борьбы, применяя репрессии.
Брожение среди студенчества усиливалось. Стихийно создавались кружки, в которых горячо обсуждались идеи социалистов и анархистов, зачитывались различные прокламации. Идеи эти приходили с Запада: в России подобные сочинения были запрещены. Впрочем, это привлекало к ним особый интерес тех, кто желал объективно разобраться в текущей ситуации, как в своей стране, так и за рубежом, не удовлетворяясь официальными сообщениями.
В общем, не случайно член кружка Ишутина стрелял в Александра II. Каракозов убедился, что нет никаких шансов осуществить революционный переворот, а потому решился на цареубийство в надежде таким сомнительным способом потрясти государственные устои.
Александр II находился в трудном положении. Сохраняя или тем более укрепляя существующую государственную систему, можно было потерять авторитет среди «прогрессивных» кругов высшего российского общества, ориентированных на Запад и стремящихся установить в стране конституционную монархию на английский манер. А для революционеров будет веский повод совершить цареубийство как единственно возможный способ свержения самодержавия.
Однако при конституционной монархии придется уступить власть олигархической верхушке и тем, для кого главная цель деятельности — получение максимальной прибыли и связанных с ней привилегий. Отмена крепостного права отчасти проторила этот путь. Дальнейшие преобразования грозили установлением власти наиболее богатых и неизбежным господством иностранного капитала. Некоторая часть революционеров была бы этим удовлетворена, надеясь на установление буржуазной демократии как переходной формы на пути к социализму. Но террористы, стремящиеся к социализму или анархии, все равно оставались бы непримиримыми врагами царя.
На какие-либо существенные уступки революционерам царь не мог согласиться. Его бы тогда свергли или убили убежденные сторонники самодержавия на радость таким типам, как Ишутии или Нечаев.
Выбор у Александра II был невелик: либо продолжить демократические реформы, невзирая на конфликт со многими влиятельными лицами в государстве, либо постепенно свертывать реформы и начать «наведение порядка». И то и другое грозило ему смертью от рук революционеров-террористов. Он предпочел второй вариант. Пожалуй, он, в отличие от своего наследника, не боялся террористов. Больше всего он был озабочен судьбой страны (если не считать личных проблем: у него, по существу, было две жены, две семьи).
Между прочим, проекты либеральных реформ — весьма осторожных, конечно, — предлагали министры внутренних дел и шефы жандармского Третьего отделения. Они были осведомлены о росте революционных настроений и стремились им противодействовать не столько репрессиями, сколько реформами.
Монархия как система государственного управления сложилась в рамках феодальной системы, унаследовав жесткую иерархию типа пирамиды, на вершине которой находится самодержец, а в основании — трудящийся люд, почти исключительно крестьяне. В России основание было огромным (около 85 % населения), а «промежуточные» слои — сравнительно невелики. Среди последних буржуа составляли малую часть. Поэтому реализация буржуазной демократии по западному образцу была весьма сомнительна (что доказало быстрое падение Временного правительства в 1917 году). За ограничение самодержавия выступало дворянство, желавшее получить свою долю государственной власти.
В 1863 году министр внутренних дел П. А. Валуев постарался реализовать свою программу, призванную несколько смягчить самодержавие или, как он выражался, «обновить формы его правления». Впрочем, подобные попытки делались и раньше. Так, еще в 1855 году историк и писатель М. П. Погодин написал графине А. Д. Блудовой (муж ее был главноуправляющим Вторым — законодательным — отделением царской канцелярии) о своем желании встретиться с императором и поделиться с ним своей тревогой за судьбу государства Российского. Она ответила: «Что касается до Вашего намерения просить аудиенции у Государя, чтобы сказать ему в общих выражениях, что положение опасно, что система дурна, что люди недостаточно умны, недостаточно учены… Всё это знает и Государь, и весь свет. Нужно знать, как и чем, и кем пособить горю».
По мнению Валуева, пособить этому горю можно, предоставив «образованным классам населения» возможность «некоторого участия в местных делах». Как писал В. И. Ленин: «Самый сплоченный, самый образованный и наиболее привыкший к политической власти класс — дворянство — обнаружил с полной определенностью стремление ограничить самодержавную власть посредством представительных учреждений».
К Валуеву поступали сведения о состоянии российского общества. 22 сентября 1861 года он представил царю всеподданнейшую записку, где показал, как относятся к правительству дворяне, крестьяне, духовенство, студенты и чиновники. Вывод был неутешительный: «Меньшинство гражданских чинов и войско суть ныне единственные силы, на которые правительство может вполне опереться». Александр II отметил здесь же на полях: «Грустная истина».
Валуев полагал, что пришла пора самодержцу пойти на уступки, а в обществе разрешить более откровенный и широкий обмен мнениями. В своей записке он подчеркнул: «Мыслям, даже ложным, надлежит противопоставлять мысли». Сослался на «общеизвестные европейские события», намекая на революционные выступления. Но царь не желал давать послаблений, понимая, что так можно дойти и до конституции. Он писал: «Прежде всего, я желаю, чтобы правительственная власть была властью и не допускала никаких послаблений и чтобы всякий исполнял свято лежащую на нем обязанность. Второе же: стремиться к постепенному исправлению тех недостатков в нашей администрации, которые все чувствуют, но при этом не касаясь коренных основ монархического и самодержавного правительства».
Однако обстановка в стране летом 1862 года накалялась, распространялись революционные прокламации, назревал конфликт в царстве Польском. В своем дневнике Валуев сделал запись: «Мне порою приходит на мысль: не погибли ли мы окончательно? Не порешена ли судьба Российской империи?»
Да, теперь мы знаем, что судьба ее была решена… через полвека. Может показаться, что срок слишком велик. Но гигантский общественный организм обладает значительной инерцией, у него свои масштабы времени, тогда как каждый наблюдатель невольно оценивает его по своим человеческим обыденным меркам, не всегда это осознавая.
Свое упорное отстаивание самодержавия Александр II объяснял просто: не только народ, но и высшие классы России еще не достигли культурного уровня, необходимого для представительного правления. Именно так он высказался 31 августа 1863 года в беседе с одним из «либералов», разработчиком крестьянской реформы 1861 года Н. А. Милютиным.
Пожалуй, царь был прав, отклоняя всяческие предложения о создании «всероссийской говорильни» (именуемой парламентом, думой или как-то иначе). Однако московское дворянство, а затем петербургское губернское земское собрание, рязанское и петербургское губернские дворянские собрания выступили с предложениями ограничить самодержавную власть. 11 января 1865 года московское дворянство утвердило большинством (272 против 36) голосов адрес на Высочайшее имя.
Один из участников этого собрания вспоминал:
«Начались замечательные прения. Многие из говоривших обнаружили блестящие ораторские таланты, между прочим, молодой предводитель Звенигородского уезда Д. Д. Голохвастов. Речи М. А. Безобразова, графа Орлова-Давыдова, проникнутого благоговением к английским учреждениям и с виду походившего на английского лорда, и Голохвастова выслушивались с жадным вниманием.
Московская публика толпилась на хорах громадной залы Благородного собрания. Заседание имело необычайно оживленный вид. Нападки на бюрократию и министерство внутренних дел вызывали нередко шумные одобрения. Между ораторскими эффектами было презрительное произношение слов „министр“ или „министерство внутренних дел“ (припоминаю как очевидец, так как был в числе публики на одном из заседаний). „Предоставляется предоставить министру внутренних дел“, — произносили с особой интонацией ораторы, вызывая смех. Немало эффекта произвело также слово „опричнина“, приложенное молодым оратором к высшей бюрократии».
Москвичи писали: «Довершите же, Государь, основанное Вами государственное здание созванием общего собрания выборных людей от земли русской для обсуждения нужд, общих всему государству. Повелите вашему верному дворянству, с этой же целью, избрать из среды себя лучших людей. Дворянство всегда было твердою опорою русского престола».
Так влиятельные русские дворяне из «партии англоманов» желали учредить у себя в стране нечто подобное палате лордов. Дворянство и земство расшатывали устои самодержавного государства не меньше, чем революционеры. Но если последние боролись за власть народа (не всегда ясно сознавая, как это осуществить и, тем более, какие могут быть последствия), то в верхних слоях общества шла борьба за власть над народом. В случае их победы в стране воцарилась бы не буржуазная, а какая-то невиданная доселе дворянско-земская «демократия». Одним из лидеров такого направления был брат царя генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич, занимавший многие ответственные посты.
Так как речь не шла о парламенте и конституции, а лишь о некоторых уступках со стороны самодержца, он был готов, во всяком случае на словах, пойти на это. И тут многое решил выстрел Каракозова 4 апреля 1866 года. Он разом прекратил дискуссии на тему ограничения самодержавия. Теперь любые либеральные реформы могли быть расценены как трусливая реакция царя на это покушение. Ведь стрелял в Александра II дворянин, которому, согласно официальной версии, помешал совершить убийство крестьянин.
В народе прошел слух, будто царя-Освободителя хотели убить дворяне в отместку за отмену крепостного права. Но в адрес Александра II поступило множество восторженных адресов от дворянских и земских собраний с изъявлением полнейшей преданности престолу и восторга по поводу чудесного спасения императора.
Путь либеральных реформ не был отвергнут. Шефом корпуса жандармов и начальником Третьего отделения (органа политического надзора и сыска) был назначен граф П. А. Шувалов, приверженец западного пути развития России по типу английской конституционной монархии.
О том, какие настроения преобладали тогда среди интеллектуальной отечественной элиты, можно судить по выдержке из работы известного экономиста академика В. П. Безобразова «Война и революция. Очерки нашего времени», М, 1873:
«Более чем когда-либо прежде входит во всеобщее сознание старая истина, что своевременная реформа есть единственный путь спасения народов от всяких насильственных переворотов. На этом пути впереди всех государств, и во всем подавая пример, неустанно работает Англия, хотя сама, несмотря на постоянные беспорядки в Ирландии, наиболее обезопашенная от всякой революционной смуты. Реформа следует за реформой, одна другой радикальнее в этой счастливой стране, нисколько политически не изживающей и нисколько политически не разрушаемой пролетариатом, вопреки давнишним предсказаниям всех континентальных радикалов…
Всего же замечательнее, что предлагаются и приводятся в исполнение в Англии конституционные преобразования под влиянием политических идей, выросших на континенте Европы и доселе чуждых всем национальным и историческим преданиям Великобритании».
Почему бы Александру II не согласиться с такими доводами? Почему он упорно держался за самодержавную власть? Ведь она доставляла ему не только множество постоянных забот, но и представляла угрозу его жизни. Неужели он был столь недальновиден и упрям?
Судя по всему, его упорство объяснялось просто: он опасался дестабилизации российского общества при ослаблении верховной власти. Даже чисто теоретически В. П. Безобразов был прав лишь отчасти. Англия к тому времени была промышленно высокоразвитой страной с достаточно мощным классом буржуазии, выработавшим свои методы подавления в зародыше — не обязательно силой, а чаще подкупом и некоторыми уступками — революционных выступлений пролетариата.
Вообще, для России вряд ли приемлем путь подражания какой-либо стране. Она уникальна по размерам, географическому положению, природным условиям, истории развития, национальному составу, народным традициям… Разве можно этого не учитывать?
Царю предлагали поделить власть с дворянской аристократией. Но в таком случае дворяне постараются упрочить свое господствующее положение не только политическое, но и экономическое. За счет кого? В конечном счете — за счет трудящихся. Следовательно, Александр II выступал, хотя бы отчасти, защитником российского народа от жестокой эксплуатации со стороны дворянства. В этом смысле самодержавие осуществляло принцип «народности» (конечно же, не народовластия).
Дмитрий Николаевич Блудов (1785–1864), с 1855 года президент Петербургской АН, с 1861-го — председатель Кабинета министров, высказывал дельные мысли: «Давно сравнивают монархическое правление с отеческим, и это сравнение прилично всем монархиям…
Но в попечении о младенцах отец обязан сам все предвидеть, принимать все предосторожности, одним словом, за них и мыслить, и действовать. Руководствуя юношами, уже не довольно иметь сведения об их главных нуждах и пользах, должно узнавать их склонности, желания, составляющие особый род потребностей, должно с оными соображать свои действия.
Когда же дети в зрелом возрасте, то самые их мнения имеют необходимое влияние на поступки отца, и зависимость таких детей можно назвать только зависимостью почтения. Управление в двух последних случаях и труднее, и легче, нежели в первом; средства для действия не столь просты, зато и ошибки не столь часто неизбежны; но сей образ правления не может существовать без взаимной доверенности, следственно, без взаимных, почти непрестанных, сношений между отцом и детьми.
Как опасно оставлять младенцев без некоторого принуждения, в жертву их прихотям и неразумию, также опасно и неосторожным противоборством возмущать страсти юношей или, действуя вопреки советам благоразумия, унижать себя в глазах сынов, достигших зрелости! А что определяет сию зрелость, кроме богатства понятий и сведений, кроме степени просвещения?»
Блудов представил Александру II записку историка и публициста К. С. Аксакова, где говорилось: «Правительство постоянно опасается революции и в каждом самостоятельном выражении мнения готово видеть бунт; просьбы, подписанные многими или несколькими лицами, у нас теперь не допускаются… Правительство и народ не понимают друг друга, и отношения их недружественны».
Общий вывод К. С. Аксакова:-«При нравственной свободе и нераздельной с нею свободе слова только и возможна неограниченная благодетельная монархия; без нее она — губительный душевредный и недолговечный деспотизм, конец которого — или падение государства, или революция. Свобода слова есть верная опора неограниченной монархии: без нее она (монархия) — непрочна.
Времена и события мчатся с необычайной быстротой. Настала строгая минута для России. России нужна правда. Медлить — некогда. Не обинуясь, скажу я, что, по моему мнению, свобода слова необходима без отлагательств. Вслед за нею правительство с пользою может созвать Земский собор».
Вряд ли император не понимал эти доводы. Но даже при самодержавной власти разумный правитель вынужден продумывать не только свои действия, но и противодействие им. У Александра II было не так уж много сторонников среди высших слоев общества. Миновали времена Петра I, когда царь мог волей своей учинить «революцию сверху» (справедливо отметил поэт-мыслитель Максимилиан Волошин: «Великий Петр был первый большевик»).
Да и много ли проку в созыве Земского собора — общероссийской говорильне? Вот как отозвался о такой перспективе поэт С. А. Соболевский:
Наевшись щей, напившись квасу, Их разобрал патриотизм. Хоть в двести семьдесят два гласа, Но безопасен сей цивизм. Монарх, исполни их желанье! Пусть в два кружка их соберут: Поврет Дворянское собранье, Попереврет и лучший люд. С Боярской думою мы сладим Легко, без грозного «молчи!», Коль их надеждою поманим На камергерские ключи. Потом, лишь будь уха стерляжья, Икрой зернистой лишь корми, Шампанским глотки лишь увлажь я, — И слажу с лучшими людьми!Посмеивался над конституционалистами из Московского дворянского собрания и М. Е. Салтыков-Щедрин:
«Говорят, будто утробистые люди частью в Москву перебрались, частью у себя, по своим губернским клубам, засели. Там будто бы они не только едят и пьют, но и разговаривают. Только о губернаторах говорить не смеют, потому что губернаторы строго за этим следят. А о прочих предметах, как-то: об икре, севрюжке и даже о Наполеоне III — говори сколько угодно. Говорят, был даже такой случай: один утробистый взял да вдруг ни с того ни с сего и ляпнул: „Конституции, говорит, желаю!“ Туда, сюда — к счастью, губернатор знал, что старик-то выпить любит, стало быть, человек благонамеренный.
— Пьян, старик, был?
— Точно так, ваше превосходительство, заставьте Богу за себя молить!
— Ну, Бог простит — ступай! Только вперед, коли чувствуешь, что пьян, сейчас беги домой и спать ложись.
— Рад стараться, ваше превосходительство!»
Но шутки шутками, а сам факт ослабления самодержавия — пусть даже формальной уступкой сторонникам конституционной монархии на «аглицкий» манер — грозил еще более нарушить и без того нестабильное состояние общества.
Было опасение: как бы резкая реформа не привела к «революции снизу»; как бы ею не воспользовались не только либералы и вельможи, но и экстремисты; как бы не последовало отделение Польши и ослабление России. Как бы сторонники конституции не воспользовались благоприятной возможностью и не добились изменения государственного строя. Не начнутся ли тогда повсеместные крестьянские бунты, а там и воспрянут те, кому если дать волю, доведут, не дай Бог, дело и до полного крушения всего общественного уклада…
В книге С. С. Татищева «Император Александр II, его жизнь и царствование» на основе записок Д. Д. Голохвастова, активно выступавшего за конституцию в Московском дворянском собрании 1865 года, приведены слова императора:
— Чего вы хотели? Конституционного образа правления?
Голохвастов ответил утвердительно. Император продолжил:
— И теперь вы, конечно, уверены, что я из мелочного тщеславия не хочу поступиться своими правами! Я даю тебе слово, что сейчас, на этом столе, я готов был бы подписать какую угодно конституцию, если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я знаю, что сделай я это сегодня, и завтра Россия распадется на куски.
…Как бы ни относиться к подобным соображениям, а в них был немалый резон. Любая смута грозит непредсказуемыми последствиями.
ТЕРРОРИЗМ БЫВАЕТ РАЗНЫЙ
Террор в переводе с латыни означает ужас. Террористические методы могут иметь разный характер: от запугивания до убийства.
Будем различать террор четырех видов: революционный (включая националистический), контрреволюционный, государственный и криминальный. Последний может проявляться и в связи с первыми тремя, но прямого отношения к нашей теме не имеет. А государственный террор может быть экономическим (как при капитализме), политическим (при диктатурах), духовным.
Отдельные люди или организации вынуждены вступать на путь террора от бессилия. Это вынужденная мера. Обычно к ней прибегают, что называется, не от хорошей жизни. Ее используют в тех случаях, когда другими способами нельзя достичь желаемой цели.
Цареубийство принято считать особо тяжким преступлением. Однако в России благодаря такой акции взошли на престол Екатерина II и Александр I. Убийство царя ни в коем случае не означало свержения самодержавия. Всегда были претенденты на трон. Самодержавие держалось не на одной конкретной личности, а на всей системе государственной власти и, вообще говоря, на общественном согласии.
Казалось бы, либеральные реформы Александра II, прежде всего судебная и, конечно же, отмена крепостного права в 1861 году, должны были погасить искры грядущего революционного пожара. А вышло наоборот!
Принято объяснять это незавершенностью его преобразований (словно так просто перевести огромную державу из одной политической системы в другую). Или высказывают такое мнение: сказалось тлетворное влияние западных революционных идей, в частности, марксизма.
И то и другое, по-видимому, влияло на подъем революционного движения в России, так же как пример Великой французской революции. Однако в середине XIX века все эти факторы были не столь уж существенны. В плане материальном, социально-экономическом, больше всего сказывалось врастание в патриархальное общество капиталистических отношений и принципов. Они ломали традиционный уклад и свидетельствовали о необходимости преобразований общества. Каких преобразований? Каким образом их осуществить? Эти вопросы назрели и обсуждались, преимущественно втайне, ибо они считались запретными.
Другим важным фактором пробуждения активности общественного сознания в России было распространение просвещения и высшего образования. И дело тут не в том, что при этом непременно просачиваются в головы крамольные западные идеи. Это слишком примитивное суждение. Уже по сути своей расширение умственного кругозора ставит перед человеком новые проблемы, пробуждает новые мысли, отучает от «одномерного мышления», а значит, учит думать, сомневаться, не ограничиваться догмами — религиозными, научными, политическими.
Из нелегальных организаций того периода упомянем характерный кружок, вошедший в историю под именем петрашевцев. Его члены так себя не называли; они встречались тайно для того, чтобы свободно обсуждать вопросы политики, культуры, морали. Основателем и вдохновителем этого неформального сообщества был сын видного петербургского врача М. В. Буташевич-Петрашевский, окончивший Царскосельский лицей.
Был он большим оригиналом. Рассказывали, однажды он явился в петербургский Казанский собор переодетый в женское платье и прикрыв свою бороду. К нему подошел квартальный надзиратель:
— Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина.
И услышал в ответ:
— Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина.
Смущенный полицейский остолбенел. Проказник скрылся в толпе. Подобные «шалости» никак не свидетельствуют о стремлении к террористической деятельности, да и вообще о серьезной конспиративной работе по свержению существующего строя.
Деятельность петрашевцев была в значительной степени вызвана общим подъемом в Европе пропаганды трудов социалистов-утопистов и анархистов: Сен-Симона, Фурье, Этьена Кабе, Луи Блана, Прудона. Сказалось и влияние свержения Бурбонов во Франции в 1848 году с последующими революционными вспышками в Западной Европе.
У Петрашевского собирались по пятницам. Доклады носили просветительский характер. Некоторые из присутствующих не разделяли радикальных революционных идей. Поэтому особо острые «запретные» темы Петрашевский предпочитал обсуждать в узком кругу. В числе петрашевцев были замечательные мыслители: писатель Ф. М. Достоевский и естествоиспытатель Н. Я. Данилевский (впоследствии написавший работу «Россия и Европа» и обстоятельное опровержение дарвинизма).
Подъем революционного движения на Западе, вызвавший серьезное беспокойство в правящих российских кругах, должен был усилить конспирацию у петрашевцев, будь они действительно революционерами. Однако ни к чему подобному они не прибегали, хотя вели порой достаточно острые политические дискуссии. Не исключено, что этому способствовали агенты «охранки» — Третьего отделения. Например, в их ряды втерся провокатор П. Д. Антонелли. (Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии, орган политического надзора и сыска в 1826–1880 годах. Исполнительным органом был Отдельный корпус жандармов, шеф которого возглавлял Третье отделение.) Как известно, провокаторам, желающим выслужиться, выгодно представлять тех, на кого они доносят, опасными государственными преступниками. Впрочем, реакция тогда и без того ужесточалась; карали порой только за нелестные отзывы о государе. Некоторым из петрашевцев знакомые сообщали, что за кружком ведется слежка и вскоре его члены будут арестованы.
Тем не менее на «пятнице» 1 апреля 1849 года у Петрашевского обсуждались темы опасные: положение крестьян, недостатки российского судопроизводства, свобода печати. По-видимому, участники дискуссии полагали, что за такие разговоры их не станут арестовывать, судить и, тем более, выносить суровый приговор. Однако уже 21 апреля граф А. Ф. Орлов представил Николаю I большой список петрашевцев, а также их высказывания. Царь ознакомился с этими материалами и произнес:
— Я все прочел. Дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь. Точно лучше, ежели только не будет разгласки от такого большого числа лиц, на то нужных… С Богом!
Покарали петрашевцев с необычайной суровостью: двадцать одного из них присудили к смертной казни. Этот вердикт никак не отвечал малости их вины (если вообще присутствовал состав преступления). Столь крутые, жесточайшие меры только лишь за обсуждение острых проблем (за «вранье»), без каких-либо стремлений и возможностей поколебать общественный порядок, вполне можно считать проявлением государственного терроризма. Ведь цель такого неправедного, несправедливого осуждения — запугать подчиненных, подданных.
Были приговорены к смертной казни не декабристы, вышедшие с оружием в руках против незаконного, как они утверждали, воцарения Николая Павловича и за принятие конституции. Приговорили даже не пропагандистов революционных идей, а всего лишь думающих и рассуждающих свободно молодых людей.
Такая государственная политика, резко и жестоко ограничивающая свободу мысли и мнений, имеющая целью вселить страх, ужас (то есть, по-гречески, «террор») в души людей, заставляющая их не думать на некоторые темы вовсе, вызывала у определенных людей желание идти наперекор не только в мыслях, но и в действиях. Не этим ли порождается революционный политический террор?
Итак, 22 декабря 1849 года «крамольников» вывели на плац и подготовили к расстрелу. Они держались достойно, хотя пережили ужасные минуты (об этом вспоминал Ф. М. Достоевский). В последний момент казнь заменили каторжными работами. Такова была царская милость.
По Петербургу пустили слухи о раскрытии заговора врагов России и русского народа, стремившихся убить государя и всю его семью. Конечно же, ничего подобного не было и в мыслях петрашевцев — сторонников постепенных преобразований общества путем конституционных реформ. Разве что однажды один из них, В. П. Катенев, показав на портреты французских политиков, висевших на стене, засмеялся: «Почему бы не повесить и нашего царя?»
Казнь петрашевцев серьезно напугала вольнодумцев, которые устраивали кружки, где помимо прочего обсуждались социально-политические проблемы. Теперь если уже создавались тайные общества, то с самыми серьезными намерениями. Они были сначала преимущественно просветительскими и дискуссионными, а затем стали террористическими.
Революционные организации породили, расширили и укрепили особые государственные структуры, призванные с ними бороться. Репрессии порождали протесты. В ответ правительство ужесточало контроль над обществом. Царю докладывали о существовании опаснейших заговорщиков. На нужды тайной полиции выделялись крупные средства. В разжигании «революционного психоза» и даже в террористических актах были весьма заинтересованы представители карательных органов.
Сложилась парадоксальная ситуация: борцы против существующего государственного строя способствовали его усилению и ужесточению. Эти мероприятия обычно называют реакционными, вкладывая в это негативный смысл. Однако они являются в значительной степени реакцией на тайные общества революционеров.
На первый взгляд кажется, что радикальные идеи, рожденные в результате буржуазных революций в Западной Европе, давали энергичный толчок социально-экономическому и культурному развитию России. Однако и тут не все так просто. На общественное сознание положительно воздействовали, будоража его и поднимая острые вопросы, прежде всего опубликованные художественные и публицистические произведения. Кроме того, в страну в немалом количестве завозили нелегальную литературу, издававшуюся в Париже, Лондоне, Женеве…
Но все это относилось почти исключительно к «образованным сословиям». Сравнивая петрашевцев с декабристами, Ф. М. Достоевский писал:
«И те и другие принадлежали бесспорно совершенно к одному и тому же господскому, „барскому“ так сказать, обществу, и в этой характерной черте тогдашнего типа политических преступников, то есть декабристов и петрашевцев, решительно не было никакого различия.
…Вообще тип русского революционера, во все наше столетие, представляет собою лишь наияснейшее указание, до какой степени наше передовое, интеллигентное общество разорвано с народом, забыло его истинные нужды и потребности, не хочет даже и знать их и, вместо того, чтобы действительно озаботиться облегчением народа, предлагает ему средства, в высшей степени несогласные с его духом и с естественным складом его жизни».
Мысль верная, но лишь отчасти. За то столетие не было одного типа русского революционера, и к тому же они эволюционировали. Вначале это были почти исключительно дворяне. Затем среди них стало появляться все больше разночинцев, а также рабочих, служащих и даже крестьян. Преобладала образованная или полуобразованная молодежь. А в конце века сформировались профессиональные революционеры.
Что касается средств улучшения положения народа, то и тут не все так однозначно. Да, конечно, интеллигенция была оторвана от народа.
Но разве дело только в сословной принадлежности? Так называемое «классовое сознание» вовсе не определяет основные черты личности, ее идеалы, интеллектуальный и нравственный уровень, темперамент. Все-таки склонность к тайной террористической деятельности проявляется далеко не у каждого. Те, у кого она есть, находят себе «отраду» в органах государственных спецслужб, в криминальной среде, в тайных политических или религиозных организациях.
Вот и тот социальный слой, привычно называемый интеллигенцией, чрезвычайно неоднороден. Собственно интеллигентов среди них мало (то есть тех, у кого духовные потребности явно преобладают над материальными; они живут интенсивной духовной жизнью). Точнее называть значительную часть такого рода служащих по ведомствам науки, искусств, литературы, образования — интеллектуалами. Это люди, живущие за счет интеллектуального труда.
Если исходить из такого деления, то идейных революционеров, как бы к ним ни относиться и к какому бы сословию они ни принадлежали, следует считать интеллигентами. В их среде особую группу составляют террористы. Эти отчаянные люди готовы идти на смерть, не останавливаясь перед необходимостью прервать не только свою, но и чужую жизнь.
О том, как важно иметь специфический характер террориста, показывает бесславная судьба «Священной дружины». Она была создана государственными служащими по типу тайной террористической организации для борьбы с террористами… Впрочем, о ней у нас еще пойдет речь позже.
Среди российских революционеров было немного убежденных террористов. Это направление еще только зарождалось. Но у него уже появились свои теоретики. А один из них — Сергей Нечаев — приступил и к практическим действиям.
Поначалу о покушении на императора не было речи. Главной задачей революционеров-террористов было создание тайной боевой организации. После этого, как было сказано в «Катехизисе революционера», следовало приступать к действиям:
«Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий. Первая категория — неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так, чтобы предыдущие номера убирались прежде последующих».
Казалось бы, первое «почетное» место в таком списке должен занимать император. Однако Нечаев рассуждал не так примитивно:
«При составлении такого списка и для установления вышереченного порядка должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в товариществе или в народе.
Это злодейство и эта ненависть могут быть даже отчасти… полезными, способствуя к возбуждению народного бунта…
Вторая категория должна состоять именно из таких людей, которым даруют только временную жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта».
Выходит, чем более жесток будет государь, тем больше шансов ему избежать выстрелов и бомб террористов. А за свои либеральные реформы он перейдет в «первую категорию» осужденных на смерть.
Можно счесть рассуждения Нечаева бредом прирожденного злодея, маньяка-убийцы. Но это не так. И хотя неистовый анархист М. А. Бакунин в письме Нечаеву назвал его сочинение «Катехизисом абреков», то есть разбойников, оно вполне последовательно, логично и откровенно развивает идеи терроризма.
Дело еще в том, что в российском обществе любой революционер, даже умеренных взглядов, исключающих террор, считался государственным преступником. В таком случае, начиная борьбу за социалистические идеалы, молодой энтузиаст становился как бы изгоем в своей стране, вынужден был таиться, а то и переходить на нелегальное положение.
Так формировались кадры профессиональных революционеров. У таких людей слишком часто возникает желание ускорить неторопливое течение исторического процесса. А сделать это проще всего посредством террористических актов, которые, по мнению их организаторов, встряхнут сонных обывателей, заставят содрогнуться власть имущих, возбудят в народе стремление к бунту.
«Катехизис революционера» выражал взгляды определенной, хотя и малочисленной, группы российской молодежи. О том, что это не пустые слова или мечтания, не злобные замыслы одиночки, доказали последующие события: серия политических убийств и покушений на жизнь крупных государственных деятелей.
Выходит, среди тех, кого огорчило, раздосадовало, а то и взбесило милосердие императора по отношению к покушавшемуся на его жизнь Каракозову, были бы не только многие вельможи, полицейские и тому подобная публика, но и наиболее убежденные террористы.
Последние должны были бы в этом случае на первое место среди приговоренных ими к смерти поставить императора Александра II.
Четко выразил убеждения таких людей Сергей Нечаев:
«1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единой страстью — революцией.
2. Он в глубине своего существа не на словах только, а на деле разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира…
4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ее побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все то, что способствует торжеству революции.
Безнравственно и преступно все, что мешает ему…
6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела…
7. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение. Она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционная страсть, став в нем обыденностью, ежеминутностью, должна соединиться с холодным расчетом…
13. Революционер вступает в государственный, сословный и так называемый образованный мир и живет в нем только с верою его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире…
22. У товарищества нет другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть, чернорабочего люда. Но убежденные в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать к развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию».
Таков принцип террористов: чем хуже в стране, тем легче поднять народ на бунт, всеобщее восстание. Они желали, чтобы в ответ на выстрел Каракозова последовали казни, ужесточение полицейского режима, прекращение либеральных реформ. И они своего добились. Помог им в этом сам император.
«НАРОДНАЯ РАСПРАВА» РУКАМИ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ
Покушение Каракозова было, в сущности, действием одиночки. А в «Организации» Ишутина так и не разработали плана ни одного конкретного террористического мероприятия. Однако уже в то время в России был революционер, способный не только строить такие планы, но и убить человека во имя, как он полагал, высокой цели установления социальной справедливости.
…26 ноября 1869 года газета «Московские ведомости» опубликовала сообщение: «Два крестьянина, проходя в отдаленном месте сада Петровской Академии около входа в грот, заметили валяющиеся шапку, башлык и дубину; от грота кровавые следы прямо вели к пруду, где подо льдом виднелось тело убитого, опоясанное черным ремнем и в башлыке… Тут же найдены два связанные веревками кирпича».
Через два дня последовало дополнение: «Убитый оказался слушателем Петровской Академии, по имени Иван Иванович Иванов… деньги и часы, бывшие при покойном, найдены в целости; валявшиеся же шапка и башлык оказались чужими. Ноги покойного связаны башлыком, как говорят, взятым им у одного из слушателей Академии, М-ва; шея обмотана шарфом, в край которого завернут кирпич; лоб прошиблен, как должно думать, острым орудием».
20 декабря в газете впервые появилось имя С. Г. Нечаева как организатора и участника студенческих беспорядков сначала в Петербурге, а теперь и в Москве. Через пять дней его назвали организатором убийства Иванова. Но его уже не было в России. Он скрылся в Швейцарии.
Были арестованы сообщники Нечаева по убийству и практически все участники организации «Народная расправа». Суд над ними начался 1 июля 1871 года, а через две недели был вынесен приговор. На суде и в прессе мнения о личности Нечаева высказывались почти исключительно отрицательные, но в широчайшем диапазоне: от Хлестакова до дьявола, с объединяющим все многоликим Протеем. Кто-то называл его личность демонической, кто-то легендарной.
Те, кто его знал, отзывались тоже по-разному. Один из свидетелей подчеркивал его цинизм и скептицизм. Некоторые подсудимые признавали в нем человека необыкновенного, увлеченного идеей, преданного своей цели и не имевшего личной вражды ни к кому.
Участник «Народной расправы» вспоминал: «Вскоре после того, как мы дали согласие, Нечаев начал запугивать нас… властью и силою комитета, о котором он говорил, что будто он существует и заведует нами. Так один раз Нечаев пришел к нам и сказал, что сделалось комитету известно, что будто кто-то из нас проговорился о существовании тайного общества. Мы не понимали, каким образом могло это случиться. Он сказал: „Вы не надейтесь, что вы можете притворяться и что комитет не узнает истины: у комитета есть полиция, которая очень зорко следит за каждым членом“. При этом он прибавил, что если кто-нибудь из членов проговорится или изменит своему слову и будет поступать вопреки распоряжениям тех, кто стоит выше нашего кружка, то комитет будет мстить за это».
Надо заметить, что выше кружка стоял только один Нечаев. Он же олицетворял мифический и всеведущий комитет. Возможно, это подозревал его «подчиненный» Иван Иванов, пожелавший выйти из «Народной расправы». Во всяком случае, он не захотел участвовать в тайной организации, нацеленной на террор.
И тогда Нечаев решил устроить показательную казнь, представив Иванова отступником и предателем, желающим выдать властям заговорщиков. Вряд ли сам Нечаев верил в это. Придуманная и разработанная им акция преследовала главную цель: связать всю эту «пятерку» (ячейки организации состояли из пяти человек) кровью, преступлением. Была одна жертва и четыре убийцы, не считая самого руководителя.
Имея револьвер, Нечаев мог застрелить Иванова. Он этого не сделал. Для него важно было, чтобы в преступлении принимали участие все четверо товарищей жертвы. Так и произошло. Можно только удивляться силе внушения, которую продемонстрировал Нечаев. Он смог превратить добропорядочных, образованных и незлобных молодых людей в жестоких убийц своего товарища, которого они знали дольше и лучше, чем своего вождя.
Безусловно, был Нечаев злодеем, лжецом и подлецом, но уж никак не Хлестаковым, как называли его некоторые журналисты. Это была фигура не жалкая и комическая, а сильная и трагическая.
Когда швейцарская полиция передала его как уголовного преступника российским властям, Бакунин написал Огареву, что Нечаев «на этот раз вызовет из глубины своего существа, запутавшегося, загрязнившегося, но далеко не пошлого, всю свою первобытную энергию и доблесть. Он погибнет героем, и на этот раз ничему и никому не изменит. Такова моя вера».
Он оказался прав. Находясь в Александровском равелине, Нечаев, вопреки строжайшему правилу, запрещающему разговаривать с заключенными, сумел после нескольких бесед привлечь на свою сторону некоторых охранников. Он стал готовить побег. Мог ли осуществиться его план, остается только гадать. Но сам факт успешной пропаганды говорит в его пользу.
Нечаеву даже удалось передать записку на волю (с помощью охраны!). Вера Фигнер вспоминала, с каким чувством она читала это послание:
«Удивительное впечатление производило это письмо: исчезло все, темным пятном лежавшее на личности Нечаева — пролитая кровь невинного, денежные вымогательства, добывание компрометирующих документов с целью шантажа, все, что развертывалось под девизом „цель оправдывает средства“, вся та ложь, которая окутывала революционный образ Нечаева. Оставался разум, не померкший в долголетнем одиночестве застенка; оставалась воля, не согнутая всей тяжестью обрушившейся кары; энергия, не разбитая всеми неудачами жизни. Когда на собрании Комитета было прочтено обращение Нечаева, с необыкновенным душевным подъемом все мы сказали: „Надо освободить!“»
Однако все силы Исполнительного комитета в то время были направлены на то, чтобы организовать успешное покушение на царя. А в конце 1881 года план побега был раскрыт властями, благодаря предательству Л. Ф. Мирского.
Этот человек, причастный к революционному движению, предложил руководителям «Земли и воли» свои услуги для убийства шефа жандармов А. Р. Дрентельна, кстати сказать, особыми злодействами не отличавшегося. (Вспомним: «Катехизис революционера» предполагал уничтожать в первую очередь именно таких государственных деятелей.) С этой целью Мирский стал изображать светского хлыща. Такая роль ему нравилась. Он гарцевал на лошади по главным улицам Петербурга, и вместе с А. Д. Михайловым и Н. А. Морозовым вел наблюдение за проездами Дрентельна.
13 марта 1879 года Мирский выстрелил в шефа жандармов, проезжавшего в карете, промахнулся и успел скрыться. Он бежал на юг. В Таганроге вел пропаганду среди военных, был схвачен, оказал вооруженное сопротивление при аресте. Его приговорили к смертной казни. По его прошению о помиловании, ее заменили бессрочной каторгой.
Помещенный в Петропавловскую крепость, Мирский узнал о планах Нечаева совершить побег и выдал его начальству. За это получил послабление в режиме содержания, вскоре стал ссыльным (умер в 1919 году).
Нечаева совершенно изолировали и держали на жестоком тюремном режиме, доведя до смерти (что в те времена частенько случалось с политическими преступниками). Было ему тогда 35 лет.
Как бы ни относиться к Нечаеву, но в целеустремленности и силе воли, таланте агитатора и организатора ему отказать нельзя. Когда осенью 1869 года он вернулся в Россию из-за границы, где скрывался от полиции как активный участник студенческих волнений, то с прежним энтузиазмом принялся призывать молодежь к политическим демонстрациям. Один из видных народников, О. В. Аптекман, свидетельствовал: «Нечаев говорит сильно, убедительно. Силою и мощью веет от него, но в нем что-то отталкивающее, демагогическое».
Пользуясь наивностью, горячностью и плохим знанием народа студентами, Нечаев уверял их, что после 19 февраля 1870 года начнется всеобщий крестьянский бунт. Тогда, через 9 лет после отмены крепостного права, крестьянину была предоставлена возможность выбора: оставаться на месте и пользоваться землей, но и нести повинность в пользу помещика; или выкупить у помещика земельный надел; или бросить все и уехать «на волю». Возникали опасения, что мужики вообразят, будто теперь им дарована царем воля и начнется бесплатная раздача земли, которая ведь не господская и не царева — Божья. А убедившись, что их «обманули», взбунтуются бывшие крепостные по всей России…
Так убеждал Нечаев студентов и находил у них отклик, несмотря на то, что народники, в частности «чайковцы», предлагали сначала ознакомиться с жизнью крестьян, с обстановкой в деревне и вести осторожную пропаганду, избегая призывов к бунту. Но, как писал Аптекман: «У Нечаева много сторонников, бороться с ним становится труднее и труднее». И все-таки, несмотря на противодействие не только властей, но и революционеров, которые не придерживались крайних взглядов, Нечаеву удалось создать свою тайную организацию, хотя поначалу и малочисленную.
На студенческих сходках происходили словесные схватки между сторонниками и противниками «нечаевщины». Об одной из таких дискуссий рассказал Иосиф Денекер, приехавший из Астрахани в Петербург поступать в Технологический институт. По его словам, собралось около ста человек. Обсуждался вопрос о необходимых действиях для того, чтобы исправить «неудовлетворительное положение дел в России».
В споре определились две позиции. Одни утверждали: «помочь страждущему народу можно лишь распространением образования». Другие возмущались такой «мягкотелостью» и кричали, что сначала надо «перерезать всех министров» (показательно, что не было речи о цареубийстве).
Естественно, к общей точке зрения не пришли. Каждый самостоятельно решал, как следует поступить. В частности, Денекер после некоторого замешательства и «брожения ума» пришел к выводу, что ему следует примкнуть к распространителям общественно-политической литературы. Но были среди молодежи «горячие головы», готовые идти на крайние меры и осуществлять революционный террор. Возможно, помимо всего прочего их увлекала романтика тайной организации.
…«Народная расправа» была болезненным аппендиксом революционного движения и нанесла ему сильный удар «изнутри». Общественное мнение было, естественно, на стороне жертвы, а также существующей власти.
Суд над ее участниками был первым гласным политическим процессом в России. Его широко и подробно освещала пресса. Принципы и методы организации, созданной Нечаевым, были гневно осуждены не только консерваторами, но и большинством сторонников решительных преобразований государства Российского.
В то же время это была, можно сказать, шумная антиреклама революционной деятельности по принципу славы Герострата. Но как бы ни осуждали деятельность Нечаева, важно, что ее обсуждали. Да и мнения могли расходиться. Ведь всем было ясно, что правительственные органы стараются всячески опорочить революционеров.
…До сих пор многие враги революционеров огульно обвиняют их в аморальности, жестокости, терроризме, диктаторских наклонностях, исповедовании принципа «цель оправдывает средства», то есть в нечаевщине. Действительно, среди революционеров встречались подобные личности. Но они составляли абсолютное меньшинство.
Трагический опыт «Народной расправы» свидетельствует помимо всего прочего о том, что в обществе (не только российском) наибольшую склонность к террору демонстрируют не народные массы, а более или менее образованные дворяне, мещане, горожане, воодушевленные политическими идеями.
Как в любой стране в любые времена, среди жителей России того времени были сторонники и противники существующей власти. Хотя большинство населения было озабочено насущными житейскими проблемами, потому что жилось им нелегко и они едва сводили концы с концами.
Глава 2 ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ
Покушения на крупных государственных чиновников как метод революционной борьбы начался в России с выстрела в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Но это объяснялось не кровожадностью террористов Нечаеве кого типа и даже не желанием расшатывать общественные устои или «пробудить народ». Таков был ответ на унижение человеческого достоинства, глумление над заключенным.
Однако поистине судьбоносным для России оказался не столько этот выстрел, сколько последующий суд над преступницей, совершившей его. Через длинную цепь взаимосвязанных событий они привели к убийству Александра II, и в конце концов к отречению Николая II, свержению самодержавия и созданию социалистической России-СССР.
Предыстория этого рокового выстрела такова. В июле 1877 года Трепов осматривал тюрьму и, выйдя во двор, увидел, что арестанты вышли на прогулку не поодиночке, а группами. Он сделал выговор смотрителю. В это время проходивший мимо Александр Боголюбов (его действительная фамилия была Емельянов) сказал, что все они осуждены и сговариваться им не о чем. Тренов повернулся к нему и закричал: «Шапку долой!»
Боголюбов медлил. Он только что снимал шапку, здороваясь с начальством. Обозленный градоначальник стал подпрыгивать, стараясь сбить с высокого арестанта головной убор, но это ему не удалось. Тогда он крикнул: «Розги!» Боголюбова схватили и поволокли в карцер. Экзекуция была отложена на два часа. Заключенные, видевшие эту сцену из окон камер, стали бурно протестовать.
Трепов отправился к министру юстиции графу Палену и получил разрешение высечь строптивого (якобы) арестанта. На всякий случай градоначальник заехал и к известному юристу А. Ф. Кони, но не застал его дома. После этого он вернулся в тюрьму и приказал начать порку.
Заключенные принялись колотить в окна и двери, кричали: «Мерзавец Трепов! Палач! Вон, подлец!» В те времена многие русские люди не терпели унижения человеческого достоинства. Надзиратели стали врываться в камеры и жестоко избивать арестантов, бросали их в карцер.
Для тех читателей, которые полагают, будто в царской России процветала гуманность, можно добавить. А. С. Емельянова приговорили к 15 годам каторжных работ за участие в демонстрации перед Казанским собором в Петербурге. Полицейские избили его, а при обыске нашли револьвер. Тогда Емельянову было 23 года. Он входил в организацию «Земля и воля». После девяти лет каторги он сошел с ума.
Избиение политических заключенных, издевательства над ними не имели никаких законных оснований, что было отмечено даже прокурором судебной палаты. Но его записка дальше министра юстиции не пошла, виновные не были наказаны, а о случившемся пресса хранила молчание. В ответ на эту акцию Трепова группа народовольцев начала готовить покушение на него. Однако их опередила Вера Ивановна Засулич.
24 января 1878 года она пришла на прием к столичному градоначальнику (он вышел с целой свитой). Хотя ночью ее мучили бредовые сны и она кричала, утром была спокойна, вновь продумывала весь план покушения. Неожиданно она оказалась первой в шеренге просителей. Трепов подошел прежде всего к ней, взглянул на ее прошение, чиркнул что-то карандашом и повернулся к соседке.
Вера Засулич быстро вынула револьвер и нажала курок. Осечка! Опять нажала — выстрел! Раздались крики. Трепов упал, раненный в бедро.
Она бросила револьвер. Так задумала заранее, чтобы в суматохе он случайно не выстрелил. На нее набросилась охранники, схватили с двух сторон.
— Где револьвер?
— Бросила на пол.
— Револьвер! Револьвер отдайте! — Продолжали кричать, дергая ее в разные стороны.
«Передо мной, — вспоминала она, — очутилось существо (Курнеев, как я потом узнала): глаза совершенно круглые, из широко раскрытого рта раздается не крик, а рычанье, и две огромные руки со скрюченными пальцами направляются мне прямо в глаза. Я их зажмурила изо всех сил, и он ободрал мне только щеку. Посыпались удары, — меня повалили и продолжали бить.
Все шло так, как я ожидала, излишним было только покушение на мои глаза, но теперь я лежала лицом вниз, и они были в безопасности. Но что было совершенно неожиданно, так это то, что я не чувствовала ни малейшей боли; чувствовала удары, а боли не было. Я почувствовала боль только ночью, когда меня заперли наконец в карцер.
— Вы убьете ее?
— Уже убили, кажется.
— Так нельзя; оставьте, оставьте, нужно же произвести следствие!
Около меня началась борьба: кого-то отталкивали, — должно быть, Курнеева.
Мне помогли встать и усадили на стул…
Комната, в которую меня перевели, была большая… В комнате в этот момент было мало народу, — из свиты градоначальника, кажется, никого.
— Придется вас обыскать, — обратился ко мне господин каким-то нерешительным тоном, несмотря на полицейский мундир, — какой-то он был неподходящий к этому месту и времени: руки дрожат, голос тихий и ничего враждебного.
— Для этого надо позвать женщину, — возразила я.
— Да где же тут женщина?
— Неужели не найдете? — И сейчас же придумала. — При всех частях есть казенная акушерка, вот за ней и пошлите, — посоветовала я.
— Пока-то ее найдут, а ведь при вас может быть оружие! Сохрани господи, что-нибудь случится…
— Ничего больше не случится; уж лучше вы свяжите меня, если так боитесь.
— Да я не за себя боюсь, в меня вы не станете палить. А верно, что расстроили вы меня. Болен я был, недавно с постели встал. Чем же связать-то?
Я внутренне даже усмехнулась: „Вот я же его еще учить должна!“
— Если нет веревки, можно и полотенцем связать.
Тут же в комнате он отпер ящик в столе и вынул чистое полотенце, но вязать не торопился.
— За что вы его? — спросил он как-то робко.
— За Боголюбова.
— Ага! — в тоне слышалось, что именно этого он и ожидал.
…В глубине комнаты появились солдаты, городовые. Мой странный (для данного места и времени) собеседник куда-то исчез, и я его больше не видела. Но стянули мне за спиной локти его полотенцем. Распоряжался какой-то шумный, размашистый офицер. Он подозвал двух солдат со штыками на ружьях, поставил их за моей спиною и велел держать за руки… Уходя, предостерег солдат:
— Вы берегитесь, а то ведь она и ножом пырнуть может!
…На несколько минут нас оставили в стороне, и солдаты начали перешептываться.
— Ведь скажет тоже: связана девка, два солдата держат, а он: „Берегись — пырнет“.
— И где это ты стрелять выучилась? — шепнул он потом над самым моим ухом.
В этом „ты“ не было ничего враждебного, так — по-мужицки.
— Уж выучилась! Не велика наука, — ответила я так же тихо.
— Училась, да недоучилась, — сказал другой солдат. — Плохо попала-то!
— Не скажи, — горячо возразил первый, — слыхать, очень хорошо попала, будет ли еще жив».
Трепов остался жив. Пулю из его тела вынуть не удалось. (Позже Салтыков-Щедрин, живший с ним в одном доме, говорил шутя, что при встрече с Треповым опасается, что тот ненароком в него выстрелит.)
Большинство горожан относилось к нему неприязненно. Он позволял себе самоуправство в делах города и был нечист на руку. Согласно воспоминаниям А. Ф. Кони, который тогда был председателем Петербургского окружного суда, «сочувствия к потерпевшему не было, и даже его седины не вызывали особого сожаления к страданиям». Появились анонимные стихи:
Грянул выстрел-отомститель, Опустился божий бич, И упал градоправитель, Как подстреленная дичь.Впрочем, хотя Трепов порой и порол дичь, последующие градоначальники Петербурга были, в общем, хуже него. Он по крайней мере неплохо справлялся с делами.
Навестив раненого Трепова, Кони, уходя, увидел медленно поднимающегося по лестнице Александра II, который тяжело дышал и останавливался почти на каждой ступеньке. «Рассказывали, — писал Кони, — что Трепов, страдавший от раны, исход которой еще не был вполне выяснен и мог грозить смертью, продолжал все-таки „гнуть свою линию“».
В агентурном донесении от 25 января 1878 года отмечалось: «Нельзя умолчать о том странном обстоятельстве, что хотя происшествие с Треповым и служит предметом разговоров целого города и многие из любопытства осведомляются о состоянии его здоровья, но решительно не замечается, чтобы постигшее г. градоначальника несчастье было предметом особенного соболезнования со стороны жителей столицы.
Вообще этот случай вполне выяснил, что в петербургском населении число сочувствующих г. градоначальнику очень незначительно».
Судили Засулич как совершившую уголовное преступление 31 марта того же года. Министр юстиции граф К. И. Пален предложил Александру II передать дело суду присяжных. Он заверил императора, что они вынесут обвинительный вердикт и это послужит серьезным уроком для «кучки революционеров», показав их не героями, а уголовными преступниками, осужденными представителями русского народа.
Председательствующий на суде Кони был приглашен на аудиенцию к государю императору. Присутствовали сенаторы, но Александр II остановился возле Кони. Как вспоминал последний: «Государь, которому назвал меня Хрептович (обер-камергер, граф. — Р.Б.) остановился против, оперся с усталым видом левою рукою, отогнутую несколько назад, на саблю и спросив меня, где я служил прежде… сказал в неопределенных выражениях, устремив на меня на минуту тусклый взгляд, что надеется, что я и впредь буду служить так же успешно и хорошо и т. п. Остальных затем он обошел молча и быстро удалился. Хрептович с сочувствием пожал мне руку, я уловил несколько завистливых взглядов и понял, что мне оказано официальное отличие».
Безусловно, такая благосклонность императора объяснялась тем, что предстоял судебный процесс над Верой Засулич и следовало напомнить председателю суда о его ответственности перед государем за надлежащий исход дела, то есть за непременное осуждение преступницы.
Император был достаточно умен и деликатен, чтобы не воздействовать непосредственно на судью, которому по закону надлежало быть независимым. Однако министр юстиции Пален хотел, чтобы Кони поручился за непременный обвинительный приговор. Ответ был уклончив. Кони сослался на то, что правосознание граждан России еще не стоит на той высоте, как, скажем, в Англии. Там присяжные наверняка ее признали бы виновной, потому что у них секут арестантов, а в России уже сложились более строгие взгляды на личное достоинство человека. К тому же в Англии за свой поступок Трепов получил бы взыскание, а у нас было только общественное осуждение, тогда как верховная власть промолчала.
Никаких гарантий Кони не дал, хотя полагал наиболее вероятным признание вины преступницы при смягчающих обстоятельствах. Может ли быть иначе, когда сам факт покушения на жизнь должностного лица неоспорим?
Судьбу процесса во многом решили продуманные действия защитника Веры Засулич присяжного поверенного Петра Акимовича Апександрова (1838–1893) и его блестящая речь. Он отобрал присяжных преимущественно из числа средних чиновников, оставив только одного купца. Выступление Засулич подкупало простотой, искренностью. Она объяснила мотивы своего поступка:
— Я решилась, хоть ценою собственной гибели, показать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так надругавшись над человеческой личностью, я не нашла, не могла найти другого способа обратить внимание на это происшествие… Страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это сделать.
Некоторые газеты писали, что она мстила за Боголюбова, потому что была его любовницей. Выяснилось, что это — ложь, и они даже не были знакомы. Вера Засулич была совершенно бескорыстна, не имея никаких личных мотивов ненавидеть Трепова.
Допрошенный на заседании как свидетель майор Курнеев («существо» — по словам Засулич) честно показал, что выстрел был один, после чего подсудимая бросила револьвер. (Трепов утверждал, что она целилась в него и хотела сделать еще один выстрел.) Это же подтвердили другие свидетели.
Защитник Александров постарался, чтобы как можно чаще обсуждался не выстрел Засулич, а поступок Трепова, приказавшего пороть Боголюбова. А обвинитель стремился доказать, что Засулич имела целью «причинить смерть Градоначальнику, и потому приобрела револьвер-бульдог». Он справедливо отмечал, что Засулич совершила самосуд, и привел сформулированный Кантом нравственный закон: поступай так, чтобы твои действия могли быть признаны обязательными для всех разумных существ…
В принципе, он излагал, читая по заранее написанному тексту, верные мысли. Закончил патетически: «Никакие самые красноречивые суждения не сотрут пятен крови с рук, покусившихся на убийство». Но он не сказал ничего больше того, что и так было всем понятно, не обратив внимание присяжных на то, что подсудимая могла иметь политические мотивы, осуществляла террористический акт. Впрочем, заранее было оговорено, что дело не политическое, а чисто уголовное. И хотя речь обвинителя называли «плохонькой, бесцветной», такой она была, пожалуй, прежде всего по сравнению с выступлением защитника.
П. А. Александров начал с того, что назвал речь обвинителя «благородной» и «сдержанной». Он прежде всего подробно рассказал о том, как Засулич в юные годы была несправедливо сурово репрессирована и каких переживаний это ей стоило. Умело перешел к столь же несправедливому и даже беззаконному наказанию розгами Боголюбова, и без того уже приговоренного к каторге. Описал всю процедуру порки и страдания истязуемого: «То был мучительный стон удушенного, униженного, поруганного, раздавленного человеческого достоинства. Священнодействие совершилось, позорная жертва была принесена!»
После этой фразы раздались аплодисменты публики и громкие крики: «Браво!» — на что председатель (Кони) сказал: «Суд не театр, одобрение или неодобрение здесь воспрещается. Если это повторится вновь, я вынужден буду очистить залу».
Однако на заседателей уже было оказано мощное давление не только со стороны защитника, но и присутствующих, которых можно было считать представителями народа. Из слов Александрова выходило, что и Засулич, и Боголюбов были невинными жертвами беззакония властей, это заставило ее принять свое роковое решение. Он напомнил, что присяжные оправдывали женщин, убивавших своих соблазнителей, изменивших любимых людей. «То был суд правый… — сказал он. — Те женщины, совершая кровавую расправу, боролись и мстили за себя.
В первый раз является здесь женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести, — женщина, которая своим преступлением связала борьбу за идею во имя того, кто был ей только собратом но несчастью всей ее молодой жизни…
Да, она может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опозоренною, и остается только пожелать, чтобы не повторялись причины, производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников».
Председатель Кони объективно изложил присяжным суть дела и мнения обвинителя и защитника. В заключение позволил себе косвенный намек: если подсудимую сочтут виновной, то можно признать ее заслуживающей снисхождение.
Тем временем на улице собралась большая толпа взволнованных преимущественно молодых людей. Это обстоятельство должно было подействовать на вердикт присяжных. Они могли опасаться за свою жизнь если не сейчас, то в будущем.
И в зале, и вне его публика была явно настроена против Трепова, за Веру Засулич. Присяжные совещались недолго. Они вошли при гробовом молчании зала. Старшина подал председательствующему лист. Там против первого пункта стояло крупным почерком: «Нет, не виновна!» И тогда… Предоставим слово А. Ф. Кони:
«Тому, кто не был свидетелем, нельзя себе представить ни взрыва звуков, покрывших голос старшины, ни того движения, которое, как электрический ток, пронеслось по всей зале. Крики несдержанной радости, истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы: „Браво! Ура! Молодцы! Вера! Верочка! Верочка!“ — все слилось в один треск, и стон, и вопль. Многие крестились; в верхнем, более демократическом отделении для публики обнимались; даже в местах за судьями усерднейшим образом хлопали… Один особенно усердствовал над самым моим ухом. Я оглянулся. Помощник генерал-фельдцейхмейстера граф А. А. Баранцов, раскрасневшийся седой толстяк, с азартом бил в ладони. Встретив мой взгляд, он остановился, сконфуженно улыбнулся, но едва я отвернулся, снова принялся хлопать».
Чтобы избежать беспорядков на улице, Кони предложил полицмейстеру полковнику Дворжицкому вывести оправданную преступницу на другую улицу, куда ворота обычно были закрыты и где могли находиться только случайные прохожие. (Занятная это фигура — Дворжицкий: по распоряжению Трепова он руководил сечением Боголюбова, а затем поддержанием порядка в суде над Засулич; позже он сопровождал императора в тот час, когда на него совершили последнее покушение; об этом эпизоде нам предстоит еще поговорить.)
Распоряжение Кони не было исполнено. По-видимому, Дворжицкому хотелось именно создать условия для беспорядков, вызвать столкновение толпы с прибывшим отрядом жандармов. Тогда можно было бы вновь арестовать Засулич, воспользовавшись суматохой.
На улице Веру Засулич встретила восторженная толпа молодежи. Жандармы попытались задержать ее, но их попытка не удалась. Прозвучали три выстрела. Началась паника. Засулич удалось скрыться. (Она перешла на нелегальное положение и вскоре уехала за границу.) Был убит студент Медико-хирургической академии 19-летний Григорий Сидорацкий и ранена курсистка А. Рафаилова. Версии убийства выдвигались разные; судя по всему, студент-народник, защищая Засулич, выстрелил в полицейского, случайно ранил курсистку и, решив, что убил ее, застрелился.
…Власти позволили устроить над Засулич суд присяжных, считая ее уголовницей и в полной уверенности, что она будет осуждена. Возможно, таким образом хотели показать Западу, что в России соблюдаются права человека. (В таком «малодушии» обер-прокурор Синода Победоносцев в письме наследнику престола обвинил министра юстиции.)
Важно было, чтобы осуждение террористки произошло гласно и представителями общественности. Тогда можно было бы утверждать, что русский народ выступает против революционеров и поддерживает царя.
Было сделано все для осуждения преступницы. Но вмешались непредвиденные обстоятельства. Прокурор судебной палаты А. А. Лопухин вынужден был искать замену прокурору суда Н. Н. Сабурову, находившемуся в отпуске. Его заменял В. И. Жуковский, но он отказался под благовидным предлогом: мол, его брат — политический эмигрант.
Лопухин вызвал талантливого юриста (и неплохого поэта) С. А. Андреевского и сказал, что хочет видеть обвинителем именно его, умеющего воздействовать на присяжных. Андреевский ответил отказом: «Все равно присяжные оправдают. Трепов совершил возмутительное превышение власти. За это ему ничего не будет. Вот и подумает заседатель: значит, и меня можно пороть безнаказанно?.. Найдите кого-нибудь, кто скажет: „Господа присяжные! Нам дела нет до побуждений госпожи Засулич. Помните только одно, что она посягнула на наши святыни. Она стреляла в генерал-адъютанта, носящего на своих плечах вензеля государя, — всегда имеющего к царю свободный доступ… Кто любит государственный порядок, тот не пожелает даже вникать в объяснения подсудимой. Можно, пожалуй, смягчить ее ответственность, но оправдать ее — никогда!“
— Какая великолепная речь! Произнесите же ее!
— Никакая речь не поможет». (Вскоре С. А. Андреевский был уволен.)
В результате пришлось довольствоваться услугами не блещущего талантами товарища прокурора областного суда. И все-таки вполне вероятно, что не помогло бы выступление и более красноречивого обвинителя. Сыграло свою роль важное обстоятельство: преступница, рискуя жизнью, выступила в защиту чести и достоинства незнакомого человека, не имея других возможностей выразить свой протест.
Власти пробовали косвенно подсказывать присяжным «нужное» решение, однако на них несравненно сильнее воздействовало общественное мнение, которое было не на стороне пострадавшего. Можно сказать, присяжные судили не по закону, а по совести, на что ориентировало их блестящее выступление Александрова.
Царь, узнав об оправдании Засулич, приказал разыскать, арестовать ее и предать новому суду. К счастью, этого сделать не удалось: в ответ могли произойти серьезные выступления. Об этом его приказе написали газеты, подрывая престиж царя как сторонника беспристрастного суда. Он не стал требовать от правительства Швейцарии, где находилась Засулич, выдачи преступницы. И без того в российском обществе преобладало разочарование не только его внутренней политикой, но и внешней в связи с бесславными результатами кровопролитной войны с Турцией.
По предварительному мирному договору, подписанному турками 19 февраля 1878 года в Сан-Стефано, близ Константинополя, многие требования России как победительницы были удовлетворены. Однако летом на Берлинской конференции по настоянию ведущих государств Западной Европы прежнюю договоренность свели на нет. Выходило, что наши немалые жертвы были напрасны и вызвали только экономический спад в России.
Поступок Веры Засулич и его оправдание судом присяжных вызвали брожение в российском обществе. Некоторые расценили это как оправдание политического преступления, совершенного по идейным мотивам. Отчасти так и получалось, хотя официально ее преступление квалифицировалось как уголовное. Сказывалось и отношение городского населения к покушению на честь и достоинство человека. Прежде в подобных случаях вызывали на дуэль, а из-за невозможности этого отчаянная молодая женщина была вынуждена пойти на преступление, по совести оправданное.
Но произошло и нечто иное, из ряда вон выходящее. Выстрелы Каракозова и Засулич показали, что помимо суда государственного, явного, и Божеского, высшего (слишком часто посмертного), существует еще тайный суд личности или организации, способный вынести смертный приговор важному сановнику или даже самому царю. И не только вынести, но и привести его в исполнение.
Удастся или нет такая акция и в какой мере — не столь уж существенно. Главное, что для некоторой части общества такое деяние не выглядит чудовищным преступлением, и в иных случаях может быть даже оправдано. Мол, если допустим государственный террор, если совершают незаконные поступки безнаказанно важные сановники, облеченные властью, то нет ничего особенного в ответном терроре и беззаконии.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА И ТРЕТЬЕ ПОКУШЕНИЕ НА ЦАРЯ
Вскоре после выстрелов Веры Засулич в Одессе появилась прокламация «Голос честных людей». В ней говорилось: «Мы пойдем по следам наших лучших товарищей для уничтожения грабителей русского народа и наших тиранов».
Наиболее активно стали действовать революционеры на юге России. 1 февраля 1878 года они убили полицейского агента Никонова. Затем произошло несколько покушений на представителей власти. При аресте революционеры в Одессе и Харькове оказывали вооруженное сопротивление жандармам.
Правда, поначалу руководители «Земли и воли» не поддерживали курс на террор, предпочитая пропаганду. Однако в ответ на жестокие репрессии со стороны властей решено было приступить к решительным действиям. После каждого террористического акта выпускались прокламации, объясняющие акцию. На них ставилась печать с изображением пистолета, кинжала и топора с надписью «Исполнительный комитет Социально-революционной партии».
25 мая 1878 года в Киеве днем на одной из оживленных улиц был убит кинжалом барон Гейкинг. Так исполнили приговор, вынесенный ему революционерами как наиболее активному руководителю политического сыска в городе. Убийца — студент Поико — скрылся, отстреливаясь от погони.
4 августа народник Сергей Кравчинский в Петербурге на Михайловской площади заколол кинжалом шефа корпуса жандармов, главного начальника III отделения генерал-лейтенанта Н. В. Мезенцова.
Это покушение готовилось долго. Не раз Кравчинский проходил, пряча кинжал, недалеко от Мезенцова. Но решился на убийство лишь после того, как 2 августа был казнен Ковальский. Как и предполагалось по плану покушения, Кравчинский скрылся на проезжавшей в этот момент коляске, запряженной призовым рысаком Варваром, с кучером-сообщником.
Показательно: в то время не только шеф жандармов, но и сам император мог идти по столичной улице без специальной охраны. Революционный террор еще набирал силу.
В начале февраля 1879 года в Харькове террористы «казнили» генерал-губернатора Д. Н. Кропоткина (он приходился двоюродным братом князю-анархисту П. А. Кропоткину). Каких-то особых преступлений он не совершал. Но революционеры-народовольцы, встав на «тропу войны», уже не могли остановиться.
1 марта в Москве был убит кинжалом платный осведомитель охранки Рейнштейн. Через 12 дней произошло покушение (неудачное) на шефа жандармов Дрентельна. Готовилось убийство Александра II…
Государственный террор стал противодействовать революционному террору в широком масштабе. Активно помогали жандармам, полицейским и их агентам, в частности, домовладельцы и дворники. Скрываться в таких условиях было чрезвычайно трудно. Силы были явно неравными. Хотя у революционеров были свои преимущества: строгая конспирация, идейное единство, убежденность в своей правоте и отчаянная решимость обреченных.
Завершалась «эпоха народников», стремившихся вести пропаганду идей социализма среди трудящихся масс. На первый план выступила новая тайная организация, ориентированная прежде всего на террор — «Народная воля». Впрочем, подобно «Народной расправе» Сергея Нечаева, да и любым другим тайным обществам, она была весьма далека от народа.
Однако менялось и общественное мнение. Политические убийства стали расцениваться как излишняя жестокость, которая не сулит ничего хорошего. А у революционеров не оставалось ни сил, ни средств на другую деятельность, кроме террористической. Она стала для них самоцелью. Все очевиднее было, что таким путем массовых революционных выступлений не добьешься, государственною переворота не совершишь.
Какой тогда смысл в покушениях на сановников или на царя?
На первый взгляд, запугиванием власть имущих можно добиться от них либеральных реформ, перехода к демократическим формам правления. А наиболее проницательные теоретики политического террора имели в виду дальние цели. С одной стороны, покушения вносят смуту в общество, создавая атмосферу растерянности, страха, недоверия правительству. С другой стороны, власти вынуждены ужесточать полицейский режим, а это обостряет противоречия в обществе и создает условия для массовых волнений и революционной ситуации.
Но если желающих «идти в народ» среди молодежи было немало, то стать убийцами, пусть даже из политических соображений, соглашались далеко не все из них. Про vie ходил отбор наиболее решительных, смелых и непримиримых противников самодержавия. (Не удалось избежать и появления в организации авантюристов, наивных юнцов, провокаторов.)
…Утром 2 апреля 1879 года, проходя по Дворцовой площади, Александр II увидел странного господина в чиновничьей фуражке и с напряженным взглядом, шедшего ему навстречу. По одной версии, приблизившись к императору, господин снял шапку. Государь ответил ему. И тут незнакомец выхватил из своего кармана револьвер и выстрелил в царя.
Сохранив присутствие духа, Александр II быстро повернулся и бросился бежать. Он не забыл правило: в таких случаях следует двигаться не по прямой, а зигзагами. Это спасло ему жизнь. Террорист продолжал стрелять в него, но не успевал прицелиться. Лишь одна пуля слегка разорвала царскую шинель.
(Тот, кто полагает, будто Александр II струсил, не в состоянии отличить глупую браваду или полную потерю самообладания безоружного человека, остолбеневшего перед убийцей, от четких разумных действий того, кто умеет владеть собой в экстремальных ситуациях.)
Как пишет американский историк Всеволод Николаев, преступник, «вероятно, осознав всю низость своего лицемерного поклона, потерял самообладание и не мог попасть в свою жертву. В этот момент проходившая вблизи молочница, выпустив из рук свой бидон, бросилась на террориста и обхватила его своими могучими руками». А он, «тщетно пытаясь вырваться, уронил револьвер и сильно укусил женщину за палец. В этот момент подоспели другие прохожие, повалили террориста на землю и передали его подоспевшим полицейским. Собралась толпа, которая устроила государю овацию.
Александр, глубоко тронутый участием народа, поблагодарил собравшуюся толпу несколькими словами и удалился».
Не знаю, насколько верна картина, нарисованная В. Николаевым. Мне известна другая, не столь детальная версия. Но главное — нападавшего схватили. Им оказался Александр Константинович Соловьев (1846–1879) — убежденный народник, несколько лет проводивший революционную пропаганду среди крестьян различных губерний Центральной России.
Он отказался давать показания о своих сообщниках и единомышленниках. Взял всю вину на себя и сказал, что решил пожертвовать своей жизнью во имя революции. Суд над ним был скорый: приговорили к смертной казни через повешение.
Казалось бы, стрелявший в царя должен быть закоренелым злодеем или убежденным анархистом, бесшабашным разрушителем общественных порядков. В действительности было не так.
Н. А. Морозов, с которым они вместе «ходили в народ», называл его «застенчивым и молчаливым». И добавлял: «Соловьев мне особенно нравился своей мягкой вдумчивостью и приветливостью. Его молчаливость явно не была результатом ограниченности. Нет! Когда его спрашивали о чем-нибудь, он всегда отвечал умно или оригинально, но и он, как я, и даже несравненно больше, любил слушать других, а не говорить им что-нибудь свое».
Покушение на Александра II не было отчаянным решением одиночки. Соловьев был членом «Народной воли». В начале марта 1879 года он вместе с сообщниками — А. Михайловым, Т. Квятковским, А. Зунделевичем и Г. Гольденбергом — обсудили план цареубийства. Последний недавно приехал в Петербург из Харькова, где убил местного генерал-губернатора Д. Н. Кропоткина, и теперь был готов «расправиться» с императором. Однако решили, что совершить этот акт должен русский, а не поляк или еврей, чтобы не вызвать взрыв национальной вражды.
На более широком совещании активистов «Народной воли» этот план после недолгой, но горячей дискуссии был одобрен. Иначе быть не могло, ибо Соловьев заявил, что исполнит данную акцию в любом случае, а после покушения примет яд (он так и сделал, но не отравился или потому, что ему помешали, или по причине плохого качества отравы).
Странно, конечно, что ни одна пуля из пяти даже не задела царя, только оставив след на его шинели. Поистине отвела смертельную угрозу незримая рука Провидения! В печати так и писали: произошло чудесное спасение помазанника Божия благодаря заступничеству свыше.
Действительно, произошло нечто странное. Николай Морозов достал для Соловьева большой револьвер. Его приобрел близким к чайковцам состоятельный доктор Веймар (он участвовал в освобождении Петра Кропоткина), поплатившийся за это каторгой. Соловьев ежедневно ходил в тир, упражняясь в стрельбе. Он был уверен и говорил друзьям, что промаха не даст. И вдруг — ни одного попадания в живую цель!
Скорее всего, Соловьева «подвела» его совесть — нравственный закон, укоренившийся в душе. Одно дело целить в мишень, другое — в безоружного человека. У профессионального убийцы или у негодяя рука не дрогнет. А честный человек промахнется невольно, сам того, казалось бы, не желая. Если рассудок оправдывает преступление высокими общественными целями, то чувство, подсознание, может воспрепятствовать ему и помешать совершить убийство из высших принципов морали.
Вновь, как в случае с Каракозовым, возникает вопрос: а не лучше ли было царю помиловать преступника, не лишая его жизни? Как бы реагировало на это общественное мнение? Не заставило бы это тех, кто желал убить императора, одуматься? Ведь они поняли бы, что в такой ситуации народ сочтет цареубийц, а то и всех революционеров — антихристами…
Так или иначе, а царь остался невредим. Террориста утром 28 мая повесили на Смоленском поле в присутствии четырех тысяч зевак. Ему было 33 года. Полиция объявила розыск его сообщников. Обнаружить их не удалось. Зато появились слухи, которые в сентябрьском номере «Нового времени» за 1904 год припомнил некто, скрывшийся под псевдонимом А. Ст-н.
«Давно это было. В глухом, знакомом мне после селе приютилась пропаганда. Отроги Жигулевских гор, дремучие леса и бездорожье угрюмо прикрывали ее темные замыслы, и волостной писарь Соловьев широко раскинул сеть своего влияния. Везде, на всех должностях сидели его знакомые и друзья, они собирали сходки и, толкуя народу о воле и земле, щедро сыпали деньгами. Предание говорит, что под писарской кроватью был сундук, полный сторублевками…» и т. д.
Сочинение это похоже на пародию. Однако его доверительно изложил Николай Черняев в своей работе «Из записной книжки русского монархиста» уже после революционного 1905 года, признав эту нелепую сказку «весьма правдоподобной».
Подобные слухи, возможно, распространялись царской охранкой, если только не были придуманы г. А. Стном во имя борьбы с революционерами-террористами из партии эсеров. Но уже то, что об Александре Соловьеве, посягнувшем на царя, помазанника Божия, стали слагать небылицы, говорит о многом. Он превратился в фигуру легендарную.
ОТ ПРОПАГАНДЫ — К ТЕРРОРУ
По мере того как расширялась и ужесточалась террористическая деятельность, замышлялись и выполнялись все более грандиозные акции, прежняя деятельность в народе в глазах народовольцев тускнела, интерес к ней слабел. Та часть программы «Народной воли», где говорилось о деятельности в деревне, приобретала чисто теоретический характер: приток свежих сил в глухую провинцию уже иссяк.
«Я, — вспоминала Вера Фигнер, — жившая в провинции в 1877–1879 гг. и отлично знающая положение дел в Самарской, Саратовской, Тамбовской и Воронежской губерниях, могу удостоверить без всякой натяжки, что тяга к хождению в народ, которая и в начале семидесятых годов была очень кратковременной и практически для отдельных лиц продолжалась недели, много-много месяц-два, к концу 1875 года остановилась и ограничивалась лишь повторением попыток со стороны тех, кто счастливо ускользнул от происшедших разгромов…
Я прожила в Петровском уезде 10 месяцев, мои ближайшие товарищи в Вольском уезде немного более, и утверждаю, что к нам за все время не присоединился ни один человек, хотя устроиться на местах при уже заведенных связях было чрезвычайно легко. Можно было прийти в отчаяние от революционного одиночества, в котором мы жили. Можно удивляться, как мы, живые, энергичные люди, так долго терпели это положение: только глубокая вера в народ, чаяние, что он и без усилий интеллигенции проснется, поддерживали нас. Земля и воля послала на Поволжье только свой отряд, но влияния на стремление молодежи, в смысле хождения в народ, не имела. Лично я, живя в 1877 году в Петербурге, тщетно искала людей, которых можно было бы привлечь к деятельности в провинции».
Народники выглядели в народе белыми воронами. Живший в 1878 году среди крестьян Саратовской губернии А. И. Иванчин-Писарев, работавший волостным писарем вспоминал, что его поведение приводило в недоумение местную власть. Что ж это за писарь? Не пьянствует, преподношений не требует, составляет бумаги грамотно… Нет, это сомнительная личность!
Только на первый наивный взгляд молодых энтузиастов «хождение в народ» — занятие не только благородное, но и чрезвычайно полезное для революционного дела и увлекательное. Реальность оказалась совсем иной, чем они предполагали.
Сторонники политического террора верно подметили, от чего сильнее забьются молодые сердца, какой необходим импульс для того, чтобы революционное движение расширилось и пробежало огоньком по всей России. Они создали пропаганду действием, сообщили импульс, указали конкретную цель и путь к достижению ее. Они воодушевляли примером, выводили из неподвижности и увлекали на бой, на подвиг смелый и отважный.
Точных данных о количестве народовольцев нет. Число их было непостоянным, а помимо активистов существовало значительное количество помогающих или сочувствующих. Советский историк С. С. Волк в исследовании «Народная воля» отметил 67 городов России, где существовало 80–90 ячеек этой организации. Кроме того, было около 200 кружков народовольческого направления. Но все это — обобщенные показатели за четыре года. На каждый определенный момент число их было значительно меньше.
Сами народовольцы предполагали, что перед 1 марта 1881 года по всей стране их было примерно 500, не считая 3–5 тысяч рабочих и учащихся, охваченных их пропагандой. Однако опытных подпольщиков было всего лишь несколько десятков человек. Им противостояли десятки тысяч профессиональных сыщиков, полицейских, жандармов, не считая огромной армии дворников, в обязанность которых входило наблюдение за подозрительными жильцами и их знакомыми.
Местные группы народовольцев должны были безоговорочно подчиняться центру и по первому требованию отдавать в его распоряжение свои силы и средства. В ведении центра находились все общепартийные функции и общероссийские дела. В момент восстания он должен был распоряжаться всеми наличными силами партии и направлять их для революционного выступления. До того времени главное внимание уделялось организации заговора, обеспечивавшего переворот с целью передачи власти в руки народа. Таким было главное направление партии.
«Тем более странно было название террористической, — писала Фигнер, — которое она получила впоследствии; ее окрестили этим именем но одному бросавшемуся в глаза признаку — по внешнему обнаружению ее деятельности. Террор никогда сам по себе не был целью партии. Он был средством обороны, самозащиты, считался могучим орудием агитации и употреблялся лишь постольку, поскольку имелось в виду достижение целей организационных. Цареубийство входило в этот отдел, как частность. Осенью 1879 г. оно было необходимостью, вопросом текущего дня, что и дало повод некоторым, в том числе Гольденбергу, потом изменившему нам, принять цареубийство и террористическую деятельность за самый существенный пункт всей программы».
Нет оснований сомневаться в искренности Фигнер. Но приходится помнить, что субъективное мнение членов Исполнительного комитета может не соответствовать объективному положению дел. Одна только подготовка к покушениям на царя требовала таких усилий, что все остальное отступило на дальний план.
Сказывался принцип, которому они неуклонно следовали: цель оправдывает средства. И вне их желания такое, казалось бы, средство для дезорганизации общества как цареубийство, превращалось в цель. Так политический террор объективно стал основой деятельности «Народной воли», не столько средством, сколько целью.
Было решено предпринять в четырех местах покушение на жизнь Александра И. Наряду с этим члены Исполнительного комитета вели просветительскую работу и революционную агитацию среди рабочих, интеллигенции. По словам Фигнер, деятельность агитаторская и организационная всегда шли рядом с работой разрушительной.
Нетрудно догадаться, что пропаганда была не более чем попутной деятельностью. Когда ее ведут несколько десятков человек среди миллионов, да еще всего лишь несколько месяцев или два-три года, об ее эффективности не может быть и речи. Другое дело, когда эти же активисты осуществляют политический террор. Они могут совершить акции, слух о которых пройдет по всей стране и отзовется за рубежом.
«Народная воля» призвана была — в теории — сплачивать недовольные элементы общества в заговор против правительства. Признавалось значение поддержки, которую может оказать ей в момент низвержения его восстание крестьянских масс. Поэтому (опять же в теории) отводилось надлежащее место пропаганде. Реально ничего подобного организовать не удалось. Это были формальные отговорки, отчасти даже самообман. Ведь почти все члены Ислолнительного комитета уже пробовали работать в народе и убедились, что результаты оказались самыми скромными, если не сказать плачевными…
Каждый член Комитета был обязан: 1) отдать все духовные силы свои на дело революции, забыть ради него все родственные узы и личные симпатии, любовь и дружбу; 2) если потребуется, отдать и свою жизнь, не считаясь ни с чем и не щадя никого и ничего; 3) не иметь частной собственности, ничего своего, что не было бы вместе с тем и собственностью данной организации; 4) отдавать всего себя тайному обществу, отказаться от индивидуальной воли, подчиняя ее воле большинства, выраженной в постановлениях этого общества; 5) сохранять полную тайну относительно всех дел, состава, планов и предположений организации; 6) ни в сношениях частного и общественного характера, ни в официальных актах и заявлениях не называть себя членами Исполнительного комитета, а только агентами его; 7) в случае выхода из общества нерушимо хранить молчание обо всем, что составляло деятельность его и протекало на глазах и при участии выходящего.
Эти требования не представлялись чрезмерными для тех, кто был одушевлен революционным чувством и, невзирая на препятствия, готов был идти на смерть во имя идеи. Будь эти требования снижены, они не затронули бы глубоко ум и чувства человека. Как писала Фигнер, своею строгостью и высотой они приподнимали личность и уводили ее от всякой обыденности; заставляли живее чувствовать власть высокого идеала.
Вполне соглашаясь с таким суждением, хотелось бы уточнить: какой идеал имеется в виду? По-видимому, все тот же — земля и воля для народа, осуществление народовластия. Но до него было чрезвычайно далеко. Он мог только вдохновлять молодежь не на повседневный труд, а на подвиги… Какие? Очевидно — политические убийства.
Устав Исполнительного комитета ясно указывает на то, что его создатели изначально предполагали террор как основную, едва ли не единственную цель тайного общества. И это стало очевидно уже в первые месяцы его деятельности.
Со временем все чаще террористические акты объяснялись местью за своих товарищей — казненных или заточенных пожизненно в казематы. За год с августа 1878 года было повешено 14 революционеров. В августе 1879 года Исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный приговор императору Александру II.
«СВОБОДА ИЛИ СМЕРТЬ»
Тайная революционная организация «Земля и воля» просуществовала сравнительно недолго. Она распалась надвое при росте внутренних противоречий — по идейным соображениям.
Террористические акты требовали подготовки, времени, сил и средств. Для этого существовала специальная тщательно законспирированная фракция, которая в марте 1878 года получила название «Исполнительный комитет Социально-революционной партии».
На его печати с полной определенностью в графической форме определялось главное направление его деятельности и применяемые для этого средства: были изображены револьвер, нож и топор. В этом было, пожалуй, что-то детско-юношеское, мало похожее на символику пусть даже террористической группы, но принадлежащей, все-таки, к революционной партии, а не к шайке разбойников.
Тут впору вспомнить классификацию революционеров того времени, которую дал Л. Г. Дейч (1855–1941), член «Земли и воли» (он скрылся от преследований за границей) в 1906 году:
«Анализируя теперь прошлое, можно, мне кажется, разделить революционную среду того времени на три категории: на лиц, охваченных чувством возмущения и негодования против правительственного террора, на сторонников красного террора, как наиболее целесообразного при данных условиях способа для изменения политического строя России, и, наконец, на любителей таинственной обстановки, сильных ощущений и т. п. Представители этих категорий были, конечно, и среди членов партии „Народной воли“ и Исполнительного ее комитета».
Преобладали, пожалуй, молодые люди, у которых в разной степени присутствовали все три признака, но постепенно формировались кадры профессиональных террористов, которыми становились даже те, кто увлекался поначалу революционной романтикой.
Таким был, пожалуй, Валериан Андреевич Осинский (1852–1879) — из дворян, учившийся в Институте путей сообщений (Петербург). В феврале 1878 года революционный кружок, организованный им и Д. А. Лизогубом, был преобразован в Исполнительный комитет Социально-революционной партии. Они организовали несколько террористических актов. Осинский совершил покушение на товарища киевского прокурора М. М. Котляревского.
25 января 1879 года на квартиру Осинского нагрянула полиция. Он отстреливался, но был схвачен. Военный окружной суд приговорил его к расстрелу, но Александр II заменил эту кару повешением. Казнь В. А. Осинского и сто товарищей Л. К. Брандтнера и В. А. Свириденко проходила глумливо: военный оркестр играл разухабистую «Камаринскую» (обычно били в барабаны и играли на флейтах, чтобы не слышны были последние обращения осужденных к народу).
Не удивительно, что такие действия «православных» властей могли только породить новых террористов, вызвать у них ненависть не только к самодержавию как таковому, но и лично к императору. Этому немало содействовало и предсмертное письмо Осинского (ему тогда было 27 лет):
«Дорогие друзья и товарищи!
Последний раз в жизни приходится писать вам, и поэтому самым задушевным образом обнимаю вас и прошу не поминать меня лихом. Мне же лично приходится уносить в могилу лишь самые дорогие воспоминания о вас. Особенно спасибо тебе, И., за твою сердечность; и я, и жена моя, и В. горячо тебя любили и всей душой благодарим за заботливость о нас.
Мы ничуть не жалеем о том, что приходится умирать, ведь мы же умираем за идею, и если жалеем, то единственно о том, что пришлось погибнуть почти только для позора умирающего монархизма, а не ради чего-то лучшего, и что перед смертью не сделаем того, что хотели. Желаю вам, дорогие, умереть производительнее нас. Это самое лучшее пожелание, которое мы можем вам сделать, да еще: не тратьте даром вашей дорогой крови! и то — всё берут и берут…
…Мы не сомневаемся в том, что ваша деятельность теперь будет направлена в одну сторону. Если б даже вы и не написали об этом, то мы и сами могли бы это вынести. Ни за что более, по-нашему, партия физически не может взяться. Но для того, чтобы серьезно провести дело террора, вам необходимы люди и средства… (следовали практические указания. — Р.Б.).
Больше, кажется, нечего писать о делах. Так и рвешься броситься в теорию — да руки коротки… и торопишься, и все такое прочее.
Дай же вам Бог, братья, всякого успеха! Это единственное наше желание перед смертью. А что вы умрете и, быть может, очень скоро, и умрете с не меньшей беззаветностью, чем мы — в этом мы ничуть не сомневаемся. Наше дело не может никогда погибнуть — эта-то уверенность и заставляет нас с таким презрением относиться к вопросу о смерти. Лишь бы жили вы, а если уж придется вам умирать, то умерли бы производительнее нас. Прощайте и прощайте!..
…Многие имели против меня (хотя в большинстве в силу недоразумений) кое-что; пусть хоть теперь позабудут старые счеты. Я же ни к кому не уношу в могилу вражды.
Ты просил, В., наших биографий. Зачем, брат! Если понадобится, то без нас их могут составить. А вообще пусть забывают нас, лишь бы самое дело не заглохло.
Прощайте же, друзья товарищи дорогие, не поминайте лихом. Крепко, крепко, от всей души обнимаю вас и жму до боли ваши руки в последний раз…
Ваш Валериан.
14 апреля 1879 г.
Мою сестренку сейчас по выходе ее из тюрьмы со свидания арестовали и выслали».
В этом предсмертном письме нет бравады или сантиментов. Так пишет человек, убежденный в правоте дела, за которое отдает свою жизнь. После таких писем и показательных государственных казней революционеров политический терроризм в России стал усиливаться.
В мае 1879 года при Исполнительном комитете была создана группа «Свобода или смерть» — совершенно секретный отдел внутри тайной организации. О нем знали немногие.
Значительная часть революционеров была ориентирована на продолжение пропаганды не только среди крестьян, но и в среде рабочих. В конце 1876 года с этой целью возникла «рабочая группа».
Становилось все очевиднее, что участники «Земли и воли» имеют лишь общую, достаточно туманную и отдаленную, цель: установление народовластия. Расхождения начинались при обсуждении средств и методов для ее достижения. Как свергнуть самодержавие? По-прежнему пытаться поднимать на борьбу народные массы? Или сразиться с государством своими силами? В первом случае следовало делать ставку на пропаганду и агитацию, во втором — на террор.
Возможно, на решение о терроре повлияли прогремевшие по всей Европе два покушения на императора Вильгельма I: M. Геделя 11 мая и К. Нобилинга 2 июня 1878 года. (Во всяком случае, на это намекнул прокурор Н. В. Муравьев в обвинительной речи на процессе по делу об убийстве императора Александра II.)
17 июня 1879 года в Липецке собралась группа землевольцев. Заседания вели, собираясь в лесу как на пикник, взяв с собой бутылки пива и свертки с закуской. Рассаживались на поваленных деревьях и пнях, внимательно следя за случайными прохожими.
После первой дискуссии решили народническую программу дополнить: помимо пропаганды предполагалась политическая борьба, заговор для насильственного захвата власти, террор. Допускалась возможность на первое время конституционной монархии.
В программе говорилось: «Наблюдая современную общественную жизнь в России, мы видим, что никакая деятельность, направленная к благу народа, в ней невозможна вследствие царящего в ней правительственного произвола и насилия. Ни свободного слова, ни свободной печати для действия путем убеждения в ней нет. Поэтому всякому передовому общественному деятелю необходимо прежде всего покончить с существующим у нас образом правления, но бороться с ним невозможно иначе как с оружием в руках».
Таков главный посыл короткой программы, принятой единогласно.
«На последнем, третьем заседании Липецкого съезда, посвященном обсуждению будущих предприятий общества, — вспоминал Морозов, — Александр Михайлов произнес длинный обвинительный акт против императора Александра И. Это была одна из самых сильных речей, какие мне приходилось слышать в своей жизни, хотя Михайлов по природе и не был оратором.
В ней он припомнил и ярко очертил сначала хорошие стороны деятельности императора, его сочувствие к крестьянской и судебной реформам, а затем приступил к изложению его реакционных преобразований, к которым прежде всего относил замену живой науки мертвыми языками в средних учебных заведениях и ряд других мероприятий назначенных им министров. Император уничтожил во второй половине царствования, говорил Михайлов, почти все то добро, которое он позволил сделать передовым деятелям шестидесятых годов под впечатлением севастопольского погрома (поражения в Крымской войне 1856–1858 годов и падение Севастополя. — Р.Б.).
Яркий очерк политических гонений последних лет заканчивал эту замечательную речь, в которой перед нашим воображением проходили длинные вереницы молодежи, гонимой в сибирские тундры за любовь к своей родине, исхудалые лица заключенных в тюрьмах и неведомые могилы борцов за освобождение.
— Должны ли мы ему простить за два хороших дела в начале его жизни все то зло, которое он сделал и еще сделает в будущем? — спросил Михайлов в заключение. Присутствующие единогласно ответили:
— Нет!
С этого момента вся последующая деятельность большинства съехавшихся в Липецк четырнадцати человек определилась в том смысле, в каком она стала теперь достоянием истории: ряд покушений на жизнь императора Александра II и их финал 1 марта 1881 года».
Три дня спустя на расширенный конспиративный съезд в Воронеже прибыли 19 человек (из них 4 женщины) из разных городов России. Собрание проводилось в пригородной роще под видом молодежного пикника. Но обсуждались вопросы весьма пикантные: вплоть до цареубийства. Одни выступили за продолжение пропаганды и агитации в народе, считая, что он еще «не созрел» для сознательных революционных выступлений. Эту позицию отстаивал Плеханов.
Другие во главе с Морозовым стояли за террор. Вот как вспоминал он об этом.
«Плеханов, поднявшись со своего места и прислонившись к стволу большого дерева, сказал:
— Я прежде всего прошу Морозова прочесть свою статью в „Листке „Земли и воли““ по поводу политических убийств.
Уже давно готовый к этому, я вынул из кармана соответствующий номер „Листка“ и твердым по внешности голосом прочел свою статью, хотя и очень волновался внутренне.
— Вы слышали, господа, — сказал Плеханов. — Это ли наша программа?
Наступило тяжелое молчание, продолжавшееся с полминуты. Но вдруг оно было прервано возгласом Фроленко, что именно так и нужно писать передовые статьи в революционных органах.
Плеханов побледнел, как полотно, и сказал взволнованным голосом:
— Неужели, господа, вы все так думаете?
…Все, за исключением четырех человек, согласились, что так и должно быть, и что в моих статьях нет никаких противоречий со старой программой общества…
Плеханов некоторое время стоял молча…
— В таком случае, господа, — сказал он, наконец, глухим печальным, не своим голосом, — здесь мне больше нечего делать. Прощайте!
Он медленно повернулся и начал удаляться в глубину леса…
— Господа! Нужно его возвратить, — воскликнула Вера Фигнер.
— Нет, — ответил Александр Михайлов, — как это ни тяжело, но мы не должны возвращать его».
Плеханов остался в меньшинстве. Попытки сохранить единство были безрезультатны. В результате 15 августа того же года на основе «Земли и воли» возникли две новые революционные тайные организации: «Черный передел» (имелся в виду передел земли между теми, кто на ней трудится) и «Народная воля» (к ней примкнуло большинство народовольцев).
Пожалуй, именно с этого момента судьба императора была окончательно решена. Надо лишь отметить, что его приговорили к смертной казни на основании только лишь обвинительной речи. Заслуживал ли он снисхождения? Если преступна вся государственная система, то какую пользу может принести убийство правителя? А если на его место встанет более жестокий самодержец?
Подобные вопросы на Липецком съезде не обсуждались. Там собрались единомышленники, заранее убежденные в пользе террористических актов и убийства императора. На Воронежском съезде выяснилось, что есть и противники террора, но и в этом случае сколько-нибудь серьезной дискуссии не было.
Как бы ни относиться к российской судебной системе после реформы Александра II, но она предполагала помимо обвинителя защиту, присяжных заседателей, а также более или менее беспристрастного судью. Оправдание Веры Засулич показало, что такой суд, по крайней мере в некоторых случаях, может успешно противостоять мнению императора.
Судя по всему, молодых революционеров охватил азарт охоты на поистине царственную добычу. Вновь приходит на память «Катехизис революционера» Сергея Нечаева. Но там предполагалось сохранять жизнь тем государственным деятелям, которые препятствуют либеральным реформам, ведут жестокую борьбу с инакомыслящими, возбуждают репрессиями ответное чувство ненависти. И в этой хитрой стратегии был определенный смысл.
А чего можно добиться, убив Александра II? Его уважали в народе, называя Освободителем. Вызвать бунты так невозможно, а общественное мнение даже среди многих революционеров будет на стороне убитого без суда и следствия императора.
На какой «полезный» результат можно было рассчитывать? На испуг и смятение властей и принятие ультиматума террористов? Об этом могли мечтать только самые наивные цареубийцы. Более вероятен был ответный государственный террор, способный разгромить революционные организации всех направлений, ужесточить полицейский режим и отсрочить на неопределенный срок и без того проблематичный переворот.
Почему об этом не подумали террористы, вынесшие смертный приговор императору? В общем, как мне кажется, в отличие от расчетливого хладнокровного Нечаева, активистами группы «Свобода или смерть» владели эмоции, связанные со смертельно опасной «охотой» на человека, стоящего на вершине социальной пирамиды.
Их азарт был велик и отчасти бездумен. Не думали они о том, что смерть Александра II никому не принесет свободу, а даже, напротив, приведет к арестам, репрессиям, казням. Не останавливало их и то, что при покушении на императора могут пострадать или погибнуть другие люди. Для них цель оправдывала даже невинные жертвы.
Впрочем, предоставим слово самим террористам. Они стремились пропагандировать свои взгляды и объяснять мотивы своих действий.
ОПРАВДАНИЕ ТЕРРОРА ТЕРРОРИСТАМИ
Сергей Кравчинский, убивший шефа жандармов Н. В. Мезенцова, так объяснил свой поступок в газете «Земля и воля»:
«Если мы прибегли к кинжалу, то, значит, действительно не оставалось других средств заставить уважать наши священные, человеческие права. С той же минуты, когда наша свобода и наша личность будут гарантированы от произвола, мы безусловно прекращаем ту систему самосуда и самозащиты, к которым вынуждены прибегать теперь… Террористы — это не более как охранительный отряд, назначение которого — оберегать этих работников от предательских ударов врага».
Под «работниками» он имел в виду пропагандистов социалистических идей. Однако не совсем ясно, каким образом террористические акты могут оградить от арестов и судебной расправы революционных агитаторов. Скорее наоборот: власти лишь усилят бдительность и ожесточат репрессии.
В статье «Смерть за смерть» Кравчинский более подробно обосновал мотивы своего преступления. Вот фрагменты из этой работы:
«Шеф жандармов — глава шайки, держащей под своей пятой всю Россию, убит… нами, революционерами-социалистами.
Объявляем также, что убийство это как не было первым актом подобного рода, так и не будет последним, если правительство будет упорствовать в сохранении ныне действующей системы.
Мы — социалисты. Наша цель — разрушение существующего экономического строя, уничтожение экономического неравенства, составляющего, по нашему убеждению, корень всех страданий человечества. Само правительство толкнуло нас на тот кровавый путь, на который мы встали. Само правительство вложило нам в руки кинжал и револьвер.
Убийство — вещь ужасная. Только в минуту сильного аффекта, доходящего до потери сознания, человек, не будучи извергом и выродком человечества, может лишить жизни себе подобного. Русское же правительство нас, социалистов, нас, посвятивших себя делу освобождения страждущих, нас, обрекших себя на всяческие страдания, чтобы избавить от них других, русское правительство довело до того, что мы решаемся на целый ряд убийств, возводим их в систему».
Ответственность за необходимость террора Кравчинский возлагал не на царя, не на самодержавие, а на правительство России. Чем это объяснить? Возможно, сохранявшимся в народе авторитетом царя и стремлением подвигнуть Александра II на смягчение наказания политическим преступникам, а главное — обратить его внимание на беззаконные действия полиции.
Кравчинский сослался на недавно завершившийся так называемый «Процесс 193-х», когда товарищ обер-прокурора Сената Желеховский признал, что из арестованных виновны только 19 человек.
«Все же остальные… привлечены лишь для оттенения виновности помянутых девятнадцати. А между тем из этих „оттенителей“ 80 человек — почти все молодые, свежие юноши и девушки — умерло либо в самой тюрьме во время четырехлетнего предварительного заключения, либо тотчас по выходе из тюрьмы. А из выживших нет почти ни одного, кто не вынес бы из тюрьмы весьма серьезной, часто смертельной болезни!
За что же погублено столько молодых сил, за что разбито столько жизней?
…Сенат счел невозможным осудить и 19 человек, которых требовал от него Желеховский. Один Ипполит Матвеевич Мышкин был приговорен к каторжным работам. Все же прочие были либо совершенно оправданы, либо присуждены к самым легким — для нас, привыкшим ко всяким свирепостям, — наказаниям…
По стараниям шефа жандармов Мезенцева вместе с его достойным пособником графом Паленом, приговор был отменен и составлен новый, возмутительный по своей жестокости и полному, абсолютному пренебрежению ко всякому признаку законности… из всех обвиненных выхватили 12 человек, которых вместо ссылки и поселения отправили на каторгу — одних в Сибирь, других — в центральные тюрьмы. Затем 28 человек отдали на полный произвол администрации, которая двум из них назначила наказание, превышающее даже то, к которому их формально, независимо от ходатайства приговорил суд.
Вот как уважают жандармы законы и суд, если когда-нибудь они случайно окажутся на нашей стороне!»
Сергей Кравчинский отметил, что либеральная печать предпочитала отмалчиваться, привыкнув работать за деньги, а не за совесть. Что остается делать сторонникам социалистических преобразований? Кто осудит произвол жандармов?
Эту миссию и взяли на себя революционеры: «Мезенцев убит нами не как воплощение известного принципа, не как человек, занимающий пост шефа жандармов; мы считаем убийство мерой слишком ужасной, чтобы прибегать к ней для демонстрации, — генерал-адъютант Мезенцев убит нами, как человек, совершивший ряд преступлений, которых мог и не должен был совершать». (Далее он перечислил эти преступления.)
Важную мысль высказал он напоследок.
Как противники всякого порабощения человека человеком, социалисты-революционеры склонны даже оставить в покое представителей власти:
«Наши настоящие враги — буржуазия, которая теперь прячется за вашей спиной, хотя и ненавидит вас, потому что и ей вы связываете руки.
Так посторонитесь же! Не мешайте нам бороться с нашими настоящими врагами, и мы оставим вас в покое. Пока не свалим мы теперешнего экономического строя, вы можете мирно почивать под тенью ваших обильных смоковниц».
Странное отношение революционера к самодержавию. Он готов оставить в покое императора, всю правящую верхушку ради борьбы с более опасным врагом — буржуазией!
Мысль Кравчинского, высказанная в связи с изложением принципов революционного терроризма и социализма, оказалась поистине пророческой. Но для самого Кравчинского главной целью было оправдание политического убийства (судя по всему, роль убийцы, пусть даже идейного, тяжким бременем легла на его совесть). Требования своей организации он изложил так:
«1. Мы требуем полного прекращения всяких преследований за выражение каких бы то ни было убеждений как словесно, так печатно.
2. Мы требуем полного уничтожения всякого административного произвола и полной ненаказуемости за поступки какого бы то ни было характера иначе, как но свободному приговору народного суда присяжных.
3. Мы требуем полной амнистии всех политических преступников без различия категорий и национальностей, — что логически вытекает из первых двух требований…
Большего мы от вас не требуем, потому что большее вы дать не в силах. Это большее в руках буржуазии, у которой мы и вырвем ее вместе с жизнью. Но это уже наши счеты. Не мешайтесь в них. Точно так же и мы мешаться не станем в ваши домашние дела…
Цель нашего заявления — выяснить живой части русского общества, нашим молодым друзьям в разных концах России и нашим иноземным товарищам по делу и убеждениям как причины, так и истинный смысл фактов, подобных совершенному 4-го августа…
Что же касается до правительства, то пусть поступает, как ему угодно. Мы ко всему готовы».
В этой статье нет даже намека на возможность, а тем более необходимость покушения на императора. Напротив, он остается, можно сказать, над схваткой революционеров с главным врагом — буржуазией.
В отличие от Сергея Кравчинского, своей рукой нанесшего смертельный удар человеку, Николай Морозов, теоретик терроризма, в марте 1879 года опубликовал листок с изложением более жесткой позиции экстремистской части организации «Земля и воля». Он писал:
«Политическое убийство — это прежде всего акт мести…
Политическое убийство — это единственное средство самозащиты при настоящих условиях и одно из лучших агитационных приемов. Нанося удар в самый центр правительственной организации, оно со страшной силой заставляет содрогаться всю систему. Как электрическим шоком, мгновенно разносится этот удар по всему государству и производит неурядицу во всех его функциях…
Политическое убийство — это осуществление революции в настоящем… Вот почему 3–4 удачных политических убийства заставят наше правительство вводить военные законы, увеличивать жандармские дивизионы, расставлять казаков по улицам, назначать урядников по деревням…
Вот почему мы признаем политические убийства за одно из главных средств борьбы с деспотизмом».
Здесь уже проглядывает принцип «чем хуже, тем лучше», заставляя вновь вспомнить идеи Сергея Нечаева. Под деспотизмом, по-видимому, следует понимать самодержавие. А в таком случае, убийство царя-самодержца должно быть самым сильным ударом по существующей государственной системе.
Так, собственно, и произошло. Главной целью террористов стал Александр II — даже не злоупотребления правительства и, конечно же, не буржуазия.
В 1880 году Николай Морозов для очередной своей статьи о пользе и величии политического террора в качестве эпиграфа предпослал высказывание Робеспьера: «Право казнить тирана совершенно тождественно с правом низложить его. Как то, так и другое производится совершенно одинаково, без всяких судебных формальностей… С точки зрения свободы нет личности более подлой, с точки зрения человечности нет человека более виновного».
Под таким тираном русский террорист подразумевал императора России. Это звучало как оправдание покушений и последующего его убийства. Морозов писал: «Глава реакции и руководитель преследований, царь, делается мишенью для революционеров и против него направляются почти все попытки». По словам Морозова, в террористической борьбе «небольшая горсть людей является выразителем борьбы целого народа и торжествует над миллионами врагов».
Такова романтическая фантазия революционера-террориста, показывающая не силу, а слабость его идеологии. В чем тут выражается борьба целого народа? Русский народ в ту пору по поводу цареубийства даже не безмолвствовал, а был в массе своей категорически против. И что означает торжество над миллионами врагов? Скажем, убийство шефа жандармов — не торжество над полицейскими, жандармами.
Даже у мирных революционеров, пропагандирующих идеи социализма, не было надежной опоры в народе. Так что остается учесть, что писал вдохновенные строки о «террористической революции» молодой человек 26-ти лет, жизненный опыт которого был ограничен двумя годами учебы в университете, «хождением в народ» (безуспешным) и деятельностью профессионального революционера. Он сам позже признавался: «На меня более всего повлияла романтическая обстановка, полная таинственного».
ОПРАВДАНИЕ ТЕРРОРА ЗАКОННИКОМ
Может показаться, что революционеры преувеличивали масштабы государственного террора для того, чтобы оправдать свои покушения, убийства. В наше время торжества буржуазного духа в России появились нелепые, а отчасти комичные сторонники самодержавия. Однако следует знать, что уже во второй половине XIX века эта система правления стала заходить в безнадежный тупик.
Дело не в том, что плох тот или иной государь или вредно единоначалие. Не случайно революционеры-народники даже не помышляли о покушении на Александра II, а Кравчинский намекал, что у самодержавия и социалистов общий враг — буржуазия. Но в огромной империи реальная власть принадлежала местным правителям-губернаторам, вельможам, занимающим высокие государственные посты, богачам, жандармам, полиции. Императору приходилось отвечать не только за подписанные им законы, но и за их исполнение. А оно было порой не просто дурным, но и преступным.
О злоупотреблениях местных властей и жандармов написал наследнику престола, будущему императору Александру III, А. Ф. Кони, сторонник не только самодержавия, но и строгого исполнения законов при справедливом судопроизводстве.
19 мая 1871 года были приняты к исполнению «Высочайше утвержденные Правила о порядке действий чинов корпуса жандармов по исследованию преступлений». Для борьбы с революционерами вводилось жандармское дознание при расследовании политических преступлений под наблюдением лиц прокурорского надзора и при содействии полицейских чинов, губернаторов, местных властей.
При этом можно было обходиться без суда, где обвиняемый имел возможность защищаться. Привлеченного к дознанию могли сослать в Сибирь в административном порядке. Прекрасная возможность для злоупотреблений и произвола местной власти! Ясно, что избегать гласного суда предпочитали при отсутствии веских доказательств вины задержанных.
А. Ф. Кони понимал, что в результате лишь возрастет количество политических преступлений (реальных или надуманных), а все больше революционеров станет переходить к террористическим методам. Выходило так, будто правительство России действует по тому сценарию, который предусматривал, в частности. «Катехизис революционера».
Не имея возможности (или желания? надежды на успех?) обратиться со своими соображениями к императору, Кони написал докладную записку наследнику престола, полагаясь на его здравый рассудок.
«Неужели общество, — вопрошал Кони, — может сочувствовать стремлениям, которые ничего общего с истинною свободою не имеют, которые, служа на пагубу молодого поколения, ополчают его против исторически сложившихся начал гражданственности и в мутных волнах анархии побуждают его потопить то, что выработано умом, сердцем и трудом лучших людей земли Русской?»
На свой риторический вопрос он отвечал категорическим «нет!» И тут же пояснил: «Общество действует или, лучше сказать, бездействует таким образом потому, что оно не верит в предоставляемые ему объем и глубину зла, не верит в справедливость обвинений, возводимых, почти огульно, на молодое поколение, а потому не верит и в правомерность борьбы и в законность преследований.
Если вглядеться в ход и сущность возбужденных за последние годы дел о государственных преступлениях, то, к сожалению, надлежит сознаться, что основания для такого недоверия предоставляются сами собою».
В этой записке, написанной летом 1878 года, А. Ф. Кони критиковал законы, принятые в мае 1871 и июне 1872 года. Как видим, он не торопился с выводами, изучая последствия данных законов. Его сильно беспокоил рост революционного движения. А на своем опыте первого политического процесса над террористкой он убедился, что беззакония властей увеличивают число недовольных и сочувствующих революционерам.
«Интересы правосудия… — писал он, — отступили на второй план перед интересами полицейского розыска, облеченного в лишенные содержания формы. Не приговор суда об основательности исследования, а мнение начальства о ловкости и усердии исследователей стали ставиться в оценку многих дознаний». Участие прокуроров в расследовании лишь усугубило его обвинительную направленность. «Явился особый род дознаний, производимых не о преступлении, а на предмет отыскания признаков государственного преступления, причем, конечно, рамки исследования могли расширяться до бесконечности.
В результате особо ретивые дознаватели арестовывали целые группы учащихся на основании только смутных подозрений как „сочувствующие революции“, имеющие „внушающие подозрения образ жизни“ или „вредный образ мыслей“».
Появилось немало доносчиков, сводящих личные счеты из мстительности или корысти: «Ежегодно стал возникать ряд дел, построенных на этой почве, причем прокуратура и чины жандармского корпуса оказывались в течение некоторого времени в руках ловкого доносчика…
Из числа многих подобных дел, в качестве примера, можно привести дело о фельдшере М., о котором было возбуждено дознание по безымянному доносу о том, что он сближается с крестьянами и возбуждает население, вполне неосновательному и написанному, как оказалось, конкурентом М. по практике фельдшером Г., сначала требовавшим с М. уплатить ему 300 рублей отступного; дело по доносу священника С. о „предосудительном поведении против правительства“ барона К. и по доносу того же барона К. на того же священника С, обвиняемого им в чтении в церкви манифеста об отречении Государя от престола; дело по доносу бывшего помощника надзирателя Ч. на дворянина Т., 19 лет, которого Ч. обвинял в составлении прокламации, в которой для выражения сочувствия славянам предлагалось „свергнуть долой правительство и его башибузуков“. При дознании оказалось, что Ч., желая отличиться открытием политического дела, сам изготовил несколько экземпляров прокламации посредством копировальной бумаги, наклеил их в нескольких местах на улицах, подбросил Т. и собирался подбросить еще десяти молодым людям, адресами коих он заблаговременно запасся».
Более подробно он остановился на «деле 193-х», самом масштабном политическом процессе:
«Оно началось в конце 1873 года и вскоре разрослось в ряд связанных между собою совершенно внешним и искусственным образом отдельных производств, возникших и возбужденных в 37 губерниях и в войске Донском. Уже к концу 1874 года было привлечено к дознанию в качестве обвиняемых 770 человек, из коих 265 были заключены под стражу. При своем окончании это дело представляло собой громадное производство в 147 томах с 193 обвиняемыми лицами».
А. Ф. Кони привел «такие выдающиеся случаи, как поощрение женою жандармского штабс-офицера сына к пропаганде, введение профессором агитатора в кружок студентов, замещение мест по земской службе лицами, специально рекомендованными председателю управы человеком, всецело посвятившим себя анархической пропаганде, раздача земским врачом арестантам с целью устройства побега от конвоя, сонных порошков для последнего и т. п.
Но, к удивлению, чтобы не сказать более, многое из этого существовало только по-видимому, многое не было в действительности, а только казалось…
По рассмотрении всего дознания в Особой комиссии, с целью определения, каким его частям дать ход в судебном порядке, прежде всего оказалось необходимым освободить от всякой ответственности 411 человек. В действиях их нельзя было найти никаких признаков преступления…
Привлеченные без достаточных оснований, оторванные от обычных занятий, лишившиеся должностей, стесненные в ущерб своему материальному благополучию в свободе передвижения — лица эти составили группу, в которую, между прочим, вошли около 90 человек дворян и чиновников, около 100 крестьян и мещан, около 75 студентов разных наименований, 34 воспитанника гимназий и 11 воспитанников технических училищ, 23 воспитанника духовных семинарий, 20 учителей и учительниц сельских школ и т. д. Некоторая часть этих лиц была подвергнута содержанию под стражею…
Следствие было окончено летом 1876 года, а летом 1877 года был составлен обвинительный акт, коим, за исключением 33 неразысканных обвиняемых и 54 умерших, сошедших с ума и лишивших себя жизни, были переданы суду Особого Присутствия 193 человека. Об остальных 56 следствие было прекращено.
Тщательное рассмотрение этого дела судом продолжалось около трех месяцев. Окончательным приговором высокого судилища… 90 человек оправданы, а 27 человек признаны виновными лишь в том, что имели без дозволения начальства запрещенные книги. Высшею мерою наказания за это преступление по закону почитается арест на три месяца, они же пробыли в одиночном заключении более трех лет».
Одного врача обвинили в том, что он дал арестантам сонные порошки для усыпления стражи. Он провел в одиночном заключении 3 года и лишился работы. А оказалось, что это было слабительное средство, которым вряд ли можно было ослабить бдительность стражи.
«Вообще, — сообщил Кони наследнику престола, — с издания закона 19 мая 1871 г. до конца 1877 года возбуждено около 3650 дознаний о государственных преступлениях; в одном 1877 году возбуждено около 950, из коих 250 о пропаганде, а 700 о дерзких словах и распространении ложных слухов. Всего привлечено в период с 1872 по 1878 год к дознаниям о пропаганде не менее 2500 человек, из коих не более 500 подвергнуты наказанию по суду или административным порядком».
Средний возраст заключенных был около 20 лет; крайние пределы — 12-летний крестьянский мальчик и неграмотная крестьянка 84 лет. Многие обвинения были нелепыми, а наказание недопустимо строгим. Так, работящего непьющего крестьянина, имеющего семью из 8 человек, полтора месяца держали под стражей, а затем выслали в другой уезд за непочтительный отзыв об императрице Екатерине I.
«И вот в ежедневной, обыденной жизни общество отмежевывается от солидарности с правительством, вдумчивые люди со скорбию видят, как растет между тем и другим отсутствие доверия, и тщетно ищут признаков какого-либо единения, а семья безмолвствует, трепеща за участь своих младших членов и зная, что школа, дающая им вместо хлеба живого знания родной природы, языка и истории, камень мертвых языков, не в силах оградить их от заблуждений, которые на официальном языке с легкомысленною поспешностью обращаются в государственные преступления…
Где, например, найти средства, чтобы заставить отца забыть про смерть единственного 18-летнего сына, привлеченного в общей массе к дознанию и зарезавшего себя, после двухлетнего одиночного заключения, осколками разбитой кружки? В чем найти способ дать позабыть ему про письмо, в котором „государственный преступник“ говорит: „Добрый папа! Прости навеки! Я верил в Святое Евангелие, благодарю за это Бога и тех, кто наставал меня. Здоровье очень плохо. Водянка и цинга. Я страдаю и многим в тягость — теперь и в будущем. Спешу избавить от лишнего бремени других, спешу покончить с жизнью. Бог да простит мне не по делам моим, а по милосердию своему… Простите все. Нет в мире виновного, но много несчастных. Со святыми меня упокой, Господи…“
Чем поддержать доверие к справедливости и законности действий прокурорского надзора по политическим делам в среде, где знают, что два лица, наиболее отличившиеся энергическим возбуждением и производством дознаний, прокурор одного окружного суда и товарищ прокурора другого — уволены, несмотря на свое неоднократно поощренное усердие, от службы потому, что первый из них на публичном гулянье, напившись пьян, буянил, хвастал своим званием и, выведенный по требованию публики вон, дрался с полициею, причем изрезал себе руки осколками разбитой в участке лампы, а затем униженно просил полицию о пощаде и скрытии своих поступков, а второй на официальном бланке приглашал к себе на любовное свидание жену человека, посаженного им же под стражу.
Будущий историк в грустном раздумье остановится под этими данными. Он увидит в них, быть может, одну из причин незаметного, но почти ежедневно чувствуемого внутреннего разлада между правительством и обществом».
Упоминание о будущем историке должно было пробудить у наследника престола чувство ответственности перед страной, народом, историей. И хотя увеличение разлада между правительством и обществом еще далеко не подошло к критической черте, процесс этот со временем привел самодержавие к катастрофе. Ее опасался А. Ф. Кони.
В своей докладной записке он не стремился сгущать краски. Например, не упомянул, что за 4 года следствия 93 подозреваемых умерли, сошли с ума или покончили собой. И это были молодые, а то и юные люди.
Он категорически осуждал террор, Но считал своим долгом показать наследнику престола, что произвол и жестокость государственной власти вызывает в ответ произвол и жестокость революционеров.
Увеличивая напряженность в обществе, царское правительство способствовало созданию в недалеком будущем революционной ситуации, а в ближайшее время — покушениям на жизнь государственных деятелей и на самого Александра II. Оно невольно «подыгрывало» террористам, в особенности после массовой охоты на государственных преступников — преимущественно мнимых. В ответ росло число реальных врагов существующей власти. В обществе все чаще сочувствовали революционерам как страдающим без особой вины и вынужденным защищаться.
А ситуация в стране была и без того тревожной. Отменив крепостное рабство, государство стало главным эксплуататором свободного труда. Крестьянам выделили скромные земельные наделы. Несоразмерные платежи и непомерные налоги (до 40–50 рублей на взрослого работника) поглощали подчас весь валовой доход труженика, а во многих местах превышали доходность земли вдвое.
Создав громадный государственный бюджет, 80–90 процентов которого создают низшие классы, власть употребляла его почти всецело на поддержание внешнего могущества государства, на содержание армии, флота и на уплату государственных долгов, сделанных для тех же целей. Лишь крохи бюджета направлялись на народное образование, медицинское обслуживание.
Народ существовал для государства, а не государство для народа. Правительство поддерживало частных предпринимателей, купцов, крупных промышленников, но только не трудящихся. По свидетельству экономистов, за двадцать лет со времени освобождения крестьян не было предпринято ни одной меры к улучшению экономического быта народа. Финансовая политика и экономические меры правительства были направлены на поддержку частного капитала. Россия пошла по примеру Запада, где правительства служили орудием и выразителем воли буржуазии, олигархов.
Более 10 миллионов сектантов и раскольников в России страдали от отсутствия свободы вероисповедания. Фискальные и полицейские меры лишали свободы передвижения. Не было возможности заявлять правительству о своих нуждах и потребностях из-за отсутствия права петиций. Вся жизнь народа была подчинена произволу администрации.
Единственным способом воздействия на правительство оставались литература и пресса. Но в тех узких рамках, которые были предоставлены печатному слову, оно оставалось гласом вопиющего в пустыне, — средством воспитания в известном направлении читателей, но не способом непосредственного проведения идей в жизнь.
ПОКУШЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Тайное братство «Черный передел» призывало крестьян собирать сходы и посылать ходоков в столицу с требованиями поделить все угодья и леса между всеми поровну без выкупов и срочных платежей, уменьшить всякие подати и повинности, разрешить свободный беспошлинный промысел (соляной, рыбный, горный) и т. д. Пока царь не выполнит этих требований, предлагалось не признавать его государем, отказываться от присяги, не платить податей, не давать рекрутов, не пускать к себе никакого начальства.
И без таких советов крестьяне посылали ходоков к царю. Только вот результаты их обращений были плачевные. А призывы к неповиновению властям могли найти отклик у немногих крестьян. Как бунтовать, когда приходится заботиться о семье, работать из последних сил? Да и что сделаешь против полиции, казаков, а то и регулярных войск?
Многие революционеры сознавали невозможность народного восстания в ближайшие годы, а то и при их жизни. Наиболее нетерпеливые едва ли не с отчаяния решили сделать ставку на политические убийства.
…После раскола «Земли и воли» сторонники террора провели на явочной квартире в Петербурге заседание. Они обсудили и приняли программу Исполнительного комитета партии «Народная воля», которую позже опубликовали.
Первоначально Николай Морозов предложил вариант, принятый ранее, но он не удовлетворил присутствующих. Льву Тихомирову было поручено написать новую программу. Его вариант приняли без серьезного обсуждения. Как окончательно выяснилось, собрались единомышленники.
В самом начале вызвало сомнение определение: «Мы — народники-социалисты». Допустимо ли им называть себя «народниками», как прежде, когда они были членами «Земли и воли», переставшей существовать? Не вызовет ли это смешения понятий? Не будет ли слишком отдавать стариной, затемняя смысл нового направления, которое они хотели закрепить окончательно?
— В таком случае употребим название «социал-демократы», — предложил Желябов. И уточнил: — При передаче на русский язык этот термин нельзя перевести иначе, как социалисты-народники.
Большинство высказалось решительно против. Они полагали, что название «социал-демократы», выбранное германской социалистической партией рабочих, в русской программе, принципиально отличающейся от немецкой, совершенно недопустимо. Были и решительные защитники старого определения. Оно подчеркивало преемственность, напоминало о революционном прошлом.
Имело смысл подчеркнуть, что данная партия не исключительно политическая; политическая свобода для нее не цель, а средство пробиться к народной массе, открыть широкий путь для ее развития. Сочетание слов «социалисты-народники» указывало на то, что они преследуют не отвлеченные конечные цели социалистического учения, а прежде всего народные потребности и нужды.
Ближайшей целью в области экономики считалась передача земли в руки крестьянской общины. В области политической предполагалась замена самодержавия одного лица — царя — самодержавием всего народа. Свободно выраженная народная воля должна быть высшим и единственным регулятором всей общественной жизни.
…Заслуживает внимания один пункт программы народовольцев. Там сказано: «Цель оправдывает средства».
Следовало бы все-таки ограничивать средства достижения пусть даже самой замечательной цели. Ради нее, конечно же, каждый волен рисковать своей свободой и жизнью, отдавать все свои силы и личные средства борьбе. Но ведь бывают средства, которые способны очернить самые светлые идеалы!
Странно, что об этом не подумали авторы программы. Впрочем, они, возможно, нарочно оставили такой чрезмерно обобщенный тезис. Ведь знали: придется совершать убийства, причем не только тех, кого сами приговорили к казни, но и случайных прохожих, ни в чем не повинных людей. Да и приговоры, которые они выносили именем народа, в действительности таковыми не являлись.
В первых строках программы «Народной воли» утверждалось социалистическое и народническое начало. Но в политической части, говорившей о низвержении самодержавия и водворения народовластия, которое мыслилось в форме народного представительства, прозвучало нечто новое: утверждение необходимости государственного переворота, подготовленного заговором, и образования Временного правительства.
Надо отметить: говорилось не о захвате власти партией, а лишь о создании временного правительства. Оно должно было стать промежуточным звеном на период между низвержением царизма и водворением на его место народного правления.
Пункт о захвате власти появился позже в записке «Подготовительная работа партии». Некоторые народовольцы были недовольны такой формулировкой, не желая признавать себя якобинцами. Никогда прежде у них не было речи о навязывании большинству воли меньшинства и внедрении с помощью декретов социалистических и политических революционных преобразований.
При чем же в таком случае название «Народная воля», взятое как девиз и знамя партии? Допустимо ли навязывать народу свое мнение?
Вопрос о временном правительстве был скорее теоретическим, без мысли, что удастся когда-то увидеть его, а тем более — войти в него. О нем написали для придания стройности программе, в расчете на перспективу, когда революционная партия разрастется до значительных размеров. Было ясно, что если кому-то из народовольцев удастся дожить до победоносной революции, то, скорее всего, жар загребут их руками либералы: земские и городские деятели, адвокаты, профессора и литераторы, как было во Франции XIX века. (Это подтвердила Февральская революция 1917 года.)
Как далеки они были от якобинства, показывает письмо Исполнительного комитета к Александру III после 1 марта 1881 года. Выставляя требование созыва Учредительного собрания, Комитет обещал подчиниться воле народа, выраженной его представителями. В том случае, если бы народное представительство не оправдало надежд революционной партии, она обратилась бы не к насилию над ним, не к террору, а к пропаганде своих идей в народе, оказавшемся не на высоте положения.
Нередко считается, будто радикальное якобинское влияние пришло в Россию из-за границы, где, в частности, издавался проповедующий такие идеи «Набат». Когда террористы начали вооруженную борьбу с самодержавием, этот орган горячо приветствовал такие выступления и приписывал своему влиянию поворот революционеров к политической борьбе.
Однако, по свидетельству Веры Фигнер, «Набат» имел очень малые связи в России; распространение его было ничтожно. За все время после ее возвращения в декабре 1875 года из Цюриха в Россию она ни разу ни у кого не видала ни одного номера этого издания и никогда вплоть до ареста в 1883 году не слышала ни в одном из крупных городских центров России разговоров о нем.
Ни «Земля и воля», ни «Народная воля» с эмигрантами не завязывали и не стремились завязать никаких отношений. Зная условия русской жизни, они понимали: в сплошь крестьянской стране нет реальных возможностей создать сильную рабочую пролетарскую партию, наподобие той, какая существовала в промышленной Германии. Всех захватывало стремление к активной борьбе и чувство возмущения против пассивного состояния, в котором находились и народ, и общество, и до тех пор еще мирные социалисты.
…Охота на царя превратилась в главную цель Исполнительного комитета «Народной воли». Это был центр целой сети тайных групп. Предполагалось, что в момент народного восстания он будет координировать действия всей этой сети для победы революции по всей стране.
Почти все члены тайной организации были молоды, смелы, решительны, полны революционного энтузиазма. Их не устраивало долгое ожидание массовых народных выступлений, которых можно было и не дождаться. Оставалось искусственно создавать революционную ситуацию.
Цареубийство виделось как нечто судьбоносное, едва ли не мистическое, придающее особую напряженность деятельности и смысл — жизни. В императоре Александре II они видели не человека, убить которого — тяжкое преступление. Он представлялся им символом, олицетворением системы самодержавия. В таком отношении к человеку, причем не преступнику, можно усмотреть проявление самовнушения.
В психологии это называется установкой. Когда она укореняется в сознании, переходя на более глубокий эмоциональный уровень (подсознание), то определяет поведение и подчиняет своей воле рассудок. Теперь все его доводы работают на установку, нацелены на ее реализацию. В этом отношении у людей определенного эмоционального и умственного склада само по себе участие в тайном обществе при постоянной опасности ареста и казни содействовало закреплению установки.
Вызывает удивление поспешность, с которой были организованы покушения на царя. Казалось бы, зачем торопиться? Не лучше ли спокойно выжидать удобного момента, выжидать не месяцы, а годы, пока будет созревать революционная ситуация, и народные массы возрадуются цареубийству и поднимут всероссийский бунт?
Мне кажется, спешные покушения организовывались из чувства бессилия, отсутствия реальной перспективы для революции. Сознательно или интуитивно народовольцы более всего опасались не ужесточения режима самодержавия, усиления полицейского террора, а напротив, продолжения либеральных реформ, ибо в таком случае революционная ситуация сошла бы на нет. А они мечтали о революции. Такой была их установка. Ради нее они шли на преступление, оправдывая его «высшей целью».
Подготавливая взрыв в Зимнем дворце, рассудительный Степан Халтурин хотел использовать как можно больше динамита, чтобы покушение удалось. Эмоциональный Андрей Желябов возразил: в таком случае погибнет слишком много невинных людей. И услышал в ответ:
— Человек пятьдесят перебьешь, без сомнения. Так уж лучше класть побольше динамиту, чтобы хоть люди недаром пропадали, чтобы наверное свалить и самого, и не устраивать нового покушения!
То, что был принят вариант Желябова, вряд ли можно считать торжеством гуманизма. В любом случае счет погубленным жизням шел на десятки, но это не останавливало террористов. Они оба — очень разные по характеру и складу ума — вели себя, можно сказать, как психически больные с маниакальной установкой — убить царя во что бы то ни стало и каких бы невинных жертв это ни стоило.
Теперь мы знаем, что разработаны специальные психотехнологии, превращающие нормальных людей в жестоких террористов. Но в те времена ничего такого не было. Все совершалось стихийно.
Как это ни дико звучит, «охота на царя» стала для террористов-народников помимо всего прочего захватывающей авантюрой, азартным предприятием, смертельно опасным приключением. Если прежде можно было встретить Александра II почти без охраны, то после покушения А. Соловьева его стали тщательно оберегать.
Исполком обсудил возможные варианты. Наиболее целесообразным признали подрыв полотна железной дороги, по которой император с семьей ежегодно ездил на отдых в Крым и возвращался обратно. Другой вариант предполагал организацию взрыва в Зимнем дворце, где почти всегда велись те или иные ремонтные работы.
Было создано четыре группы, каждая из которых независимо от других готовилась совершить убийство Александра II. Три из них готовили покушения по пути возвращения царя из Крыма в столицу (под Одессой, Харьковом и Москвой), четвертая — в Зимнем дворце.
О том, насколько самоотверженными были террористы, можно судить по поведению Веры Фигнер. Она могла бы в Петербурге оставаться руководителем, но предпочла отправиться в Одессу, чтобы стать еще и исполнителем акции. Как она признавалась: «Для меня была невыносима мысль, что я буду нести только нравственную ответственность, но не участвовать материально в акте, за который закон угрожает товарищам самыми тяжелыми карами».
Ее упрекнули в том, что она ищет «личного удовлетворения» (вот ведь как!), а не предоставляет организации право распоряжаться ее жизнью. Но просьбу все-таки исполнили. В начале сентября 1879 года она приехала с грузом динамита в Одессу. Здесь ее встретил Н. И. Кибальчич. Они сняли квартиру на Екатерининской улице под именем супругов Иваницких.
«Вскоре приехали Колодкевич и Фроленко, а позднее Лебедева, — вспоминала Фигнер, — наша квартира была местом общих встреч и свиданий: на ней происходили все совещания, хранился динамит, сушился пироксилин, приготовлялись запалы, совершались пробы индукционных аппаратов — словом, совершались все работы под руководством Кибальчича».
Мероприятие было непростым. Пришлось ей добиваться того, чтобы «верный человек» занял место железнодорожного сторожа на одном из участков дороги. Как дворянка она смогла добиться этого, представив дело так, что ходатайствует за своего дворника, жена которого страдает туберкулезом и нуждается в здоровой обстановке вне города. В будку путевого обходчика недалеко от станции Гниляково доставили динамит и стали готовиться заложить заряд под рельсы. Но тут выяснилось, что царский поезд пройдет через Харьков.
Между Курском и Белгородом у города Александровска взрыв готовили А. Желябов, И. Окладский и А. Якимова. Под видом купца Черемисинова представительный, с окладистой бородой Андрей Желябов получил разрешение на строительство кожевенной мастерской. Место он выбрал, естественно, недалеко от железной дороги. К группе присоединился Я. Тихонов.
Под железнодорожное полотно заложили динамит, а провода протянули далеко в поле. 18 ноября получили сообщение о том, что царский поезд покинул Белгород. Террористы со своей «адской машинкой» залегли в укрытии.
Было известно, что первым шел поезд с многочисленной царской свитой и прислугой. Как только паровоз следующего именно царского поезда миновал место закладки мины, Желябов нажал на рычаг и… Взрыва не было.
Почему не сработало взрывное устройство, выяснить не удалось. По одной версии, Желябов неправильно соединил электроды, по другой — провода были повреждены после закладки по какой-то случайности.
Оставался третий пункт покушения — под Москвой. В сентябре Софья Перовская и Лев Гартман под видом молодой супружеской пары Сухоруковых сняли дом, расположенный возле железной дороги. Сюда доставили большое количество динамита. В доме тайно поселились А. Михайлов, А. Арончик, Г. Исаев, А. Баранников, Н. Морозов. Отсюда из подвала они, поочередно, киркой и лопатой пробивали подземный ход к железной дороге. Работать приходилось в трудных условиях под угрозой обрушения кровли (не говоря уже о том, что к ним могла нагрянуть полиция).
В начале ноября подкоп был закончен. Заложив динамит, террористы стали дожидаться сведений из Александровска. Судя по тому, что ни 18, ни утром 19 ноября не было никаких сообщений о катастрофе на железной дороге, стало ясно, что там покушение не удалось. Все приготовились к встрече обреченного императора.
Как происходили события, дал письменные показания арестованный позже участник покушения А. Д. Михайлов:
«Наступил критический день 19 ноября. Время прибытия двух царских поездов в Москву было назначено 10 и 11 часов вечера. Не было тайной для многих москвичей, что царь прибудет в 10 ч. Это подтверждали и другие, более веские данные, заставлявшие обратить взоры на первый поезд. Но царский поезд промчался в начале десятого и был принят за пробный, иногда следующий впереди царского. Второй поезд, шедший в 10 часов с небольшим, совпал со временем, назначенным для царского, и пострадал».
В поезде, рухнувшем под откос, находилась преимущественно придворная прислуга. «Это была неудача, — писала Вера Фигнер, — но факт сам по себе произвел громадное впечатление в России и нашел отклик во всей Европе».
Последнее утверждение показательно. Оказывается, для народников имела немалое значение реакция, которую вызывали их акции в Западной Европе. Это можно объяснить тем, что именно европейская модель общественного устройства, буржуазная демократия была для них ориентиром. А вот в России подобные акции вызывали далеко не однозначную и преимущественно негативную реакцию.
Так, эхо взрыва под Москвой отозвалось в Одессе. Служащий магазина учебных пособий Алмазов явился в полицейский участок с пачкой номеров газеты «Народная воля» и прокламациями, посвященными взрыву царского поезда. Он сказал, что эти бумаги его просила спрятать соседка курсистка Богуславская, опасавшаяся обыска в своей квартире. Тотчас жандармы нагрянули в ее квартиру. Там арестовали Александра Квятковского, обнаружили динамит, запалы и среди бумаг какой-то план комнат, на одной из которых был поставлен крест.
Тогда никто не догадался, что это означает. Только через два месяца, после взрыва в Зимнем дворце, стало понятно, что на этом плане отмечена столовая, в которой собиралась царская семья.
Глава 3 УБИЙСТВО АЛЕКСАНДРА II
ТРАГЕДИЯ ВО ДВОРЦЕ
Вечером 5 февраля 1880 года в караульном помещении, расположенном под царской столовой в Зимнем дворце, прогремел страшный взрыв. Это было очередное покушение на жизнь императора. Но и на этот раз он не пострадал благодаря счастливой случайности: задержался к обеду. Погибли и получили ранение более полусотни ни в чем не повинных людей.
Расследование показало: организовал взрыв рабочий, производивший ремонт в здании. Он ухитрился пронести в караульное помещение не менее двух пудов динамита. Его искали по приметам: высокий молодой человек с правильными чертами лица, привлекательный, с мягкими манерами. По профессии столяр-краснодеревщик, из крестьян. Однако след его затерялся.
Преступника арестовали в Одессе два года спустя как одного из организаторов покушения на местного военного прокурора, отличавшегося жестокостью. Военно-полевой суд приговорил его к смертной казни. Он назвался Степановым и был казнен в марте 1882 года. В действительности это был Степан Николаевич Халтурин.
Этот незаурядный человек отличался умом, энергией, силой характера. Он стал террористом не сразу. Сначала, увлеченный социалистическими идеями, вел революционную пропаганду среди рабочих Петербурга. Он и слесарь В. П. Обнорский в конце 1878 года создали в Петербурге тайную организацию — «Северный союз русских рабочих». Она имела сходство с профсоюзом (в нее допускались только рабочие), в идеологии имела социал-демократическое направление и не предполагала террористической деятельности.
Можно сказать, это была первая попытка создать партию рабочих для осуществления социалистической революции.
В ее программе пролетариат определялся как передовой авангард трудящихся, а конечной целью ставилось «ниспровержение существующего политического и экономического строя государства, как строя крайне несправедливого».
Учитывалась и отечественная специфика: предполагалась замена государственной структуры федерацией свободных общин с внутренним самоуправлением на началах русского обычного права, общинное землевладение, создание ассоциаций рабочих, распоряжающихся продуктами своего труда и орудиями производства.
Организация быстро обрела популярность. В каждом рабочем квартале создавались кружки со своей кассой и конспиративной квартирой. Руководители кружков составляли Центральный комитет союза. Он собирался дважды в неделю. Члены организации принимали активное участие в стачках, выпускали прокламации. Союз решено было превратить в общероссийский; в Москве организовали его филиал. Но достаточно быстро, в начале 1879 года, почти все его руководители были арестованы. Тогда от этой организации отказался Халтурин, желавший радикальных действий. Он вступил в «Народную волю» и стал террористом.
Оставшиеся на свободе активные деятели Союза выпустили в марте 1880 года газету «Рабочая заря». Было распространено около тридцати ее экземпляров, а остальной тираж был конфискован; организаторов типографии арестовали. На этом «Северный союз русских рабочих» прекратил свое существование.
Неудачи показательны: дело было не только в суровом полицейском режиме, но и неготовности большинства трудящихся к революционным выступлениям. Рабочие были готовы при случае отстаивать свои права, требовать повышения заработной платы. Лишь немногие из них, преимущественно самые образованные, стремились изменить политический строй, выступать против самодержавия. Остальных вполне бы устроило нечто вроде свободных профессиональных союзов.
Царское правительство, ужесточая репрессии против таких организаций, как «Северный союз русских рабочих», тем самым способствовало обострению ситуации, созданию и сплочению хорошо законспирированных групп террористов.
…Халтурин был не из тех, кто готов неспешно выжидать благоприятных условий для политических выступлений. Он хотел действовать незамедлительно, решительно и радикально. Возможно, решение убить царя возникло у него после первых покушений на жизнь Александра II. Однако, скорее всего, оно стало следствием неудач просветительской работы среди рабочих. Как знать, если бы в России правительство разрешало открытые объединения рабочих, не было бы острой нужды в тайных обществах террористического толка.
Степан Николаевич, родившийся в 1856 году в крестьянской семье, получил начальное образование в Училище для распространения технических и сельскохозяйственных знаний в Вятке, освоил профессию столяра и с 1875 года работал в Петербурге. Потерпев неудачи в деле пропаганды социалистических идей, он пришел к мысли, как выразился Л. А. Тихомиров, «протестовать посредством убийства царя». Другой революционер — Г. В. Плеханов, также знавший Халтурина, писал: «Все внимание его было поглощено общественными вопросами». И поначалу Степан Николаевич с возмущением говорил ему:
— Чистая беда, только-только наладится у нас дело, — хлоп! — шарахнула кого-нибудь интеллигенция, и опять провалы. Хоть немного бы дали вы нам укрепиться!
Выходит, на цареубийство склонили его, пусть даже косвенно, террористы «Народной воли», действия которых вызывали жесткую ответную реакцию властей. По свидетельству Плеханова, Халтурин пришел к мысли: «Смерть Александра II принесет с собой политическую свободу, а при политической свободе рабочее движение пойдет у нас не по-прежнему. Тогда у нас будут не такие союзы, с рабочими же газетами не нужно будет прятаться».
Для рассудительного человека такой вывод по меньшей мере странен. Разве не ясно, что на трон взойдет другой царь, а его действия вряд ли станут либеральными. Судя по всему, Халтурину хотелось продолжать революционную деятельность в любом случае: если уж не вышло мирным путем, так провести акцию боевую, чрезвычайную, способную потрясти если не государственные устои, то хотя бы народ. Возможно, его нетерпение объяснялось тем, что врач нашел у него туберкулез, который в то время для небогатого человека был равносилен смертному приговору.
Поступил в мастерские Зимнего дворца Халтурин без особых трудностей. Он был хорошим специалистом, у него было немало знакомых среди коллег-столяров. С весны до осени 1879 года он трудился в Новом Адмиралтействе, а также на царской яхте «Александрия». По фальшивому паспорту на имя крестьянина Олонецкой губернии Степана Батышкова он поступил на работу в Зимний дворец 10 сентября 1879 года.
От своих новых коллег Степан Халтурин не смог скрыть своих знаний, явно превышавших уровень простого рабочего. Кого-то он просветил относительно вращения Земли, кому-то помог составить смету на выполненный заказ, кому-то прочел выдержки из повести Вольтера. Как видим, охрана дворца не очень-то заботилась о том, чтобы выискивать подозрительных людей.
О том, какими были порядки во дворце, написал, быть может, с некоторыми преувеличениями, Л. А. Тихомиров: «Нравы и обычаи новых сотоварищей поражали Халтурина. Прежде всего, удивителен был беспорядок в управлении, распущенность прислуги… и страшное повальное воровство сверху донизу превосходили всякое вероятие. Дворцовые товарищи Халтурина устраивали у себя пирушки, на которые свободно приходили, без контроля и надзора, десятки их знакомых. В то время как с парадных подъездов во дворец не было доступа самым высокопоставленным лицам, черные ходы во всякое время дня и ночи были открыты для всякого трактирного знакомца самого последнего дворцового служителя. Нередко посетители оставались и ночевать во дворце…
Даже Халтурин принужден был ходить воровать съестные припасы, чтобы не показаться подозрительным. Впрочем, нельзя было и не воровать: у русского царя дворцовые камердинеры получали по 15 р. в месяц».
Сначала Халтурин хотел расправиться с царем, как говорится, по-простому, зарубив его топором. Но его отговорили: Александр II был не робкого десятка и достаточно сильным для того, чтобы дать отпор. Тогда возник другой план. Подвал, где жил он с другими столярами, находился под помещением дворцового караула, а выше была царская столовая. Решено было положить динамит в печь комнаты столяров, с тем чтобы в то время, когда царь придет в столовую, произвести взрыв. Готовили динамит революционеры на конспиративной квартире.
Перед возвращением Александра II из Крыма дворец стали спешно приводить в порядок, усилили охрану. Периодически проводили осмотр многих помещений, в том числе и «общежития» столяров. Дело было ночью, и неожиданный визит охраны заставил Халтурина сильно поволноваться. У него под подушкой лежали пачки с динамитом. Однако проверяющие проявили халатность и провели только поверхностный осмотр.
Значительные трудности были связаны с доставкой взрывчатки во дворец. Приходилось приносить ее небольшими порциями в корзине, положив сверху белье и крахмальные рубашки, складывая в сундук с личными вещами.
Однажды мимо Халтурина, работавшего в одной из комнат дворца, прошел Александр II. Это был единственный случай, когда террорист встретился почти лицом к лицу с тем, кого хотел убить.
По предложению Желябова решили ограничиться двумя пудами динамита, хотя Халтурин хотел взорвать три пуда, чтобы действовать наверняка. Количество жертв при этом невинных людей, как мы знаем, его не волновало. В чем-то он был прав: когда речь идет об убийстве царя, десять или двадцать погибнет вместе с ним людей, для террориста не имеет значения: цель оправдывает средства и жертвы.
Выбрать день покушения и устроить взрыв было непросто. Требовалось стечение благоприятных обстоятельств. В частности, когда царь должен был ужинать в столовой, у столяров в подвале должен был оставаться один Халтурин. Покушение наметили на начало февраля.
Запалом служили трубки, наполненные специальным составом. Было устроено так, чтобы взрыв произошел через несколько минут после того, как Халтурин покинет дворец.
Вечерами в темноте Желябов приходил на Дворцовую площадь и прогуливался, ожидая Халтурина, которого должен был сразу же после взрыва препроводить на конспиративную квартиру и помочь скрыться от полиции. Несколько дней мимо него проходил Халтурин, хмуро произнося: «нельзя было» или «не вышло».
Наконец, 5 февраля, в день торжественного обеда в честь приезда принца Александра Гессенского, Халтурин подошел к Желябову, поздоровался и спокойно сказал: «Готово». Тут же грянул оглушительный взрыв.
Огни во дворце потухли. Тьма накрыла Дворцовую площадь. Раздавались крики, бежали люди. Тревожно звеня, промчалась пожарная команда. Террористам долго оставаться здесь не было смысла. Желябов отвел Халтурина на квартиру. Там Степан, едва стоявший на ногах, спросил, есть ли оружие, добавив: «Живым я не сдамся».
Ему сказали, что это предусмотрено: квартира минирована такими же динамитными бомбами, которые он взорвал. Когда выяснилось, что царь не пострадал, Халтурин впал в отчаяние. Его успокаивали: все-таки взрыв потряс всю Россию и отзовется на Западе. (Халтурин перебрался в Одессу, в марте 1882 года вместе с Н. Желваковым совершил убийство местного военного прокурора, отличавшегося жестокостью, был арестован и казнен, не назвав себя, под фамилией Степанов.)
Как говорили в те времена, царя хранило провидение. Он вместе с семьей задержался на несколько минут по пути в столовую, ведя беседу с прибывшим принцем.
При взрыве разрушился свод между подвалом и первым этажом, рухнуло несколько перегородок. В «малиновой» комнате лишь приподнялись три щита паркета, а в «желтой» (столовой) появились трещины в стене и вылетели отдушины воздушного отопления, разбились бокалы и тарелки. Царской семьи в этих комнатах не было. Погибли 11 человек, в основном солдаты, находившиеся на гауптвахте. Раненых было 56.
В прокламации «Народной воли», выпущенной в связи с покушением, говорилось: «С глубоким прискорбием смотрим мы на погибель несчастных солдат царского караула, этих подневольных хранителей венчанного злодея. Но пока армия будет оплотом царского произвола, пока она не поймет, что в интересах родины ее священный долг стать за народ против царя, такие трагические столкновения неизбежны».
Как писал французский историк Э. Оман: «Казалось, бессилие системы крайних репрессий было вполне доказано. Чем больше ссылали, чем больше казнили, тем смелее становились революционеры, тем совершеннее становились методы их действия. Люди, посредством этих действий державшие правительство в страхе, были в сущности немногочисленны. Многих из прежних пропагандистов уже не было в живых; из тех, кому удалось скрыться от полиции, самая маленькая группа… вступила на путь террористических актов. Но малочисленность революционеров возмещалась смелостью, холодной решимостью, непреклонной волей и, наконец, дисциплиной, благодаря которой все они… повиновались плану действия, составленному Исполнительным комитетом. Бесконечное терпение и энергия, с которыми они подготовляли свои покушения, поистине изумительны».
ПРОФЕССИЯ — ЦАРЕУБИЙЦА
Покушение в Зимнем дворце могло стать предупреждением для террористов: слишком дорого оплачивается «охота» на царя, а результаты ее сводятся лишь к недопустимым жертвам ни в чем не повинных людей и ужесточению репрессий. Но, встав на путь вооруженной борьбы, народовольцы уже не сошли с него.
Что двигало ими? Стремление отомстить за казненных и отправленных в тюрьмы и на каторгу товарищей? Надежда на то, что цареубийство всколыхнет народ на восстание? Вера в справедливость своего смертного приговора Александра II? Отчаяние из-за крушения иллюзий о революционной ситуации в стране и скором торжестве революции?
По-видимому, сказывались в той или иной мере все эти факторы. Но едва ли не более всего влияла инерция — необходимость продолжать начатое дело. Оно уже длилось для некоторых народовольцев 5 лет, а то и больше; стало неотъемлемой частью их жизни, придававшей ей насыщенность, содержание, смысл.
Террористы упорно продолжали «охоту на царя». По предложению Александра Михайлова решили устроить взрыв Каменного моста, по которому проезжал император, возвращаясь в Зимний дворец из Царского Села.
Руководство подготовкой и проведением операции поручили Андрею Желябову. В его подчинении были профессиональные революционеры А. Пресняков, М. Грачевский, А. Баранников и молодой рабочий М. Тетерка.
Под мостом заложили динамит. Провода подвели к плоту, на котором под видом ремонтников должны были находиться Желябов с Тетеркой.
17 августа 1880 года Желябов пришел на плот и стал ожидать напарника. Его не было. Показалась карета царя и быстро проследовала через заминированный мост. Только после этого прибежал Тетерка. Он объяснил свое опоздание отсутствием личных часов. Или это было отговоркой, а реальная причина — страх и растерянность или подсознательная установка на то, чтобы избежать участия в покушении на императора?
…Создание «Народной воли» можно толковать как оформление в России организации профессиональных революционеров. Безусловно, и до этого существовали различные тайные общества и революционные кружки, были отдельные личности, полностью посвятившие свою деятельность низвержению существующего строя. Но даже «Земля и воля», пожалуй, лишь подготавливала почву для формирования хорошо законспирированной организации, имеющей оружие и взрывчатку, свои тайные лаборатории и мастерские, своих «боевиков», а также широкую сеть сторонников, охватывающую практически всю Европейскую Россию.
К этому времени тайная полиция обрела огромные возможности и опыт в борьбе с политическими преступниками. Была учреждена слежка не только за революционерами, но и за многочисленными «неблагонадежными» лицами. Из этой среды вербовали предателей — подкупом, запугиванием или шантажом, внедряя туда своих агентов.
Но и революционеры постоянно совершенствовали методы своей работы. Одним из наиболее талантливых конспираторов был Александр Дмитриевич Михайлов. Он писал, имея в виду период становления «Земли и воли»:
«В кружке народников, который лег в основание проекта организации революционных русских сил и в который я… вошел как член-учредитель, все мои помыслы были сосредоточены на расширении практической выработки и развития организации. В характерах, привычках и нравах самых видных деятелей нашего общества было много явно губительного и вредного для роста тайного общества; но недостаток ежеминутной осмотрительности, рассеянность, а иногда и просто недостаток воли и сознательности мешали переделке, перевоспитанию характеров членов соответственно организации мысли.
И вот я и Оболешев начали самую упорную борьбу против широкой русской натуры. И надо отдать нам справедливость — едва ли можно было сделать с нашими слабыми силами более того, что мы сделали. Сколько выпало на нашу долю неприятностей, иногда даже насмешек! Но все-таки, в конце концов, сама практика заставила признать громадную важность для дела наших указаний, казавшихся иногда мелкими. Мы также упорно боролись за принципы полной кружковой обязательности, дисциплины и некоторой централизованности. Это теперь всеми признанные истины, но тогда за это в своем же кружке могли глаза выцарапать, клеймить якобинцами, генералами, диктаторами и проч. И опять-таки сама жизнь поддержала нас — эти принципы восторжествовали. Я часто горячился в этой борьбе».
По словам видного народовольца Льва Тихомирова (ставшего позже монархистом), Михайлов хорошо понимал, что осторожность, осмотрительность и практичность составляли для существования революционной организации необходимое условие. Этих качеств он требовал от каждого революционера. Сам был чрезвычайно осмотрителен и практичен и постоянно замечал ошибки других и указывал на них. Не признавал никакой небрежности, считая это нечестностью по отношению к организации, недостаточной преданностью революционному делу.
Например, когда один товарищ иногда заходил проведать жену свою, находившуюся под надзором, Михайлов возмущался:
— Он шляется к жене, где его стерегут и могут забрать; наконец его могут проследить на другие квартиры!
Такие поступки он считал преступной подлостью. Его особенно огорчало, когда она исходила от человека, которого он глубоко уважал. Против подобной неряшливости Михайлов постоянно выступал и, по словам Тихомирова, «оставался каким-то ревизором революционной конспирации. Даже сам порой говорил совершенно серьезно: „Ах, если бы меня назначили инспектором для наблюдения за порядком в организации!“».
Порой ему предоставляли право такого наблюдения, и тогда он следил по улицам за товарищами, чтобы убедиться в их осторожности. Однажды его соратник А. Квятковский заметил эту слежку, чем несказанно обрадовал Михайлова. Но зато беда, если кто-нибудь не обращал внимания на то; что за ним наблюдают. За такую провинность он не уставал упрекать, повторяя, что революционеру необходимо соблюдать конспирацию не только ради собственной безопасности, но и для того, чтобы невольно не выдать товарищей.
Иногда он на улице он мог неожиданно заставить своего спутника читать вывески и рассматривать физиономии на разных расстояниях. Если оказывалось, что человек близорук, следовало указание: «Ну, брат, очки покупай непременно». И не просто давал рекомендацию, но и добивался, чтобы она была исполнена.
Один близорукий заявил, что доктор запретил ему носить очки, под страхом ослепнуть совсем. Михайлов настаивал: «Ну, откажись от таких дел, где нужно посещать конспиративные квартиры. Делай что-нибудь другое». Но тут выяснилось, что этот человек нужен именно как связной, посещающий подобные квартиры.
— Ну, тогда непременно нужны очки или пенсне. Обязательно!
— Покорно благодарю, я не желаю ослепнуть.
— Ослепнешь? — вспылил Михайлов. — Тогда выходи в отставку. Нам из-за твоих глаз не проваливать организацию. — И обратился к товарищам с предложением: «Обязать его носить очки необходимого номера».
Впервые входя в квартиру к товарищу, он тотчас осматривал все углы, простукивал стену, чтобы убедиться, достаточно ли она толста, прислушивался, не слышно ли разговоров соседей по квартире, выходил с той же целью на лестницу. Делал замечание: «У вас народу столько бывает, а ход всего один: это невозможно».
Еще хуже, если квартира была без воды. Значит, дворник будет лишний раз заходить, а кто не знает, что ему полагается докладывать полиции о всяческих подозрительных лицах. Особенно внимательно следил Михайлов за «знаками» — сигналами безопасности, которые снимаются, если квартира в опасности. По его мнению, квартиры, где их нет, не следует посещать.
Он не обращал ни малейшего внимания на шутки и насмешки в свой адрес, которые позволяли себе некоторые революционеры в его адрес. Иногда хозяева раскритикованной им квартиры не хотели даже говорить с ним, но он все-таки преспокойно заходил к ним, чтобы убедиться, что его указания выполнены. Если не все обстояло благополучно, он весьма обстоятельно повторял свои соображения нахмуренным хозяевам. «Ну что, вы кончили? Больше ничего?» — торопили они его, желая, чтобы незваный гость поскорее убирался. «Да, я кончил, только теперь уже время обедать. Я бы остался, если не возражаете».
Михайлов говорил это совершенно откровенно, с чистым сердцем. Он не допускал мысли, что кто-нибудь посмеет всерьез рассердиться за исполнение человеком обязанности охранять безопасность тайной организации. Конечно, соблюдать конспирацию, меры безопасности скучно, выслушивать замечания неприятно. Ничего удивительного, что у людей по этой причине портится настроение. Но сердиться за правильные замечания на того, кто их сделал, совершенно несправедливо. С таким же успехом можно обижаться на доктора, поставившего неприятный для вас диагноз. Порядочному человеку самому будет стыдно, если он позволит себе поссориться из-за дельных указаний. Так рассуждал Михайлов. Он был профессиональным конспиратором и требовал этого от своих товарищей.
И хотя ему приходилось ежедневно с кем-нибудь ругаться, а то и ссориться, он пользовался огромным авторитетом и большим уважением у всех членов организации.
Вот свидетельство Тихомирова: «Из конспирации А.Д. (Михайлов. — Р.Б.) создал целую науку. Он… выработал в себе способность одним взглядом отличать знакомые лица в целой толпе. Петербург он знал, как рыба свой пруд. У него был составлен огромный список проходных дворов и домов (штук 300), и он все это помнил наизусть. Покойный Халтурин передавал нам однажды, как он следил за А.Д. (у Халтурина тоже были эти привычки — контролировать других); тот немедленно заметил его. Халтурин с приятной улыбкой знатока рассказывал, до чего ловко А.Д. изыскивал случаи смотреть позади себя, совершенно естественно, то будто взглянуть на красивую барыню, то поправивши шляпу и т. д.; в конце концов, он исчез — черт его знает, куда он девался… А нужно сказать, что Халтурин тоже был мастер выслеживать.
Проходными дворами и домами А.Д. пользовался артистически. Один человек, спасенный А.Д. от ареста, рассказывал нам, как это произошло. Я должен был сбежать с квартиры и скоро заметил упорное преследование. Я сел в конку, потом на извозчика. Ничего не помогло. Наконец мне удалось, бегом пробежавши рынок, вскочить в вагон с другой стороны; я потерял из виду своего преследователя, но не успел вздохнуть свободно, как вдруг входит в вагон шпион, прекрасно мне известный: он постоянно присутствовал при всех проездах царя и выследил меня на мою квартиру, откуда я сбежал. Я был в полном отчаянии, но в то же мгновение совершенно неожиданно вижу — идет по улице А.Д. Я выскочил из вагона с другого конца и побежал вдогонку. Догнал, прохожу быстро мимо и говорю, не поворачивая головы: Меня ловят. А.Д., тоже не взглянувши на меня, ответил: Иди скоро вперед. Я пошел. Он, оказалось, в это время осмотрелся, что такое за мной делается. Через минуту он догоняет меня, проходит мимо и говорит: Номер 37, во двор, через двор на Фонтанку, № 50, опять во двор. Догоню. (№№, впрочем, я уже позабыл). Я пошел, увидел скоро № 37, иду во двор, который оказался очень тесным с какими-то закоулками, и, в конце концов, — я неожиданно очутился на Фонтанке… Тут я в первый раз поверил в свое спасение. Торопясь, я уже не следил за собой, а только старался как можно скорее идти. Скоро по Фонтанке оказался другой заворот, а за ним № 50: прекрасное место, чтобы исчезнуть неожиданно. Вхожу во двор, смотрю, а там уже стоит А.Д.; оказалось, что двор также проходной в какой-то переулок. Выходи в переулок, — говорит Ал. Дм., — нанимай извозчика, куда-нибудь поблизости от такой-то квартиры, сам же выбежал на Фонтанку и осмотрелся. Пока я нанял извозчика, он возвратился и отвез меня на квартиру… где я и остался».
Сам Александр Михайлов однажды допустил оплошность, понадеявшись на свое искусство конспирации, что стоило ему жизни. Но это уже другая история. Главное, что на его примере особенно ясно видно, что тайная организация революционеров стала профессиональной.
* * *
…Самодержавная власть давала царю возможность использовать огромные финансовые средства в своих личных целях. Вот и Александр II осенью 1880 года перевел в Государственный банк на имя Екатерины Михайловны Долгоруковой 3,3 миллиона рублей с пометкой: «Ей одной я даю право распоряжаться этим капиталом при моей жизни и после моей смерти».
Отдадим должное его заботе о будущем морганатической супруги и детей от нее (возможно, из опасения за свою жизнь). Однако невольно закрадывается мысль: если уж император — помазанник Божий, если царствует он Божьей милостью, если он, как принято было считать, по-отечески относится к своему народу, то не слишком ли самовольно распоряжается он государственными средствами?
Клеймя революционные идеи и прославляя царя-Освободителя, поэт-философ Федор Тютчев писал:
О, этот век, воспитанный в крамолах, Век без души, с озлобленным умом, На площадях, в палатах, на престолах — Везде он правды личным стал врагом! Но есть еще один приют державный, Для Правды есть один святой алтарь: В твоей душе он, Царь наш православный, Наш благодушный, честный Русский Царь!Н. И. Черняев в статье «Мистика, идеалы и поэзия русского Самодержавия» (1904), приведя эти стихи, предпослал им такое суждение:
«Идеалы русского Самодержавия, идеалы всего того, что оно творит в области внутренней и внешней политики, сводятся к созданию истинно христианской монархии и к утверждению христианских начал в жизни государственной, общественной и семейной, в духе Вселенской Правды, мира и любви».
Ясно, что речь идет о высших идеалах. Но кто из русских царей хотя бы приближался к ним? Разве в «христианской монархии» допустимо щедро одаривать своих близких при бедственном положении большинства народа? Разве допустимо казнить людей только за то, что они посягнули на жизнь самодержца?..
Риторических вопросов возникает немало. Отвечая на них, можно смиренно посетовать на извечный роковой разрыв между идеалами и реальностью. Революционеры рассуждали иначе: долой царя, не способного нести свою высокую миссию! Долой власть, основанную на лицемерии, на эксплуатации покорности и невежества народа! Долой мистику самодержавия, не выдержавшую испытание временем и судьбой!
НА РОКОВОМ РУБЕЖЕ
Американский историк Всеволод Николаев считает: «Тот факт, что конспираторы смогли взорвать царскую столовую и проникнуть в самую резиденцию государя, доказывал, что они всесильны и что царская полиция не в силах их обуздать.
2 марта была годовщина отмены крепостного права, но террористы расклеили по всей столице предупреждения, что „адские машины“ будут взрываться по всему городу, на разных улицах и площадях Санкт-Петербурга. Все население, как сообщали иностранные послы из столицы, было охвачено паникой из-за бессилия полиции, которая не могла обуздать террористов. Многие состоятельные жители Санкт-Петербурга заколачивали окна и запирали двери своих домов, уезжая в провинцию. Никто не был уверен в завтрашнем дне».
Революционные экстремисты не только гласно приговорили к смерти императора России, но и вносили нервозность, а то и ужас (террор) в души некоторой части обывателей. Это была демонстрация мнимой силы конспираторов-террористов и мнимой слабости царской власти.
Как вспоминал великий князь Алексей Михайлович, внук Николая I и ровесник Николая II, обитатели дворцов пребывали в страхе: «Камер-лакей, подававший утренний кофе, мог быть на службе у нигилистов. Со временем ноябрьского взрыва каждый истопник, входящий к нам, чтобы вычистить камин, казался носителем адской машины».
После взрыва в Зимнем дворце и угроз террористов устроить новые подобные акции в широком масштабе немало жителей столицы было в панике. Это заставило Николая Лескова написать заметку «О трусости» (16 февраля 1880 года). Он привел примеры психических эпидемий, когда люди поддавались ложным слухам и вели себя, как безумные. По его словам, власть поступила «нынче в руки лица, внушающего всем честным людям большое доверие и уважение к его способностям», и призвал горожан к спокойствию. Под уважаемым честными людьми лицом он подразумевал Лорис-Меликова (1825–1888).
Однако, по словам Алексея Михайловича, его «примирительная политика вызывала бурю негодования у сановников без постов и у непризнанных спасителей отечества… Храбрый командир корпуса и помощник моего отца во время Русско-Турецкой войны 1877–1878 годов граф Лорис-Меликов, по мнению своих врагов, стал послушным орудием в руках княгини Юрьевской. Назначенный на пост канцлера Империи, Лорис-Меликов пользовался полным доверием Царя и его глубокая привязанность к Монарху была очевидна… А народ — эти 125 миллионов крестьян, раскинутых по всему лицу земли русской, — говорили, что помещики наняли армянского генерала, чтобы убить царя за то, что он дал мужикам волю».
Отец Алексея Михайловича великий князь Михаил Николаевич, генерал-фельдмаршал, служил наместником на Кавказе и командовал войсками Кавказского военного округа. Этот человек отлично знал Лорис-Меликова. А вот его супруга, ненавидевшая княгиню Юрьевскую (кстати, из рода Рюриковичей-Долгоруких) как авантюристку, неприязненно относилась и к Лорис-Меликову. Не удивительно, что о нем распускали лживые слухи.
Вряд ли они появились ни с того ни с сего в народе. Их могли распространять революционеры, чтобы расшатывать устои государства. Но не исключено, что породили слухи враги либеральных реформ. В таком случае интересы и революционеров и реакционеров сходились: надо избавиться от тех, кто стремится ограничить самодержавие, изменить существующий строй на манер английской конституционной монархии.
А если так, то жизни Александра II и Лорис-Меликова угрожала двойная опасность — и от явных врагов из тайной организации, и от тайных недругов из своего ближнего и дальнего окружения. Покушения организовывали, конечно же, террористы, но у консерваторов была возможность при случае не предпринимать необходимых мер к охране императора и его приближенного-реформатора.
Либеральная печать одобрительно отозвалась на предложения Лорис-Меликова. Язвительный поэт Дмитрий Минаев обратился к нему со «смехотворным» посланием:
Ввиду порядка строгого Мы просим, граф, немногого: Вы дайте конституцию, На первый раз хоть куцую!Да и могла ли быть иная, полноценная конституция? Ее быть не могло: это означало бы конец самодержавия и переход… При отсутствии достаточного количества буржуа (так называемый третий класс) в России, о буржуазной демократии не могло быть речи. О народной демократии даже думать не имело смысла. Выходит, дворянско-помещичья демократия? Нечто невиданное, а то и несуразное.
И без того эта социальная группа имела немалые привилегии. Значит, она желала большего? Как мы уже говорили, в таком случае царь вынужден выступать защитником крестьян от дополнительного гнета (иначе — новые бунты, а то и революция).
Ну а зачем нужна куцая конституция? Только для ослабления напряженности в обществе, некое подобие социально-политического громоотвода — не более того. Примерно так, судя по всему, рассуждал Лорис-Меликов при согласии царя на продолжение — после некоторого перерыва — либеральных реформ. Наконец-то к ним можно было приступить. Это проходило на фоне постоянных угроз со стороны революционеров-террористов и достаточно успешной борьбы с ними.
«Император в последнее время сблизился с генералом Михаилом Лорис-Меликовым, — пишет Николаев, — назначенным им генерал-губернатором Харькова, царь знал и ценил его за геройское участие в войне 1877–1878 годов. Он возглавлял Кавказский корпус и прославился взятием Карса — ключевой позиции на азиатском фронте. Александр уже тогда наградил его высокими орденами. Но больше всего Лорис-Меликов заслужил доверие императора тем, что, назначенный генерал-губернатором Харькова, он справился с террористами и успел восстановить порядок в своей губернии.
Накануне нового 1880 года под его личным руководством харьковская полиция арестовала террориста Гольденберга, который убил князя Дмитрия Кропоткина, бывшего до Лорис-Меликова генерал-губернатором Харькова. Лорис-Меликов лично руководил следствием и сумел своим гуманным обращением заставить Гольденберга сделать важнейшие признания о деятельности „Народной воли“, членом которой он состоял. Так, он раскрыл, что Желябов и Перовская организовали взрыв в Зимнем дворце, а также и их прежние акции против императорского поезда. Нетрудно себе представить, какое впечатление доклад Лорис-Меликова произвел на царя.
После акции в Зимнем дворце император созвал в своем кабинете для разработки мер против терроризма экстренный совет, в котором участвовали наследник престола великий князь Александр Александрович, военный министр Милютин, некоторые другие министры, все генерал-губернаторы, в том числе Лорис-Меликов и другие лица. Наследник престола предложил немедленно создать специальный Верховный комитет, чья юрисдикция распространялась бы на всю империю. Все присутствующие одобрили это предложение и высказались за немедленное его создание.
Император обратился тогда лично к Лорис-Меликову и пригласил его высказаться. Генерал ответил, что он вполне соглашается с предложением наследника престола, однако добавил, что самое существенное — это немедленное проведение либеральных реформ по образцу западных государств:
— Теперь во всей Западной Европе ширятся коммунистические идеи, проникли они и к нам. Но единственный правильный способ бороться с ними — это улучшить условия жизни и дать людям больше свободы, создав либеральное правление. Это, я уверен, самое полезное и для России: гуманное, теплое отношение, я бы уточнил — сердечное управление…
Все слушали с большим вниманием этого героя войны с турками, который сумел привлечь к России симпатии населения Южного Дагестана, Дербента и Терской области еще в 1861–1875 годах. Говорил он, однако, без пафоса, иногда даже запинаясь, на своем ломаном русском языке, с сильным армянским акцентом. С тех пор члены Комитета прозвали Лорис-Меликова диктатором сердца».
Правда, судя по воспоминаниям А. Ф. Кони, такое прозвище дали не без ехидства скрытые недруги Лорис-Меликова. Но даже В. Николаев, с симпатией отзывающийся о нем, почему-то приписал этому выходцу из знатного армянского рода слабое знание русского языка. Ничего подобного не отмечали ни А. Ф. Кони, ни СЮ. Витте и другие, беседовавшие с Лорис-Меликовым. Он учился в Москве и Петербурге, занимался самообразованием и отлично владел русским языком.
Кони привел рассказ Лорис-Меликова: «Мой отец был человек полудикий, едва умел подписать свою фамилию по-армянски, а по-русски ничего не знал. Я рос правильно, но без всякого воспитания. На одиннадцатом году меня отвезли в Москву, в Лазаревский институт. Мне хотелось в университет, но там произошла какая-то история, и я очутился в Петербурге, в большой конюшне, как я называю юнкерское кавалерийское училище. Окончил и попал на Кавказ, адъютантом к Воронцову. Ему я обязан всем. Эти десять лет при нем были для меня школой жизни. Карьера пошла удивительно быстро… Приходилось бывать в обществе, не хотелось быть хуже других. Стал учиться, читать, думать, — не забывал и своего специального дела. А тут — эта война, Каре… Зовут затем „усмирять чуму“. Я Поволжья вовсе не знаю. Нет! Поезжай. А там — вдруг сатрапом на 12 миллионов в Харькове. Делай, что хочешь: судью застрели, губернатора сошли, директора гимназии повесь!! Едва успел оглядеться, вдуматься, научиться, вдруг — бац! — иди управлять уже всем государством….А людей в Петербурге я вовсе не знал. Я ведь человек окраины».
Странно было бы видеть в те времена губернатором, а затем генерал-адъютантом и крупным государственным деятелем человека, который делал доклады императору или выступал на Государственном совете, коверкая русские слова и с сильным акцентом. Вот бы потешались его многочисленные недруги! Он не знал столичных сановников и крупных чиновников, преимущественно людей хитрых, лицемерных, корыстных, а потому оставался на высоком посту только благоволением императора.
«Александр призадумался на несколько минут, — продолжает В. Николаев, — затем с благосклонной улыбкой сказал ему:
— Дорогой Михаил Тариелович, вот мое решение: назначаю Вас с сегодняшнего дня главным начальником предложенной наследником престола Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия…
С этого дня Лорис-Меликов стал фактически диктатором России. Его правление отмечено, с одной стороны, проектом либеральных реформ, а с другой стороны, строжайшими мерами против революционеров-террористов. В августе 1880 года император Александр упразднил существовавшую с февраля Верховную распорядительную комиссию и назначил Лорис-Меликова министром внутренних дел. В январе 1881 года он представил государю составленный им по указаниям самого Александра II проект конституции империи. Согласно этому проекту, предполагалось немедленно учредить временные подготовительные комиссии с участием земств и городов России и преобразовать губернское управление с участием в нем представителей всех общественных слоев страны, а также в корне изменить земское и городское управление, фактически предоставив им участие в управлении страной.
Конспираторы „Народной воли“ пришли в ужас от самих слухов об этих либеральных реформах: если Россия получит конституцию, полностью потеряет смысл вся их борьба и террор. Перовская и Желябов решили немедленно покончить с Лорис-Меликовым, инициатором всех этих реформ. Конечно, для закладки бомб не было теперь ни времени, ни возможностей.
Они приказали студенту, примкнувшему к ним, снабдив его револьвером, убить министра, когда он будет выходить из министерства и, как обычно, пешком пойдет в Зимний дворец на доклад к государю. Террорист, поджидавший Лорис-Меликова на тротуаре, выпустил ему в спину три пули, целясь точно в упор. Но, к счастью, все три пули застряли в его медвежьей шубе и бобровом воротнике. Храбрый генерал, человек атлетического сложения, несмотря на свои пятьдесят пять лет, погнался за убегающим, настиг его, ловким ударом кулака свалил на землю, выбил револьвер из его рук и скрутил ему правую руку, прижав его коленом к тротуару. В это время подоспела охрана и арестовала террориста. Вся Россия с восхищением комментировала этот подвиг Лорис-Меликова, популярность которого продолжала расти».
Об этом Михаил Тариелович — в передаче А. Ф. Кони — высказался так:
— Я имел полномочия объявлять по личному усмотрению высочайшие повеления. Ни один временщик — ни Меншиков, ни Бирон, ни Аракчеев — никогда не имели такой всеобъемлющей власти. А тут еще этот дурень Молодецкий сумел меня не убить, стреляя в упор. Это еще закрепило мое положение.
Доверие к нему императора укрепилось окончательно. И все-таки покушение на него, фактического диктатора, не представляло для террористов значительного интереса. Они, подобно азартным охотникам, выслеживали иную, самую крупную, единственную на свете добычу. Это стало для них, можно сказать, целью жизни. Вдобавок она поглощала усилия и средства организации. Террористы не желали от нее отказываться, невзирая ни на какие трудности и, конечно же, постоянно рискуя попасть на эшафот.
На эту акцию нацеливала их, пожалуй, сама сущность самодержавия. Ведь царь считался центральной опорой государственного строя, средоточием власти не только светской, но и церковной; фигурой мистической, избранником Божьим. За одну лишь подготовку покушения на него полагалась высшая мера наказания. Для террористов он был поистине «царской добычей», ради которой любые жертвы оправданы. Тем более после многих неудачных покушений.
Однако им теперь приходилось спешить. Они знали, что со дня на день ожидается указ императора о новых либеральных реформах. После этого покушение на него стало бы выглядеть как месть за эти преобразования, как выступление врагов демократии, жестоких и беспринципных убийц.
«Утром 28 февраля, — пишет В. Николаев, — Лорис-Меликов подал императору на подпись манифест, объявляющий, что делегаты, выбранные земствами, вне зависимости от своего классового происхождения или экономического положения, будут приглашены войти в преобразованный Государственный Совет. Это было историческое решение государя и, как правильно считали террористы „Народной воли“, — первый шаг к установлению в России парламентского правления. Государь дал свое согласие, чтобы манифест этот был немедленно опубликован во всех завтрашних утренних газетах.
Министр сообщил государю, что вождь террористов Андрей Желябов арестован накануне, но что Софья Перовская и остальные члены организации, около пятнадцати человек, все еще на свободе. Лорис-Меликов настаивал, что именно потому, что эта кучка опасных террористов „Народной воли“ все еще на свободе, государь не должен присутствовать в воскресенье на военном параде в Михайловском манеже.
Но Александр, смеясь, ответил министру, что он все же не может „оставаться пленником в своем собственном дворце“. Уже самое это отношение императора Александра к весьма обоснованным предупреждениям Лорис-Меликова показывает отважный характер царя и его бескомпромиссное решение не поддаваться запугиванию террористов, хотя он великолепно понимал всю рискованность своего поведения».
Словно неумолимый рок тяготел над императором. Правда, по воспоминаниям Екатерины Михайловны Юрьевской, перед отъездом Александр посетил ее и был в хорошем настроении. Но ее он по-прежнему любил, и встречи с ней доставляли ему радость, тогда как, может быть, в глубине души чувствовал усталость от тягот государственных дел и семейных неурядиц. Наследник престола Александр Александрович неодобрительно относился ко второй семье отца и его морганатическому браку с Екатериной Михайловной, а жены великих князей злобствовали против нее.
Поведение императора во время последнего покушения выглядит очень странно. Он словно испытывал судьбу… Однако еще более загадочны события, которые привели его к гибели: оплошности охраны, неоказание первой медицинской помощи… Впрочем, обо всем этом речь впереди.
ПОДГОТОВКА
Слабых духом неудачи угнетают, сильных — побуждают действовать с удвоенной энергией. Революционеры-террористы тяжело переживали провалы покушений на Александра II. Тем более что от взрыва на железной дороге после долгой и трудной подготовки в трех пунктах пострадали невинные люди.
И все-таки сразу же началась подготовка очередного покушения. Это была отчаянная решимость обреченных. Вокруг них все туже затягивалась петля слежки.
Была еще одна причина упорства террористов: реакция Православной церкви. Священники посвящали службы чудесному спасению царя и уверяли, что его хранит Бог. В народе распространялось такое же мнение. Получалось так, будто покушения только укрепляли самодержавие.
Александр II понимал, что на него ведется охота и жизнь его находится в постоянной опасности. Но что ему следовало делать? Он был заложником самодержавия. В его ближайшем окружении преобладали люди, уверенные в необходимости ужесточать репрессии против любых противников существующего строя — даже легальных. Правда, новый министр внутренних дел граф Лорис-Меликов готовил некоторые либеральные реформы, которые могли бы ослабить позиции революционеров. Однако противодействие таким новшествам было велико.
Как писал один из народовольцев (из небедных дворян) Аркадий Тырков: «Правительство всем своим режимом не только закрывало перед нами перспективы честной, открытой общественной деятельности, но своими жестокостями — казнями, учреждением генерал-губернаторств — слишком задевало, раздражало и вызывало желание дать ему немедленный отпор. И те, у кого душа болела, невольно шли к народовольцам. На эти элементы их пример действовал очень решительно…
Влияли дух партии и вся атмосфера жизни. Народовольцы слишком ярко выделялись на общем фоне равнодушия или добрых намерений. В их устах весь перечень хороших слов: служение народу, любовь к правде и т. д. — получали могучую силу живых двигателей. В этом причина их личного влияния на молодежь, не знающую компромиссов».
Надо лишь иметь в виду, что такое влияние даже в среде студенческой молодежи было не слишком велико, а студентов в царской России было весьма мало. Сила революционеров-террористов была в их слабости, в их ничтожном количестве по отношению к населению страны, а потому в их тщательной конспиративности. Власти делали все возможное, чтобы выловить и наказать террористов. Однако, несмотря на колоссальные возможности полиции, жандармов (с помощью дворников), органов дознания, бороться с небольшой тайной организацией, не имеющей ни корней, ни популярности в народе, было необычайно трудно.
…С осени 1880 года под руководством Софьи Перовской террористы установили ежедневное наблюдение за выездами царя, чтобы точно знать, когда, по каким улицам и с какой регулярностью он проезжает по Петербургу. С этой целью по определенному расписанию выходили на дежурство два наблюдателя (всего их было шестеро). Каждый день они менялись для того, чтобы агенты полиции не могли обратить на них внимание.
Раз в неделю проводили собрание отряда. Софья Перовская записывала результаты наблюдений. Она и сама участвовала в них.
Выезд Александра II был продуман так, чтобы у террористов не было возможности организовать покушение. Быстро проезжавшую царскую закрытую карету окружали шесть всадников конвоя. Двое из них прикрывали собой дверцы кареты.
Через некоторое время наблюдатели установили, что царь по будням обычно выезжает из дворца около половины второго, направляясь в Летний сад. Оттуда он либо возвращался во дворец, либо отправлялся куда-нибудь по разным маршрутам, которые никогда подряд не повторялись.
По воскресеньям государь ездил в Михайловский манеж на развод — сначала по Невскому проспекту, а оттуда по разным улицам, но чаще всего по Малой Садовой. Эти выезды совершались с пунктуальной точностью. Из манежа царь также возвращался чаще всего мимо Михайловского театра по Екатерининскому каналу. На всем пути можно было заметить многих людей в штатском, похожих на охранников и сыщиков.
Перовская отметила: на повороте от Михайловского театра на Екатерининский канал кучер придерживает лошадей, а карета движется медленно. Это место было признано наиболее удобным для покушения. Тем более что здесь немного бывает прохожих, и мало шансов, что пострадают случайные люди.
Исполнительный комитет решил подготовить два варианта цареубийства: с помощью бомб, которые должны были бросить четыре человека, и подрывом мины.
Первый вариант был труден для исполнения прежде всего из-за охраны, сопровождающей царскую карету, и большого количества полицейских, жандармов и агентов в штатском, которые находились на улицах, по которым проезжал император. Предполагалось четыре метателя бомб: по двое с двух сторон улицы. Если бы эти взрывы не привели к желаемому результату, то Андрей Желябов, пользуясь суматохой, должен был броситься с кинжалом на государя и убить его.
Второй вариант представлялся хотя и более трудоемким, но наиболее надежным (во всяком случае, по мнению Николая Кибальчича). К тому же в этом случае у исполнителей было значительно больше шансов остаться в живых и не попасть в руки полицейских.
На Малой Садовой нашли свободное полуподвальное помещение в доме графа Менгдена. Его сняли за 1200 рублей в год под видом лавки, торгующей сыром. Хозяевами лавки Исполнительный комитет назначил Ю. Н. Богдановича и А. Я. Якимову под видом супругов Кобозевых. Для жилья использовали помещение рядом с лавкой с окнами на Малую Садовую.
Было ясно, что полиция тщательно проверяет тех, кто поселяется на улицах, по которым проезжает царь. Поэтому паспорт Кобозевых был дубликатом настоящего паспорта на мещанина с женой, проживавших в Воронеже. Полицейская проверка не обнаружила ничего подозрительного.
Подкоп решили вести из жилой комнаты, где наружная стена для защиты от сырости была заделана досками и оклеена обоями. Работы начали после 7 января. Окно комнаты тщательно занавешивали, чтобы с улицы не было видно света. Окна магазина были открыты, и с улицы была видна лампадка перед иконой Георгия Победоносца и разложенный на полках товар.
Деревянную обшивку стены перед началом работы выдвигали, а по окончании задвигали, тщательно соединяя обои. С трудом, избегая шума, пробили цементированную стену. Начали копать, но вскоре наткнулись на металлическую водопроводную трубу небольшого диаметра. Ее удалось обогнуть. Но затем на пути оказалась большая деревянная сточная труба. Снизу пройти ее было невозможно из-за грунтовых вод, а сверху — из-за опасности провала мостовой.
Выяснив, что труба полупустая, решили сделать в ней отверстие для прохода бурава и для продвижения сосуда с динамитом. Но только лишь прорезали трубу, распространилось ужасное зловоние. В дальнейшем пришлось работать в респираторах с ватой, пропитанной марганцем. Но и это помогало мало: приходилось часто сменяться. Работу вели осторожно, чтобы шум не был слышен городовому, пост которого находился неподалеку. Использовали бурав, вращать который было нелегко. Всего пробивали подкоп 10 человек: Баранников, Дегаев, Желябов, Исаев, Колодкевич, Ланганс, Меркулов, Саблин, Суханов, Фроленко. (Судьба почти их всех была трагической, а жизнь — короткой.)
Итак, подземные работы продолжались. Вырытую землю складывали в подсобном помещении, засыпая углем и соломой. К 25 февраля подкоп был сделан. Оставалось только заложить в него мину в день покушения.
15 февраля наступил благоприятный момент: император проехал из Михайловского манежа по Малой Садовой. Однако, несмотря на то, что подкоп был готов, мину заложить не успели: карета промчалась слишком быстро.
Оставалось ждать другого момента. Однако обстоятельства складывались так, что приходилось спешить. 27 февраля Суханов сообщил, что заметил за собой слежку и с немалым трудом скрылся от шпика.
Вся террористическая операция оказалась на грани провала, когда Иван Окладский стал предателем. По его наводке был арестован на своей квартире член Исполкома «Народной воли» Михаил Тригони, а также пришедший к нему Желябов. Но от них жандармы ничего не узнали.
Хотя хозяин лавки «Кобозев» внешне вполне подходил на роль торговца (широкое лицо, борода лопатой, находчивая речь с прибаутками), но закупка сыров была скудная по причине нехватки денег, потому продажа не покрывала расходов (деньги тратила Софья Перовская, получавшая их от матери). За магазином полиция установила слежку. Однако ничего подозрительного заметить не удалось, если не считать посещения лавки Сухановым.
28 февраля лавку внимательно осмотрела, как пояснили, в технических и санитарных целях, странная комиссия: военный инженер К. О. Мравинский, пристав и его помощник. В присутствии «Кобозева» они прошли по квартире. Вот как рассказала об этом событии А. В. Якимова:
«Осмотр был в мое отсутствие. В магазине около задней стены была устроена деревянная обшивка в виде ящика с плотно заделанным досками верхом, на которой помещались выложенные из бочки сыры; осмотрев ее, Мравинский заметил, что крошки сыра могут падать в щели и там разлагаться. В лавке стояли большая бочка и кадки с землей, сверху хорошо прикрытые сырами. Мравинский удовлетворился заявлением Кобозева, что они наполнены сыром.
После поверхностного осмотра помещения лавки, где он видел, что наружные стены на улицу вполне целы, а под полом — вода и вести подкоп нельзя, он направился в нашу комнату, где уже внимательно осмотрел стены, спросил: „Зачем деревянная обшивка от пола до окна?“ — и удовлетворился объяснением Кобозева, что это сделано в предохранение от сырости. После этого пошли осмотреть задние помещения, выходившие на двор и служившие складочным местом для тары от сыров и сена, для каменного угля и прочих хозяйственных принадлежностей. Мравинский полюбопытствовал о назначении сена и пнул даже ногой сено и уголь, которыми, кстати, была прикрыта земля.
Пошли обратно, и в нашей комнате Мравинский остановился, посмотрел из окна на улицу, плотно облокотившись на деревянную обшивку и удостоверившись в ее крепости и неподвижности, как показалось Кобозеву, довольный вышел в лавку, где подвернулся ему наш кот, которого он ласково погладил, затем он попрощался с Кобозевым и удалился, говоря, что нужно еще на Малой Садовой осмотреть один подвал, что он и сделал, как оказалось потом».
Выходит, проводилась достаточно тщательная проверка всех сколько-нибудь подозрительных мест, откуда можно было вести подкоп под улицу, по которой проезжал император. Присутствие инженера и его поведение показывает, что было опасение именно подкопа.
«Я вернулась, — продолжила Якимова, — кажется, через час после этого визита. При входе кого-либо в магазин всегда раздавался звонок (помещение не отапливалось, мы сидели в комнате и выходили только при звонке), при звуке которого и в этот раз Кобозев, увидев меня в окно двери, выскочил из комнаты вприпрыжку и вприпляску мне навстречу, говоря: „У нас был обыск!“
Я думала, что он сошел с ума, так странно было видеть его пляшущим и говорящим об обыске. „Если бы это был обыск, ты бы теперь не плясал тут“, — сказала я ему. Рассказав мне подробно о всем случившемся, он отправился на Воскресенский проспект, в квартиру Исаева и В. Н. Фигнер, сообщить о происшедшем».
Надо заметить, что так называемый Кобозев великолепно сыграл свою роль, не выдал сильного волнения, которое он наверняка испытал при виде не только инженера, но и двух полицейских. Если бы его поведение вызвало подозрение у жандармов, наверняка пристально наблюдавших за ним, то начался бы тщательный и детальный обыск, были бы обнаружены груды грунта, а затем и подкоп.
В таком случае весь ход исторических событий получил бы иное направление. Не исключено, конечно, что революционеры успели бы осуществить хотя бы попытку расправиться с императором при помощи бомбометания. Но и в этом случае обстоятельства вряд ли сложились так, что покушение удалось.
На этом и множестве других примеров видно, насколько велика роль случая в истории государства и общественном развитии. Кроме того, весьма значительной может быть роль человека, которого никак не причислишь к историческим личностям, имя которого не упоминают солидные исторические хроники, а порой оно и вовсе остается неизвестным.
Судя по всему, террористы обдуманно или подсознательно стояли на таких позициях и стремились поразить ключевую, по их мнению, фигуру самодержавия, чтобы оно хотя бы пошатнулось, а то и рухнуло. Однако никто не мог заранее предугадать, какой конкретной личности отдать предпочтение: быть может, террористы более преуспели бы в своем деле, убив наследника престола, которому суждено было стать Александром III? Или реформатора Лорис-Меликова? Или консерватора Победоносцева? Или вообще торжественно объявили бы о прекращении своей террористической деятельности?
Короче говоря, вариантов было немало, и многие из них могли существенно повлиять на судьбу Российской империи. Вот только какой вариант наиболее целесообразен для целей революции, социалистических преобразований? Этого никто на свете не мог бы определить заранее. В том-то и заключается тайна будущего — как частного лица, так и государства: только задним числом можно судить о том, что могло бы произойти в том или ином случае, да и то предположительно. Будущее зависит от слишком большого числа событий, порой, казалось бы, совершенно ничтожных, непредсказуемых, связанных с поведением множества лиц.
Это еще не значит, будто вовсе невозможно предвидеть общие пути развития или деградации того или иного общества. На сравнительно небольшой срок такое вероятностное предвидение не исключено, так же как прогноз погоды на ближайшие дни, а то и недели. Но уже на месяцы, а тем более годы вперед такие прогнозы не имеют никакого сколько-нибудь надежного обоснования.
Стремясь убить императора, террористы действовали не из продуманного расчета на определенные последствия для страны, а прежде всего из эмоциональных побуждений, без более или менее ясных прогнозов на то, что может в результате произойти в государстве, обществе и надеясь, как говорится, на русский «авось».
Тем не менее покушение они готовили основательно, стараясь учитывать все случайности, а действовали оперативно. В тот же день, когда произошла проверка дома на Малой Садовой, созвали членов Исполнительного комитета, которых можно было быстро известить, и после недолгого совещания решили во что бы то ни стало назавтра провести террористический акт. Сюда же пришли четыре метальщика: Игнатий Гриневицкий, Иван Емельянов, Тимофей Михайлов и Николай Рысаков. Последний был самый молодой и вызывал сомнения у опытных террористов, но за него поручился Желябов.
Кибальчич с бомбометателями отправились в безлюдное место за Смольным монастырем, опробовали изготовленные им метательные снаряды. После этого он с помощниками на квартире Исаева и Фигнер привели в боевую готовность четыре бомбы. Работу закончили к восьми часам утра. Затем Кибальчич и Перовская принесли по две бомбы на Тележную улицу, 5, в квартиру Саблина и Геси Гельфман. Здесь же были метальщики, чтобы получить бомбы и указания от Софьи Перовской, какое место должен занять каждый при проезде Александра II.
В лавке на Малой Садовой решено было оставить только одну Якимову на случай, если туда зайдет кто-нибудь из полицейских. Кроме того, она должна была сидеть у окна и при появлении кареты царя дать знать об этом Михаилу Фроленко, который в нужный момент замкнет цепь гальванической батареи, после чего произойдет взрыв. Выбрали Фроленко потому, что он никогда в лавке не появлялся и в суматохе после взрыва мог смешаться с толпой и уйти.
«Обыкновенно приготовления к проезду царя, — писала Якимова, — начинались с 12 часов дня; к этому времени на обоих концах Малой Садовой появлялись конные жандармы, мало-помалу замирало движение и проезд по улице совсем прекращался, а по мере приближения царя позы жандармов на конях становились все напряженнее, и, наконец, они совсем как бы окаменевали. Так было и на этот раз. Фроленко совсем готов был сомкнуть провода с батареей, которая некоторое время и действовала, а я все свое внимание устремила на жандармов».
Как видим, и террористы, и царская охрана были начеку. Казалось бы, что может сделать горстка злоумышленников против хорошо организованной государственной системы полицейского надзора, вооруженных жандармов и сыщиков, а также причастных к этой системе дворников? За безопасность императора отвечали профессионалы.
Но теперь и революционеры-террористы стали профессионалами, в отличие от Дмитрия Каракозова и Александра Соловьева. С тех пор покушения на Александра II продумывалось детально, а исполнители действовали четко, оперативно и самоотверженно.
Как писала участница подготовки покушения Вера Фигнер: «Все наше прошлое и все наше революционное будущее было поставлено на карту в эту субботу, канун 1 марта: прошлое, в котором было шесть покушений на цареубийство и 21 смертная казнь, и которое мы хотели кончить, стряхнуть, забыть, и будущее — светлое и широкое, которое мы думали завоевать нашему поколению».
Да, было именно так. Эти люди не были похожи на мрачных злодеев, какими их рисовала царская пропаганда (теперь нередко пишут и говорят в том же духе). У них были светлые идеалы, ради которых они готовы были пожертвовать своими жизнями, а не только чужими. Они были личностями героическими, как бы ни оценивать их взгляды и поступки. Это понимали даже их враги, которым подчас тоже приходилось идти на риск. Только вот для предателей, трусов и приспособленцев герой — существо отвратительное и чрезвычайно опасное, ибо делает их жизнь ничтожной и никчемной.
«Между тем, — продолжала Вера Фигнер, — все было против нас: нашего хранителя — Клеточникова — мы потеряли; магазин был в величайшей опасности; Желябов, этот отважный товарищ, будущий руководитель метальщиков и одно из самых ответственных лиц в предполагаемом покушении, выпадал из замысла; его квартиру необходимо было тотчас же очистить и бросить, взяв запас нитроглицерина, который там хранился; квартира на Тележной, где должны были производиться все технические приспособления по взрыву и где сходились сигналисты и метальщики, оказалась… небезопасной, — за ней, по-видимому, следили, и в довершение всего мы с ужасом узнаем, что ни один из четырех снарядов не готов… А завтра — 1 марта, воскресенье, и царь может поехать по Садовой… Мина в подкоп не заложена».
Было около трех часов дня. Но, несмотря ни на что, постановили устроить покушение на следующий день. Из присутствовавших на совете десяти человек только один усомнился в таком решении. Работа продолжалась всю ночь. К утру мина и бомбы были готовы.
Днем Перовская, Рысаков и Гриневицкий встретились в кондитерской Андреева на Невском против Гостиного двора. Из них только Гриневицкий сохранял спокойствие. Вышли они порознь и встретились уже на месте покушения.
Есть свидетельства, как мы ранее отметили, что министр внутренних дел граф Лорис-Меликов предупредил царя о возможности покушения (поступили сведения о том, что оно подготавливается и намечено на эти дни). Однако Александр II не отменил свой обычный выезд.
Итак, Якимова внимательно следила за поведением конных жандармов на Малой Садовой. А они вдруг стали двигаться, переговариваться. По-видимому, царская охрана избрала другой его путь в Зимний дворец. Когда жандармы покинули свои посты, стало окончательно ясно, что теперь следует ожидать взрывов бомб, брошенных метальщиками.
Император не поехал по Садовой. Мину, заложенную там, взрывать не пришлось. Как чаще всего бывало, Александр II отправился в карете вдоль Екатерининского канала. Здесь его и поджидали террористы.
Один из метальщиков — Тимофей Михайлов, который должен был бросить первую бомбу, — не выдержал напряжения и вернулся домой. Оставшиеся трое ожидали сигнала Перовской, означавшего, что «объект» приближается. И вот она махнула белым платком…
КАК ЭТО БЫЛО
(Из «Дневника событий с 1 марта по 1 сентября 1881 года». СПб., 1882)
В этом официальном документе приведены материалы расследования покушения на императора на основе показаний свидетелей.
«Назначив на воскресенье развод, Государь рассчитывал провести обеденную пору в Аничковом дворце у Его Высочества Наследника Цесаревича Александра Александровича…
Около полудня начался съезд к Михайловскому манежу лиц военного звания. Чтобы не нарушать порядка и не затруднять разъезд экипажей возле манежа, были расставлены на Манежной площади конные жандармы… Проезд и проход для народа оставался по Большой Итальянской вдоль садика, который устроен посредине площади, против манежа. Конечно, все эти приготовления дали понять, что на этот раз Государь сам пожалует в манеж. Народ, всегда добивающийся чести лишний раз увидеть своего обожаемого Монарха и приветствовать Его, стал собираться… Полиция с большим трудом сохраняла свободным проезд-Развод прошел очень удачно. Государь Император был доволен всем происходящим и находился, по-видимому, в хорошем расположении духа. Окончился развод, и, поговорив немного с окружающими приближенными лицами, Государь вышел из манежа. Он сел в карету и, окруженный конвоем, изволил отправиться по Большой Итальянской улице, через Михайловскую площадь, во дворец Ее Императорского Высочества великой княгини Екатерины Михайловны…
Прежде чем мы будем продолжать рассказ, надрывающий сердце каждого человека, опишем то место, на котором случилось неслыханное злодеяние.
Набережная Екатерининского канала тянется совершенно прямо от Невского проспекта до набережной реки Мойки. (Далее следует подробное описание места происшествия. — Р.Б.)
Из лиц, находившихся на набережной по обязанностям службы, были следующие: вдоль стены Михайловского сада у ворот стояли подле лавочек вахтер дежурный и три дежурных дворника; по другую сторону проезда на панели, немного ближе к Театральному мосту, — городовой Памфил Минин с товарищем. На самом мосту стоял помощник пристава 1-го участка Казанской части Константин Петрович Максимов… Вместе с поручиком Максимовым на посту у Театрального моста находился околоточный надзиратель 1-го участка Казанской части Егор Галактионов, а в нескольких шагах — городовой Афанасьев.
Юнкер конвоя Его Величества Кайтов заведовал разъездами по Лебяжьему каналу и вдоль Дворцовой набережной, так как не было известно, по какому направлению будет возвращаться Государь из Михайловского манежа. Перед тем как Государю выехать на набережную, конвой с юнкером Кайтовым проехал мимо Театрального моста и повернул на Царицын луг вдоль балаганов».
Как видим, охрана Александра II была организована неплохо. У террористов, которые собирались бросить бомбы, было мало шансов сохранить свою жизнь в момент покушения или позже: скрыться они могли только в каких-то необычайно благоприятных обстоятельствах. В сущности, они были смертниками.
Только те, кто не дорожат своей жизнью, решатся на преступление в такой ситуации. Из трех таким оказался только один. Это решило судьбу императора. Ну а тот, кто не сознавал всей меры опасности, не понимал изначально своей обреченности, выдал своих соучастников.
Впрочем, продолжим цитировать «Дневник событий…» «Из лиц, которые находились на набережной от угла Инженерной до моста случайно, были следующие на различных местах: рабочий Назаров, который скалывал в одном месте лед здоровенным ломом; двое обойных подмастерьев, лет по шестнадцати, Федор Дьяконов и Орест Базырин; они шли по панели с Выборгской стороны от г. Овчинникова к своему хозяину Хазову и несли еще не отделанный диванчик или кушетку.
Крестьянский мальчик Николай Максимов Захаров, не более четырнадцати лет от роду; он служил на посылках в мясной лавке и нес теперь одному покупателю корзину с мясом на голове. Фельдшер лейб-гвардии Павловского полка Василий Горохов, уволенный в отпуск по случаю воскресного дня, проходил по панели вдоль решетки, чтобы выйти на Невский. Учитель музыки при женском Патриотическом институте, французский подданный, Юлийбери Кипри также подходил из-за Мойки. Солдатка Авдотья Давыдова была именинницею и шла с Петербургской стороны к своей куме в гости; эта здоровая женщина лет тридцати восьми занималась стиркою белья и жила в Новой Деревне на Черной речке. Дьяконов, Базырин, Захаров и Давыдова были почти рядом, а Горохов был впереди. Наконец, двое или трое неизвестных мужчин».
Судя по этому перечню, полицейские и жандармы действовали оперативно, задержали и допросили практически всех, кто находился близ места покушения. Это еще раз доказывает, что у преступников практически не было шансов скрыться.
«Его Величество изволил выехать из ворот Михайловского дворца. Завтрак у великой княгини Екатерины Михайловны окончился, и Государь возвращался в Зимний дворец… сказав кучеру:
— Тою же дорогою — домой.
Карета Государя направилась по Инженерной улице и затем повернула направо, по набережной Екатерининского канала; унтер-офицер Мачнев сидел на козлах, а конные казаки ехали в следующем порядке: впереди кареты Илья Федоров и Артемий Пожаров, у правой дверцы — Михаил Луценко, а сзади его — Никифор Сагеев, у левой дверцы — Иван Олейников, а за ним Александр Малеичев. Вслед за экипажем Государя ехал в санях, запряженных парою впристяжку, полицмейстер 1-го отделения полковник Дворжицкий, и за ним — начальник охранной стражи отдельного корпуса жандармов капитан Кох и командир лейб-гвардии Терского казачьего эскадрона ротмистр Кулебякин в отдельных санях, запряженных в одиночку…
Карета двинулась к Екатерининскому каналу крупной рысью; не доезжая 150 шагов до угла, Государь обогнал возвращавшийся с манежа после развода караул 8-го флотского экипажа, в числе 17 человек, под командою мичмана Ержиковича; караул отдал Его Величеству установленную честь.
Карета повернула направо по Екатерининскому каналу и ехала так шибко, что казачьи лошади принуждены были скакать…
Фельдшер Василий Горохов шел по набережной и вскоре обогнал неизвестного мужчину, у которого в согнутой кверху руке был маленький белый узелок. Не обращая внимания на незнакомца, Горохов шел быстро вперед и, перегнав его шагов на пятнадцать, увидел выезжавшую из инженерной улицы карету Государя Императора, окруженную казаками.
Так как карета ехала навстречу Горохову, то последний остановился для отдания воинской чести Его Величеству. При этом он заметил случайно, что человек, которого он обогнал, также остановился, не дойдя до него шагов шести; только неизвестный стал ближе к краю панели, а Горохов — подле самой решетки. Впереди Горохова шла солдатка Давыдова, которая остановилась рядом с Дьяконовым и Базыриным. Молодые подмастерья увидели карету.
— Царь едет! — сказал Дьяконов.
— Вон Государь едет! — подхватил Базырин.
В эту секунду к ним подошел Захаров. Он спустил корзину с головы и поставил ее подле себя на панель, а сам снял шапку. По его примеру Дьяконов и Базырин поставили свой диванчик тоже на панель и сняли свои шапки. По другую сторону проезда, у ворот ограды, стоял вахтер с дворниками и ожидали проезда Государя, а ближе к Театральному мосту стояли двое городовых.
Кучер Фрол правил бойкими конями, и карета быстро продвигалась вперед. Однако Государь Император успевал своим орлиным взглядом замечать стоящих людей. Он видел низкие поклоны трех мальчиков и женщины и ответил милостивою улыбкою; Он видел вытянувшегося военного фельдшера и изволил отвечать на его отдание чести, сам приложив руку под козырек».
Трудно сказать, насколько достоверна эта умилительная картина. Она представлена либо по предположениям авторов «Дневника событий…», либо по словам свидетелей, а у них под влиянием последовавших страшных событий много из мнимого могло выглядеть как реальное. Вряд ли все происходило именно так, как они показали или вообразил автор.
О том, что едет царь, можно было догадаться по его коляске, украшенной на дверцах гербами, по казачьему эскорту. Но мы знаем, что шторы на дверцах обычно были задернуты, а рядом скакал сопровождающий, да и вдобавок ко всему двигалась карета быстро. И если действительно были низкие поклоны случайных прохожих, то кто мог видеть милостивую улыбку на устах императора и то, как ответил он на «отдание чести» фельдшером?
«Проехал Государь, и счастливые подданные, проводив Его немного глазами, обратились к своим делам…
В это время был один час сорок пять минут пополудни.
Вдруг раздался оглушительный выстрел, как из пушки.
Этот выстрел раздался под задними колесами царской кареты. Неизвестный мужчина, стоявший в шести шагах от Горохова, на глазах дежурного вахтера Егорова, бросил свой белый узелок под карету в ту минуту, когда Государь Император проезжал мимо него. В ту же секунду под каретою произошел взрыв, и поднялось довольно густое облако белого дыма, а карету подбросило несколько от земли. Взрыв был настолько силен, что раздробил заднюю стенку экипажа Его Величества, оставил глубокий след на земле и поранил лошадей полковника Дворжицкого, который следовал тотчас же за каретою Государя Императора. О силе взрыва можно судить по воронкообразному углублению в промерзлой земле, это углубление имело аршин глубины и аршин с четвертью в диаметре (аршин — чуть более 71 см. — Р.Б.)
Как только раздался взрыв, весь царский поезд сразу остановился и как бы замер.
Крик ужаса раздался по набережной.
В этот момент место злодейства представляло такую картину. Один из казаков… Малеичев лежал мертвый несколько позади кареты, близ тротуара набережной (он был смертельно ранен и скончался в госпитале, что и засвидетельствовали врачи. — Р.Б.). Другой казак, сидевший на козлах возле кучера, Мачнев, склонился в изнеможении, судорожно ухватываясь за козлы. На самом тротуаре, шагах в тридцати позади, бился на земле и стонал Захаров, возле которого лежала большая корзина с мясом, — он был ранен осколком смертоносного снаряда. В нескольких шагах от него стоял, отвалившись на перилы канала, изнемогая, офицер, тоже раненый. Впереди падал на землю городовой. Тут же стояли, обезумев от страха, Базырин с Дьяконовым.
Облако дыма стало расходиться, и перепуганный Горохов увидел обоих, как только повернулся лицом к карете. В то же мгновение мимо него пробежал неизвестный человек, конечно без узелка в руках, и крича громко по временам:
— Держи! Держи!
Следом за неизвестным кинулся бежать городовой Василий Несговоров, который стоял со своим товарищем Мининым; за ним побежал и сам Горохов. В то время, когда неизвестный бежал мимо Захарова, этот мальчик кинул ему по ногам свою корзину с мясом, но не попал».
Этот эпизод, не подтвержденный другими показаниями, судя по всему, остается на совести авторов (или автора) данного документа. Трудно себе представить, что раненый мальчик, который «бился на земле и стонал», вдруг вскочил и проявил такую прыть.
«На дороге между тем стоял рабочий Назаров, перепуганный взрывом; когда он опомнился и пришел в себя, то увидел, что мимо него бежит какой-то мужчина, а за ним гонятся городовой и фельдшер, догадавшись, что это спасается преступник, Назаров понял, что он обязан помочь в ловле; долго не думая, он схватил свой лом и бросил очень ловко преступнику в ноги. Преступник споткнулся и упал в то время, когда городовой шагнул пошире и наступил ему на пятку».
И в этом случае создается впечатление о «художественном вымысле». Прежде было написано о «здоровенном ломе», которым скалывал лед Назаров. Как удалось бросить, да еще очень ловко, такой предмет? Им можно было ненароком сбить с ног полицейского.
Николаеву проще и легче было бы самому броситься наперерез беглецу. Не исключено, что он, давая показания, сочинил историю с ломом, чтобы не подумали, будто он бездействовал, не оказывая помощи полицейскому. Да тут еще одновременно с ломом, о который якобы споткнулся предполагаемый преступник, полицейский наступил ему на пятку. Такое совпадение слишком маловероятно.
Нетрудно заметить: составителям «Дневника…» надо было показать, что против террористов выступает русский народ: от мала до велика, от простого рабочего до, естественно, представителей власти.
Итак, преступник упал на руки лицом вниз. На него набросились полицейский и Горохов. Им на помощь подоспели два солдата Преображенского полка.
«Чувствуя в эту секунду, что его держат крепко и вырваться не представляется ни малейшей возможности, преступник быстро оглянулся и, увидя, вероятно в собравшейся вокруг толпе знакомое лицо, крикнул громко:
— Скажи отцу, что меня схватили!
Когда раздался взрыв, начальник охранной команды капитан Кох выскочил из саней в то же мгновенье и остановился на секунду, чтобы осмотреться и понять, что сделалось с Государем. Завидя сквозь расходящийся дым, что Государь выходит из кареты, он бросился было к Нему, но не успел пробежать и десяти шагов, как остановился. Навстречу ему бежал преступник, преследуемый городовым.
Лишь только городовой, Горохов и два преображенца схватили преступника, как капитан Кох подоспел к ним и левою рукою приподнял преступника за воротник пальто, а правою обнажил шашку, чтобы отклонить новое покушение преступника бежать и в то же время оградить его от расправы набегавшей постепенно разъяренной толпы…
Волною народа преступника и тех, кто держал его, почти прижало к решетке набережной канала. Между тем капитан Кох немедленно обратился к преступнику с вопросами.
— Это ты произвел взрыв?
— Я, ваше благородие, я произвел взрыв! — ответил преступник, посмотрев в его сторону.
На другой вопрос — о том, как звать его, — преступник ответил, что он мещанин Глазов родом из Вятской губернии.
Все рассказанное нами с того момента, как раздался взрыв под задними колесами кареты Государя, произошло не более как в продолжение двух-трех минут».
Далее подробно, вплоть до мелочей, дано описание кареты императора и ее повреждений (по-видимому, представлены сведения из протокола осмотра в процессе следствия). Странно, что при этом не упомянута весьма существенная деталь, позволяющая понять, почему от такого сильного взрыва почти непосредственно под тем местом, где сидел Александр II, он не пострадал.
Дело в том, что дно кареты было в целях безопасности прикрыто стальным листом. Но эта деталь считалась, по-видимому, секретной.
«Государь Император остался невредим, приказал кучеру остановить лошадей и, прежде чем Мачнев успел соскочить с козел, сам отворил левую дверцу и при помощи его вышел из кареты. Полковник Дворжицкий выскочил из саней и бросился к карете, где встретил выходящего из нее Государя. Государь вышел и перекрестился; в понятном волнении, он немного шатался. Первым вопросом Его Величества было:
— Схвачен ли преступник?
Полковник оглянулся и, видя, что в толпе уже держат кого-то, отвечал:
— Схвачен, Ваше Величество! — и при этом добавил: — Государь, благоволите сесть в мои сани и ехать немедленно во дворец.
— Хорошо, — отвечал Государь — но прежде покажи мне преступника.
И Его Величество направился к тому месту, где находился схваченный молодой человек. Но кроме полковника и казаков в эту минуту к Государю подоспели еще следующие лица. Когда раздался взрыв и клубы синего дыма покрыли карету, помощник пристава Максимов и околоточный надзиратель Галактионов инстинктивно бросились бегом со своего поста к месту происшествия. Максимов обогнал Галактионова и подбежал к карете, когда покойный Государь выходил уже из нее. Максимов заменил Мачнева и, слегка поддерживая Государя, направился к толпе, окружавшей преступника…
Бодрым и уверенным шагом входя на тротуар, Его Величество, поскользнувшись, оступился и стал падать, но конвойные Мачнев и Олейников успели поддержать Его; тогда же подошел к Государю ротмистр Кулебякин, который, видя собравшуюся возле злоумышленника толпу, руководимый чувством осторожности, просил Государя вернуться к карете, но Его Величество ничего на это не ответил и продолжал идти по прежнему направлению.
В это время на место происшествия успел прибежать взвод 8-го флотского экипажа, окруживший преступника, а за моряками, Шагах в 40, увидев приближающегося Государя, стал строиться фронтом, поперек дороги, взвод юнкеров Павловского училища. Множество разного звания людей, встревоженных оглушительным треском, полицейскими сигнальными свистками и криком: „В Государя стреляют!“ — сбежались туда же…
Капитан Кох утверждает, что Государь, приблизившись к преступнику, был от него в расстоянии не больше трех шагов. Он обратился к капитану Коху, указывая взглядом на преступника:
— Этот?
— Называет себя мещанином Грязновым, Ваше Величество, — ответил капитан, очевидно не расслышавший фамилии преступника.
Приблизившись еще на один шаг к преступнику, Государь твердым голосом, изобличавшим полное спокойствие и самообладание, произнес, взглянув в лицо задержанному:
— Хорош!
Квартирмейстер 8-го экипажа Иван Курышев слышал, как Государь обратился к преступнику со словами:
— Что тебе нужно от меня, безбожник?
После чего Государь поправил на себе за концы воротника шинель, и, как показалось Горохову, вместе с поправлением шинели Государь как бы погрозил преступнику указательным пальцем правой руки, а затем, повернувшись к нему спиною, пошел к своей карете по панели.
Во всяком случае, Его Величество оставался тут не более полуминуты и затем повернулся к месту взрыва. Полковник Дворжицкий шел впереди, с правой стороны Государя находился Мачнев, с левой — ротмистр Кулебякин. Полковник Дворжицкий снова стал настаивать, чтобы Государь спешил во дворец, но получил в ответ:
— Хорошо, но прежде покажи мне место взрыва.
Его Величество подошел к образовавшейся яме. На Его лице была улыбка. Он, видимо, был весь под влиянием благодарности к божественному промыслу. Кто тогда мог бы предполагать новую опасность?»
ЗАГАДОЧНЫЕ СТРАННОСТИ
На этом месте прервем рассказ, наводящий на некоторые размышления и сомнения. Странным выглядит поведение опытного полицмейстера Дворжицкого, обязанного охранять императора.
Представьте себе: брошена под карету императора бомба. Неужели преступник был один? Хорошо было известно не только жандармам и полиции, но едва ли не всем в государстве (об этом позаботились сами террористы-революционеры), что против самодержавия ведет жестокую борьбу тайная организация. Как гласили многочисленные прокламации, она приговорила Александра II к смертной казни.
Но если так, то следует ожидать присутствия в данном месте не одного, а группы сообщников, готовых ценой своей жизни покончить с императором. Как в таком случае должен поступить начальник охраны, имеющий высокий чин? Пользуясь присутствием моряков и солдат, необходимо оцепить место происшествия, не допуская никого постороннего приблизиться к императору.
Трудно сказать, почему так не поступил Дворжицкий. Судя по словам, свидетелей и его воспоминаниям, он не терял самообладания. Или его настолько ошеломило происходящее, что он забыл 6 своей обязанности, о совершенно необходимых и очевидных мерах предосторожности? Именно он должен был «предполагать новую опасность», сделав соответствующие распоряжения. Почему этого не произошло?
Этот вопрос остается без ответа. В тексте приведены только общие слова и эмоциональные высказывания:
«Государь остался совершенно невредим, был окружен преданными людьми, готовыми за Него умереть, злоумышленник находился в руках полиции; мог ли Он думать, что теперь ждет Его могила?»
Опять хочется возразить: да, Александр II мог об этом не подумать. Не исключено, что все это время он находился в состоянии легкого шока, контузии. При такой аварии он в той или иной степени должен был пострадать если не физически, то психически. В подобные моменты «преданные люди» обязаны не отделываться заверениями в своей беззаветной преданности, а предпринять конкретные действия.
«Едва только Его Величество успел сделать несколько шагов по тротуару канала по направлению к экипажу, как, по показанию крестьянина Петра Павлова и фельдшера Горохова, неизвестный человек лет 30-ти, стоявший боком, прислонясь к решетке, выждал приближение Государя на расстояние не более двух аршин, поднял руки вверх и бросил что-то к ногам Его Величества. В этот же миг (спустя не более 4–5 минут после первого взрыва) раздался новый, такой же оглушительный взрыв, взвился кверху столб из снега, мусора и осколков. Государь и лица, бывшие около Него, упали…
Невозможно воспроизвести во всех подробностях ужасную, потрясающую картину, которая представилась присутствующим, когда поднятый взрывом столб рассеялся. Двадцать человек, более или менее тяжело раненных, лежали у тротуара и на мостовой, некоторым из них удалось подняться, другие ползли, иные делали крайние усилия, чтобы освободиться из-под налегших на них при падении других лиц. Среди снега, мусора и крови виднелись остатки изорванной одежды, эполет, сабель и кровавые куски человеческого мяса. Адская сила, произведшая эти опустошения, не пощадила и Венценосца!.».
Снова приходится удивляться. Как же так получилось, что фельдшер Горохов более зорко следил за происходящим, чем самое ответственное лицо — полковник Дворжицкий? Как можно было допустить, чтобы император оказался один на один с преступником? До этого первым шел вроде бы Дворжицкий. Куда он делся? Почему отстал и не заметил нового злодея? А если заметил?..
Вот что рассказал Горохов, продолжавший держать первого преступника и не спускавший глаз с императора:
«Тут мне, как во сне, как бы в тумане, показалось, будто спешит сойти с тротуара на мостовую навстречу Государю какой-то молодой человек небольшого роста, и как будто я видел у него меховой воротник на пальто; затем, что если не от молодого человека, то, во всяком случае, от решетки канала что-то промелькнуло к самой ступне левой ноги Государя, — все это произошло в одно мгновение, после которого раздался оглушительный взрыв.
Как только раздался треск, Государь, окружавшие его офицеры, казаки, молодой человек, который мне показался, и народ поблизости — все сразу упали, точно всех сразу подкосило. За выстрелом на высоте выше человеческого роста образовался большой шар беловатого дыма, который, кружась, стал расходиться и распластываться книзу… Я видел, как Государь упал наперед, склонясь на правый бок, а за ним и правее Его точно в таком же положении, упал офицер с белыми погонами. Этот офицер спешил встать, но, еще чуть приподнявшись, потянулся через спину Государя и стал засматривать в лицо Ему. У этого офицера был сильно порван зад шинели, а шинель Государя в верхней части сползла на землю, а низ ее казался как бы закинутым вверх к воротнику, и тут, на снегу, виднелась кровь».
Судя по всему, человеком с белыми погонами был Дворжицкий. Значит, в это время он находился сзади и чуть в стороне от Александра II. Если у него был поврежден зад шинели, значит, в последний момент он отвернулся, стремясь уберечься от взрыва. Или это произошло случайно?
Почему он не шел впереди императора или рядом с ним? Почему не обратил внимания на подозрительного штатского молодого человека, стоящего невдалеке? Почему вообще Александра II не окружала плотная группа военных, которые все время находились в стороне?
Конечно, присутствующие на месте происшествия военные, жандармы, полицейские по собственной инициативе не могли создать «живое кольцо оцепления» вокруг императора. Они вообще могли не догадываться, что ему и теперь угрожает смертельная опасность. Но почему же полковник Дворжицкий, понимавший, что террорист вряд ли был одиночкой, не дал соответствующую команду?
Такая нераспорядительность опытного полицмейстера вызывает определенные сомнения. Вполне возможно, что Дворжицкий внимательно следил за поведением окружающих, заметил подозрительную личность, увидел в его руках предмет, похожий на завернутую в платок бомбу, и поспешил отпрянуть в сторону, что и спасло ему жизнь. (Он был ранен в руку и ногу, но всерьез не пострадал.)
Не исключено и более серьезное подозрение. Как настоящий неглупый профессионал (а, судя по его поведению на процессе Веры Засулич, весьма ловкий и коварный) полковник Дворжицкий должен был ожидать еще одного покушения на жизнь императора. По его словам, он предупредил Александра II об опасности. В таком случае странно, что он не сделал ничего, чтобы предотвратить трагедию.
Если в первом случае Дворжицкого можно было бы обвинить в малодушии, в нежелании жертвовать своим здоровьем или даже жизнью, спасая Государя, то во втором — это уже пассивное содействие преступлению, сознательное непринятие необходимых мер защиты охраняемого лица.
Обе высказанные версии не имеют веских доказательств. И все-таки вряд ли следует считать их совершенно невероятными. Многие из высших чинов Российской империи были недовольны либеральными реформами, которые подготовил граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов. Было известно, что буквально на днях Александр II, скорее всего, подпишет предлагаемый им указ.
Наследник престола вроде бы не был склонен идти на какие-то уступки не только революционерам, но и либералам. Убийство императора должно было бы резко изменить расстановку сил в руководстве страной, а Лорис-Меликов, перед которым вынуждены были лебезить сановники, завидуя ему, должен был бы отправиться в отставку.
Судя по его поведению в деле Боголюбова и после оправдания Веры Засулич, Дворжицкий был сторонником крутых мер по отношению к революционерам. В этом своем рвении он, пожалуй, не сознавал, что это его мнение отвечает целям террористов. А если и сознавал, то был убежден: искоренить «революционную заразу» можно только самыми жестокими методами, вплоть до провокаций (на которую он пошел, выпуская, вопреки указанию А. Ф. Кони, Веру Засулич на улицу, где толпились восторженные демонстранты и куда подтягивались отряды полицейских).
Впрочем, продолжим описание событий на основе показаний свидетелей:
«Из слов полковника А. И. Дворжицкого, штабс-капитана Франка, подпоручика Рудыковского и казака Луценко можно заключить, что вследствие раздробления обеих ног, Государь опустился на землю таким образом, что скорее присел, чем упал, откинувшись корпусом назад и инстинктивно стараясь только опереться руками о землю. От шинели Государя остался только воротник и не более полуаршина верха ее; вся остальная часть шинели была разметана взрывом, который был так силен, что на газовом фонаре все стекла исчезли и сам остов фонаря искривило. С головы Государя фуражка упала; разорванная в клочья шинель свалилась с плеч; размозженные ноги были голы, из них лилась кровь; на бледном лице следы крови и подтеки. При этом виде не только оставшиеся невредимыми, но и раненые бросились к Его Величеству; в числе первых, подавших Государю помощь, были полковник Дворжицкий, ротмистр Кулебякин, штабс-капитан Новиков и подпоручик Рудыковский, а также квартирмейстеры 3-го экипажа Курышев, Мякошин и Борисов и казаки Кузьменко и Луценко; десятки рук подняли его с земли. Приблизились юнкера Павловского училища».
Странно, что не упомянуто о том, какую первую помощь оказали пострадавшему. Ничего об этом не упомянул и другой свидетель, ротмистр П. Т. Кулебякин. Он показал:
«Воздух огласился страшным ударом, от которого я на несколько мгновений потерял сознание. Придя немного в себя, но все еще оглушенный и чувствуя сильную головную боль, я побежал бессознательно по направлению к царскому экипажу, с шинелью, истерзанной в клочки, с оторванною саблею, без шапки и неизвестно куда с мундира отлетевших орденов. Царский кучер Фрол на мой вопрос о государе ответил: „Государь ранен“. Взглянув затем левее экипажа, глазам моим представилась следующая ужасная картина. Государь, опустив руки, как будто машинально, на плечи лиц, поддерживающих его, был мертвенно бледен. Голова держалась совершенно прямо, но по лицу струилась кровь.
Глаза открыто выражали глубокие страдания. Обе ноги были обнажены и окровавлены, кровь ручьями лилась на землю. Обезумев от ужаса, я бросился в первые попавшиеся у Театрального моста сани и полетел к графу Лорис-Меликову доложить о случившемся».
И другие свидетели ничего не сказали об оказании первой помощи тяжело раненному императору. Судя по всему, ее не было. Хотя требовалось как можно быстрее остановить кровотечение, перевязать его израненные ноги. Неужели этого не знал Дворжицкий? Почему он не сделал это сам или не приказал сделать другим? Почему не крикнул, есть ли в толпе доктор?
Трудно поверить, что он ничего этого не предпринял по злому умыслу. Однако не исключена у него подсознательная установка: будь, что будет, как все идет, так и надо, таков Божий промысел, а уж новый император наведет порядок! Хотя проще всего предположить: он был настолько потрясен случившимся, да к тому же и ранен, что напрочь забыл, что надо сделать в первую очередь при таких страшных обстоятельствах.
«Вслед за юнкерами прибыл великий князь Михаил Николаевич. Он уехал из Михайловского дворца несколькими минутами позже Государя. Последовал второй взрыв, и великий князь нашел уже Государя распростертым на земле и плавающим в крови. Из его шинели и мундира были вырваны целые куски, разбросанные вокруг по земле. Присутствующие тут сыновья великого князя Михаила Николаевича подобрали их впоследствии. Михаил Николаевич встал на колени перед Братом, лежащим, по-видимому, без сознания, и мог только произнести:
— Ради Бога, Саша, что с тобою?
Государь, услышав столь знакомый и любимый им голос, сказал:
— Как можно скорее домой!
Вот последние слова, произнесенные Государем на набережной».
Так ли все было, трудно сказать. Судя по показаниям людей, которые были сразу после взрыва возле раненого императора, такая сцена если и могла быть, то не в тот момент, когда император лежал на земле, а когда его перенесли в сани.
Со слов штабс-капитана Новикова, одним из первых подбежавшего к раненому Александру II, ситуация после второго взрыва была такова:
«Снег был взрыт, усеян осколками и ранеными. Лежал убитый мальчик, раненый конвойный, еще кто-то, и тут же на снегу Государь, без шапки, без шинели, в мундире лейб-гвардии саперного батальона. Ноги были изломаны, одежда местами изорвана; кровь текла из ног, и кровавые пятна были на снегу. Господин Новиков заплакал и бросился к Государю со словами:
— Боже мой, что сделали с Вашим Величеством?
Государь лежал неподвижно. Подошли матросы флотского экипажа, и с их помощью г. Новиков поднял Государя, обхватив правою рукою по талии и левою по груди; матросы поддерживали ноги, не выпуская из рук ружей, с которыми они шли».
Как видим, Михаила Николаевича при этом не было. Не упомянут и террорист Иван Емельянов, который, как выяснилось, одним из первых подоспел к императору и помог нести его в сани. (Выходит, если бы Александр II был бы только контужен или легко ранен, а на месте Емельянова находился решительный и жестокий террорист, то ему не стоило большого труда исполнить смертный приговор, вынесенный Исполнительным комитетом.)
Дворжицкий вспоминал события после взрыва несколько иначе… Впрочем, об этом — чуть позже. Приведем его рассказ о том, что происходило в этот день, заслуживающий пристального внимания:
«В девять часов утра ужасного дня 1 марта 1881 года градоначальник генерал Федоров собрал к себе в квартиру всех полицмейстеров и участковых приставов и объявил нам, что все идет хорошо, что главные деятели анархистов Тригони и Желябов арестованы и только остается захватить двух-трех человек, чтобы окончить дело борьбы с крамолою, и что Государь Император и министр внутренних дел совершенно довольны деятельностью полиции».
Вновь какое-то странное указание градоначальника в то время, когда ожидается выезд императора, которого террористы приговорили к смертной казни и провели несколько неудавшихся покушений.
Было известно, что действует несколько групп отчаянных революционеров, а не отдельные одиночки. Многие оставались на свободе, и от них можно было ожидать нового покушения на Александра II. Казалось бы, столичных полицейских следовало призвать к повышенной бдительности, а тут — наоборот! Неужели градоначальник был так глуп? Не исключено, но вряд ли. Возникает подозрение, что он не был бы слишком огорчен, если бы произошло еще одно покушение, после которого были бы ужесточены действия против революционеров и либералов. Вот и Дворжицкий отметил:
«Несмотря на такую веру градоначальника в успешность подавления анархии, многие из нас остались в большом недоумении. Я лично, нисколько не разделяя высказанного нам градоначальником убеждения на основании тех обстоятельств, которые ему постоянно докладывались, счел обязанностью тотчас после речи генерала Федорова поехать к знакомому мне камергеру графу Перовскому, как человеку, близко стоящему к Их Императорским Величествам князьям Владимиру и Алексею Александровичам.
Сообщив графу о кажущемся мне тревожном положении в столице и рядом с этим о непонятном для меня спокойствии моего начальства, я просил графа Перовского доложить великому князю Владимиру Александровичу, что при настоящем кажущемся мне положении дела нельзя ручаться за безопасность Государя. Граф дал мне слово исполнить все в тот же день, но, к несчастью, через три часа двадцать минут мое заявление уже не имело более значения».
Судя по этим словам, Дворжицкий был предусмотрителен и не разделял оптимизма градоначальника. Если так, то нет оснований подозревать Дворжицкого в халатном отношении к своим обязанностям как начальника охраны императора…
Вот только приходится учитывать, что это свое свидетельство он сделал уже после событий, и вдобавок настойчиво подчеркивал нелепое «спокойствие» своего непосредственного начальника и свое с ним несогласие. Это похоже на стремление снять с себя вину за смерть Александра II. А если такое стремление есть, то и вина, хотя бы частичная, вполне возможна.
О покушении Дворжицкий рассказал так:
«По набережной канала кучер пустил лошадей полным ходом, но не успел проехать и ста сажен, как раздался оглушительный взрыв, от которого был сильно поврежден экипаж Государя и ранены два конвойных казака, мальчик-крестьянин и мои лошади. Проехав после взрыва еще несколько шагов, экипаж Его Величества остановился; я тотчас подбежал к карете Государя, помог ему выйти из кареты и доложил, что преступник задержан. Государь был совершенно спокоен. На вопрос мой Государю о состоянии его здоровья он ответил: „Слава Богу, я не ранен“.
Видя, что карета Государя повреждена, я решился предложить Его Величеству поехать в моих санях во дворец. На это мое предложение Государь сказал: „Хорошо, только покажите мне прежде преступника“. Кучер Фрол тоже просил Государя снова сесть в карету и ехать дальше, но Его Величество, не сказав ничего на просьбу кучера, повернулся и направился к тротуару, прилегающему к Екатерининскому каналу».
Странно, что наиболее разумное предложение сделал кучер, а не полковник полиции, у саней которого, как он ранее сообщил, были ранены лошади. Судя по зарисовке царской кареты после покушения, она была не сильно повреждена, и надо было убедить Александра II сесть в карету и скорее покинуть опасное место, где вполне могли находиться еще несколько террористов.
«…Преступник Рысаков находился от места взрыва шагов в двадцати, — продолжал Дворжицкий, — его держали четыре солдата, и тут же находился начальник охранной стражи капитан Кох. Подойдя к преступнику, я, по указанию державших его солдат, вынул у него из-за борта на левую сторону застегнутого пальто револьвер и взял от солдата небольшой кинжал с позолотою, который он обнаружил в левом кармане пальто преступника. То и другое оружие я предъявил Государю.
Его Величество не сказал ни слова, повернулся налево (Государь стоял спиной к решетке канала) и медленно направился в сторону Театрального моста. В это время Его Величество был окружен с одной стороны взводом 8-го флотского экипажа, а с другой стороны конвойными казаками. Тут я вторично позволил себе обратиться к Государю с просьбою сесть в сани и уехать, но он остановился, несколько задумался и затем ответил: „Хорошо, только прежде покажи мне место взрыва“.
Исполняя волю Государя, я повернулся наискось к месту взрыва, но не успел сделать трех шагов, как был оглушен новым взрывом, обожжен, ранен и свален на землю».
Вновь хочется задавать все те же вопросы. Почему Дворжицкий не распорядился окружить место, где находился император, плотным кольцом солдат, казаков, матросов? Ведь вокруг собралось немало постороннего народа, и среди них весьма вероятно могли находиться террористы. Почему Дворжицкий не объяснил Александру II, что опасность не миновала, а лишь усугубляется? Почему Дворжицкий не стоял возле него, а сделал шаг в сторону как раз в тот момент, когда преступник шагнул навстречу императору и бросил бомбу?
Повторю: странно, что Дворжицкий не заметил подозрительного молодого человека. Как опытный полицейский, он должен был внимательно посматривать по сторонам. Ведь раньше он писал, что не разделял оптимизма градоначальника. Почему же теперь, в такие напряженные минуты, когда опасность по-прежнему угрожала императору, полицмейстер оказался столь беспечным?
Судя по всему, Дворжицкий успел заметить злоумышленника, но не сделал ничего для спасения Государя, предпочтя спасти свою жизнь. У него могла мелькнуть мысль, что теперь последуют выстрелы… Впрочем, все это предположения. Вернемся к воспоминаниям Дворжицкого:
«Вдруг среди дыма и снежного тумана, я услышал слабый голос Его Величества: „Помоги!“. Собрав оставшиеся у меня силы, я вскочил на ноги и бросился к Государю. В первый момент я не мог уяснить себе его положения; Его Величество полусидел-полулежал, облокотившись о правую руку. Предполагая, что Государь только тяжело ранен, я приподнял его с земли и тут с ужасом увидел, что обе ноги Его Величества совершенно раздроблены и кровь из них сильно струилась. Не имея сил держать на руках Государя, уже дышавшего тяжело и потерявшего сознание, я крикнул о помощи».
Не совсем ясно, как мог он держать на руках человека высокого, крепкого телосложения, тем более что у Дворжицкого, согласно медицинскому осмотру, было повреждено «сухожилие мышцы, сгибающей кисть правой руки». По-видимому, он только приподнял тяжело раненного императора (хотя и об этом никто из свидетелей не помнил). Вновь приходится недоумевать: почему Дворжицкий не приказал крепко перевязать изувеченные ноги Александра II, видя, что кровь хлещет ручьями, и если так будет продолжаться, то пострадавший скончается от потери крови?!
«При содействии подбежавших лиц, — продолжил он, — мы понесли Государя к его карете. (По свидетельству штабс-капитана Новикова, приведенному выше, Дворжицкого не было среди тех, кто нес раненого императора. — Р.Б.) В это время подбежал только что приехавший к месту происшествия великий князь Михаил Николаевич. Он спросил меня, что с Государем. Я ответил, что от первого взрыва Бог его спас, а вторым взрывом тяжело ранен. В карету оказалось невозможным положить Государя, почему он был положен в мои сани и в сопровождении Великого князя Михаила Николаевича отвезен в Зимний дворец. Окончательная потеря моих сил лишила меня возможности сослужить последнюю службу Государю Императору — довезти его до дворца».
Согласно показаниям пристава Степанова, он увидел Дворжицкого, который «стоял у извозчичьих саней без шапки; шинель свалилась на одно плечо, лицо и губы были забрызганы кровью, из левого уха и затылка сильно сочилась кровь, а правая рука в кисти и вся перчатка совершенно были залиты запекшейся кровью. Ухватившись за задок саней, он силился сесть в сани, но не мог, потому что правою рукою не владел».
Итак, после первого взрыва Александр II мог сесть в свою карету и покинуть опасное место. Все дальнейшее происходило с какой-то роковой неизбежностью, словно сам император шел навстречу своей смерти, а рядом не было того человека, кто мог бы предотвратить трагический финал. Правда, его сопровождал полковник Дворжицкий, который по каким-то причинам не справился с возложенными на него обязанностями.
В «Дневнике событий…» сказано: «Когда Его Величество был поднят у подъезда на руки, то оказалась в санях такая масса крови, вылившейся из ран, что ее пришлось потом выливать». Но и раньше император истекал кровью, поэтому, вне всякого сомнения, при таких обстоятельствах он не мог остаться в живых (успешные опыты по переливанию крови стали производить через полвека). Вот и в воспоминаниях М. Ф. Фроленко подчеркнуто: «Не перевязав раны, Александра II повезли во дворец».
Снова и снова остается только удивляться, почему ему не была оказана срочно простейшая первая помощь: тугая перевязка ног для предотвращения потери крови. Единственным оправданием для всех, кто был в это время возле него, может служить полная растерянность. Например, Дворжицкий из-за своих ран и контузии мог плохо соображать (хотя в своих воспоминаниях он об этом не упоминает).
Возможно, в официальном описании событий, связанных с убийством императора, специально обошли молчанием то, что относилось к поведению жандармского полковника в момент, предшествовавший второму взрыву. Согласно одной из версий, когда император направился осмотреть место взрыва, стоявший за фонарным столбом Гриневицкий быстро пошел ему навстречу. Наперерез ему бросились казаки. Полицмейстер попытался вытащить свой револьвер (однако при этом не стал прикрывать охраняемое лицо, а отступил в сторону). Но тут прогремел взрыв…
Мне кажется, историкам следует обстоятельно обдумать обстоятельства гибели императора. Вряд ли были злонамеренные действия со стороны начальника Первого отделения Петербургской полиции Андриана Ивановича Дворжицкого (1830–1887). Но ведь в некоторых случаях поведение человека в экстремальных ситуациях основывается на подсознательных установках. Не секрет, что категорически против проведения Александром II новых либеральных реформ были влиятельные фигуры из его окружения.
…Мать великого князя Александра Михайловича (из его «Книги воспоминаний») вряд ли случайно призналась в феврале 1881 года:
— Я не боюсь ни офицеров, ни солдат, но я не верю полиции…
БЛАГОРОДСТВО И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
По свидетельству Аркадия Владимировича Тыркова (1859–1924), участника покушения, сосланного в Сибирь: «В самый день 1 марта Петровская назначила мне свидание в маленькой кофейной на Владимирской улице, близ Невского… Свидание было назначено в начале четвертого часа… К назначенному часу я шел на свидание издалека, от Таврического сада… На Итальянской, недалеко от Литейной, я встретил офицера, мчавшегося чуть не стоя на извозчике. Он громко и возбужденно кричал, обращаясь к проходившей публике. Я, конечно, понял, в чем дело.
Придя в кофейную, я прошел в маленькую заднюю комнату, в которой и раньше встречался с Перовской. Комната эта бывала обыкновенно пуста. Я застал в ней студента С., члена наблюдательного отряда. Он тоже ждал Перовскую. Вскоре дверь отворилась, и она вошла своими тихими, неслышными шагами. По ее лицу нельзя было заметить волнения, хотя она пришла прямо с места катастрофы, как всегда, она была серьезно-сосредоточенна, с оттенком грусти. Мы сели за один столик, и хотя были одни в этой полутемной комнате, но соблюдали осторожность.
Первыми ее словами было: „Кажется, удачно; если не убит, то тяжело ранен“. На мой вопрос: „Как, кто это сделал?“ — она ответила: „Бросили бомбы сперва Николай, потом Котик (Гриневицкий). Николай арестован; Котик, кажется, убит“.
Разговор шел короткими фразами, постоянно обрываясь. Минута была очень тяжелая. В такие моменты испытываешь только зародыши чувств и глушишь их в самом зачатке. Меня душили подступавшие к горлу слезы…
Перовская передала мне потом маленькую подробность о Гриневицком. Прежде чем отправиться на канал, она, Рысаков и Гриневицкий сидели в кондитерской Андреева, помещавшейся на Невском против Гостиного двора, в подвальном этаже, и ждали момента, когда пора будет выходить. Один только Гриневицкий мог спокойно съесть поданную ему порцию. Из кондитерской они пошли врозь и опять встретились уже на канале. Там, проходя мимо Перовской, уже по направлению к роковому месту, он тихонько улыбнулся ей чуть заметной улыбкой. Он не проявил ни тени страха или волнения и шел на смерть с совершенно спокойной душой.
По словам Емельянова, Тимофей Михайлов должен был бросить первую бомбу, но он будто бы почувствовал себя не в силах это сделать, и у него хватило характера вернуться домой, не дойдя до места. Вследствие этого номера метальщиков перепутались, и около кареты царя первым оказался Рысаков».
О том, как действовали революционеры после покушения, рассказала Анна Павловна Корба (1849–1939) или Прибылова-Корба, арестованная в июне 1882 года и осужденная на 20 лет каторги:
«1 марта часа в четыре пополудни, Исполнительный комитет собрался на конспиративной квартире у Вознесенского моста… Предстояло тотчас опубликовать извещение о факте 1 марта. Тихомиров, который исполнял, так сказать, роль статс-секретаря Комитета, удалился в соседнюю комнату, где им была написана прокламация».
Интересные метаморфозы произошли с Львом Тихомировым, одним из наиболее активных идеологов терроризма, позже ставшим монархистом. А 1 марта 1881 года он писал в прокламации: «Отныне вся Россия может убедиться, что настойчивое и упорное ведение борьбы способно сломить даже вековой деспотизм Романовых… Всем известно, что тиран не обратил внимания на все предостережения, продолжая прежнюю политику. Он не мог воздержаться даже от казней, даже таких возмутительно несправедливых, как казнь Квятковского». (27-летний Александр Квятковсий был казнен в ноябре 1880 года только лишь за участие в подготовке покушения на царя.)
«Напоминаем Александру III, — продолжал Тихомиров, — что всякий насилователь воли народа есть народный враг и тиран. Смерть Александра II показала, какого возмездия достойна такая роль… Только широкая энергичная самодеятельность народа, только активная борьба всех честных граждан против деспотизма может вывести Россию на путь свободного и самостоятельного развития».
Все это были лишь громкие слова и пустые угрозы. В тот же день выяснилось, что смерть императора не вызвала в столице никакого брожения, если не считать, что кое-где принимались бить студентов как опасных злодеев.
Прокламацию Исполнительного комитета, написанную Тихомировым, отпечатали в тайной типографии, и эти листки в немалом количестве были расклеены и разбросаны по городу. Однако у горожан эти призывы не вызвали вспышку энтузиазма, а власти лишь активизировали поиски оставшихся на свободе революционеров-террористов и их типографии.
Члена Исполнительного комитета и работника подпольной типографии Григория Исаева арестовали 1 апреля на улице. Чтобы узнать, где он живет, для его опознания вызывали дворников со всего города. Заодно призвали всех добровольцев. Это шествие любопытствующих поглазеть на государственного преступника надоело Исаеву; его поставили на стул и держали так несколько часов. И когда к нему приблизился почтенный купец, Исаев горячо приветствовал его, как старого знакомого:
— А, здравствуйте, здравствуйте! Как поживаете? Купец остолбенел, а злоумышленник продолжал:
— Не помните ли, как я книги-то запрещенные приносил к вам прятать, забыли?!
Исаев не выдал квартиры, где он жил и где оставались еще кое-какие партийные документы. Но и без того в ближайшие недели охранка арестовала многих из тех, кто прямо или косвенно был причастен к покушению на царя. Наиболее подробные показания дал Рысаков. Он готов был погубить десятки своих бывших товарищей, лишь бы продлить свою жизнь.
…В день убийства императора Андрей Желябов находился в Доме предварительного заключения. Узнав об этом событии, а также об аресте Николая Рысакова, он 2 марта написал на имя прокурора Петербургской судебной палаты заявление:
«Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы; если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. Прошу дать ход моему заявлению.
Андрей Желябов. 2 марта 1881 г.
P. S. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две.
Андрей Желябов».
На то время у полиции не было улик о причастности его к покушению на царя. 3 марта Перовская и Тырков на Невском купили газету с новым правительственным сообщением. В нем говорилось, что ранее арестованный Желябов признал себя организатором убийства царя.
Узнав о его заявлении, Перовская (они любили друг друга) была ошеломлена. Тырков в недоумении спросил ее:
— Зачем он это сделал?
— Верно, так нужно было, — тихо ответила она.
Судя по всему, Желябов брал всю вину на себя в надежде, что тем самым, возможно, избавит от смерти Рысакова и направит полицию на ложный след. (Он не знал, что виселиц будет не две, а больше. Не догадывался и о том, что тот, кого он назвал «юным героем», таковым вовсе не являлся, став предателем.) Ему все равно грозило суровое наказание, и в таком случае, не лучше ли посмертная слава тираноборца, чем заурядного террориста? Но главное — он написал правду.
Товарищи уговаривали Перовскую покинуть Петербург хотя бы на время. Но она решила во что бы то ни стало освободить Желябова, надеясь организовать нападение на конвой или взорвать бомбу в здании Окружного суда во время заседания… Ее несбыточные нелепые проекты показывали, насколько потрясли ее признания возлюбленного.
В Петербурге начались массовые обыски и аресты. Порой в Дом предварительного заключения отвозили даже тех из революционеров, на которых в полиции не могло быть никаких компрометирующих материалов. В частности, полицейские ворвались в квартиру члена Исполнительного комитета Николая Саблина, хранившего взрывчатку. Он попытался отстреливаться и застрелился. По-видимому, опасался, что на допросах может, не выдержав давления и мучений, выдать кого-нибудь из товарищей.
Жившая вместе с ним Геся Гельфман была арестована.
Теперь народовольцам стало ясно, что обыски и аресты проводились но вполне определенным сведениям, которые получила полиция. От кого? Это оставалось неясно. Позже выяснилось, что предал их всех Рысаков.
Он был самым молодым из участников покушения и не имел опыта революционной работы. Он стал цареубийцей сознательно, хотя среди прочих террористов был человеком случайным. По-видимому, его увлекала романтика тайной организации и азарт охоты за «царской добычей».
Осенью 1880 года Исполнительному комитету сообщили, что студент Горного института Рысаков готов принять участие в террористических актах. Узнав, что ему всего 19 лет, члены комитета ответили отказом. Но рекомендовавшие его народовольцы ручались за него и предложили провести проверку. Ему дважды поручали получить отправленные по подложным накладным из провинции части типографского оборудования. Он четко выполнил эти задания. Затем участвовал в «наблюдательном отряде», следившем за перемещениями Александра II по Петербургу.
Когда Тимофей Михайлов неожиданно отказался бросать бомбу, пришлось срочно искать ему замену. Вызвался Рысаков. Раздумывать было некогда. Он стал третьим «метальщиком».
Попал в руки опытных следователей, которые посетовали на его молодость, обращались с ним деликатно, а в беседах припугнули неизбежной скорой казнью через повешение. Только теперь Рысаков осознал опасность скорой своей смерти и пришел в ужас.
Ему пообещали отмену смертной казни за полные сведения обо всех злоумышленниках и явочных квартирах, которые ему известны. Рысаков был совершенно подавлен происходящим. Осознав безнадежность своего положения, он стал давать подробные показания. А память у него была слишком хорошая…
30 марта 1881 года он написал прошение о помиловании:
«Ваше Императорское Величество, всемилостивейший Государь! Вполне сознавая весь ужас злодеяния, совершенного мною под давлением чужой злой воли, я решаюсь всеподданнейше просить Ваше Величество даровать мне жизнь единственно для того, чтобы я имел возможность тягчайшими муками, хотя в некоторой степени искупить великий грех мой. Высшее судилище, на приговор которого я не дерзаю подать кассационную жалобу, может удостоверить, что, по убеждению самой обвинительной власти, я не был закоренелым извергом, но случайно вовлечен в преступление, находясь под влиянием других лиц, исключавшим всякую возможность сопротивления с моей стороны, как несовершеннолетнего юноши, не знавшего ни людей, ни жизни.
Умоляя о пощаде, ссылаюсь на Бога, в которого я всегда веровал и ныне верую, что я вовсе не помышляю о мимолетном страдании, сопряженном со смертной казнью, с мыслью о котором я свыкся почти в течение месяца моего заключения, но боюсь лишь немедленно предстать на страшный суд божий, не очистив моей души долгим покаянием. Поэтому и прошу не о даровании мне жизни, но об отсрочке моей смерти.
С чувством глубочайшего благоговения имею счастье именоваться до последних минут моей жизни Вашего Императорского Величества верноподданным. Николай Рысаков».
Аркадий Тырков, арестованный в ночь с 13 на 14 марта по оговору Рысакова, признавался, что ни разу не испытал к нему враждебного чувства: «Это был еще совсем юный, добродушный и жизнерадостный провинциал. Вчера — еще просто мальчик в самом разгаре, если так можно выразиться, своей непосредственности, сегодня — цареубийца… сам бросивший первую бомбу. Он видел кровь посторонних людей, пострадавших от его снаряда… Он видел толпу, сбегавшуюся к месту катастрофы, у которой в глазах был ужас пред совершившимся и негодование к нему, Рысакову… На суде, мне помнится, он говорил, что он совсем не террорист, а мирный деятель. Этим заявлением, наивным с первого взгляда, он не отрицал, конечно, факт метания бомбы, а отгонял от себя и от других мысль, что он может вообще убивать людей. Таким образом, не один только животный инстинкт самосохранения, а более сложный комплекс чувств душил его с такой силой, что лишил всякого самообладания и бросил целиком во власть чужой воли.
Рысаков был, как говорили, способный юноша, хорошо знал математику. Память у него была очень точная и, вероятно, развитое воображение. В нем ходила какая-то скрытая, не развернувшаяся еще силушка (к его приземистой, широкоплечей фигуре с большой головой это слово вполне применимо), но вся беда в том, что ему слишком рано дали такую ответственную роль…
Таких людей клеймят ужасным словом предатель, и этим исчерпываются все счеты с ним. Мне хотелось показать, что… он заслуживает только жалость, а не презрение».
Отдавая должное добрым чувствам благородного Тыркова по отношению к тому, кто выдал его, учтем свидетельство более убедительное — самого Рысакова. В прошении о помиловании он покривил душой. Написал, будто был вовлечен в преступление под воздействием чужой злой воли, сослался на свою веру в Бога и стремление покаяться. Однако он сам вызвался стать террористом. Где же его искренность в данном письме? Чувствуется голос духовно сломленной личности. Называет себя имеющим счастье считаться верноподданным императора, тогда как всего лишь месяц назад бросил бомбу под карету предыдущего царя…
2 апреля, накануне казни, Рысаков пишет еще одно, последнее показание, в отчаянной надежде убедить власти сохранить ему жизнь. Выдав уже всех, кого мог, он предлагает себя в агенты для выслеживания революционеров. Вот фрагменты его записки:
«Террор должен кончиться во что бы то ни стало. Общество и народ должны отдохнуть, осмотреться и вступить на мирный путь широкого развития гражданской жизни.
К этим мыслям меня привела тюрьма и агитационная практика.
Из нас, шести преступников, только я согласен словом и делом бороться против террора. Начало я уже положил, нужно продолжить и довести до конца, что я также отчасти, а пожалуй и всецело, могу сделать. <…> До сегодняшнего дня я выдавал товарищей, имея в виду истинное благо родины, а сегодня я товар, а вы купцы. Но клянусь вам Богом, что и сегодня мне честь дороже жизни, но клянусь и в том, что призрак террора меня пугает, и я даже согласен покрыть свое имя несмываемым позором, чтобы сделать все, что могу, против террора.
В С.-Петербурге, в числе нелегальных лиц, живет некто Григорий Исаев (карточка его известна, но он изменился), адреса его не знаю. Этот человек познакомил меня с Желябовым, раскрывшим предо мной широко дверь к преступлению. <…> По предложению Григория в субботу, в день бала у медиков-студентов, я вывез с вокзала Николаевской железной дороги [два ящика] с зеркалами, каждый по 4 пуда, в которых находился, как мне он объяснил, типографский станок. Точно нумер ломового извозчика не помню, но разыскать его могу вскоре. Довез станок по Садовой до Никольского рынка, где сдал Григорию. Если бы я воспроизвел некоторые сцены пред извозчиком, то он непременно бы вспомнил, куда свез два ящика с зеркалами.
Где живет Григорий, не знаю, но узнать, конечно, могу, особенно, если знаю, что ежедневно он проходит по Невскому с правой, от Адмиралтейства, стороны. Если за ним последить, не торопясь его арестовать, можно сделать весьма хорошие открытия: 1) найти типографию, 2) динамитную мастерскую, 3) несколько „ветеранов революции“. <…> Я предлагаю так: дать мне год или полтора свободы для того, чтобы действовать не оговором, а выдачей из рук в руки террористов. Мой же оговор настолько незначителен, знания мои неясны, что ими я не заслужу помилования. Для вас же полезнее не содержать меня в тюрьме, а дать некий срок свободы, чтобы я мог приложить к практике мои конспиративные способности, только в ином направлении, чем прежде. Поверьте, что я по опыту знаю негодность ваших агентов. Ведь Тележную-то улицу я назвал прокурору Добржинскому. По истечении этого срока умоляю о поселении на каторге, или на Сахалине, или в Сибири. Убежать я от вас не могу — настоящее мое имя получило всесветную печальную известность. Одним словом, в случае неустойки с моей стороны, не больше как чрез неделю я снова в ваших руках. Намечу вам свой план:
1) По Невскому я встречу чрез 3–4 дня Григория и прослежу за ним все, что возможно, записав сведения и представив по начальству.
2) Коновкин, после моего ареста перешедший на нелегальное положение, даст мне новую нить. Я его узнаю вскоре на Васильевском острове, куда он часто ходит.
3) Кондитерская Кочкурова, Андреева, Исаева и т. п. столкнет меня с Верой Филипповой, урожденной Фигнер, и по ней я могу наткнуться на многие конспиративные квартиры. <…>
6) Постоянные прогулки и обеды в столовой на Казанской площади и у Тупицына, вечернее чаепитие в известных мне трактирах, а также слежение за квартирами общих знакомых наведут меня на столкновение с лицами, известными мне только по наружности, каких я имею около 10 человек. Одним словом, возможно, лично мне в течение месяца-полутора открыть в С.-Петербурге большую часть заговора, в том числе наверное типографию и, пожалуй, две-три квартиры. Вы представьте себе то, что ведь я имею массу рабочих, с которыми совещается революционная интеллигенция. При этом я обязуюсь каждый день являться в ж[андармское] управление, но не в секретное, и заранее уславливаюсь, что содержание лучше получать каждый день. <…>
Пусть правительство предоставит мне возможность сделать все, что я смогу, для совершенного уничтожения террора, и я честно исполню его желание, не осмеливаясь даже и думать о каких-либо условиях, кроме тех, которые бы способствовали в агентстве. Себя вполне предоставляю в распоряжение верховной власти и каждому ее решению с благоговением покорюсь.
Николай Рысаков».
Григорий Исаев к этому времени был уже арестован. Жандармы использовали последнее показание Рысакова для его изобличения. Их не заинтересовали предложения предателя. Утром 3 апреля 1881 года его привезли на Семеновский плац вместе с А. И. Желябовым, С. Л. Перовской, Н. И. Кибальчичем и Т. М. Михайловым. И во время заключения, и приговоренные к смертной казни, и в последние свои мгновения все они, кроме Рысакова, вели себя мужественно. Кибальчич перед смертью составил схему реактивного летательного аппарата (она была обнаружена в жандармском архиве летом 1917 года). Этот молодой революционер, занимавшийся изготовлением взрывчатки, был талантливым изобретателем и незаурядным мыслителем.
Испытывать к Рысакову жалость, конечно, можно. Но и презрения он вполне достоин. Пытаясь продлить свою жизнь, он отправил на смерть несколько человек честных, мужественных и благородных, в отличие от него самого.
Наверняка с презрением относились к нему и следователи, и прокуроры, и судьи, не говоря уже о царе.
Его последнее письмо показывает, насколько жалок он был в последние недели жизни. А ведь писал, будто ему «честь дороже жизни». И тут же, словно находясь в забытьи, признался, что готов «покрыть свое имя несмываемым позором» (понимал, подлец!), продолжая и впредь оставаться предателем, — лишь бы ему сохранили жизнь.
Александр III без колебаний и сомнений отказал в помиловании такому человеку. Предателей не уважают даже те, с кем они сотрудничают.
Николай Рысаков, судя по всему, принадлежал к числу людей, имеющих завышенное самомнение, большое честолюбие и склонность к авантюрам при недостатке воли, а также, увы, совести. Он согласился стать цареубийцей не по идейным соображениям, а предал, обрекая на смерть, своих товарищей ради продления собственной жизни.
Психология предательства не так проста, как представляется на первый взгляд. Есть предатели от страха смерти (Рысаков, а в Великую Отечественную — генерал А. Власов). Другие не выдерживают пыток. Из третьих следователи ловко «выуживают» нужные им сведения. Так, Григорий Гольденберг, убийца генерал-губернатора Д. Н. Кропоткина, рассказал о некоторых своих товарищах, едва не сорвав покушение на Александра II.
В Петропавловской крепости с этим террористом встретился Лорис-Меликов и, между прочим, сообщил ему, что некоторые из выданных им товарищей будут наверняка казнены. Вряд ли это было сказано случайно. Осознав свой иудин грех, Гольденберг повесился в своей камере.
Но таких, раскаявшихся, увы, бывает слишком мало. Гаже всех те, кто стали предателями из выгоды. Отказавшийся по таким соображениям от присяги, данной царю, народу, партии, тайной организации, всегда найдет этому оправдание, прежде всего для самого себя, чтобы сохранить высокое самомнение. Вот и Рысаков утверждал, что выдавал товарищей ради блага родины (хотя лишь месяц назад ради того же участвовал в цареубийстве). Иуда Искариот тоже, конечно же, оправдывал свое предательство «высокими» религиозными и государственными соображениями. Так бывало всегда, так происходит и в наши дни — и не с единицами, а с тысячами, если не миллионами.
У Рысакова, в отличие от предателей из корысти и властолюбия, было одно смягчающее обстоятельство. Перед лицом смертельной опасности человек переходит, как говорят психологи, в измененное состояние сознания. Одни, сравнительно немногие, способны сохранять при этом здравый смысл, противодействовать волнению, панике, парализующему страху. Другие буквально перерождаются. Сильный, веселый, решительный парень вдруг садится на камни, отказываясь идти дальше по достаточно широкой тропинке по краю крутого склона, а робкая девушка, превозмогая себя, проходит опасный участок.
С Рысаковым произошло подобное перерождение. Его деморализовал ужас близкой смерти (к более или менее отдаленному сроку «высшей меры» все мы присуждены природой). Он перестал владеть собой. И все-таки приходится помнить: он стал предателем в самом позорном смысле этого клейма, надеясь продлить собственную жизнь и отправив на смерть нескольких своих товарищей.
Глава 4 ПОСЛЕДСТВИЯ
«ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ»
Случайный свидетель Шенберг, поспешивший после первого взрыва к месту происшествия, писал: «Передо мною, головами к решетке канала, лежали два умирающих: с левой стороны мальчик, со страшно обезображенным лицом и зияющей раною на виске, полуоткрывал и закрывал глаза; с правой — плотный мужчина с бородою, с окровавленною головою, с разбитыми ногами, без сапогов.
Страшные глаза его, налитые кровью, смотрели на мальчика. (Как это выяснилось теперь, это и был злодей, бросивший второй роковой метательный снаряд.) Между ними плита панели была взорвана, и на этом-то самом месте, между невинною жертвою, привлекшею милосердное внимание Царя-человека, и гнусным извергом, пал наш Отец, наш Освободитель.
По положению тела умирающего убийцы, которое у меня ясно запечатлелось, вернее всего предположить, что он подошел к Государю сзади (следовательно, он во время первого взрыва находился у забора сада великой княгини, в то время как Рысаков находился у решетки канала). Когда Император, осенив себя крестным знамением, подходил к раненому мальчику, тут только злодей бросил под ноги Царя адский снаряд, которым и его самого отбросило к решетке, между тем как Император упал, обливаясь кровью, между преступником и мальчиком».
У смертельно раненного террориста полицейские пытались узнать его имя, но не добились успеха. Он умирал мучительно и мужественно.
Игнатию Иоакимовичу Гриневицкому, названному Шенбергом «гнусным извергом» было всего 25 лет. Он стал одновременно и убийцей, и жертвой, и героем. Ему было ясно, что остаться в живых во время или после покушения на императора не удастся. В феврале 1881 года он написал завещание:
«…Александр II должен умереть. Дни его сочтены.
Мне или другому кому придется нанести страшный последний удар, который гулко раздастся по всей России и эхом откликнется в отдаленнейших уголках ее, — это покажет недалекое будущее.
Он умрет, а вместе с ним умрем и мы, его враги, его убийцы.
Это необходимо для дела свободы, так как тем самым значительно пошатнется то, что хитрые люди зовут правлением — монархическим, неограниченным, а мы — деспотизмом…
Что будет дальше?
Много ли еще жертв потребует наша несчастная, но дорогая родина от своих сынов для своего освобождения? Я боюсь… меня обреченного, стоящего одной ногой в могиле, пугает мысль, что впереди много еще дорогих жертв унесет борьба, а еще больше последняя смертельная схватка с деспотизмом, которая, я убежден в том, не особенно далека и которая зальет кровью поля и нивы нашей родины, так как — увы! — история показывает, что роскошное дерево свободы требует человеческих жертв.
Мне не придется участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества, но считаю, что своей смертью сделаю все, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете требовать не может.
Дело революционной партии — зажечь скопившийся уже горючий материал, бросить искру в порох и затем принять все меры к тому, чтобы возникшее движение кончилось победой, а не повальным истреблением лучших людей страны».
Его завещание звучит как пророчество. Да, потребовалось еще множество жертв, прежде чем было свергнуто самодержавие, а еще больше — для торжества в России-СССР идей социализма и коммунизма.
Другой «метатель» — Николай Иванович Рысаков, двадцати лет, — пытавшийся скрыться, после задержания находился в подавленном состоянии. О том, что происходило с ним, известно по показаниям фельдшера Василия Горохова:
«Когда мы опомнились после второго взрыва, то один из преображенцев с сердцем ударил по голове преступника, которого мы держали, сказав в это время вроде таких слов:
— Вот что вы, мерзавцы, делаете!
На это преступник сказал примерно такие слова:
— Не бейте, пожалуйста, ради Бога не бейте! Что это делается, после узнаете: вы ведь люди темные.
Как только тронулись сани, отвозившие Государя, к нам подошел городовой и сказал, чтобы мы вели преступника в участок… но какой-то офицер сказал, что следует его вести прямо к градоначальнику. Мы поставили преступника на ноги и повели его к Театральному мосту…
Еще с момента, когда Государя усаживали в сани, публика в разных местах стала на кого-то накидываться, кого-то бить, и раз кто кого ударит, то на него же накидывались другие и били его; таким образом, пока мы шли к мосту, видели кучи три-четыре народа, где падал один битый, на него падали бившие его, а тех в свою очередь били вновь подбегавшие».
Картина получается комическая. Такую вот вспышку народной активности и мордобоя вызвали трагические взрывы бомб террористов. Били «подозрительных лиц», не имевших никакого отношения к покушению, преимущественно студентов.
Судя по завещанию Игнатия Гриневицкого, он и не рассчитывал на скорую победу революции. А что имел в виду Рысаков, идя на преступление, остается только гадать.
«С самого начала нашего движения, — продолжал Горохов, — кто-то ударил ведомого преступника в живот; тут мы стали его охранять, но подбегавшие из публики все-таки подскакивали сзади и ударяли его по спине; преступник не мог оглядываться, так как мы его крепко держали, и постоянно просил, чтобы его не били».
Нет сомнения, что Рысаков был окончательно деморализован. Непонятно, как он представлял себе финал покушения. Возможно, ему в голову не приходила мысль о том, что придется не только рисковать жизнью, но и погибнуть или претерпеть страдания и смерть на виселице. Если он предполагал, что его после покушения встретит восторженная публика, то получилось как раз наоборот.
Когда его привели в одну из комнат дома градоначальника, то при обыске обнаружили помимо мелочей несколько завернутых в бумажку кристаллов (по-видимому, яд, которым он не воспользовался). На допросе он вскоре назвал свою настоящую фамилию и начал сообщать сведения о подготовке покушения.
«Во время допроса преступника угощали папиросами, а когда он заявил, что с утра ничего не ел, то ему подали ужин из нескольких блюд».
Третий «метальщик» — Иван Пантелеймонович Емельянов — держал пакет с бомбой под мышкой. Когда после второго взрыва Гриневицкий упал, Емельянов подбежал к нему, но, видя, что тот умирает, бросился помогать укладывать раненного императора в сани. Трудно сказать, была ли это хитрость террориста, желавшего остаться вне подозрений, или естественное желание помочь страдающему человеку.
После покушения он благополучно принес бомбу на конспиративную квартиру. Ему надо было срочно покинуть Петербург. Но уже начались аресты (по наводке Рысакова), некому было достать ему паспорт на другое имя и купить билет на поезд. Из-за своего высокого — под 2 метра — роста ему было невозможно затеряться в толпе (в те времена люди в среднем были почти на 10 см ниже нынешних). Был арестован на своей квартире 14 марта, на допросах держался достойно; был осужден на бессрочную каторгу.
По свидетельству Якимовой: «Исполнительный комитет думал оставить подкоп на Садовой улице для Александра III, но утром 3 марта узнали об аресте… Саблина и Геси Гельфман на Тележной ул., что можно было объяснить только предательством Рысакова. При таких условиях опасность могла грозить и нашей лавке, хотя Рысаков и не знал о ней, но имел указания на Малую Садовую. Потому было решено оставить магазин в тот же день, а нам с Богдановичем уехать из Петербурга.
С дневным поездом уехал Богданович. А я, заперев лавку вечером в обычное время и оставив ее снаружи в таком же виде, как прежде, т. е. зажегши перед Георгием Победоносцем лампадку и оставив на прилавке деньги с запиской, что эта сумма полагается мяснику за мясо, забранное для кота, вышла с маленьким узелком через задний ход в ворота двора, у которых дремал дворник. На квартире Исаева и Фигнер я преобразила свой внешний вид и через Смоленск уехала в Москву.
4 марта было обнаружено исчезновение Кобозевых. Приходили покупатели, а магазин был все закрыт и закрыт; наконец, дворники дали об этом знать полиции. При осмотре магазина полицией и судебным следователем во всех помещениях оказалась масса земли, даже в турецком диване жилой комнаты; тут же были найдены и орудия производства: лом с загнутой лопатой, приспособленной для выломки кирпича, буравы, лопатки… Отняли деревянную обшивку из-под окна жилой комнаты и обнаружили в стене расширяющееся отверстие… Саперами на улице были произведены раскопки и 5 марта извлечена мина… О всех новых открытиях сейчас же летели телеграммы во все концы.
Дорогой я много разговоров слышала о Кобозевых, а по приезде в Москву нашла все газеты переполненными всякими баснями о них и об их магазине. Чего-чего только не было в этих газетах! Оказывается, что чуть ли не все догадывались, что это были поддельные торговцы, так как и торговать-то не умели, и торговля была плохая, а Кобозев чересчур был боек и грамотен, имел красивый почерк; Кобозева вела несоответствующий образ жизни, курила папиросы, читала французские романы (французского языка я даже совсем не знала), а лучше всего то, что Кобозева была чуть ли не красавица. Вот на основании показаний очевидцев о красоте Кобозевой, на суде, когда нас в первый раз вводили в залу суда, обернувшись к двери, ожидали увидеть красивую мадам Кобозеву, а входит противоположность этому, и один адвокат так был поражен неожиданностью, что не смог скрыть своего впечатления и при взгляде на меня громко фыркнул. Столь же правдоподобны были и другие басни о Кобозевых».
На всех непосредственных участников исполнения дела 1 марта в более или менее непродолжительном времени обрушилась кара правительства, за исключением одного только Сидоренко, который оставался неизвестным как участник дела 1 марта до последнего времени (т. е. до 1927 года. — Р.Б.).
Судьба большинства непосредственных и косвенных участников подготовки и осуществления убийства императора Александра II была трагической.
Казнены: Андрей Желябов, Софья Перовская, Кибальчич, Михайлов, Рыжков.
Николай Суханов (1851–1882), лейтенант флота, казнен.
Геся Гельфман (1854–1882), Григорий Исаев (1857–1886) — умерли в заключении.
Николай Колодкевич (1850–1884), Мартын Ланганс (1852–1883), Александр Баранников (1858–1883) — умерли в Петропавловской крепости.
Николай Саблин (1849–1881) при аресте застрелился.
Сергей Дегаев (1857–1920) под угрозой казни стал провокатором, а когда его разоблачили, организовал убийство начальника петербургской секретной полиции Г. П. Судейкина, после чего бежал за границу.
Василий Меркулов (1860–1910) остался на свободе, стал провокатором.
Михаил Фроленко (1848–1938), приговоренный к пожизненному заключению, был освобожден в 1905 году.
Смерть девяти молодых мужчин и двух женщин были отданы за одну жизнь немолодого царя. Неужели она стоила таких жертв? Большинство этих казненных или погибших в заточении людей были незаурядными личностями, а Кибальчич — талантливым инженером-изобретателем. Да и погибшего императора не отнесешь к числу людей заурядных или тем более преступных. Ему нельзя отказать ни в благородстве, ни в мужестве, ни в умении вести государственные дела.
«Так кончилась трагедия Александра II, — писал его бывший камер-паж князь Петр Кропоткин. — Многие не понимали, как могло случиться, чтобы царь, сделавший так много для России, пал от рук революционеров. Но мне пришлось видеть первые реакционные проявления Александра II и следить за ними, как они усиливались впоследствии; случилось также, что я мог заглянуть в глубь его сложной души, увидать в нем прирожденного самодержца, жестокость которого была отчасти смягчена образованием, и понять этого человека, обладавшего храбростью солдата, но лишенного мужества государственного деятеля, — человека сильных страстей, но слабой воли, — и для меня эта трагедия развивалась с фатальной последовательностью шекспировской драмы. Последний акт ее был ясен для меня уже 13 июня 1862 года, когда я слышал речь, полную угроз, произнесенную Александром II перед нами, только что произведенными офицерами, в тот день, когда по его приказу совершились первые казни в Польше».
КАЗНЬ
Из официального отчета о совершении смертной казни:
«В пятницу, 3 апреля, в 9 часов утра, на Семеновском плацу согласно произведенному заранее официальному заявлению, была совершена казнь пяти цареубийц: Андрея Желябова, Софьи Перовской, Николая Кибальчича, Николая Рысакова и Тимофея Михайлова.
…Подполковник Дубисса-Крачак принял преступников из Дома предварительного заключения и сопровождал под конвоем до места казни, по улицам: Шпалерной, Литейному проспекту, Кирочной, Надеждинской и Николаевской до Семеновского плаца. В распоряжении его находились одиннадцать полицейских чиновников, несколько околоточных надзирателей, городовых, сверх того, местная полиция… Конвой, сопровождавший преступников, состоял из двух эскадронов кавалерии и двух рот пехоты.
(Наблюдал за порядком полицмейстер полковник Есипов, были усиленные наряды конных жандармов по всему пути следования. От войск — несколько рот пехоты. Войсками на плацу командовал начальник 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, генерал-адъютант, генерал-лейтенант барон Дризен. — Р.Б.)
В 7 часов 50 минут из ворот Дома предварительного заключения выехала первая позорная колесница, запряженная парою лошадей. На ней, с привязанными к сиденью руками, помещались два преступника: Желябов и Рысаков. Они были в черных, солдатского сукна, арестантских шинелях и таких же шапках, без козырьков. На груди у каждого висела черная доска с белою надписью: „цареубийца“. Юный Рысаков, ученик Желябова, казался очень взволнованным и чрезвычайно бледным…
Вслед за первою выехала из ворот вторая позорная колесница с тремя преступниками: Кибальчичем, Перовской и Михайловым. Все они были бледны, но особенно Михайлов… Как ни был бледен Михайлов, как ни казался он потерявшим присутствие духа, но при выезде на улицу он несколько раз что-то крикнул. Что именно — разобрать было довольно трудно, так как в это самое время забили барабаны. Михайлов делал подобные возгласы и по пути следования, зачастую кланяясь на ту и другую сторону собравшейся по всему пути сплошной массе народа.
Следом за преступниками ехали три кареты с пятью православными священниками, облаченными в траурные ризы с крестами в руках. На козлах этих карет помещались церковнослужители…
Рысаков охотно принял священника, долго беседовал с ним, исповедался, и приобщился св. тайн. 2 апреля Рысакова видели плачущим: прежде он зачастую в заключении читал св. Евангелие. Михайлов также принял священника, довольно продолжительно говорил с ним, исповедался, но не причащался св. тайн. Кибальчич два раза диспутировал со священником, от исповеди и причастия отказался; в конце концов, он попросил священника оставить его.
Желябов и Перовская категорически отказались принять духовника.
Ночь со 2 на 3 апреля, для них последнюю, преступники провели разно. Перовская легла в постель в исходе одиннадцатого часа вечера. Кибальчич несколько позже — он был занят письмом к своему брату, который в настоящее время, говорят, находится в Петербурге. Михайлов тоже написал письмо к своим родителям, в Смоленскую губернию. Письмо это написано совершенно безграмотно и ничем не отличается от писем русских простолюдинов к своим родным. Перовская еще несколько дней назад отправила письмо к своей матери. Желябов написал письмо к своим родным, потом разделся и лег спать в исходе одиннадцатого часа ночи. По некоторым признакам, Рысаков провел ночь тревожно. Спокойнее всех казались Перовская и Кибальчич…
(На следующее утро) Палач Фролов со своим помощником из тюремного замка усаживал их на колесницу. Руки, ноги и туловище преступников прикреплялись ремнями к сиденью.
…Высокие колесницы, тяжело громыхая по мостовой, производили тяжелое впечатление своим видом. Преступники сидели сажени две над мостовою, тяжело покачиваясь на каждом ухабе. Позорные колесницы были окружены войсками. Улицы, по которым везли преступников, были полны народом.
Этому отчасти способствовали как поздний час казни, так и теплая весенняя погода. Начиная с восьми часов утра солнце ярко обливало своими лучами громадный Семеновский плац, покрытый еще снегом с большими тающими местами и лужами. Несметное число зрителей обоего пола и всех сословий наполняло обширное место казни, толпились тесною, непроницаемою стеною за шпалерами войска, на плацу господствовала замечательная тишина. Плац был местами окружен цепью казаков и кавалерии. Ближе к эшафоту были расположены в квадрате сперва конные жандармы и казаки, а ближе к эшафоту, на расстоянии двух-трех сажен от виселицы, — пехота лейб-гвардии Измайловского полка.
В начале девятого часа приехал на плац градоначальник, генерал-майор Баранов, а вскоре после него судебные власти и лица прокуратуры: прокурор судебной палаты Плеве, исполняющий должность прокурора окружного суда Плющик-Плющевский и товарищи прокурора Постовский и Мясоедов» (комичные фамилии, достойные пера Гоголя. — Р.Б.).
Эшафот черный, почти квадратный, 6 ступеней. Против входа — три позорных столба с цепями на них и наручниками. Общая виселица с шестью железными кольцами для веревок, позади эшафота — 5 черных гробов со стружками и парусинными саванами для преступников. 4 арестанта в нагольных тулупах, помощники палача.
После прибытия градоначальника палач в синей поддевке, стоя на деревянной лестнице, стал прикреплять к пяти крюкам веревки с петлями.
Стояла платформа для лиц судебного и полицейского ведомств, начальства, журналистов, некоторых младших чинов посольств.
При виде позорных колесниц толпа колыхнулась и загудела. По очереди преступников ввели на эшафот. «К трем позорным столбам были поставлены Желябов, Перовская и Михайлов». Перовская, Желябов и Кибальчич «казались довольно спокойными». Желябов часто поворачивался в сторону Перовской. На ее спокойном лице показался румянец. «Во время восхождения на эшафот преступников толпа безмолвствовала, ожидая с напряжением совершения казни».
Обер-секретарь Попов прочел приговор. Все присутствующие обнажили головы. Забили мелкой дробью барабаны (две плотные линии лицом к преступникам). «Осужденные почти одновременно подошли к священникам и поцеловали крест, после чего они были отведены палачами каждый к своей веревке… Когда один из священников дал Желябову поцеловать крест и осенил его крестным знамением, Желябов что-то шепнул священнику, поцеловав горячо крест, тряхнул головою и улыбнулся.
Бодрость не покидала Желябова, Перовской, а особенно Кибальчича до минуты надевания белого савана с башлыком. До этой процедуры Желябов и Михайлов, приблизившись на шаг к Перовской, поцелуем простились с нею. Рысаков стоял неподвижно и смотрел на Желябова все время, пока палач надевал на его сотоварищей ужасного преступления роковой длинный саван висельников. Палач Фролов, сняв поддевку и оставшись в красной рубашке, „начал“ с Кибальчича. Надев на него саван и наложив вокруг шеи петлю, он притянул ее крепко веревкою, завязав конец веревки к правому столбу виселицы. Потом он приступил к Михайлову, Перовской и Желябову.
Желябов и Перовская, стоя в саване, потряхивали неоднократно головами. Последний по очереди был Рысаков, который, увидев других облаченными вполне в саваны и готовыми к казни, заметно пошатнулся; у него подкосились колени, когда палач быстрым движением накинул на него саван и башлык. Во время этой процедуры барабаны, не переставая, били мелкую, но громкую дробь.
В 9 часов 20 минут палач Фролов, окончив все приготовления к казни, подошел к Кибальчичу и подвел его на высокую черную скамью, помогая взойти на две ступеньки. Палач отдернул скамейку, и преступник повис в воздухе. Смерть постигла Кибальчича мгновенно; по крайней мере, его тело, сделав несколько слабых кружков в воздухе, вскоре повисло без всяких движений и конвульсий. Преступники, стоя в один ряд, в белых саванах, производили тяжелое впечатление. Выше всех ростом оказался Михайлов.
После казни Кибальчича вторым был казнен Михайлов, за ним следовала Перовская, которая, сильно упав в воздухе со скамьи, вскоре повисла без движения, как трупы Михайлова и Кибальчича. Четвертым был казнен Желябов, последним — Рысаков, который, будучи сталкиваем палачом со скамьи, несколько минут старался ногами придержаться на скамье. Помощники палача, видя отчаянные движения Рысакова, быстро стали отдергивать из-под его ног скамью, а палач Фролов дал телу преступника сильный толчок вперед. Тело Рысакова, сделав несколько медленных оборотов, повисло также спокойно, рядом с трупами Желябова и другими казненными.
В 9 часов 30 минут казнь окончилась; Фролов и его помощники сошли с эшафота… Барабаны перестали бить. Начался шумный говор толпы… Трупы казненных висели не более 20 минут… На эшафот вошел потом военный врач, который, в присутствии двух членов прокуратуры, освидетельствовал снятые и положенные в гроб трупы казненных… Гробы были помещены на ломовые телеги с ящиками и отвезены под сильным конвоем на станцию железной дороги для предания тел казненных земле на Преображенском кладбище.
…Конные жандармы и казаки, образовав летучую цепь, обвивали местность, где стоял эшафот, не допуская к нему подходить черни и безбилетной публике. Более привилегированные зрители этой казни толпились около эшафота, желая удовлетворить своему суеверию — добыть „кусок веревки“, на которой были повешены преступники».
Либеральный журналист Г. К. Градовский (1842–1915) вспоминал о том, что он увидел в этот день из окна:
«Вокруг колесниц… неумолчно били барабаны и взвизгивали флейты… Дикий тамтам и свист заглушали предполагаемые обращения к народу, уничтожали дар слова и приглашали на ужасное зрелище. Спешите, сбегайтесь смотреть, как мы толпой, вооруженные будем издеваться над беззащитными и станем душить их, не щадя и женщины. Редкое зрелище, пожалуйте, назидательное убийство против убийства; не пропустите случая, останетесь довольны…
— Христос вовсе не был против казни, — разъясняют их преосвященства. — Ведь Христос — Бог; ему все возможно, но он не хотел уклониться от суда и казни; а не уклонился — стало быть, признал ее уместной и полезной…
Ужасная процессия промелькнула быстро; но я хорошо видел их. Желябов держался гордо, уверенно. Кибальчич, изобретатель разрывных снарядов, казалось, был занят какой-то глубокой думой. Перовская была спокойна и смотрела поверх толпы, как бы желая избегнуть назойливых взглядов и неприятного любопытства. Остальные два осужденных, Рысаков и Михайлов, видимо, пали духом, точно опустились. Была еще одна, обреченная на казнь, но ее спас случай — ожидавшийся младенец» (как известно, спасение ее было в том, что она провела мучительные недели в каземате, была истощена, родила там, у нее тут же отобрали ребенка, и вскоре она умерла).
Приведем свидетельство В. И. Дмитриевой (1860–1947). Она входила в группу, связанную с «Народной волей», позже стала писательницей, вошла в партию эсеров, а затем сотрудничала с большевиками. Естественно, ее симпатии были на стороне государственных преступников.
«Пришло утро казни. Холодное, сумрачное утро… Сухой треск барабанов, тяжелый скрип позорных телег, молчаливая толпа, недоумевающие, или равнодушные, или озлобленные лица… Я стояла в толпе на углу Невского и, кажется, Надеждинской улицы. Я видела их… Они прошли мимо нас не как побежденные, а как триумфаторы — такою внутренней мощью, такой непоколебимой верой в правоту своего дела веяло от них… И я ушла с ярким и определенным сознанием, что их смерть — только великий этап на путях великой русской революции…
На следующий день, в какой-то газете, литератор Аверкиев дал гнусное и циничное описание последних минут героев первого марта… Холопствующая печать злорадствовала вокруг эшафота и упивалась описанием предсмертных судорог Софьи Перовской, а в то же время люди, бывшие на месте казни, что когда полумертвый Михайлов дважды срывался с петли (прибавляя при этом, будто у палача от волнения дрожали руки), то часть солдат громко требовала его помилования и — „налево, кругом, марш“ — была отправлена под арест. Те же очевидцы сообщали, что в толпе в разных местах возникали драки: били и тех, которые злорадствовали и издевались над ними. Смутные были дни и смутные настроения, а в общем преобладали растерянность, недоумение и темный страх».
Наконец, обратимся к опубликованным в 1913 году воспоминаниям Л. А. Плансона — офицера лейб-гвардии казачьего полка:
«Некрасивое и несимпатичное, молодое, безусое лицо Рысакова было мертвенно-бледно, болезненно отекшим, и в его маленьких, трусливо бегающих глазках читался животный страх пойманного зверя, доходивший до ужаса…
Желябов сидел спокойно, стараясь не показать волнения, несомненно владевшего им всецело; он держался не без известного достоинства… На тонком же, хотя немолодом, изжелта-бледном, как бы восковом, но красивом породистом лице Перовской, окаймленном повязанным на голове светлым платком, бродила тонкая, злая, деланая усмешка, а глаза презрительно сверкали, когда она смотрела на толпу, окружавшую платформу…
На второй платформе слева сидел Михайлов, и его большая, грузная фигура с довольно симпатичным лицом чисто русского, простонародного типа, казалась огромной по сравнению с сидевшим рядом тщедушным Кибальчичем-Кибальчич сидел скромно и тихо на своей позорной скамье, смотря куда-то в пространство, впереди себя, поверх голов толпы, и на его застывшем лице нельзя было прочесть ни страха, ни гордости, ни презрения, ни следа другого чувства, которое могло волновать его в подобную минуту; это было лицо ученого философа, решавшего в эту минуту какую-нибудь сложную проблему…
Настроение толпы в огромном большинстве ее было явно враждебное к цареубийцам и, во всяком случае, недружелюбное. Из толпы нередко при прохождении нашей процессии кричали что-то озлобленными голосами, грозили кулаками со свирепым видом и злобно сверкали глазами». (Хороший пример христолюбивого русского православного сердобольного народа. Ради них и убивали царя? Страшное заблуждение террористов!)
«Толпа… зверски хотела расправиться самосудом с двумя какими-то женщинами, которые были повинны лишь в том, что слишком явно выразили свои симпатии к цареубийцам.
…Пройдя к углу Надеждинской и Спасской, мы заметили стоявшую на тумбе возле фонаря какую-то уже немолодую женщину, скромно одетую, но в шляпе и интеллигентного вида.
Когда платформа с цареубийцами поравнялась с тем местом, где она стояла, и даже немного миновала его, так что преступники могли видеть эту женщину, она вынула белый платок и раза два-три успела махнуть им в воздухе.
Нужно было видеть, с каким диким остервенением толпа сорвала моментально несчастную женщину с ее возвышения, сразу смяла ее, сбила с головы ее шляпу, разорвала пальто и даже, кажется, раскровенила ей лицо. Если бы не немедленно подскочившие полицейские и кто-то из нас, офицеров, от неосторожной поклонницы цареубийц не осталось бы ничего, кроме истерзанного трупа. И то нам не без труда и борьбы удалось вырвать ее из рук озверевшей толпы, которая пробовала скалить свои зубы и на нас…
Второй совершенно аналогичный случай произошел уже недалеко от места казни… Точно так же какая-то молоденькая на этот раз женщина, стоя на тумбе и держась одной рукой за столб у подъезда, вздумала свободной рукой помахать в виде приветствия проезжавших цареубийц. Также в мгновение ока она очутилась в руках толпы, без шляпки, с растрепанными волосами, с расстегнутым пальто, с глазами, наполненными безумным ужасом. Также не без труда удалось вырвать ее из рук толпы-зверя и внести ее в подъезд, куда толпа еще долго продолжала ломиться с криками и бранью…
Уже давно я и другие офицеры обратили внимание на то, что Рысаков как-то особенно начал беспокоиться, ерзать на своей скамейке, пожимать плечами и наклонять свою голову то к одному, то к другому плечу… Наконец, на поведение Рысакова обратил внимание один из бывших тут людей арестантского вида… Он подошел вплотную к Рысакову и спросил, что с ним.
На это Рысаков заявил ему, что у него сильно зябнут уши, и попросил спустить имевшиеся в надетой на нем шапке наушники.
Человек арестантского вида не без некоторой иронии улыбнулся и, показывая рукой в сторону Семеновского плаца, к которому мы подъезжали, сказал с долею цинизма:
— Потерпи, голубчик! Скоро и не то еще придется вытерпеть…
Когда печальное шествие приблизилось к высоко торчащей над площадью виселице, обе платформы с цареубийцами и своим собственным конвоем подъехали к боковой стороне помоста и остановились около устроенной там лестнице, по которой отвязанные от сидений преступники один за другим взошли на помост и были поставлены в одну линию, каждый под приготовленной для него петлей, имея по-прежнему связанные назад руки и лицом в сторону площади, где уже толпилась многотысячная толпа, едва сдерживаемая полицией и жандармами…
Когда к Михайлову подошли палачи, то он не дал им взвести себя на поставленную лестницу, как бы брезгуя их услугами, и, несмотря на закрытое балахоном лицо, слегка лишь поддерживаемый одним из палачей под локоть, сам решительно и быстро взошел по ступеням лестницы на верхнюю ее площадку, где позволил надеть на свою шею петлю.
И в тот момент, когда из-под ног была выдернута лесенка и Михайлов должен был повиснуть на веревке, последняя не выдержала его тяжести, оборвалась… и огромная грузная масса с высоты двух с половиной аршин грохнулась с шумом на гулкий помост…
Из нескольких тысяч грудей одновременно вырвался крик ужаса. Толпа заволновалась, послышались возгласы:
— Надобно его помиловать!
— Простить его нужно. Нет такого закона, чтобы вешать сорвавшегося!..
— Тут перст Божий!
— Царь таких завсегда милует! Пришлет своего флигель-адъютанта!
И за минуту враждебно настроенная, готовая собственными руками растерзать всякого, кто посмел бы проявить свои симпатии к цареубийцам, изменчивая, как женщина, толпа преисполнилась горячими симпатиями к одному из самых ужасных преступников только за то, что под его тяжестью оборвалась веревка. Тем временем, ошеломленные вначале неожиданностью, палачи, придя в себя, принесли откуда-то новую веревку, не без труда наскоро перекинули ее через освободившийся крючок, сделали новую петлю, а затем, подойдя к беспомощно лежавшему на помосте Михайлову, подхватили его под руки и потащили снова к лестнице.
И, о ужас! Михайлов оказался еще живым и даже в сознании, так как сам начал переставлять ноги и по помосту, и даже по ступенькам лестницы!..
Вновь ему накинули на шею петлю, несмотря на ропот волновавшейся толпы, и снова из-под ног была вырвана лестница…
Но тут случилось нечто необычайное, никогда еще не бывшее в летописях смертных казней, нечто такое, что заставило раз навсегда отказаться от „публичных“ казней…
Не успел еще один из палачей отдернуть в сторону из-под ног Михайлова лестницу, как… вторично оборвалась веревка, на которой повисло на одну секунду его большое тело, и оно опять с глухим ударом рухнуло на помост, дрогнувший от этого падения…
Невозможно описать того взрыва негодования, криков протеста и возмущения, брани и проклятий, которыми разразилась заливавшая площадь толпа. Не будь помост с виселицей окружен внушительном нарядом войск, вооруженных заряженными винтовками, то, вероятно, и от виселицы с помостом, и от палачей и других исполнителей приговора суда в один миг не осталось бы ничего.
Но возбуждение толпы достигло своего апогея, когда с площади заметили, что Михайлова собираются вздернуть на виселицу в третий раз…
Энергичными мерами казаков и полиции несколько десятков бросившихся вперед горлодеров были моментально оттеснены назад, а толпа, видя решительные действия начальства и суровые, сосредоточенные лица солдат, взявшихся за оружие, больше не решалась наступать, а ограничилась лишь пассивным выражением своего недовольства.
Действительно, это двукратное падение Михайлова произвело на всех самое тяжелое, удручающее впечатление, которого не избегли и мы, активные зрители этого происшествия…
Однако откуда-то была принесена новая, третья по счету, веревка совершенно растерявшимися палачами… На этот раз она оказалась более прочной, так как, когда безжизненное тело Михайлова было с большими усилиями внесено несколькими арестантами на лестницу и после долгой возни голова его всунута в новую петлю, то на этот раз веревка не оборвалась, и тело повисло над помостом на натянувшейся, как струна, веревке под общий гул стихавшего, как бушующее море, народа.
Тем временем Желябов и Кибальчич продолжали безмолвно стоять в ожидании своей участи, каждый под предназначенной ему петлей… С ними, впрочем, справились живо.
Да и толпа значительно потеряла уже интерес к этому зрелищу после того подъема нервов, который ей дало двукратное падение Михайлова.
Когда наконец под ужасной перекладиной виселицы тихо закачались пять тел казненных цареубийц, толпа медленно стала уходить с площади, продолжая взволнованно обсуждать все случившееся. Тем временем на помост взошел врач, констатировал смерть каждого из казненных, после чего их по очереди сняли с петель и положили в приготовленные гробы, которые и были быстро закрыты…
А палачи, пользуясь людскою глупостью, бойко торговали снятыми с виселицы веревками, которых, на их счастье, на этот раз оказалось так много».
По словам Плансона, последним казнили Кибальчича, а по официальному отчету — Рысакова. Как часто бывает со свидетелями, некоторые увиденные события они запоминают под впечатлением эмоций, искаженно. Плансон наверняка знал о том, как вел себя Рысаков на следствии, видел его малодушие и подсознательно решил, что такого человека следует повесить первым.
УЛЬТИМАТУМ
По замыслу революционеров-террористов, убийство Александра II не было самоцелью (хотя объективно стало именно таковым). Теоретически предполагалось столь громкой акцией воздействовать на общественное сознание и на власть имущих.
Простой народ, крестьяне, должны были убедиться на ярком и страшном примере, что царя вовсе не оберегает Бог, а власть его не свыше, а вполне земная. Столь громкая акция должна была укоренить в российском обществе и за рубежом мысль о силе и огромных возможностях тайной организации «Народная воля».
Можно предположить, что наследника престола хотели не только устрашить возможным покушением и на его жизнь, но и принудить к либеральным реформам. С этой целью была отпечатана и распространена прокламация следующего содержания:
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III
Ваше величество! Вполне понимая то тягостное настроение, которое вы испытываете в настоящие минуты, Исполнительный комитет не считает, однако, себя вправе поддаваться чувству естественной деликатности, требующей, может быть, для нижеследующего объяснения выждать некоторое время. Есть нечто высшее, чем самые законные чувства человека: это долг перед родной страной, долг, которому гражданин принужден жертвовать и собой, и своими чувствами, и даже чувствами других людей. Повинуясь этой всесильной обязанности, мы решаемся обратиться к вам немедленно, ничего не выжидая, так как не ждет тот исторический процесс, который грозит нам в будущем реками крови и самыми тяжелыми потрясениями.
Кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была случайностью и ни для кого не была неожиданной. После всего происшедшего в течение последнего десятилетия она являлась совершенно неизбежной, и в этом ее глубокий смысл, который обязан понять человек, поставленный судьбою во главе правительственной власти. Объяснять подобные факты злоумышлением отдельных личностей или хотя бы «шайки» может только человек, совершенно неспособный анализировать жизнь народов. В течение целых 10 лет мы видим, как у нас, несмотря на самые строгие преследования, несмотря на то, что правительство покойного императора жертвовало всем — свободой, интересами всех классов, интересами промышленности и даже собственным достоинством, — безусловно всем жертвовало для подавления революционного движения, оно все-таки упорно разрасталось, привлекая к себе лучшие элементы страны, самых энергичных и самоотверженных людей России, и вот уже три года вступило в отчаянную, партизанскую войну с правительством.
Вы знаете, ваше величество, что правительство покойного императора нельзя обвинять в недостатке энергии.
У нас вешали правого и виноватого, тюрьмы и отдаленные губернии переполнялись ссыльными. Целые десятки так называемых «вожаков» переловлены, перевешаны. Они гибли с мужеством и спокойствием мучеников, но движение не прекращалось, оно безостановочно росло и крепло. Да, ваше величество, революционное движение не такое дело, которое зависит от отдельных личностей. Это процесс народного организма, и виселицы, воздвигаемые для наиболее энергичных выразителей этого процесса, так же бессильны спасти отживающий порядок, как крестная смерть спасителя не спасла развратившийся античный мир от торжества реформирующего христианства.
Правительство, конечно, может еще переловить и перевешать многое множество отдельных личностей. Оно может разрушить множество отдельных революционных групп. Допустим, что оно разрушит даже самые серьезные из существующих революционных организаций. Но ведь все это нисколько не изменит положения вещей. Революционеров создают обстоятельства, всеобщее неудовольствие народа, стремление России к новым общественным формам. Весь народ истребить нельзя, нельзя и уничтожить его недовольство посредством репрессалий: неудовольствие, напротив, растет от этого. Поэтому на смену истребляемых постоянно выдвигаются из народа все в большем количестве новые личности, еще более озлобленные, еще более энергичные. Эти личности в интересах борьбы, разумеется, организуются, имея уже готовый опыт своих предшественников; поэтому революционная организация с течением времени должна усиливаться и количественно и качественно. Это мы видим в действительности за последние 10 лет. Какую пользу принесла правительству гибель долгушинцев, чайковцев, деятелей [18]74 г.? На смену их выступили гораздо более решительные народники. Страшные правительственные репрессалии вызвали затем на сцену террористов [18] 78—[18]79 гг. Напрасно правительство истребляло Ковальских, Дубровиных, Осинских, Лизогубов. Напрасно оно разрушало десятки революционных кружков. Из этих несовершенных организаций путем естественного подбора вырабатываются только более крепкие формы. Появляется, наконец, Исполнительный комитет, с которым правительство до сих пор не в состоянии справиться.
Окидывая беспристрастным взглядом пережитое нами тяжелое десятилетие, можно безошибочно предсказать дальнейший ход движения, если только политика правительства не изменится. Движение должно расти, увеличиваться, факты террористического характера повторяться все более обостренно; революционная организация будет выдвигать на место истребляемых групп все более и более совершенные, крепкие формы. Общее количество недовольных в стране между тем увеличивается; доверие к правительству в народе должно все более падать, мысль о революции, о ее возможности и неизбежности все прочнее будет развиваться в России. Страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершит этот процесс разрушения старого порядка.
Чем вызывается, обусловливается эта страшная перспектива? Да, ваше величество, страшная и печальная. Не примите этого за фразу. Мы лучше, чем кто-либо другой, понимаем, как печальна гибель стольких талантов, такой энергии на деле разрушения, в кровавых схватках, в то время когда эти силы при других условиях могли бы быть потрачены непосредственно на созидательную работу, на развитие народа, его ума, благосостояния, его гражданского общежития. Отчего же происходит эта печальная необходимость кровавой борьбы?
Оттого, ваше величество, что теперь у нас настоящего правительства в истинном его смысле не существует. Правительство по самому своему принципу должно только выражать народные стремления, только осуществлять народную волю. Между тем у нас — извините за выражение — правительство выродилось в чистую камарилью и заслуживает названия узурпаторской шайки гораздо более, чем Исполнительный комитет. Каковы бы ни были намерения государя, но действия правительства не имеют ничего общего с народной пользой и стремлениями. Императорское правительство подчинило народ крепостному праву, отдало массы во власть дворянству; в настоящее время оно открыто создает самый вредный класс спекулянтов и барышников. Все реформы его приводят лишь к тому, что народ впадает все в большее рабство, все более эксплуатируется. Оно довело Россию до того, что в настоящее время народные массы находятся в состоянии полной нищеты и разорения, несвободны от самого обидного надзора даже у своего домашнего очага, не властны даже в своих мирских, общественных делах. Покровительством закона и правительства пользуется только хищник, эксплуататор; самые возмутительные грабежи остаются без наказания. Но зато какая страшная судьба ждет человека, искренно помышляющего об общей пользе. Вы знаете хорошо, ваше величество, что не одних социалистов ссылают и преследуют. Что же такое — правительство, охраняющее подобный «порядок»? Неужели это не шайка, неужели это не проявление полной узурпации?
Вот почему русское правительство не имеет никакого нравственного влияния, никакой опоры в народе; вот почему Россия порождает столько революционеров; вот почему даже такой факт, как цареубийство, вызывает в огромной части населения радость и сочувствие! Да, ваше величество, не обманывайте себя отзывами льстецов и прислужников. Цареубийство в России очень популярно.
Из такого положения может быть два выхода: или революция, совершенно неизбежная, которую нельзя предотвратить никакими казнями, или добровольное обращение верховной власти к народу. В интересах родной страны, во избежание напрасной гибели сил, во избежание тех страшных бедствий, которые всегда сопровождают революцию, Исполнительный комитет обращается к вашему величеству с советом избрать второй путь. Верьте, что как только верховная власть перестанет быть произвольной, как только она твердо решится осуществлять лишь требования народного сознания и совести, вы можете смело прогнать позорящих правительство шпионов, отослать конвойных в казармы и сжечь развращающие народ виселицы. Исполн. комит. сам прекратит свою деятельность, и организованные около него силы разойдутся для того, чтобы посвятить себя культурной работе на благо родного народа. Мирная, идейная борьба сменит насилие, которое противно нам более чем вашим слугам, и которое практикуется нами только из печальной необходимости.
Мы обращаемся к вам, отбросивши всякие предубеждения, подавивши то недоверие, которое создала вековая деятельность правительства. Мы забываем, что вы представитель той власти, которая столько обманывала народ, сделала ему столько зла. Обращаемся к вам как гражданину и честному человеку. Надеемся, что чувство личного озлобления не заглушит в вас сознания своих обязанностей и желания знать истину. Озлобление может быть и у нас. Вы потеряли отца. Мы теряли не только отцов, но еще братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личное чувство, если того требует благо России. Ждем того же и от вас.
Мы не ставим вам условий. Пусть не шокирует вас наше предложение. Условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение заменилось мирной работой, созданы не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их.
Этих условий, по нашему мнению, два:
1) общая амнистия по всем политическим преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга;
2) созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями.
Считаем необходимым напомнить, однако, что легализация верховной власти народным представительством может быть достигнута лишь тогда, если выборы будут произведены совершенно свободно. Поэтому выборы должны быть произведены при следующей обстановке:
1) депутаты посылаются от всех классов и сословий безразлично и пропорционально числу жителей;
2) никаких ограничений ни для избирателей, ни для депутатов не должно быть;
3) избирательная агитация и самые выборы должны быть произведены совершенно свободно, а потому правительство должно в виде временной меры, впредь до решения народного собрания, допустить: а) полную свободу печати, б) полную свободу слова, в) полную свободу сходок, г) полную свободу избирательных программ.
Вот единственное средство к возвращению России на путь правильного и мирного развития. Заявляем торжественно перед лицом родной страны и всего мира, что наша партия со своей стороны безусловно подчинится решению народного собрания, избранного при соблюдении вышеизложенных условий, и не позволит себе впредь никакого насильственного противодействия правительству, санкционированному народным собранием.
Итак, ваше величество, решайте. Перед вами два пути. От вас зависит выбор. Мы же можем только просить судьбу, чтобы ваш разум и совесть подсказали вам решение, единственно сообразное с благом России, с вашим собственным достоинством и обязанностями перед родною страной.
Исполнительный] ком[итет], 10 марта 1881 г. Типография «Народной воли», 12 марта 1881 г.
* * *
В этом документе тайная организация представила себя не группой заговорщиков-террористов, а руководящей силой партизанского движения, охватывающего значительную часть населения страны, желающей изменить существующий строй. Желаемое выдавали за реальность.
На что рассчитывал Исполнительный комитет?
Прежде всего, пожалуй, на незнание правительством истинных масштабов так называемого «партизанского движения». Как показал распад «Земли и воли», а также свидетельствовал устав Исполнительного комитета, ни о каком более или менее активном массовом противодействии существующей царской власти не могло быть и речи.
Народовольцы в своей смертельно опасной игре против самодержавия, как говорят картежники, блефовали. Революционная деятельность стала их профессией, а государственный переворот — целью жизни. Однако в народе отношение к ним было преимущественно безразличное или отрицательное. И не удивительно: кто может быть уверен, что революция принесет благо? Что новая власть будет лучше прежней? Никто не против изменения жизни к лучшему, но как знать, не будет ли наоборот?
На первый взгляд, революционеры-террористы, выставляя новому императору свой ультиматум, рассчитывали на либеральные реформы, которые не завершил убитый ими император. Но кто не знал, что Александр III — более жесткий государь, чем его отец? Известно было и то, что именно убитый император желал продолжить свои либеральные реформы. Выходит, за это его и убили? Акция террористов и их слова находились в непримиримом противоречии.
Но, может быть, ультиматум под видом обращения к императору был рассчитан на широкие массы? На какие? Большая часть населения России была неграмотна. Большинство грамотных не поддерживало революционеров. По возможностям идейно влиять на граждан отдельные листовки и подпольные газеты не могли соперничать с мощными средствами пропаганды и агитации, которыми располагало царское правительство, на стороне которого безоговорочно находилась Православная церковь.
У революционеров оказалось сравнительно много сторонников среди студентов. В Московском университете двое студентов стали собирать подписи и деньги на венок Александру II. Некоторые отказывались. И тогда в отдельный список стали заносить фамилии не только согласных, но и «неблагонадежных». Возмущенный студент-филолог Смирнов порвал оба листа. Тотчас в «Московских ведомостях» отозвался известный издатель и публицист Михаил Катков: «Правда ли, что в Московском университете нашелся свободный мыслитель, который публично порвал подписку на венок царю-мученику? Правда ли?» Получился донос, и Смирнова арестовали.
Начались сходки студентов. Освистывали предлагавших венок, даже проректора С. Д. Муромцева, деликатно пытавшегося их утихомирить. Постановили: «Никаких венков не посылать». Когда арестовали активистов, начались сходки протестов. В результате исключили 312 человек. Были обыски.
О случившемся Победоносцев доложил императору, указав на Муромцева как на зачинщика (что стало поводом к отставке проректора). Не исключено, что такое поведение московских студентов подкрепило позицию Победоносцева и содействовало решению Александра III сохранить самодержавие.
В РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАРАЗЕ
Суд над цареубийцами должен был заклеймить не просто данных конкретных исполнителей, и даже не только их тайную террористическую организацию, но и революционное движение в России вообще — как явление, чуждое русскому народу и традициям отечественной истории.
В этом отношении показательна обвинительная речь прокурора Николая Валериановича Муравьева (1850–1908) на процессе по делу об убийстве императора Александра II. Прокурор был всего на три года старше подсудимой Софьи Перовской, и в детстве они были знакомы. Потом пути их разошлись в прямо противоположные стороны — для того, чтобы произошла встреча преступницы и представителя власти, требующего ее смерти.
Муравьев до этого присудил к смерти революционера-террориста В. А. Осинского (они были сверстниками). То есть Николай Валерианович зарекомендовал себя испытанным и непримиримым искоренителем крамолы в Российской империи.
Выдающийся юрист А. Ф. Кони в частном письме назвал его «достойным представителем и птенцом судебного сословия» и даже «человеком выдающимся». Было это в 1893 году. На следующий год Н. В. Муравьев стал министром юстиции, и вскоре мнение Кони о нем резко изменилось.
В неопубликованной статье «Триумвиры», написанной в 1907 году, Кони назвал Муравьева «жадным карьеристом, смотревшим на свой пост лишь как на ступень к дальнейшим почестям и окладам», обязанным своим быстрым служебным повышением «в значительной степени бездушному ханже великому князю Сергею Александровичу».
Когда Н. В. Муравьева назначили в 1905 году послом в Риме, А. Ф. Кони в частных письмах называл его «хануриком и христопродавцем», который, «нагадив России, чем мог, убежал в критические моменты за границу, получая с русского народа (для которого он занимался фальсификацией правосудия) по 80 тысяч в год». Учтем, что эти характеристики вызваны были вовсе не их политическими разногласиями (Кони не сочувствовал революционерам).
На процессе но делу об убийстве Александра II этот ханурик и христопродавец строго следовал букве закона и фальсификацией правосудия не занимался. Для нас представляют интерес его высказывания на процессе о революционном движении в России. Судя по всему, он излагал не только свое личное мнение, но и выступал как представитель или как рупор правящего слоя российского общества. Его мысли были восприняты руководством страны благосклонно (иначе бы ему не поручили пост министра юстиции).
Муравьев был человеком неглупым, хорошим профессионалом, стремящимся угождать власть имущим и сделать себе карьеру. Сочетание этих качеств и устремлений сделало его непримиримым врагом всех тех, кто стремился ниспровергнуть существующий строй.
«Русскому обществу, — говорил он, — нужно знать разоблаченную на суде правду о заразе, разносимой социально-революционной партией…
…Мы знаем из процесса шестнадцати террористов, рассмотренного петербургским военно-окружным судом несколько месяцев тому назад, что еще в 1878 году, не разделяя воззрений, рекомендовавших постепенное революционное воспитание народа в борьбе с существующим экономическим строем, некоторые, более нетерпеливые члены… озлобленные неудачами и преследованиями, порешили, что для защиты их дела против правительства нужны политические убийства, и если окажется возможным, — посягательство на цареубийство…»
(На «Процессе 16-ти» в конце сентября 1880 года были приговорены к смерти и повешены А. А. Квятковский и А. К. Пресняков; члены Исполнительного комитета постановили отомстить за это Александру II. — Р.Б.)
«…И вот потянулась длинным рядом всем нам хорошо памятные преступления, начавшиеся выстрелом Веры Засулич и дошедшие до покушения 2-го апреля 1879 года (тогда Соловьев стрелял в императора. — Р.Б.). То были глухие удары, раскаты приближающегося землетрясения, говорится в одном из подпольных листков; то были пробные взмахи расходившейся руки убийцы, предвкушение кровожадного инстинкта, почуявшего запах крови, — скажем мы».
Вполне нелепы «красивости слога», лишенные смысла, — литературная безвкусица, казалось бы, недопустимая на столь серьезном процессе и дающая ему оттенок балагана. Или другой его опус: революционеры «идут и дальше, а дальше можно далеко оставить за собою геркулесовы столбы бессмыслия и наглости».
Хотя, безусловно, террористы на своем кровавом пути не считались с невинными жертвами, которые были во время покушений; одно это переводило их акты из разряда политических в разряд уголовных преступлений. Но ведь при государственном терроре страдает значительно больше невинных людей.
«Сомнения нет и быть не может, — продолжал Муравьев, — язва неорганическая, недуг наносный, пришлый, преходящий, русскому уму несвойственный, русскому чувству противный. Русской почве чужды и лжеучения социально-революционной партии, и ее злодейства, и она сама. (Казалось бы — надо дать свободу слова другим, более почвенническим партиям. — Р.Б.) Не из условий русской действительности заимствовала она исходные точки и основания своей доктрины. Социализм вырос на Западе и составляет уже давно его историческую беду. У нас не было и, слава Богу, нет и до сих пор ни антагонизма между сословиями, ни преобладания буржуазии, ни традиционной розни и борьбы общества с властью. Многомиллионная масса русского народа не поймет социалистических идей».
На этом месте хочется остановиться и призадуматься. Высказывания обвинителя в адрес революционеров и социалистических идей, для которых (и тех и других) нет в российском обществе социальной и духовной основы, интересны в двух аспектах. Во-первых, они имеют прямое отношение к тем событиям в России, которые произойдут всего лишь четверть века спустя (срок незначительный для государственных масштабов) и приведут в конце концов к торжеству идей социализма и коммунизма.
Во-вторых, они имеют отношение к современной РФ, ее будущему и вообще судьбе русского народа, русской культуры и России как более или менее крупной и крепкой державе (своеобразное триединство). Тем, кого эти вопросы не интересуют, можно пропустить эти рассуждения. Но для меня они чрезвычайно важны. У нас не академическое изложение истории покушений и убийства императора Александра II, и не исторический детектив, призванный заинтриговать и потешить публику. Тема у нас трагическая не только по отношению к жертвам политического террора (государственного и революционного), но и по отношению к судьбе нашего Отечества.
Итак, события в России в конце XIX — начале XX века не подтвердили утверждений прокурора Н. В. Муравьева, который высказывал, судя по всему, официальную точку зрения. Или, во всяком случае, говорил он о той Российской империи, которую желали видеть ее ревнители, сторонники, властители. Как показали события последующих десятилетий, подобные высказывания дезориентировали власть, выдавали желаемое за реальность и способствовали укреплению державы только на сравнительно небольшой исторический срок.
Идеи социализма одержали победу не сразу, а через 20 лет после февральско-мартовской и октябрьской анархических революций 1917 года. Но весьма показателен сам факт бесславного падения самодержавия, а затем победы сторонников социалистических преобразований после Гражданской войны и поражения буржуазно-демократического Белого движения, поддержанного капиталистическим Западом.
Что это означает? Это означает, что был в царской России антагонизм между сословиями, была достаточно сильная буржуазия, была решительная рознь между обществом и властью. Возможно, обо всем этом и не следовало говорить на процессе над террористами. Но если уже проблема обозначена, не следовало сводить ее к примитивной агитке.
Да, в то время у революционеров-социалистов не было в России надежной опоры в обществе. Но ведь страна была преимущественно аграрная, и крестьяне составляли абсолютное большинство. У них не было ни политического образования (преобладала и вовсе безграмотность), ни реальной возможности принять участие в управлении государством, которое довлело над ними, имея в своем распоряжении средства пропаганды и агитации, службу надзора и подавления беспорядков, а также влиятельную Православную церковь.
Однако ситуация в стране объективно и необратимо менялась. Набирали силу капитализм, промышленность, индустрия, образование. Не замечать этого было по меньшей мере неразумно. (Нечто подобное произошло в советском обществе, когда служащие стали преобладать над трудящимися — рабочими, инженерами, колхозниками, — создавая благоприятную почву для распространения буржуазной идеологии.)
…Вернувшись к речи обвинителя по делу 1 марта 1881 года, обратим внимание на фрагменты из ее заключительной части.
Н. В. Муравьев задал риторический вопрос: «Сомневается ли кто-нибудь в том, что их явно заявленная цель — разрушить существующий мир и на место его возвести мир социалистический, — есть химера, недостижимая и безумная?»
Тут можно ему возразить из далекого нашего будущего (для него): вовсе это не химера, многие великие мыслители прошлого верили в нее, и оказались правы. Именно России суждено было стать первой социалистической державой.
Вообще-то, не исключено, что этот обвинитель кривил душой и умом ради своей карьеры, чтобы угодить правительству и царю (что ему весьма удалось). Однако в любом случае он выражал мнение (или отражал желание) влиятельных кругов Российской империи. Но после этого выпада в сторону «социалистической химеры, недостижимой и безумной», он высказал вполне дельную мысль:
«А ведь за этою химерою, кичащеюся своим идеализмом, таятся во тьме, прикрытые ее гостеприимным знаменем, тысячи мелких, личных, совсем не идеальных побуждений и интересов: зависть бедного к достаточному, бедствующего тунеядца к процветающему труженику, порывания разнузданных инстинктов к дикому разгулу, честолюбие и властолюбие вожаков партии».
Ясное дело, разглагольствования этого, говоря словами А. Ф. Кони, «ханурика и христопродавца» нельзя во всем принимать всерьез. Особенно умилительно, когда он начинает защищать процветающего труженика от бедствующего тунеядца, хотя кто не знает, как часто, слишком часто процветают именно тунеядцы, а бедствуют честные труженики.
И все-таки вышло так, что под знамя социализма подлезли завистники и тунеядцы, честолюбцы и властолюбцы, склонные к дикому разгулу. Именно этот контингент составил основную массу предателей социалистической идеи, когда появилась возможность совершить буржуазную революцию «тихой сапой» с помощью западных спецслужб и своих продажных политиков.
КРАХ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
После 1 марта 1881 года ситуация в стране изменилась в корне. Казалось бы, террористы одержали колоссальную победу: они объявили царю-самодержцу, помазаннику Божьему смертный приговор и привели его в исполнение не где-нибудь, а в центре столицы!
Так проявилась сила слабых и бессилие сильных. Но это был лишь громкий, прогремевший на весь мир, но краткий эпизод. Казнь террористов и полный разгром их организации при отсутствии в России каких-либо общественных беспорядков показали, что окончательная победа была на стороне самодержавия.
В народе прошел слух, будто погубили царя-Освободителя его враги-крепостники, крупные помещики. В действительности вышло так, что революционеры-террористы цареубийством не ослабили, а укрепили самодержавие, остановили ход реформ, предоставлявших больше политических свобод и приближающих введение конституции. Революционеры содействовали реакционерам!
В подобных случаях одна из сторон остается, как говорится, в дураках, льет воду на чужую мельницу, тогда как их противник чужими руками жар загребает. Безусловно, в ближней перспективе выиграли консерваторы, сторонники самодержавия. Но ведь к этому и стремились наиболее проницательные террористы! Они не были столь наивными, чтобы надеяться на революцию или даже народные бунты в ответ на убийство Александра И. Опыт хождения в народ показал, что лишь ничтожная часть крестьян готова восстать против царской власти.
Именно усиление реакции при укреплении самодержавия в конечном счете должно было привести к победе революции, к торжеству социалистических идей, тогда как либеральные реформы и принятие конституции отложили бы эти процессы на неопределенный срок.
История доказала их правоту. Поэтому в сравнительно недалекой перспективе (повторю: в жизни общественного организма в ту эпоху четверть века — срок небольшой) замыслы террористов оправдались. Но кто тогда мог это предполагать?
Как писал сын Н. С. Лескова Андрей, его отец был потрясен убийством царя и говорил:
— Огромной важности событие… Сколько будет жертв, сколько самоотверженного мученичества! Но верна ли сама тактика? Устрашает, вразумляет ли кого-нибудь террор? Не порождает ли он ожесточение, не вызывает ли усиление реакции, репрессий, мести, по которым расплачивается вся страна? Едва ли уцелеет Лорис… Вернее, все пойдет вспять-Приближенные к необразованному царю — люди невежественные. А тут еще его наставник и учитель его государственной мудрости, ученейший, умный и злонастроенный Победоносцев! Я его хорошо знаю. Он этому царю мои разные произведения дарил. Это опасный, закостенелый враг всему живому, передовому. Для в науках не преуспевшего человека, как новый царь, — это кладезь государственной мудрости, оракул… Вот где огромная опасность!..
Пожалуй, о невежестве нового царя и его приближенных (кроме Победоносцева) высказался Николай Лесков слишком резко. (Если, конечно, сын в точности передал его слова.) Государственной мудрости Александр III не был лишен, однако находился он в чрезвычайно трудном положении.
С одной стороны, ему надлежало исполнить волю отца и продолжить его реформы. В расчете на это Лорис-Меликов свое предложение Государственному совету 6 марта завершил словами: «Его Императорское величество высочайше соизволил повелеть принять к точному исполнению изложенную выше священную волю своего державного родителя, как достойное всей его жизни прощание со своим народом».
Но, с другой стороны, реформы были лишь предварительно одобрены, но еще не приняты Александром II, павшим от рук террористов. Теперь они в ультимативной форме, да еще с угрозами, требуют их принятия. Значит, выполнение их требований выглядело бы трусливой уступкой цареубийцам. Хотя…
В Манифесте Александра III от 1 марта 1881 года было сказано:
«…Господу Богу угодно было в неисповедимых путях Своих поразить Россию роковым ударом и внезапно отозвать к Себе ее благодетеля Государя Императора Александра II. Он пал от святотатственной руки убийц, неоднократно покушавшихся на Его драгоценную жизнь. Они посягали на сию столь драгоценную жизнь потому, что в ней видели оплот и залог величия России и благоденствия русского народа. Смирясь перед таинственными велениями Божественного Промысла».
Выходит, террористы свершили волю Бога? Но почему тогда они святотатственны? Они же исполняли таинственное веление Божественного Промысла!
Стремление совместить религиозную мистику с политикой приводит к нарушению логики, нелепым высказываниям. Как можно тогда наказывать смертью тех, кто, не ведая, что творит, исполнил волю Бога?! Или это указание на то, что необходима другая государственная политика — укрепление, а не ослабление самодержавия?
К этой мысли склонял нового императора Победоносцев. Он решил, что у него появились все шансы стать «диктатором сердца» при Александре III, и немедленно донес на великого князя Константина Николаевича, сторонника либеральных реформ.
3 марта: «Сегодня было у меня несколько простых людей, которые все говорят со страхом и ужасом о Мраморном дворце. Мысль эта вкоренилась в народе» (этот дворец был резиденцией Константина Николаевича).
Вот выдержки из некоторых писем Победоносцева царю:
6 марта: «Их можно унять, злое семя можно вырвать только борьбой с ними на живот и на смерть, железом и кровью… Победить не трудно: до сих пор все хотели избегать борьбы и обманывали покойного Государя, Вас, самих себя, всех и всё на свете, потому, что то были не люди разума, силы и сердца, а дряблые евнухи с фокусниками».
«Не оставляйте графа Лорис-Меликова. Он фокусник и может еще играть двойную игру… И он не патриот русский…» (Так сказано о том, кто защищал Россию на полях сражений, получив за военные заслуги титул графа; не меньше рисковал он жизнью, самоотверженно борясь с чумой.)
11 марта: «Ради Бога, примите во внимание нижеследующее:
1. Когда собираетесь ко сну, извольте запирать за собою двери — не только в спальне, но и во всех следующих комнатах, вплоть до выходной. Доверенный человек должен внимательно следить за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у створчатых дверей были задвинуты.
2. Непременно наблюдать каждый вечер, перед сном, целы ли проводники звонков. Их легко можно подрезать.
3. Наблюдать каждый вечер, осматривая под мебелью, все ли в порядке.
4. Один из Ваших адъютантов должен бы был почивать вблизи от Вас, в этих же комнатах.
5. Все ли надежны люди, состоящие при Вашем Величестве? Если бы кто-нибудь был хоть немного сомнителен, можно найти предлог удалить его».
А. Ф. Кони писал в январе 1914 года: «Среди людей, игравших в русской жизни последних десятилетий крупную и влиятельную роль, одно из ярких и в то же время трагических мест занимает граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов. Искусный военачальник и тактичный местный администратор на Кавказе и в Терской области, он был внезапно выдвинут судьбою на самый видный пост в России, облечен чрезвычайной властью, сосредоточил на себе внимание всего мира и, пролетев, как метеор, умер, сопровождаемый злобным шипением многочисленных врагов и сердечною скорбью горсточки друзей».
Надо добавить, что этот «метеор» быстро сгорел в «верхних слоях социума» не столько в результате гибели Александра II, сколько из-за козней Победоносцева. О последнем А. Ф. Кони писал:
«В 1880 году он был сделан обер-прокурором Святейшего Синода и получил возможность приложить свой критический ум к раскрытию и оценке тех условий, которые делали из нашей церкви полицейское учреждение, мертвящее и жизнь и веру народа.
Казалось, что высокообразованный человек и юрист, носящий в себе живую веру и знающий ценность этого блага, приложит всю силу своего разумения к тому, чтобы, охраняя церковь, как необходимую и авторитетную организацию верующих, вдохнуть в ее деятельность утраченный христианский дух, а в ее обряды — утрачиваемый ими глубокий внутренний смысл.
Увы! Этого ничего не произошло! Противоречие взглядов, жившее в его душе, сказалось и в его действиях как обер-прокурора… Могучий владыка судеб русской церкви и состава ее иерархии, он усилил полицейский характер первой и наполнил вторую бездарными и недостойными личностями… Победоносцев стремился отдать умственное развитие простого русского народа в руки невежественного и ленивого, нищего и корыстного сельского духовенства».
Надо иметь в виду, что А. Ф. Кони был лично знаком и с Лорис-Меликовым, и с Победоносцевым, ценя последнего как высоко образованного юриста, но в то же время подчеркивая отсутствие у него творческого потенциала. То же подтверждает и мнение о нем С. Ю. Витте.
«Обер-прокурором Святейшего Синода был Константин Петрович Победоносцев. Это был человек, несомненно, высокодаровитый, высококультурный и в полном смысле слова человек ученый. Как человек он был недурной, был наполнен критикой разумной и талантливой, но страдал полным отсутствием положительного жизненного творчества; он ко всему относился критически, а сам ничего создать не мог. Замечательно, что этот человек не в состоянии был ничего воспроизводить ни физически, ни умственно, ни морально».
Сурово, но, по-видимому, справедливо. Новый император, почти во всем оставаясь полной противоположностью Победоносцеву, был к нему чрезвычайно расположен. Испуганное письмо Победоносцева, в котором он умолял царя блюсти строжайшие меры предосторожности, возможно, возымело свое действие: царь вскоре удалился из опасного многолюдного Зимнего дворца в Гатчину.
Кони писал: «Впереди виделось давно желанное окончание изжитой роли самодержавия и призыв общества, постепенно и систематически подготовленного, — без смуты и кровавых потрясений, к участию в законодательной деятельности. Роковой день — 1 марта 1881 г. — отодвинул мирное осуществление этого призыва на целую четверть века… Все робкое в обществе шарахнулось в сторону реакции, и на внутреннем политическом горизонте обрисовались зловещие фигуры Победоносцева и графа Д. А. Толстого… Потянулись серые, бесцветные дни наружного спокойствия и кажущейся прочности отжившего порядка…
Сын Александра II не последовал примеру своего отца, и ничто не напоминало в его царствовании царя-Освободителя в царской резиденции, кроме нелепо начатой постройки собора на месте убийства, около которой нагрели себе руки разные чиновные воры, обратившие собранную со всей России народную „копейку“, эту медную слезу русского народа, в удобные для кражи кредитные бумажки».
На ближайшие годы для самодержавия Победоносцев вполне оправдал свою фамилию (в чуть более отдаленной перспективе, как показал опыт истории, он стал поистине Бедоносцевым). Самодержавие не пошатнулось, а напротив, окрепло. Ни о каких уступках террористам не было и речи. Казалось бы, должна была усугубиться революционная ситуация. А вышло наоборот. В народе, да и среди многих революционеров терроризм не одобрялся. Народ желал стабильности, а не потрясений.
Получалось так, что в деятельности революционеров-экстремалов были заинтересованы наиболее ревностные защитники самодержавия и жестких мер подавления инакомыслия. Многие деятели департамента полиции, призванные бороться с террористами, получили дополнительные возможности для карьеры, наград, повышенных окладов жалованья и для финансовых злоупотреблений.
Назначенное Александром II на 8 марта 1881 года обсуждение проекта либеральных реформ состоялось уже при Александре III. Проект, как мы знаем, был отклонен. 29 апреля был обнародован манифест царя о незыблемости самодержавия. На следующий день подал прошение об отставке Лорис-Меликов; последовали отставки военного министра Д. А. Милютина и министра финансов А. А. Абазы. Тем не менее были сделаны некоторые уступки крестьянству, стали созываться совещания представителей земств и вышел циркуляр о «неприкосновенности прав дворянства и городского сословия».
Новый император заявил о твердом намерении «укреплять и сохранять самодержавие от любого возможного посягательства». Как показали дальнейшие события, это было верное решение для укрепления Российского государства на некоторый срок (но с последующей неминуемой катастрофой).
Некоторые мероприятия были реакционными в дурном смысле этого слова. Ужесточилась цензура, была уменьшена свобода преподавания. Министр народного просвещения Делянов выступил, в сущности, против просвещения народа. Гимназическому начальству вменялось в обязанность опрашивать учеников, какую квартиру занимает их семья, сколько у них прислуги. Запрещалось принимать в гимназии «детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей».
Были предоставлены дополнительные льготы дворянству. Укреплялись позиции Православной церкви. Внедрялась русификация; заметно ограничивались гражданские права евреев. Дворяне, Православная церковь и великороссы признавались главной опорой государства. Это была действительно имперская политика.
14 августа 1881 года Александр III подписал законодательный акт, ужесточающий полицейский надзор в стране: «Распоряжение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и приведении определенных местностей империи в состояние Усиленной Охраны». Как писал, выйдя в отставку, бывший в начале XX века начальником Департамента полиции А. А. Лопухин, данное распоряжение «поставило все население России в зависимость от личного усмотрения чинов политической полиции». Было создано, по существу, полицейское государство.
«Политика Александра III, — писал историк М. Карпович, — представляла собою безнадежный анахронизм. Она была попыткой реставрировать прошлое, которое умерло и не подлежало возрождению. Опора правительства на альянс самодержавия и дворянства упускала из виду общую тенденцию русской социальной эволюции после освобождения… Ни экономически, ни социально, ни интеллектуально дворяне более не могли господствовать в стране, не принимая во внимание иные классы. Не более удачной… была и тенденция заменить широкую концепцию империи как политической структуры, защищающей многие расы и народности, жесткой формулой исключительного национализма, опирающейся на узкий этнический базис».
Однако в то же время проводилась индустриализация промышленности, начиная с широко развернувшегося строительства железных дорог и перехода их под государственный контроль. В 1882–1886 годах было принято первое рабочее законодательство в России, с которого начались ограничения эксплуатации трудящихся.
При Александре III именно благодаря наиболее целесообразной в подобных случаях политике «кнута и пряника», некоторым послаблениям в экономической сфере и жестокому полицейскому режиму Российская империя смогла расправиться с революционным движением. Даже страшный голод 1891–1892 годов и эпидемия холеры не поколебали устоев государства. Голодные и холерные бунты, вспыхнувшие в отдельных губерниях, были быстро подавлены.
…Общественный организм, достигнув относительного совершенства и стабильности, продолжая усиливать свой потенциал без принципиальных изменений государственного устройства и внутренней политики, обречен на кризис. Его закостеневшая структура не может долго противостоять разнообразным процессам, происходящим вокруг и в нем самом.
Так может продолжаться сравнительно долго (по нашим обыденным меркам). Но когда противоречия накапливаются годами, в конце концов происходит революционный взрыв. (Этот закон завершающей фазы «совершенства и кризиса» характерен для любых сложных развивающихся систем — материальных и духовных, интеллектуальных.)
ИСТОРИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Если бы Александр III продолжил либеральную политику отца и оставил у власти Лорис-Меликова (под руководством которого была полностью разгромлена террористическая организация), то судьба России могла сложиться иначе. О возможности такого «альтернативного пути» после убийства императора Александра II говорили выдающийся русский философ Владимир Соловьев и великий писатель Лев Толстой.
…28 марта 1881 года в Кредитном обществе состоялась вторая лекция Владимира Соловьева о просвещении в России. Он прежде обещал не касаться политики, но не выдержал и сказал: «В своем политическом вожде народ русский видит не представителя внешнего закона, как чего-то самостоятельного, а носителя своего духовного идеала… Но если царь действительно есть личное выражение всего народного существа, и прежде всего, конечно, существа духовного, то он должен твердо стоять на идеальных началах народной жизни…
Настоящая минута предоставляет необычайный дотоле случай для государственной власти оправдать на деле свои притязания на верховное водительство народа. Сегодня судятся и, вероятно, будут осуждены убийцы царя на смерть. Царь может простить их, и если он действительно чувствует свою связь с народом, он должен простить… Пусть царь и самодержец России заявит на деле, что он прежде всего христианин, а как вождь христианского народа, он должен, он обязан быть христианином».
Полковник Генерального штаба Андреев донес об этом высказывании градоначальнику генерал-майору Н. М. Баранову и подчеркнул, что было на лекции более тысячи человек. Баранов доложил о случившемся Лорис-Меликову (он еще оставался министром внутренних дел), а тот — царю, предлагая не принимать строгих мер взыскания.
Тем не менее философу запрещалось впредь до особого разрешения произносить публичные речи.
А еще в середине марта того же года Лев Толстой написал царю о страшном искушении отомстить смертью за смерть своего отца, по закону Ветхого Завета, а не по заповеди Иисуса Христа: «Вы сделаете величайшее дело в мире, поборете искушение, и Вы, Царь, дадите миру величайший пример исполнения учения Христа — отдадите добро за зло».
Его письмо было очень обстоятельное и убедительное, хотя и немного сбивчивое, что объясняется сильным волнением писателя. Он уверял: руки царя-христианина должны быть чисты от крови, пусть даже преступников, и просил не подписывать смертных приговоров. Страшно трудно отвечать на зло милосердием. Но если действительно таков закон Бога — надо его исполнять. Тогда будет польза всем.
Наступил момент — первый и единственный, когда надо сделать решительный выбор. Уже не раз воздавали злом за зло — и всё безрезультатно. Надо испытать другой путь, завещанный Иисусом Христом. Против их идеала, который не уничтожишь, убив несколько человек, нужен идеал более высокий, включающий их идеалы.
«Хотя я даю себе отчет, — писал Толстой, — что это с моей стороны лишь презумпция и безрассудство просить Вас, Императора России и любящего сына, простить убийцам Вашего отца и, несмотря на давление Вашего окружения, ответить добром на зло, я осмеливаюсь настаивать на этом».
Великий князь Сергей Александрович, младший брат царя, положил это послание Толстого на письменный стол Александра III, который написал на полях письма: «Надеюсь, что никто больше не посмеет отправить мне подобное ходатайство, и я обещаю вам, что все они будут повешены».
Вышло так, что два выдающихся мыслителя России не смогли переубедить царя, который руководствовался мнением начитанного, но посредственного и лишенного творческой потенции «умника» Победоносцева. Лев Толстой написал философу и публицисту Н. Н. Страхову: «Победоносцев ужасен. Дай Бог, чтобы он не отвечал мне и чтобы мне не было искушения выразить ему мой ужас и отвращение перед ним… Молодец Соловьев».
А Победоносцев в письме царю 30 марта посетовал: «Люди так развратились в мыслях, что считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни… Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует. В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же строить новые козни. Ради Бога, Ваше Величество, — да не проникнет в сердце Вам голос лести и мечтательности!» (Можно подумать, что Толстой был «менее русским», чем этот юрист и высокопоставленный чиновник.)
15 июня Победоносцев ответил графу Л. Н. Толстому: «В таком важном деле все должно делаться по вере. А, прочитав письмо Ваше, я увидел, что Ваша вера одна, а моя и церковная другая, и что наш Христос — не Ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в Вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления».
Надо заметить, что убить безоружных, связанных людей, включая хрупкую женщину, ворсе не означает действий мужа «силы и истины». Тем более что в опровержение его лукавой формулировки в письме царю эти люди в любом случае не были бы выпущены на свободу, а потому не могли теперь причинить кому-нибудь зла. Да и милость-то была бы невелика: политические осужденные на пожизненное заключение в Петропавловском каземате обычно не могли прожить и двух лет.
…1 марта 1887 была арестована группа П. Я. Шевырева, в которую входили А. И. Ульянов, П. И. Андреюшкин, В. Д. Генералов, B. C. Осипанов и др. Это была террористическая фракция партии «Народная воля», готовившая покушение на царя. Ее программу Александр III прочитал. Вот ее фрагменты:
«Когда у интеллигенции была отнята возможность мирной борьбы за свои идеалы и закрыт доступ ко всякой форме оппозиционной деятельности, то она вынуждена была прибегнуть к форме борьбы, указанной правительством, то есть к террору. (Фраза подчеркнута императором с пометой на полях: „Ловко!“)
Террор есть, таким образом, столкновение правительства с интеллигенцией, у которой отнимается возможность мирного культурного воздействия на общественную жизнь… Реакция будет усиливаться, а с нею и угнетенность большей части общества, но тем сильнее будет проявляться разлад правительства с лучшею и наиболее энергичною частью общества, все неизбежнее будут становиться террористические факты, а правительство будет оказываться в этой борьбе все более и более изолированным». (Вторая половина фразы подчеркнута императором с записью на полях: «Самоуверенности много, отнять нельзя!»)
Революционеры требовали предоставить «свободу мысли, свободу слова и участие народного представительства в управлении страной». Пятеро упомянутых выше потенциальных юных террористов были повешены на этот раз не публично, а в Шлиссельбургской крепости 8 мая 1887 года. Это уже была акция устрашения со стороны царя, боявшегося террористов. Такая казнь — только за подготовку покушения — это даже не воздать злом в ответ на зло. И словно какими-то тайными путями исторической судьбы в октябре 1917 года власть в стране взяла партия, руководимая младшим братом Александра Ульянова — Владимиром Лениным.
Александр III упорно и жестоко проводил государственный террор против политических террористов. Результаты были трагическими для Российской империи. Если о результатах «альтернативного пути» можно только предполагать, то избранный путь вел царскую власть, как оказалось, в пропасть.
После убийства министра внутренних дел Плеве в июле 1905 года царское правительство пошло (не слишком ли поздно?) на либеральные уступки. Политический террор доказал свою эффективность. А. А. Лопухин (1864–1928) — директор Департамента полиции в 1903–1905 годах, осужденный в 1909 году за подтверждение догадки В. Л. Бурцева о провокаторе Азефе на 4 года поселения в Сибири — в своих воспоминаниях писал:
«Я вынес впечатление, что единственным фактором, совершившим в нем упомянутый поворот (от самодержавия, к народному представительству, — Р.Б.) был страх. Но ошибаются те, кто думает, что испугало его событие 9 января 1905 г.». Убийство И. П. Каляевым 4 февраля 1905 года великого князя Сергея Александровича «знаменовало для Николая II близость опасности для него лично, оно и толкнуло его на попытку эту опасность предотвратить».
Вот еще одно свидетельство весьма авторитетного лица — А.В… Герасимова. В 1905–1909 годах он был начальником Петербургского охранного отделения, с 1907-го — генерал-майором Отдельного корпуса жандармов, сотрудником Столыпина; ушёл в отставку с 1914-м, в эмиграции с 1918 года. Герасимов писал в книге «На лезвии с террористами»:
«Начиная со злосчастного красного воскресенья, вся страна непрерывно находилась в состоянии революционного волнения… Революционные партии находили поддержку среди всего населения… Мы, на ком лежала задача охранения основ государственного порядка, были совершенно изолированы и одиноки-Особыми симпатиями среди интеллигенции и широких обывательских масс, даже умеренных слоев общества пользовались социалисты-революционеры (эсеры. — Р.Б.). Эти симпатии к ним привлекала их террористическая деятельность. Убийства Плеве и великого князя Сергея подняли популярность социалистов-революционеров на небывалую высоту. Деньги в кассу их центрального комитета притекали со всех сторон и в самых огромных размерах».
А вот что писал в 1902 году В. М. Чернов (1873–1952) — из дворян, член ЦК партии эсеров:
«Значение террористической борьбы как средство самообороны слишком очевидно и понятно…
Вспомним времена „Народной воли“. Тогда еще более грозное и сильное правительство стояло лицом к лицу с гораздо более слабым врагом. Взаимная ненависть, взаимное ожесточение достигало крайних пределов. Но и тогда правительство не осмеливалось на такую наглость, как порка десятками своих политических противников. Правительство их ненавидело всеми силами души — но оно в то же время втайне боялось и уважало их…
Если героическая борьба „Народной воли“, разыгравшаяся в эпоху меньшей культурной и политической зрелости России, при отсутствии сколько-нибудь активной поддержки со стороны масс, смогла пошатнуть трон и поставить на очередь вопрос о конституции, то — теперь, при наличности относительно сильного движения, при общем оппозиционном настроении в широких культурных слоях, при подъеме революционного духа в молодежи, при более и более сильных взрывах крестьянского недовольства, при общем экономическом и финансовом расстройстве страны, повторение такой же борьбы, несомненно, дало бы гораздо большие результаты».
Да, результат оказался колоссальным: падение царской власти. Хотя произошло это в значительной степени благодаря анархическим выступлениям народных масс. Таким сокрушительным поражением в перспективе обернулась политика укрепления самодержавия на стадии «совершенства и кризиса».
А что могло произойти, если бы Александр III послушался советов не Победоносцева с его сторонниками, а Лорис-Меликова, Владимира Соловьева, Льва Толстого? Такой вариант был вполне возможен.
Отмена Александром III смертной казни убийцам своего отца безусловно произвела бы колоссальное впечатление и в державе, и во всем мире. Ретрограды и часть террористов были бы обескуражены. Первые сочли бы это проявлением слабости царской власти, а вторые — ее нравственной силы. В народе авторитет императора поднялся бы, можно сказать, на недосягаемую высоту.
Подавляющее большинство населения России по традиции считали царя не только самодержцем-правителем, но и помазанником Божьим. Он обладал не только всей полнотой государственной власти, но еще и мистической, дарованной свыше. Ее пошатнуло убийство Александра II. Но теперь стало бы ясно, что правит новый царь благоволением Иисуса Христа. Для русского народа это стало бы очевидно. А революционеры предстали бы в облике злобных демонов-разрушителей.
Большинство знати относилось прагматично к царской власти. Им было хорошо известно, как происходили государственные перевороты, как приближенные убивали своего повелителя (например, Павла I), и не постигала их никакая кара. Однако царским сановникам пришлось бы признать — хотя бы в глубине души — моральное величие нового императора.
Либеральные реформы Лорис-Меликова по сути своей не были уступкой революционерам. Влиятельный публицист и незаурядный мыслитель Н. К. Михайловский в «Листке Народной воли» назвал его деятельность политикой волчьей пасти (для революционеров) и лисьего хвоста (для либералов). Лорис-Меликов, оставаясь противником конституции, был убежден в необходимости привлечь к обсуждению законопроектов выборных от губернских земских собраний и городских дум крупных городов.
Правда, граф П. А. Валуев, министр внутренних дел (1861–1868), председатель кабинета министров в 1879–1881 годы, называл в «Дневнике» «ближнего боярина Мишеля I» «монументом нравственной и умственной посредственности». Но тут, пожалуй, проявилась зависть к высокому положению, которое занял «конкурент». Великим мыслителем Лорис-Меликов не был, так же как Валуев, но нравственно он заметно превосходил последнего, проявляя мужество, честность, благородство, отсутствие корысти и зависти.
Известный историк Георгий Вернадский (сын В. И. Вернадского) назвал Лорис-Меликова «мудрым и способным государственным деятелем, который, будучи настроенным подавить революционную деятельность, был тем не менее готов удовлетворить некоторые желания прогрессивных групп русского общества».
А. Ф. Кони, неплохо разбиравшийся в людях, полагал, что Лорис-Меликов «выгодно отличался от других, носивших то же звание, своим умением действовать примирительно и твердо, находчиво и решительно, что было блестящим образом подтверждено энергическим локализированием ветлянской чумы, на борьбу с которой он был послан». И еще:
«Человек воспитанный и изящный в своей внешности, Лорис был очень деликатен в отношениях, умея оказывать самое любезное, но не назойливое гостеприимство… Вместо „хитрого и лукавого царедворца“ я видел перед собой доверчивого, даже слишком доверчивого человека, относившегося с простодушной откровенностью к людям, нередко совершенно того не стоившим… Это был просто очень хороший, доброжелательный человек, чуждый узкого себялюбия и корыстолюбивого эгоизма и одаренный здравым смыслом».
Гибкая политика, здравый смысл и твердая воля такого государственного деятеля подрывали бы корни революционного движения в России, тогда как жесткое самодержавие и жестокие расправы с террористами при внешней эффективности укрепляли эти самые корни, срезая «вершки». Милосердие царя (относительное, если иметь в виду замену смертной казни пожизненным заключением) показало бы народу его безусловное духовно-нравственное превосходство над революционерами.
Недругам России также был бы нанесен сильнейший удар. Ведь они упирали на отсутствие в России демократии, засилье «азиатской жестокости» (хотя сами тысячами расстреливали людей не только в своих колониях, но и «свободных граждан», как было, например, во время подавления Парижской коммуны в 1871 году).
Дальнейшие события предвидеть трудно. Не исключено, что в конце концов установилась бы в России конституционная монархия, и она вошла бы в число крупнейших капиталистических государств. Со временем, наращивая свою мощь, эти державы поставили бы мир на грань глобальной социально-экономической, духовной и экологической катастрофы уже в XX веке. Ведь именно противоречия между капиталистическими странами стали главной причиной Первой мировой войны. Если бы ее удалось избежать под лозунгом «Эксплуататоры всех стран, соединяйтесь!», то все равно сказались бы неустранимые пороки буржуазной демократии, власти плутократов-олигархов, истощение природных ресурсов и загрязнение биосферы.
Благодаря подавлению революционного движения и либеральным реформам в России социалистические преобразования могли начаться «сверху». Для этого потребовались бы интеллект, добрая воля и решимость не только монарха, но и его ближайшего окружения.
Если бы верховный руководитель нашей страны показал пример милосердия, то, как знать, не сплотило бы ли это народы России? Вместо усиления репрессивного аппарата мог бы последовать подъем культуры и просвещения, уровня народного образования, как это произошло через два десятилетия после Великой Октябрьской революции, но только без гражданской войны…
Впрочем, возможен и другой вариант: либеральные реформы могли выродиться в подражание западным буржуазным демократиям. Тогда бы наша страна, утратив свою самобытность, превратилась в сырьевой придаток Западной Европы, стала экономически зависимым и слабо развивающимся государством, ибо не смогла бы конкурировать на равных с такими же, но более «продвинутыми» капиталистическими державами.
Одно ясно: ход российской и мировой истории был бы иным. Заманчиво всерьез обсудить несколько вариантов альтернативной истории, но это уже особая тема. Единственное, что хотелось бы добавить: не случайно переход к социализму впервые в мире произошел в царской России, сохранившей элементы феодального строя. В этом смысле можно сказать, что социализм есть высшая стадия феодализма. Ведь если в стране устойчиво процветает и укрепляет свои позиции буржуазия, приобретая всю полноту идеологической и экономической власти, справиться с ней чрезвычайно трудно. Тем более что буржуазное сознание приобретают представители разных социальных слоев. Оно привлекательно своей примитивностью, материализмом и пошлостью.
…Итак, после убийства Александра II новый император направил Россию по пути, который вел, как оказалось (ради чего жертвовали собой террористы), к полному краху самодержавия.
Как бы мы ни относились к революциям, но надо признать: они несут с собой не только бедствия (их и без того немало), но и обновление, возбуждают героический энтузиазм, стремление к высшим целям. А к тому времени Российская империя нуждалась в коренном обновлении.
Противники революций (с таким же успехом можно быть противником землетрясений, цунами, ураганов и вулканов) стараются опошлить эти идеалы и свести все к борьбе за власть, к проявлениям честолюбия, злодейства и жажды славы. Это — гнусная клевета. Спору нет, в революционном движении участвовали люди разные по уму, характеру, целям жизни. Но те из них, кто рисковал жизнью, имея ничтожные шансы хотя бы как-то воспользоваться плодами революции, были достойнейшими людьми…
Впрочем, таково лишь голословное утверждение. А против него есть хотя и не менее голословные, но высказывания авторов весьма авторитетных, в частности, Ф. М. Достоевского и В. В. Розанова.
Глава 5 ВЕСЫ ТЕРРОРА В ЛИТЕРАТУРЕ И ЖИЗНИ
НОСТАЛЬГИЯ ПО САМОДЕРЖАВИЮ
Трагедия и бедствия Гражданской войны сотрясли российское общество. У большинства более или менее обеспеченных людей психика дала сбой. Они почему-то решили, что вся беда в том, что власть перешла к большевикам.
В действительности сказалась прежде всего слабость Временного правительства и стремление буржуазных «демократов» («белых») взять власть силой. А сил у них не хватило, несмотря на помощь зарубежных «спонсоров» и иностранную интервенцию.
Они потерпели полное поражение, потому что их не поддержал народ. Об этом с полной определенностью писал великий князь Александр Михайлович, один из немногих уцелевших представителей Дома Романовых, человек умный и весьма осведомленный (естественно, ненавидевший большевиков):
«Положение вождей Белого движения стало невозможным. С одной стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали своих босоногих добровольцев к священной борьбе против советов, с другой стороны — на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской Империи, апеллируя к трудящимся всего мира».
Интриги союзников заключались в том, что они начали, как говорится, делить шкуру неубитого медведя: делить страну, объятую пожаром жестокой междоусобицы, на сферы своего влияния, не дожидаясь, когда «белые» победят «красных». Им казалось, что эта победа неизбежна. Странная наивность великого князя. Неужели он предполагал, что капиталистические государства (Англия, Франция, США, Япония) готовы им безвозмездно, бескорыстно помогать? Где видано такое? Рабочие этих стран действительно по мере сил поддерживали трудящихся нашей страны, чем затрудняли своим правительствам активно действовать против Советской России.
Говорят, будто большевикам помогала Германия. Однако она оккупировала значительную часть Европейской России. Большевикам пришлось немало потрудиться, чтобы вернуть эти территории. Никаких денег от германского Генштаба они не получали. Повторю: буржуазные державы воспользовались Гражданской войной в России, чтобы расчленить ее и установить свое господство над этими территориями. (Показательно, что именно такое расчленение произвели в 1991 году антисоветские правители России, Украины, Белоруссии.)
Итак, белых возглавляли свергнувшие царя сторонники буржуазной «демократии». А против них выступали те, кто не желал ни иноземного владычества, ни господства буржуазии, ни расчленения России. Основное соотношение противостоявших сил было таким (хотя среди «белых» находились и сторонники монархии, плохо понимавшие, за что же они сражаются). Победа большевиков позволила в кратчайшие сроки восстановить и значительно укрепить государство.
Но кто во времена смуты мировой войны, начавшейся в 1914 году, и анархических революций 1917 года мог предвидеть, что произойдет в дальнейшем? Как известно, даже теоретик и практик русской революции В. И. Ленин еще в начале этого года в Швейцарии посетовал, что может не дожить до падения самодержавия.
Русский писатель и философ В. В. Розанов (1856–1919) в своих заметках «Мимолетное. 1915 год», словно предчувствуя грядущие катастрофы, обрушился на революционеров после того, как были опубликованы воспоминания Веры Фигнер. Вот он обращается к полицейскому, квартальному с просьбой сохранить царскую Россию:
«Береги, миленький, стой, миленький. Ты — Народная Русь. И мы с тобой взнуздаем и Стасюлевича, и Желябова.
Тащи, родименький его в участок. В клоповник его…
Там и Соне Перовской, и „великой Вере“ (Ф.) найдется место».
Как-то странно слышать от умного человека приглашение в участок давно казненных Желябова и Перовской. А Вера Фигнер провела 20 лет в Шлиссельбургской крепости! А это похуже, чем «клоповник» в участке. Да и что ж это за воплощение «Народной Руси» — полицейский? И ведь не шутит писатель (остроумием он не блистал).
Дальше у Розанова — больше:
«Россия обязана „отступить“, потому что против нее „соединились“ Желябов и эта гнусная Сонька, его любовница из генеральш. Позвольте: да почему Россия должна отступить? Россия — 100 000 000 населения, пахотные поля в миллиард десятин, сады яблочные, вишневые, огороды с капустой, морковью, свеклой, картофелем. Отчего все это должно „повернуть на другой румб“ ради Соньки и Желябки (до чего гнусная фамилия, — и по портрету, самодовольная харя мужичонки, который наконец „выучился“).
— Почему? Почему? Ради Бога — почему?»
Неприятно слышать от многими уважаемого мыслителя истошный вопль трусливого обывателя, дрожащего над своим добром, дачей, благополучием, интеллектуальными занятиями. Словно террористы отнимут не только у него лично, но и у всей России сады, огороды, поля. Словно революционеры распространяют террор не на правителей и жандармов, а на все сто миллионов населения.
«Как мне нравится Победоносцев, — писал Розанов, — который на слова: „это вызовет дурные толки в обществе“, остановился, и не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше». Неужели можно восторгаться таким отношением к общественному, а возможно, и народному мнению? Тут и вправду одна опора — на полицию.
В 1912 году Розанов признался: «Вот и я кончаю тем, что все русское начинаю ненавидеть. Как это печально, как страшно.
Печально особенно на конце жизни…
Эти заспанные лица, неметеные комнаты, немощеные улицы…
Противно, противно».
Насколько мне известно, никто из революционеров ничего подобного не говорил. Хотя они многим возмущались, от многого страдали, хотя их порой выдавали полиции «простые» люди — крестьяне, рабочие, мещане, — до конца жизни подлинные революционеры боролись за то, чтобы жизнь трудового народа в России стала лучше, достойнее.
Есть что-то жалкое и непристойное в том, как он злобно поносит людей давно убитых, трагических героев, которые пошли на смерть ради торжества идеи социальной справедливости (пусть даже кому-то она кажется ложной; но ведь они не выгоду себе искали!).
Безусловно, В. В. Розанов, как любой человек, имел полное право записывать в свой дневник, что ему угодно. Но у него лишь по форме дневник, а по сути это заметки не только, а то и не столько для себя, а обращенные к читателю. Хотя и в этом случае нет смысла упрекать писателя за то, что он высказывает свою точку зрения. Печально другое — ложь.
Как свидетельствовал о Желябове Л. Г. Дейч: «Это была очень сложная и богато одаренная от природы натура. Сын крестьянина, он унаследовал физические свойства своих родителей — земледельцев. Высокого роста, прекрасно сложенный, с широкой грудью и крупными чертами лица, Желябов, которому тогда было под тридцать лет, на вид казался значительно старше этого. Уже одной внешностью он выделялся в нашей среде и при первом взгляде обращал на себя внимание».
Ольга Любатович, член исполкома «Народной воли», так характеризовала Желябова: «Это был высокий, стройный брюнет с бледным лицом, прекрасной окладистой темной бородой, большим лбом и выразительными глазами. Речь его была горяча и порывиста, голос приятный и сильный».
Правда, так писали соратники Желябова. Но то, что у него не было «самодовольной хари мужичонки», нетрудно убедиться, взглянув на его портреты. В отличие от В. В. Розанова, Желябов был красивым видным человеком. Перешедший в лагерь монархистов Лев Тихомиров писал, что у него было очень острое ощущение жизни, способность всецело отдаваться каждому ее мигу, воспринимать жизнь разносторонне и многогранно. Его любимые поэты — Лермонтов, Байрон, Гейне — соответствовали мятежной, жаждущей полноты жизненных впечатлений и вечно неудовлетворенной реальностью натуры революционера.
Высоко ценивший творчество Розанова Николай Бердяев писал: «Во главе террористической организации Народной воли, подготовившей покушение 1 марта 1881 г., стояла героическая личность А. Желябова». И еще: «Желябов… менее всего был материалистом и из русских революционеров был наиболее близок к христианству. На суде по делу 1 марта, на вопрос православный ли он, ответил: Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Христа признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за право угнетенных и слабых, и если нужно, то за них и пострадать: такова моя вера. Перед казнью он поцеловал крест».
Была ли гнусной «Сонька»? Вот слова Л. Г. Дейча о ней: «Небольшого роста, с очень выразительным лицом, проникнутая бесконечной симпатией ко всем „униженным и оскорбленным“, Софья Львовна никогда не выражала резкими эпитетами своих чувств и взглядов. Тихим, мягким, почти детским тоном отстаивала она необходимость террора».
Князь-анархист, честный и благородный Петр Кропоткин, посещавший сходки народников на окраине столицы, где Софья Перовская сняла домик, имея паспорт жены мастерового, вспоминал:
«Со всеми женщинами в кружке у нас были прекрасные товарищеские отношения. Но Соню Перовскую мы все любили… При виде Перовской у каждого из нас лицо расцветало в широкую улыбку, хотя сама Перовская мало обращала внимания и только буркнет: „А вы ноги вытрите, не натаскивайте грязи“…
Когда она была недовольна кем-нибудь, то бросала на него строгий взгляд исподлобья, но в нем виделась открытая, великодушная натура, которой все человеческое не было чуждо. Только по одному пункту она была непреклонна. „Бабник“, — выпалила она однажды, говоря о ком-то, и выражение, с которым она произнесла это слово, не отрываясь от работы, навеки врезалось в моей памяти…
Перовская была „народницей“ до глубины души и в то же время революционеркой и бойцом чистейшего закала. Ей не было надобности украшать рабочих и крестьян вымышленными добродетелями, чтобы полюбить их и работать для них. Она брала их такими, как они есть, и раз, помню, сказала мне: „Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется лечь на нем, но сделать его надо“. Ни одна из женщин нашего кружка не отступила бы перед смертью на эшафоте. Каждая из них взглянула бы смерти прямо в глаза. Но в то время, в этой стадии пропаганды, никто об этом не думал.
Известный портрет Перовской очень похож на нее. Он хорошо передает ее сознательное мужество, ее открытый, здравый ум и любящую душу».
Ненависть В. В. Розанова к революционерам имела, пожалуй, не только социальные корни, но и личностные. Они были чужды ему как люди героического склада не на словах, а на деле, не боящиеся смерти. Василий Васильевич был почти во всем, даже внешне, прямой их противоположностью. Он писал:
«Нина Руднева (родств.), девочка лет 17, сказала в ответ на мужское, мужественное, крепкое во мне:
— В вас мужского только… брюки…»
Он признавался в «антипатии ко мне женщин, которою я всегда (с гимназических лет) столько мучился».
«Маленький и тщедушный, — писал Д. Дарский, — с жиденькой бороденкой и в поношенном пиджаке, с шаркающей походкой и как будто все куда-то пробирающийся сторонкой, он казался какою-то обывательской мелюзгой, не то плюгавым писцом, не то захолустным мещанинишкой. Но вдруг целые снопы брызнувших из глаз искр и лучей, на мгновение озарив его лицо, неотразимо внушали представление о человеке исключительных даров духа, о существе редкой породы, ошибкою среды заброшенном в нашу мутную среду».
Тут одна неточность: надо бы сказать, пожалуй, — «даров интеллекта», а не духа. Он признавался: «И „мои сочинения“, конечно, есть „моя душа“, рыжая, распухлая, негодная, лукавая и гениальная». «При безумной жажде жизни, именно жизни, я ведь не живу и нисколько не жил, а только „писал“». «Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь». «Я пришел в мир, чтобы видеть, а не совершить». «Нужно хорошо „вязать чулок своей жизни“ и — не помышлять об остальном».
Впрочем, вопреки этому совету, сам он «помышлял» о многом, был, можно сказать, вольным мыслителем и порой посягал даже на основы христианства. В этом он был революционером, хотя лишь в сфере рассуждений, но не действия. Еще одно сходство с народовольцами: индивидуализм. Но если у них он был социалистический, овеянный романтикой рыцарства, то у него — буржуазный.
На мой взгляд, Розанов в своем умственном бунтарстве напоминает героя «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского. Он встает на позицию обывателя (ему наиболее близкую) и стремится ее защитить, оправдать, утвердить. В глазах Розанова — учителя гимназии, затем чиновника и, наконец, литератора, — революционеры, посягавшие на тихую спокойную жизнь обывателя, виделись бандитами.
«Революция течет где-то и как-то параллельно хулиганству, революция есть порыв хулигана сыграть роль героя». Он заранее, еще в 1915 году проклинал революцию и обзывал нехорошими словами революционеров, в особенности убивших Александра II: «Все они идут гордые и самодовольные. На них смотрит история, и они герои, и так в собственных глазах. Между тем это просто „пустое место истории“, без содержания…»
Так ли? Какое же это пустое место истории, если о нем постоянно пишут, его исследуют. И Розанов то и дело обрушивался на них, тем самым опровергая собственное утверждение о «пустом месте». Он высказывался не только озлобленно, но и несправедливо:
«Революционеры никак не могут понять, что их только щадят, что их щадил все время тот Старец-Государь, за которым они гонялись с бомбами и пистолетами… Что он мог ступить и раздавить: но ему было жаль их, жаль этих молодых людей, о которых он не мог окончательно поверить, что это только негодяи.
Не верил по идеализму своему, по всепрощающей старости, по обширному горизонту созерцаний, в котором Желябовы и Кибальчичи копошились как мухи…»
Словно не знал Розанов, как жестоко расправлялся государь с теми, кто покушался на его жизнь; что огромная армия полицейских и жандармов разыскивала революционеров и нередко карала невинных. Вот если бы император действительно проявил милосердие к тем, кто на него покушался, то это могло нанести сильнейший моральный удар по террористам. Но ведь этого не произошло!
И закрадывается мысль, предположение: а если столь резкая и несправедливая реакция Розанова объясняется тем, что он где-то в глубине души завидовал и внешнему виду, и героизму, и воздействию на историю революционеров? Может быть, он стремился убедить прежде всего самого себя в том, что они дурны, низки, уродливы, неблагородны (и это такие, как Петр Кропоткин?!), что они чужды русскому народу.
Или такой пассаж: «Толстой прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь… Это ему и на ум никогда не приходило.
Никакого страдания; никакого „тернового венца“; никакой героической борьбы за убеждения; и даже никаких особенно интересных приключений: полная пошлость».
Тут впору опешить: да как же тогда расценивать жизнь революционеров? Страдания, «терновый венец» (по пути на казнь, когда толпа едва ли не кричит: «Распни его!»), героическая борьба за убеждения, захватывающие дух приключения — все в точности относится к террористам. Выходит, у них-то и была абсолютно не пошлая жизнь и смерть, их бы и должен был возносить Розанов!
Нет, куда ему… Он ведь прожил именно — по его собственному определению — глубоко пошлую, серую, заурядную обыденную жизнь (если исключить писательство). В отличие, скажем, от Льва Толстого, который побывал и в осажденном Севастополе, и среди вольных казаков, и торжественно был отлучен от Православной церкви, и много страдал — не столько за себя, сколько за других.
Оплевал Розанов и всю нашу литературу, причем в ее высших достижениях XIX века: «По содержанию литература русская есть такая мерзость, такая мерзость бесстыдства и наглости, как ни единая литература. В большом Царстве, с большою силою, при народе трудолюбивом, смышленом, покорном, что она сделала? Она не выучила и не внушила выучить, чтобы этот народ хотя бы научился гвоздь выковать, серп исполнить, косу для косьбы сделать».
Вот уж поистине занесло писателя в небывальщину! Да ведь народ-то оставался в большинстве неграмотным, и трудом задавлен, когда и как бы ему романы и повести читать? А когда предоставили русскому народу и среднее и высшее образования, то смог и великолепные самолеты, и космические ракеты, и атомные электростанции и многое другое создавать на высшем мировом уровне. Но это уже была иная — Советская держава.
После того, как грянули и пронеслись революционные бури 1917 года, Розанов с изумлением написал: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три… Поразительно, что она разом рассыпалась вся…
Остался подлый народ…»
Рухнула не только Российская империя, но и вера таких, как Розанов, в покорный, терпеливый, набожный, боготворящий царя русский народ: «Переход в социализм и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно „в баню сходили и окатились новой водой“. Это — совершенно точно, это действительность, а не дикий кошмар».
Выходит, упоенный своими мудрствованиями Василий Розанов так и не понял ни своей страны, ни своего народа, ни русской литературы. И вовсе уже попал он впросак в своём поношении революционеров. Они оказались не только творцами истории России, но и победителями (многие — посмертно). Людьми они были, как бы там ни говорить, незаурядными, а то и выдающимися.
Странно, что Розанов не вспомнил о том, что после 1 марта 1881 года в народе прошел устойчивый слух: царя-Освободителя убили богатые помещики за то, что он дал волю крепостным и хотел дальше облегчать жизнь крестьян. Тут важно оценить чрезвычайную сложность внутреннего и внешнего положения страны, чреватой революцией не по воле кучки террористов, не благодаря писаниями социалистов и коммунистов или мощному течению критического реализма в русской литературе.
Были значительно более существенные противоречия в российском обществе, которые лишь обострял государственный террор, к чему и стремились террористы.
ДЕМОНЫ РЕВОЛЮЦИИ
Значительно проницательнее Розанова был великий писатель и мыслитель Федор Михайлович Достоевский, проживший, кстати сказать, трудную, сложную, яркую жизнь (даже побывал в «терновом венце» приговоренного к казни революционера). Он сознавал не только заблуждения, но и правду борцов за социализм. А в своей поэме «Легенда о великом инквизиторе» из романа «Братья Карамазовы» он предрек, пожалуй, феномен И. В. Сталина.
«Нечаевское дело» подвигло Ф. М. Достоевского на создание романа «Бесы». Это наиболее яркое произведение, направленное против революционеров (тем более, с позиций того, кто сам был в их рядах и пострадал за это).
Характерны эпиграфы к роману. Один из Евангелия — о том, как бесы по воле Иисуса из безумца вошли в свиней, которые бросились в озеро и утонули. Другой — из стихотворения «Бесы» А. Пушкина:
Хоть убей, следа не видно, Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторонам Сколько их, куда их гонят, Что так жалобно поют? Домового ли хоронят, Ведьму ль замуж отдают?И название романа, и эпиграфы вводят в заблуждение. Читатель невольно настраивается на восприятие революционеров как бесовского отродья или стада взбесившихся свиней. В действительности это произведение — не политический памфлет, растянутый на 600 страниц. Под злободневным поверхностным слоем романа обнаруживаются глубокие идейные пласты.
«Нет, — писал по этому поводу религиозный философ Сергий Булгаков, — здесь „Бог с дьяволом борется, а поле битвы — сердца людей“, и потому-то трагедия „Бесы“ имеет не только политическое, временное, преходящее значение, но содержит в себе зерно бессмертной жизни, луч немеркнущей истины, как все великие и подлинные трагедии, тоже берущие себе форму из исторически ограниченной среды, в определенной эпохе».
Один из героев романа, раскаявшийся революционер на вопрос «для чего было сделано столько убийств, скандалов и мерзостей», ответил, повторяя идеи сторонников Нечаева:
«Для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал; для того чтобы всех обескуражить и изо всего сделать кашу, и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циническое и неверующее, но с бесконечною жаждой какой-нибудь руководящей мысли и самосохранения — вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта и опираясь на целую сеть пятерок, вербовавших и изыскивавших практически все приемы и все слабые места, за которые можно ухватиться».
Но из этого же романа следует, что идеи социализма действительно захватывают некоторых людей до глубины души, ибо в этих идеях и в этих людях есть благородство и правда, стремление к счастью не личному, а всеобщему. Ради этих высоких целей идет молодежь в тайные революционные организации. И эту тягу ни репрессиями, ни увещеваниями не остановишь.
Достоевский в молодости и сам подвергся жестокому духовному истязанию. Как мы знаем, его вместе с другими участниками кружка «вольнодумцев» осудили на смертную казнь, вывели на плац перед виселицами, инсценировали неминуемую казнь, и лишь в последний момент отменили ее. Все это совершали над теми, кто ничего не украл, никого не ограбил, убийств не совершал и даже не планировал.
В данном случае, как в ряде других, царское «правосудие» было жестоким и несправедливым. Ведь эти революционеры, включая Федора Михайловича, вовсе не были обуяны бесами! Но и тех, кто организовал террористические акты, включая цареубийство, причислять к нечистым нет никаких оснований. Среди них было немало достойных людей. В том, что они не признавали самодержавие, можно усмотреть заблуждение (с монархических позиций) или роковую ошибку, но только не бесовщину. Они не могли бы сетовать: «Сбились мы, что делать нам?» Напротив, твердо верили в благо своего пути — не для себя, а для многих других людей, для всего общества.
Прототипом главного героя романа — Сергея Верховенского — послужил Сергей Нечаев, действительно стремившийся верховодить. Однако Федор Михайлович в своем дневнике написал: «Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева». Да и другие образы революционеров представлены не просто обобщенно или типизировано, а еще и утрированно. В этом проявилась не злая воля автора, а его характер и творческий метод. Как признавался он в письме А. Н. Майкову: «А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная. Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил».
Роман «Бесы» в этом отношении не стал исключением. Преувеличений здесь немало, и они относятся главным образом к изображению революционеров, а также изложению их идей. И то и другое поистине доведено до крайности. Вот как характеризует план тайной организации Верховенский, соглашаясь с идеями члена его кружка Шигалева:
«У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов… Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями — вот шигалевщина!.. Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства».
Автор романа говорит не от своего имени, и даже, отчасти, не от имени главного героя, который высказал вовсе не идею равенства при социализме, а пародию на нее. Ничего подобного не утверждали реальные революционеры. Обычно речь идет не о поголовном равенстве всех и во всем, что невозможно по самым разным причинам, вплоть до физиологических. Равенство понималось как предоставление более или менее одинаковых возможностей для образования, получения работы и должностей, высказывания своих убеждений и т. п. В царской России такого равенства не было. А в рабстве даже крепостные, между прочим, не были равны.
Еще одно высказывание Верховенского, с которым не согласились бы практически все революционеры: «Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве». Но тут же он признается: «Я нигилист, но люблю красоту». И еще: «Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!»
Эти принципиальные оговорки не замечают, не желают замечать враги революционеров. А они совершенно определенно показывают: Верховенский не только по происхождению и образу жизни, но и в идейном отношении не соответствует Нечаеву. Даже принцип «цель оправдывает средства» совершенно чужд Верховенскому, упоенному стремлением к личной власти, но в то же время готовому пресмыкаться перед более сильным: «Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк». Ничего подобного Нечаев не говорил даже знаменитому Бакунину, которого сумел очаровать.
Литературный герой не похож на свой прототип. Одно исключение — организационные способности. Писатель верно оценил одну особенность руководителя «Народной воли»: подобно Верховенскому, он был едва ли не идеальной фигурой для организации тайного революционного общества, нацеленного на разрушение и террор.
Нечаев был целеустремлен, смел и остроумен, хитер и подозрителен, обладал сильной волей, верил в себя и свою правоту, не имел душевных привязанностей и материальных ценностей, умел подчинить себе одних и добиваться расположения других. Его недостатки — самоуверенность, презрение к другим, деспотизм, пренебрежение нравственными нормами — были весьма кстати для руководителя секты заговорщиков.
Есть принципиальное отличие героя романа от Нечаева. Первый принадлежал к привилегированному сословию, отцом его был историк-гуманист, публицист, западник.
Второй, напротив, в детстве и юности пережил немало тягот и унижений, на собственном опыте убедился в вопиющей несправедливости существующего общественного устройства.
Нечаев не заимствовал свои разрушительные убеждения откуда-то извне, и уж никак не из теорий Маркса. Он возрос именно на отечественной почве. Можно считать его подобием сорняка или ядовитого растения, но нет сомнения, что это было проявлением русской действительности, настроений некоторой, пусть и небольшой, части русского народа.
Принято считать, что роман «Бесы» — политический памфлет, представленный в виде художественного произведения, призванный развенчать образы революционеров и их «отцов» — либералов-западников. С таким мнением трудно согласиться. Достоевский постоянно печатал свои памфлеты в цикле «Дневник писателя», и для таких целей вряд ли стал бы сочинять обширный роман.
Он попытался в художественной, отчасти фантастической форме исследовать проявления революционного терроризма в России. Но при этом существенно исказил реальность.
Два основных вождя тайной организации, выведенные в романе (Верховенский и Ставрогин) становятся революционерами не от бедности или оскорбленного личного достоинства, и уж никак не из сочувствия униженным и оскорбленным. Подобно Достоевскому в молодости и его товарищам по кружку Петрашевского, они были дворянами и ориентировались на западные идеи.
Николая Ставрогина в романе величают «принцем». Вот и среди революционеров был принц, и не по прозвищу, а самый настоящий — князь Рюрикович Петр Кропоткин.
Но это был человек безукоризненной честности, истинно благородный (что нечасто встретишь среди «благородного сословия»), мужественный, к тому же выдающийся ученый и мыслитель. Духовно это антипод Ставрогина.
Верно отметил Николай Бердяев: «Герцен, Бакунин, даже такие зловещие революционеры, как Нечаев и Ткачев, в каком-то смысле ближе к русской идее, чем западники, просветители и либералы».
Нечаев или, скажем, Бакунин были подлинно русскими бунтарями, анархистами. Хотя существовало между ними и резкое различие.
Нечаев создавал общество заговорщиков, построенное по принципу жесточайшей дисциплины, жестокости, беспрекословного повиновения руководителям; он стремился исключительно к разрушению без представления о последующих преобразованиях.
В пространном письме к Нечаеву (2 июня 1870 года) Бакунин, узнавший о его преступлении, а также лжи и прочих мерзких поступках, отверг его методы:
«Не подлежит сомнению, что Вы наделали много глупостей и много гадостей, положительно вредных и разрушительных для самого дела. Но несомненно для меня также и то, что все ваши нелепые поступки и страшные промахи имели источником не ваши личные интересы, не корыстолюбие, не славолюбие и не честолюбие, а единственно только ложное понимание дела. Вы — страстно преданный человек; Вы — каких мало; в этом ваша сила, ваша доблесть, ваше право. Вы и Комитет ваш, если последний действительно существует (об этом всероссийском Комитете Нечаев солгал. — Р. Б.), полны энергии и готовности делать без фраз все, что Вы считаете полезным для дела, — это драгоценно.
Но ни в Комитете вашем, ни в Вас нет разума — это теперь несомненно. Вы как дети схватились за иезуитскую систему… позабыли в ней саму суть и цель общества: освобождение народа не только от правительства, но и от Вас самих. Приняв эту систему, Вы довели ее до уродливо-глупой крайности, развратили ею себя и опозорили ею общество».
В этом письме Бакунин демонстрирует свою искренность, благородство и наивность. Ведь Нечаев не только подло его обманывал, но и был, судя по всему, не лишен таких качеств, как властолюбие и честолюбие.
Бакунину трудно было это понять еще и потому, что сам этих пороков не имел. Но для нас в данном случае важно иметь в виду другое. Поведение Нечаева, его попытка создать тайное общество на тех началах, о которых писал в «Бесах» Достоевский, полностью провалилась именно потому, что не нашла отзвука в душах русских революционеров — даже таких экстремистов, как Михаил Бакунин.
Еще один важный просчет нашего великого писателя отметил его современник Н. К. Михайловский: «Вы сосредотачиваете свое внимание на ничтожной горсти безумцев и негодяев! В вашем романе нет беса национального богатства, беса, самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла. Свиньи, одолеваемые этим бесом, не бросятся, конечно, со скалы в море, нет, они будут похитрее ваших любимых героев. Если бы вы их заметили, они составили бы украшение вашего романа. Вы не за тех бесов ухватились».
Совершенно верно! Когда в России победили «демоны революции», то удалось в конце концов создать великую державу нового облика — Советский Союз. А когда в нем расплодились пресыщенные свиноподобные бесы, когда многими овладела бесовщина личного обогащения, с великой Россией-СССР было покончено. Тайные нечистые силы несравненно опасней, страшней и гаже террористов, одержимых идеей разрушения отживших государственных структур, но не духовного гниения общественного организма.
Верно отметил Михайловский: «Так называемая полная экономическая свобода есть, в сущности, только разнузданность крупных экономических сил и фактическое рабство сил малых». Он предполагал для России возможность «непосредственного перехода к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию буржуазного государства». И оказался прав. Значит, идеи революционеров-террористов второй половины XIX века были не безумны и не бесплодны.
Если обратиться к биографиям наиболее знаменитых народовольцев, то среди них не обнаружишь каких-то демонических натур.
…За последние двадцать лет в общественное сознание постоянно вбивают мысль, что революции в России — дело нехороших людей, врагов народа, злодеев преимущественно не русской национальности, которые по западным рецептам и под науськивание из-за рубежа разбили триаду «православие — самодержавие — народность» и погубили великую державу.
Можно услышать, будто Ленин стал революционером для того, чтобы отомстить царю за казнь старшего брата Александра. У нас в стране слишком часто стали осмысливать государственные проблемы с позиций личных и семейных. Подобный «кухонный» уровень характерен и для некоторых профессиональных историков, не говоря уже о писателях, публицистах, теле- и радиокомментаторах.
Убийство Александра Ильича Ульянова и четверых его товарищей, так же как некоторых других революционеров, было, на мой взгляд, преступлением царизма. Они готовили покушение на Александра III, но не осуществили этой акции, никого не убили. Избавляясь таким путем от террористов, царское правительство содействовало другим, более опасным революционным движениям.
А. И. Ульянов (1866–1887) прожил 21 год, но успел проявить свои незаурядные способности, так же как разделивший его трагическую судьбу П. Я. Шевырев. Сошлюсь на мнение великого нашего ученого В. И. Вернадского. Он был на три года старше Ульянова. Оба они учились в Петербургском университете. Вот его биографические записи (воспоминания) о событиях конца 1886 — начала 1887 года:
«У меня чуть ли не ежедневно собирался Совет объединенных землячеств, председателем которого был я, а заместителем или А. И. Ульянов (игравший видную роль в студенческой жизни, секретарь Студенческого научно-литературного общества при университете, легального — председатель проф. О. Ф. Миллер)…
Я потом понял, что Ульянов организовал правильные свидания своей организации в нашем заседании. Я был близок очень с Шевыревым и Лукашевичем, м. б. потому, что оба были натуралисты.
Шевырев был у меня очень часто в минералогическом кабинете, и в последнее время я не только догадывался, но определенно понял, что он был в террористической ячейке. <…> Шевырев… заинтересовался минералогией и начал тогда работать под моим влиянием. Я думаю, что у него, так же как у А. И. Ульянова, это было серьезное и глубокое направление».
«Я был дружен с Лукашевичем, Шевыревым и А. Ульяновым. Все они были членами центрального комитета объединенных землячеств… Я знал их всех, но не подозревал долго [об их тайной деятельности], однако потом Шевырев проговорился, и я спорил с ним против террора… Это был увлекающийся и превосходный юноша».
Об А. И. Ульянове: «Это был умный, привлекательный человек с большими интересами», а он и Шевырев «выделялись среди студентов».
Это свидетельство тем более объективно, что Владимир Иванович не разделял политических убеждений народовольцев (так же как большевиков) и стал одним из основателей партии конституционно-демократической — кадетской партии.
На мой взгляд, трагедия царской России была не в том, что авторитет трона и православия подрывали революционеры и атеисты. Всё как раз наоборот. Подрывали и продолжают подрывать устои российской государственности самые страшные ее враги: нечестные, подлые, неумные и алчные сторонники. Умные, бескорыстные, честные противники власти способствуют укреплению Отечества. Вот только таких противников не так уж много. Судьбу террористов-народовольцев разделили продолжатели их дела — эсеры. И те и другие по сути своей деятельности шли на смерть и убивали своих врагов, расчищая путь к власти партии большевиков. Ленин избрал другую стратегию и вышел победителем.
НЕ БЕСЫ, НО И ВОВСЕ НЕ АНГЕЛЫ
Для того чтобы лучше понять, какими были революционеры-террористы и как складывались их судьбы, приведем биографии некоторых из них.
Желябов Андрей Иванович (1851–1881) родился в деревне Султановка Феодосийского уезда Таврической губернии в семье крепостных дворовых крестьян. В детстве несколько лет жил у своего деда по матери Гавриила Тимофеевича Фролова, обучившего его грамоте (по Библии); Андрей выучил наизусть Псалтырь. Позже, став атеистом, он по-прежнему свято чтил Иисуса Христа. На судебном процессе он так определил свое понимание христианского учения: «Всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых, а если нужно, то за них и пострадать».
В детстве он был свидетелем того, как помещик Лоренцов изнасиловал его близкую родственницу, и дед ходил в Феодосию жаловаться, но вернулся без всякого результата. Андрей, рассуждая чисто по-детски, мечтал убить Лоренцова за его преступление. Со временем жажда мести прошла, но данный эпизод сыграл немалую роль в формировании характера Желябова. У него укрепилось жажда справедливости, стремление защищать слабых и угнетенных от насилия со стороны имеющих власть.
Нелидов, в имении которого служили родители Андрея, обратил внимание на смышленого мальчика и помог определить его сначала в приходское, а затем в уездное училище. Оно в 1863 году было преобразовано в гимназию. Так, вопреки правилам, сын крепостного крестьянина стал гимназистом. «Он был страшный шалун, но прекрасный товарищ и учился очень хорошо», — писал Л. А. Тихомиров.
Закончив гимназию с серебряной медалью, Андрей Желябов поступил на юридический факультет одесского Новороссийского университета. Ему приходилось зарабатывать на жизнь в качестве домашнего учителя. С. А. Мусин-Пушкин, в семье которого он преподавал летом 1870 года, отозвался о нем: «Юный, пылкий, откровенный, безупречно честный, он быстро располагал к себе людей».
Желябов разделял революционные идеи, бродившие в студенческой среде. Осенью 1871 года он стал одним из организаторов волнений в университете. Поводом для них послужило несправедливое обвинение профессором одного из студентов в том, что тот спит на лекции и грубо высказывается в адрес преподавателя. Желябов был выслан в Керчь, откуда вскоре переехал в Феодосию. Лишь в 1873 году он вернулся в Одессу и занялся земской культурно-просветительской деятельностью, которую считал наиболее полезной для блага народа.
Одесская группа тайного общества «чайковцев» постаралась привлечь его в свои ряды. На это предложение Желябов не дал сразу ответа, взяв три дня на размышление. Ведь от него зависело благосостояние семьи (отец, мать, братья, сестры), а причастность к нелегальной организации грозила не только увольнением со службы, но и более суровыми репрессиями. И все-таки он принял положительное решение.
Большинство «чайковцев» считали своей главной задачей вести пропаганду социалистических идей среди студентов и рабочих. Как признавался Желябов: «Я насилия в то время не признавал, политики касался весьма мало, товарищи еще меньше». Он женился на Ольге Семеновне Яхненко (дочери видного одесского городского общественного деятеля и сахарозаводчика); у них родился сын Андрей.
Во второй половине 1874 года большинство членов одесской группы «чайковцев» арестовали; в их числе был и Желябов. Улик против него оказалось мало, и 18 марта 1875 года его освободили до суда под залог в 3 тысячи рублей, внесенный его тестем. С женой и ребенком он стал жить на хуторе Миюк Феодосийского уезда, желая сблизиться с крестьянами и начать среди них пропаганду.
Он работал в поле по 12–16 часов в сутки, после чего наваливалась такая усталость, что ни одна мысль не шла в голову. Ему стала понятна главная причину консерватизма трудового люда: «Пока приходится крестьянину так истощаться, переутомляться ради приобретения куска хлеба… нечего ждать от него чего-либо другого, кроме зоологических инстинктов и погони за их насыщением».
Полиция не оставляла его в покое. У нее появились новые свидетельства о его причастности к революционному движению. 3 июля 1877 года Желябова арестовали и доставили в Петербург в Дом предварительного заключения. И вновь не нашлось убедительных доказательств его причастности к государственным преступлениям. На процессе 193-х в январе 1878 года он был оправдан.
В то время он не был членом «Земли и воли». Аграрную часть ее программы он разделял, признавая экономическое освобождение крестьянства за существеннейшее благо. Однако курс на крестьянское восстание категорически отвергал, считая, что всеобщий бунт вызовет лишь хаос и зверство. Летом 1878 года он поработал бахчеводом в Подольской губернии, а осенью вернулся в Одессу, желая вновь заняться революционной деятельностью. Жена требовала заботиться о благосостоянии семьи. Он счел это погоней за мещанским счастьем. Спокойная семейная жизнь его не устраивала, и в конце 1878 года он расстался с женой, оставив ее и сына на попечении тестя.
Весной 1879 он принял предложение приехавшего в Одессу М. Ф. Фроленко участвовать в Липецком съезде землевольцев. Там он примкнул к «политикам», нацеленным на террор и цареубийство. Он стал одним из лидеров «Народной воли». Его выдвижение в первые ряды профессиональных революционеров объясняется незаурядными ораторскими способностями, талантом полемиста и организатора, большим личным обаянием. Он пользовался уважением среди интеллигенции и студенчества, в рабочих кружках, среди морских офицеров в Кронштадте.
Фактически он руководил Военной организацией «Народной воли» и Центральным рабочим кружком «Народной воли» в Петербурге. По словам Л. А. Тихомирова, Желябов был «добрый, способный войти в положение каждого, способный другим прощать бесконечно больше, чем самому себе, он невольно возбуждал к себе симпатии».
Только в двух случаях он совершил роковые ошибки, оценивая моральные качества людей: привлек к покушению на императора под Москвой Окладского (выдавшего участников и организаторов акции) и назначил одним из метальщиков бомб накануне 1 марта 1881 года Рысакова. Эти ошибки дорого стоили «Народной воле» и ему лично.
Желябов любил созерцать красоту природы, обожал музыку. Вернувшись с тайного собрания народовольцев, мог зачитаться на всю ночь «Тарасом Бульбой» Гоголя, а во время отдыха являлся душой коллектива, главным источником шуток и веселья. В 1880 году он сблизился с Софьей Перовской, они полюбили друг друга и с осени 1880 года жили вместе.
По его мнению, после свержения самодержавия революционерам предстоит долгая работа с целью развить в народе смутные инстинкты и наклонности в сознательные стремления к социалистическим порядкам. Для начала необходимо, по его словам, завоевать «самую широкую свободу слова, собраний, стачек, пропаганды, агитации» и «широкую самодеятельность отдельных лиц и всяких обществ и групп».
По его мнению, царское правительство не имеет надежной опоры в русском обществе и под ударами систематического террора будет вынуждено пойти на серьезные уступки. В то же время он сознавал и отрицательную сторону террора, требующего мобилизации всех наличных сил и средств в ущерб другим отраслям деятельности «Народной воли». Тем не менее, он полагал, что после гибели императора удастся «укрепить организацию и раскинуть ее сети во всех сферах общества».
27 февраля 1881 года Желябов был арестован на квартире своего друга М. Н. Тригони, легально проживавшего в Петербурге. Однако за Тригони велась слежка после предательских показаний Складского. Как мы уже знаем, 2 марта 1881 года, получив известие о цареубийстве и аресте Рысакова, Желябов направил в Петербургскую судебную палату заявление, требуя «приобщения себя к делу 1-ого марта» как соучастника цареубийства.
Перовская Софья Львовна (1853–1881) принадлежала к аристократическому дворянскому роду. Ей суждено было стать первой женщиной в России, казненной как политическая преступница. Отец ее, Лев Николаевич, внук графа А. К. Разумовского, был с 1861 года петербургским вице-губернатором, а в 1865–1866 годах губернатором, членом Совета министерства внутренних дел.
Софья получила хорошее домашнее образование, много читала. Большое впечатление произвели на нее сочинения Дмитрия Писарева. Научная и философская литература способствовали формированию у нее атеистического мировоззрения. Иисуса Христа она чтила не как Бога, а как мученика за идею любви к человечеству. По свидетельству хорошо знавшей ее А. И. Корниловой, из Евангелия руководящими для Софьи Перовской заповедями стали: «вера без дела мертва», «любовь есть жертва», «люби ближнего твоего, как самого себя».
В 1869 году Софья поступила на Аларчинские женские курсы в Петербурге. Вместе с тремя сестрами Корниловыми, дочерьми богатого фабриканта, они составили кружок саморазвития; изучали политическую экономию по книге Милля с примечаниями Чернышевского. Отцу не нравилось ее свободомыслие; он запретил ей общаться с новыми подругами. В ответ она ушла из дома и скрывалась у друзей до тех пор, пока через два месяца отец не согласился выдать ей документы, необходимые для отдельного проживания в Петербурге.
Кружок Перовской вошел в общество «чайковцев» или, как его еще называли, «большое общество пропаганды». С весны 1872 года она под видом фельдшерицы некоторое время жила среди крестьян Ставропольского уезда. В частном письме высказала свое разочарование: «Пахнет отовсюду мертвым, глубоким сном». Переехав в село Едимново Тверской губернии к своей подруге А. Я. Ободовской, работавшей учительницей в школе, стала ее помощницей.
Вернувшись на следующий год в Петербург, Софья Перовская посвятила себя революционной пропаганде среди рабочих. В дневнике записала требования к достойному уважения человеку: «а) закваска самостоятельности, б) известная степень способности развиваться, в) способность вдумываться как в себя, так и в окружающих… г) известного рода честность или искренность, д) преданность известной идее». По ее словам: «Наибольшее счастье человечество может достичь тогда, когда индивидуальность каждого человека будет уважаться, и каждый человек будет сознавать, что его счастье неразрывно связано со счастьем всего общества. Высшее же счастье человека заключается в свободной умственной и нравственной деятельности».
Арестовали Перовскую 5 января 1874 года. Полгода провела она в тюрьме и была взята на поруки отцом с разрешения начальника III отделения П. А. Шувалова, с которым он был знаком с давних пор. Софья уехала в крымское имение своей семьи. Поправив здоровье, отправилась в Тверскую губернию работать в больнице. Она не могла подвести отца, и поэтому оставила на время революционную деятельность.
Вернувшись в Крым, закончила Симферопольские женские курсы и собиралась работать в Красном Кресте (тогда шла война с Турцией), ухаживая за больными и ранеными. Ее вызвали на «процесс 193-х» как обвиняемую, оправдали, но в административном порядке выслали в город Повенец Олонецкой губернии. По дороге она сбежала и с этого времени перешла на нелегальное положение.
Став членом «Земли и воли», она поехала в Харьков, надеясь организовать побег Ипполита Мышкина, находившегося в тюрьме. Это не удалось из-за недостатка сил и средств. Она вернулась в Петербург, и после раскола «Земли и воли» примкнула к народовольцам, войдя в Исполнительный комитет. Для Перовской революционный террор был прежде всего ответом на террор государственный, местью за смерть и мучения товарищей.
Она была активной участницей убийства Александра II. Когда Желябов, находясь в тюрьме, признал себя организатором этой акции, Перовская пришла в отчаяние. Несмотря на нависшую над ней опасность, она находилась в Петербурге, обдумывая планы освобождения Желябова и убийства нового царя. Конечно же, ни то ни другое осуществить было невозможно. А по городу разъезжали и ходили те, кто мог ее узнать, согласившись сотрудничать с полицией. Ее опознала торговка, проезжавшая в сопровождении околоточного надзирателя по Невскому проспекту…
На суде Перовская держалась спокойно. Лишь однажды не выдержала, когда прокурор Муравьев заклеймил революционеров: «Отрицатели веры, бойцы всемирного разрушения и всеобщего дикого безначалия, противники нравственности, беспощадные развратители молодежи». И воскликнул, что им «не может быть места среди Божьего мира!»
Перовская возразила: «Тот, кто знает нашу жизнь и условия, при которых нам приходится действовать, не бросит в нас ни обвинения в безнравственности, ни обвинения в жестокости».
Увы, так уж повелось с давних пор, что слишком часто радетелями веры и борцами за нравственность выступают те, кто не верит в высшие духовные ценности и ведут лицемерную нечистую жизнь, радея за личные блага…
В письме матери из тюрьмы 22 марта Софья подвела итог своего жизненного пути: «Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения, поступать же против них я была не в состоянии, поэтому со спокойной совестью ожидаю все, предстоящее мне».
На скамье подсудимых она была вместе с Андреем Желябовым. С ним она подружилась в 1880 году и вскоре полюбила его всем сердцем. Это была ее первая и единственная любовь. Они были счастливы и умерли в одно и то же время. Но в отличие от любовных романов с подобным финалом, молодые революционеры погибли на эшафоте 3 апреля 1881 года.
Михайлов Александр Дмитриевич (1855–1884), дворянин по происхождению, родился он в семье землемера в городе Путивле Курской губернии. О своем детстве вспоминал с любовью. По его словам, из тех лет осталось у него «только одно искреннее, чистое, хорошее». Ребенком он был горячо верующим, изливая в молитве все свои душевные тревоги и горести.
В юношеские годы «детское религиозное мировоззрение рухнуло, подкопанное пробуждающейся мыслью»; его сменила «любовь, поклонение красоте природы». В гимназии города Новгородсеверского Черниговской губернии он впервые остро ощутил присущие многим «беспринципность, холодный эгоизм, грубость, бесчеловечность». По его признанию, лишь одно примиряло его с такой жизнью: «Ангельски чистый образ одной девочки, с которой даже не был знаком, с радостным и тихим чувством носил я в своей душе три года (от 12 до 15 лет) <…> Она была для меня идеальным образом, высшим духовным существом».
Тогда же он стал много читать, заниматься самообразованием. Это «внесло в нравственный мир недостающую школе жизненную струю, возбудило новые мысли, открыло новые горизонты». Вместе с несколькими товарищами на собственные деньги они организовали домашнюю библиотеку в 150 томов по всем отраслям знания. В августе 1875 года отправился в Петербург и поступил в Технологический институт. Ему категорически не понравилась царившая там строгая дисциплина: ежедневные проверки посещения занятий, через день обязательные репетиции (ответы на вопросы по прочитанным лекциям) через день. Он считал, что это унижает человеческое достоинство.
Его исключили из института за нарушение этих правил. Он не подал прошение о восстановлении: «Зачем мне были предметы института, когда сам он не признавал во мне человека и считал насилие и принуждение лучшим средством высшего образования». Его выслали из Петербурга. И тогда борьба с существующей властью стала его главной целью.
В Киеве он познакомился с членами революционных групп и стал убежденным противником самодержавия. В августе 1876 года вернулся в Петербург, где установил связь с группой М. А. Натансона, и вскоре вошел в тайную организацию «Земля и воля». Весной следующего года отправился в Саратовскую губернию, чтобы познакомиться со старообрядцами и со временем вовлечь их в революционное движение. Религиозные раскольники ему, подобно многим землевольцам, представлялись «тайником народно-общинного духа».
Он устроился учителем грамматики в селе Синенькино, где сблизился со старообрядцами. По его словам, «пришлось взять себя в ежовые рукавицы, ломать себя с ног до головы», выполняя необходимые обряды и обычаи, произнося молитвы и соблюдая посты. Но это происходило «даже с некоторою приятностью, а главное, с громадной пользой для развития воли и уменья владеть собой».
За несколько месяцев он стал своим среди раскольников (было ему тогда 22 года). Он отдавал всю свою энергию делу, жертвовал жизненными удобствами и материальными благами во имя революции.
Весной 1878 года Михайлов вернулся в Петербург, желая образовать новую группу для работы среди старообрядцев. Его ввели в руководящую группу «Земли и воли». Обладая всеми необходимыми качествами для конспиративной работы, он организовал ее профессионально.
Он принял непосредственное участие в подготовке покушений на начальника III отделения А. Р. Дрентельна и — А. К. Соловьева на Александра II (2 апреля 1879 года). Михайлов устроил Н. В. Клеточникова переписчиком в агентурную часть III отделения и почти два года получал от него материалы о планах тайной полиции.
С момента образования «Народной воли» в августе 1879 года и до своего ареста в ноябре следующего года А. Д. Михайлов был одним из ее главных руководителей. По словам Желябова, Михайлов заботился о своей организации «с такой же страстной, внимательной до мелочи преданностью, с какой другие заботятся о счастье любимой женщины». Как средство борьбы Михайлов делал ставку на террор, предлагая «стрелять в самый центр».
Самым близким для него человеком среди членов Исполкома «Народной воли» была А. П. Корба, с которой он познакомился в 1879 году. Он писал ей из тюрьмы: «Я не любил ни одной женщины, ни одного человека, как тебя». Под маской внешней холодности, которую отмечали все знавшие его, скрывались сильный темперамент и романтичная преданность делу революции.
28 ноября 1880 года А. Д. Михайлова арестовали в Петербурге при нелепых для конспиратора обстоятельствах: пошел в одну из фотомастерских получать карточки казненных народовольцев А. А. Квятковского и А. К. Преснякова.
Понимая, что там может быть полицейская засада, он понадеялся на свое умение избегать слежки и ареста, которое до этого времени не подводило его…
После заточения в Трубецком бастионе Петропавловской крепости его судили в феврале 1882 года. Главным пунктом обвинения являлось активное участие в подготовке двух попыток цареубийства, что стало известно властям благодаря показаниям Г. Д. Гольденберга.
В дни судебного процесса он написал «Завещание», давая последние наставления своим товарищам. Например: «Завещаю вам, братья, не посылайте слишком молодых людей в борьбу на смерть. Давайте окрепнуть их характерам, давайте время развить все их духовные силы». В конце: «Затем целую вас всех, дорогие братья, милые сестры, целую всех по одному и крепко, крепко прижимаю к груди, которая полна желанием, страстью, воодушевляющими и вас. Простите, не поминайте лихом. Если я сделал кому-либо неприятное, то, верьте, не из личных побуждений, а единственно из своеобразного понимания нашей общей пользы и из свойственной характеру настойчивости.
Итак, прощайте, дорогие! Весь и до конца ваш Александр Михайлов».
Смертную казнь ему заменили вечной каторгой. В Алексеевском равелине Петропавловской крепости его поместили в камеру, полностью изолированную от окружающего мира. Он умер 18 марта 1884 года, как было написано в медицинской справке, от отека легких.
Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) стал народовольцем-ренегатом, отрекшимся от прежних своих убеждений, но не предателем. Поначалу его убеждения были крайне революционными, затем — столь же контрреволюционными. Борясь против самодержавия, он занимался активной общественной деятельностью, а покаявшись, ограничился частной личной жизнью и писанием воспоминаний. Правда, и тут не обошлось без противоречий: сначала он в своих мемуарах выступил как ярый монархист, но потом постарался быть более объективным…
Родился он в дворянской семье военного врача на Кавказе, в Геленджике. Окончив Керченскую гимназию с золотой медалью, поступил на медицинский факультет Московского университета. Его захватило молодежное движение народников. Весной 1873 года он вступил в московский кружок «чайковцев»; переехав в Петербург, стал вести пропаганду среди фабричных рабочих.
Что привело его в ряды революционеров, решить трудно. Возможно, неудачные попытки заняться литературным творчеством. Во всяком случае, он вместе с Петром Кропоткиным, Сергеем Кравчинским и Дмитрием Клеменцом вошел в «Литературный комитет» организации. Написал две агитационные брошюры: «Сказку о четырех братьях» и «Пугачев или бунт 1773 года».
Как вспоминал Кропоткин: «„Сказка“ нам всем понравилась; но когда мы прочли ее заключение, мы совсем разочаровались. У автора четыре брата, натерпевшись от капитала, государства и т. д., сошлись, все четверо, на границе Сибири, куда их сослали, и заплакали. Сергей и я настаивали, чтобы конец был переделан, и я переделал его так, как он теперь в брошюре, что они идут на север, на юг, на запад и на восток проповедовать бунт.
Точно так же и в „Пугачевщине“ конец был плох… Решили приделать конец, где бы изображен был идеал безгосударственного послереволюционного строя. Я и написал этот конец в несколько страниц. Моя рукопись попалась потом в руки жандармов».
Оба революционных сочинения Льва Тихомирова оказались без убедительного идейного завершения. В этом они напоминают судьбу автора, который поначалу казался непреклонным борцом за социалистические идеалы.
В ночь на 12 ноября 1873 года его арестовали на квартире его соратника Сергея Синегуба. В тюрьме он провел четыре года. Его судили на «процессе 193-х», приговорили к ссылке в Сибирь, но, зачтя время, проведенное в заключении, освободили под гласный надзор полиции.
Уехав на Кавказ к родителям, он осенью того же 1878 года вернулся в Петербург; перейдя на нелегальное положение, вступил в общество «Земля и воля», став одним из редакторов газеты с тем же названием. При расколе организации перешел в «Народную волю». Активно сотрудничал в одноименном нелегальном издании, вошел в Исполнительный комитет, участвовал в организации террористических актов.
Противникам социализма, утверждавшим, что общество, построенное на таких основаниях, будет подавлять личность, Тихомиров отвечал: «Социализация жизни имеет своей целью возвышение, а не подавление личности, ее свободы и благосостояния».
(Любое общество неизбежно ограничивает свободу индивидуума; вопрос лишь в том, какие у него идеалы — не на словах, а на деле. Порой свобода предоставляется расхитителям национальных богатств, паразитам, «врагам народа» под предлогом абстрактной свободы личности.)
Лев Тихомиров полагал, что победу революции может обеспечить заговор и государственный переворот. В терроре он видел средство достичь этой цели. При разгроме «Народной воли» Тихомиров избежал ареста; уехал с женой за границу, оставив двух малолетних детей на попечение своих родных. Поселился в Швейцарии, вместе с П. Л. Лавровым издавал «Вестник Народной воли». Однако материальное положение его семьи (у них родился сын) оставляло желать много лучшего. Лев Александрович был подавлен разгромом «Народной воли», казнью некоторых ее активистов.
Многие народовольцы предполагали, что при жизни не увидят свержения самодержавия, но продолжали свое дело. Тихомиров был не из их числа, хотя участвовал в создании Программы Исполнительного комитета «Народной воли». Он претендовал на роль идеолога революционного движения, предполагавшего террористические акты.
Сторонником буржуазной демократии он не стал. Он убедился, что она предоставляет свободу бесчестным обманывать и дурачить народ, который эксплуатируют алчные владельцы капиталов. Оказалось, что самодержавие при всех своих недостатках имеет и определенные преимущества перед западными демократиями, по крайней мере в условиях Российской империи.
Сын Тихомирова заболел менингитом и находился в тяжелом состоянии. Отец в отчаянии обратился к Богу, моля его о спасении ребенка. И когда тот выздоровел (не без помощи врачей, конечно), Лев Александрович воспринял это как чудо, возвратился в лоно Православной церкви.
Для него слишком много значили не столько интеллектуальные и нравственные факторы, а внешние обстоятельства. Можно предположить: наконец-то он прозрел. Но когда подобные превращения происходят в зрелом возрасте, то возникает подозрение, что этот человек решил приспосабливаться к обстоятельствам, прекратив борьбу за свои идеалы.
В августе 1888 года Лев Тихомиров написал прошение Александру III о помиловании, раскаиваясь в своих политических преступлениях. Он утверждал, что убедился: русский народ поддерживает самодержавие. Сильная объединенная светская и церковная власть удержат людей от преступлений и пороков, к которым они тяготеют по причине своей греховной природы.
В начале 1889 года, получив помилование, вернулся на родину и стал ярым монархистом, резко критикуя революционное движение в России, а также самих революционеров. В конце XIX века написал воспоминания, проникнутые такими же, во многом несправедливыми, нападками.
После революций 1917 года со Львом Тихомировым произошла новая метаморфоза. Он признал власть большевиков и написал новые мемуары — «Тени прошлого». На этот раз он достаточно объективно рассказал о своих бывших товарищах по революционной борьбе.
Фроленко Михаил Федорович (1848–1938) был в числе народовольцев, на которых возлагали наиболее ответственные и рискованные поручения. Из Одесской тюрьмы он сумел освободить Костюрина — активного члена южных народнических кружков. Стефановичу, Дейчу и Бохановскому, заключенным в Киевскую тюрьму, устроил побег, предварительно поступив на службу в это заведение смотрителем.
М. Ф. Фроленко родился в городе Ставрополе в семье отставного фельдфебеля. Отец умер, когда он был ребенком. Воспитывала его мать, дочь отставного унтера. Ей с детства пришлось уйти в люди, работать прислугой. Жизнь ее складывалась очень тяжело, порой трагично. «Она, — как писал он в автобиографии, — не будучи даже грамотной (грамота ей совершенно не далась), оказывалась потом в моральном и умственном отношении много выше окружающих, стоящих куда выше ее по своему положению и образованию». (Тут впору припомнить афоризм американского писателя Амброза Бирса: «Образование — то, что мудрому открывает, а от глупого скрывает недостаточность его знаний».)
Мать воспитывала детей лаской. К тому же они видели, каким тяжким трудом достаются ей деньги. Вечерами она рассказывала детям о своей жизни, и они прониклись сочувствием к ее судьбе (она дважды была замужем, и оба мужа оказались пьяницами, а потому рано умерли).
Михаил поступил в училище, а благодаря своим успехам был принят в гимназию. Здесь, как вспоминал он, «был уже кружок революционно настроенных гимназистов, и вообще бродил вольный дух… У нас в большом презрении была погоня за карьерой и, напротив, честная служба на пользу народа считалась обязательной… Все это были лишь отзвуки того, что проводилось тогда в легальной либеральной литературе… и благодаря этому многие шли потом в революционеры».
Окончив гимназию, он хотел поступить в петербургское Константиновское военное училище. Но по своему социальному положению, как оказалось, не имел такого права. По совету приятеля и полагаясь на его материальную поддержку, поступил в Технологический институт.
Когда летом 1871 года шел процесс группы Нечаева, он приходил чуть свет к зданию суда, чтобы попасть туда, — так был велик интерес молодежи к происходящему. Его поразило то, что подсудимые не оправдывались, а сами обвиняли правительство в злоупотреблениях и угнетении народа. Узнав о революционных нравах, царивших в Петровско-Разумовской земледельческой академии, он отправился в Москву, поступать в это учебное заведение. Тем более, став агрономом, можно было принести наибольшую пользу народу.
В академии он получал стипендию и занимался самообразованием. У них образовался кружок «вольнодумцев». Проникнувшись революционными идеями, он вступил в московскую группу «чайковцев». На Пресне недалеко от Зоологического сада они открыли мастерскую, где обучались ремеслу и выполняли некоторые заказы, ведя одновременно пропаганду среди рабочих.
Весной 1874 года Фроленко с четырьмя товарищами отправился на Урал, чтобы организовать боевой отряд из беглых сибирских крестьян и рабочих. Предприятие это не удалось. Вернувшись в Москву, он едва не попал в руки жандармов и вынужден был перейти на нелегальное положение.
Работал в мастерских, переезжая из города в город. Через два года в Киеве примкнул к местным бунтарям; они сколачивали боевой отряд, чтобы незамедлительно выступить в случае народного бунта. Но пока он доставал в Петербурге оружие, их группа рассеялась под угрозой ареста. Примкнув к «Народной воле», стал членом Исполнительного комитета. В Кишиневе они сняли дом возле казначейства и стали вести подкоп, чтобы добраться до хранилища денег и золота. Но к этому времени полицейский надзор по всей России был так налажен, что им едва удалось избежать ареста. Пришлось бросить попытку «экспроприации» и срочно скрыться.
Фроленко участвовал в подготовке крушения царского поезда в ноябре 1879 года, а также последнего покушения на Александра II. Зимой 1881 года в Петербурге он вел подкоп под Малой Садовой по маршруту следования императора. А 17 марта 1881 того же года М. Ф. Фроленко был арестован после того, как он пришел на квартиру Кибальчича.
На следствии он держался твердо, решительно отказываясь давать показания до суда. Его приговорили к смертной казни, замененной затем бессрочной каторгой. 24 года провел М. Ф. Фроленко в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и в Шлиссельбургской крепости. Осенью 1905 года он вышел на свободу, женился, стал жить в Геленджике и печатать свои воспоминания. В советское время активно участвовал в общественной жизни.
Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) происходила из дворянской семьи. Родилась в Казанской губернии. Дед по отцу, выходец из Лифляндии, был подполковником, а с материнской стороны — крупным помещиком и уездным судьей. Отец служил лесничим. С детства в ее памяти сохранились картины дремучего бора.
Воспитывали ее, а также сестер и братьев (один стал крупным горным инженером, другой — знаменитым оперным тенором) строго. Отраду и утешение они находили у старой няни, крепостной, выкупленной на свободу, Натальи Макарьевны. Когда Вере было 6 лет, семья переехала в Тетюшинский уезд, в родовое имение — с парком, фруктовым садом, прудами. Она много читала. Отличницей закончила казанский Родионовский институт.
Наибольшее впечатление в детстве произвели на нее некоторые сентиментальные романы, поэма Некрасова «Саша» и Евангелие. По ее признанию, в учении Христа она восприняла принцип — отдаваться «всецело раз избранной великой цели». Как писала она в автобиографии:
«Меня, живую и энергичную, скоро стала тяготить бездейственная жизнь в деревне. Окружающая крестьянская беднота, хотя я видела ее, можно сказать, издалека, не могла остаться незамеченной. Контраст с моим собственным положением, в связи с приподнятым настроением после выхода из закрытого учебного заведения и частыми разговорами с дядей о земстве, всеобщем народном образовании, медицине и тому подобных вопросах, в особенности же теория утилитаризма, наводили меня на мысль о служении обществу, возбуждали желание быть полезной».
(Главном в ее утилитаризме было положение: цель человека — наибольшее счастье наибольшего числа людей; это не то, что понимают под утилитаризмом те, кто его опошляют и сводят к материальной выгоде.)
В 1870 году она вышла замуж за образованного судебного следователя А. В. Филиппова. Его работа показалась ей отвратительной. Продав все, что было возможно, они уехали в Цюрих, чтобы поступить в университет; с ними отправилась и ее сестра Лидия (в России доступ женщин в высшие учебные заведения был закрыт).
В Цюрихе тогда училось около ста русских женщин. Среди них были популярны либеральные, демократические и анархические идеи. В один из таких кружков самообразования вступила и Вера Фигнер. Как она писала: «Стать на сторону революции и социализма меня подвигнуло не только чувство социальной справедливости, но, быть может, в особенности жестокость подавления революционных движений правящим классом».
Женщины из ее кружка уехали на родину, чтобы вести революционную агитацию. Но вскоре их арестовали. Марк Натансон, приехав в Цюрих, передал ей призыв товарищей поддержать революционное движение. Ей очень хотелось продолжить учебу: ведь она мечтала стать доктором медицины и хирургии. После тяжелой внутренней борьбы она сочла своей обязанностью отозваться на призыв и в конце 1875 года приехала в Москву.
«Жестокие репрессии против революционного движения, — писала она, — изменили настроение и, сообразно с этим, программа требовала вооруженного сопротивления при арестах, обуздания произвола агентов власти, насильственного устранения лиц жандармского и судебного ведомства, отличавшихся особой свирепостью, агентов тайной полиции… Кроме того, для поддержания успеха народного восстания… программа указывала на необходимость „удара в центре“, причем уже говорили о применении динамита».
Она устроилась в одном из сел фельдшерицей, а затем помощницей учительницы, ведя просветительскую работу и читая крестьянам только легальную литературу. Ее поразила бесправная и беспросветная деревенская жизнь. Под угрозой ареста ей приходилось переезжать с места на место.
При расколе «Земли и воли» она примкнула к «Народной воле» и вошла в Исполнительный комитет. Для осуществления вооруженного переворота они начали формировать группу военных, куда вошло несколько десятков офицеров. После убийства Александра II она, скрываясь от полиции, переехала в Одессу, где организовала убийство военного прокурора Стрельникова (18 марта 1882 года). Исполнители — И. Желваков и С. Халтурин (после взрыва в Зимнем дворце он переехал в Одессу) вскоре были арестованы и казнены.
Вера Фигнер продолжила свою революционную работу в Харькове. Когда глава петербургского сыска Судейкин завербовал активного участника «военной группы» Дегаева, тот выдал своих товарищей, включая ее. Арестовали Веру Фигнер 10 февраля 1883 года. Она провела 20 месяцев в изолированной камере. Ее приговорили к смертной казни, позже замененной бессрочной каторгой, и заточили в Шлиссельбургскую крепость. Здесь она провела более двадцати лет, не имея ни одного свидания, а первые 13 лет — и переписки. Многие заключенные за этот срок умерли или сошли с ума. Она выдержала.
В 1902 году им хотели ужесточить условия содержания под стражей. В знак протеста и с отчаяния она сорвала погоны у тюремного смотрителя. За это ей грозила смертная казнь. Но началось расследование, закончившееся тем, что администрация тюрьмы была смещена. Без ее ведома мать послала царю прошение о смягчении наказания дочери. Он «снизошел», определив ей 20 лет. Узнав об этом прошении, Вера была возмущена, оскорблена: ведь она не просила ни о каком снисхождении! Она хотела порвать отношения с матерью, но не сделала это, узнав, что она тяжело больна. Им не довелось увидеться…
В сентябре 1904 года ее освободили, отправив в ссылку, а через два года отпустили за границу. Там она боролась за права российских заключенных, которые в тюрьмах и на каторге находились в невыносимых условиях. После февраля 1917 вела общественную и просветительскую работу на Родине. После Октябрьской революции участвовала в Учредительном собрании. Когда на его заседание в Мариинском дворце явились вооруженные матросы-большевики с требованием очистить помещение, Фигнер была среди меньшинства, проголосовавшего за то, чтобы не подчиниться.
«Роспуск Учредительного Собрания, — по ее словам, — был новым унижением заветной мечты многих поколений и наивного благоговения веривших в него масс. И наряду с этим я сознавала, что мы, революционеры старшего поколения — отцы наступивших событий». Позже она вновь боролась за права заключенных (уже во время и после Гражданской войны), писала и публиковала свои воспоминания.
Морозов Николай Александрович (1854–1946) поистине уникален. В нем сочетались качества, которые принято считать несовместимыми: страсть и мужество революционера, темперамент и талант литератора с рассудительностью, энциклопедическими знаниями и проницательностью ученого; он был одновременно террористом и гуманистом.
Впрочем, если рассудить здраво, ничего нет удивительного в таком парадоксальном соединении черт ума и характера. Ведь для научных открытий, вторжения в неведомое требуются мужество и темперамент революционера, а индивидуальный террор нередко осуществляют те, кто борется за жизнь и свободу сограждан, против поработителей и эксплуататоров, унижающих человеческое достоинство.
«Я родился… — писал он, — в имении моих предков Борке Мологского уезда Ярославской губернии. Отец мой был помещик, а мать — его крепостная крестьянка, которую он впервые увидал проездом через свое другое имение в… Новгородской губернии. Он был почти юноша, едва достигший совершеннолетия и лишь недавно окончивший кадетский корпус. Но, несмотря на свою молодость, он был уже вполне самостоятельным человеком, потому что его отец и мать были взорваны своим собственным капельдинером, подкатившим под их спальную комнату бочонок пороха по романтическим причинам».
Николай Морозов был внебрачным сыном этого богатого помещика Щепочкина. Мать его — Анна Морозова — была грамотной, любила читать. Дав ей вольную и женившись на ней, помещик не закрепил брак в церкви, поэтому их дети носили фамилию матери. Николай Морозов получил домашнее образование, был окружен любовью родных. Большое влияние на него оказали природа и рассказы заботливой «суеверной и первобытной» (его выражение) няни.
«Неодушевленных предметов не было совсем, — писал он, — каждое дерево, столб или камень обладали своей собственной жизнью». С этого, как у многих других, началось его поэтическое мировоззрение не просто естествоиспытателя, но и первооткрывателя тайн природы. А основы культуры мышления он приобрел, осваивая библиотеку отца, включавшую немало научных книг.
В интересной, поучительной и объемистой «Повести моей жизни» он вспоминал о своем счастливом детстве: «Большинство окружавших нас помещиков были просто гостеприимные люди, совершенно так, как описано у Гоголя, Тургенева, Гончарова… Многие выписывали журналы, мужчины развлекались больше всего охотой, а барыни читали романы и даже старались быть популярными, давали даром лекарства и т. д.»…
Такой патриархальной идиллией запомнились ему времена… крепостного права! Вот до какой степени изолированно от народа жили тогда помещики. Спору нет, не все они были истязателями, самодурами и развратниками. И все-таки за их хорошими манерами и радушным гостеприимством порой скрывалась жестокость рабовладельца.
В рассказе Тургенева «Два помещика» один из главных героев прислушивался, как пороли его крепостных, и «с добрейшей улыбкой» присвистывал: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!» Хотя крестьянам в крепостной зависимости жилось иногда спокойней, чем после освобождения — в экономическом рабстве.
Как справедливо отметил историк Б. П. Козьмин: «В крепостном праве самым страшным было то, что оно безжалостно уродовало личность и крестьян, и их владельцев. Во-первых, оно убивало чувство собственного достоинства и воспитывало психологию рабов; во-вторых, вселяло убеждение в полной естественности такого порядка, при котором один человек владеет другим, как вещью».
Поступив во 2-й класс Московской классической гимназии, Николай Морозов основал там «Тайное общество естествоиспытателей». Дело в том, что гимназистам не преподавали, в частности, эволюционную биологию, считая происхождение человека естественным путем совершенно неестественным, так как оно противоречит церковному учению. Этот запрет содействовал стремлению к свободе мысли и познанию у мыслящих отроков. С пятого класса Морозов тайком посещал некоторые лекции в университете, а по воскресеньям занимался в геологическом и зоологическом музеях. Тогда же он познакомился и с революционной литературой.
По его признанию, во всех книгах он искал не только одних лишь научных знаний, но более всего ответа на вопрос: «Стоит ли жить или не стоит?» Поиски смысла жизни привели его к мысли трудиться на благо общества, а не только ради удовлетворения собственных интеллектуальных потребностей.
«Когда зимой 1874 г. началось известное движение студенчества „в народ“, — вспоминал он, — на меня более всего повлияла романтическая обстановка, полная таинственного, при которой все это совершалось». Он познакомился с членами кружка «чайковцев». Сильное впечатление произвели на него Кравчинский, Шишко и Клеменц. «Во мне началась страшная борьба между стремлением продолжать свою подготовку к будущей научной деятельности и стремлением идти с ними на жизнь и смерть и разделить их участь, которая представлялась мне трагической, так как я не верил в их победу, — писал Морозов. — После недели мучительных колебаний я почувствовал, наконец, что потеряю к себе всякое уважение и не буду достоин служить науке, если оставлю их погибать, и решил присоединиться к ним».
Под видом сына дворника он пошел со своими новыми товарищами по деревням. Однако о них кто-нибудь докладывал в полицию. Приходилось переезжать с места на место. В Москве он вместе с Кравчинским и Лопатиным попытались (безуспешно) отбить на улице у жандармов своего товарища Волховского. Морозов уехал в Швейцарию, возобновил научные занятия.
Через полгода к нему пришло письмо от Софьи Перовской, где сообщалось, что важные события в России требуют его участия. Он отправился на родину с фальшивым паспортом. Его задержали на границе. В тюрьме он просидел год, отказываясь давать показания. Взятый на поруки отцом, он вскоре вновь был арестован и стал одним из обвиняемых на «процессе 193-х». Его признали виновным, зачли проведенные в заключении три года и выпустили на свободу.
С группой товарищей он отправился в Саратовскую губернию вести революционную пропаганду, но не смог устроиться на работу. Вернувшись в Петербург, вместе с Перовской, Фроленко, Квятковским и Михайловым отправился в Харьков. Они попытались отбить у жандармов своего товарища Войнаральского, но акция не удалась. Безрезультатно закончилась и подготовка к освобождению Брешко-Брешковской, отправленной в Сибирь на каторгу.
В Петербурге он стал редактором подпольного журнала «Земля и воля». Поддержал желание Соловьева застрелить Александра II. Когда начались аресты землевольцев, Морозов некоторое время скрывался в Финляндии. После раскола «Земли и воли» он вошел в Исполнительный комитет «Народной воли» и вместе со Львом Тихомировым редактировал журнал этой организации. В последующих покушениях на царя он не участвовал. У него были разногласия с Тихомировым, который ему казался не вполне искренним и склонным к диктаторству. Но больше всего его удручало противоречие между стремлением к научным исследованиям и необходимостью вести революционную работу.
После ареста подпольной типографии товарищи отправили его вместе с женой Ольгой Любатович, тоже революционеркой, за границу. Там он написал брошюру «Террористическая борьба». При возвращении на родину в конце января 1881 года был арестован. Его осудили на пожизненное заключение: Г. Гольденберг рассказал о его участии в подкопе для взрыва царского поезда в ноябре 1979 года.
Первые три года заточения проходили в Петропавловской крепости, где Морозов заболел цингой, ревматизмом, туберкулезом. Тюремный врач написал: «Морозову осталось жить несколько дней». Правда, через месяц уточнил: «Морозов обманул смерть и медицинскую науку и стал выздоравливать». В Шлиссельбургской крепости, куда его перевели, обстановка была более сносной. Здесь ему суждено было провести более двух десятилетий.
Он активно занимался самообразованием. Раньше знал пять языков, и в тюрьме освоил столько же. Пока разрешали пользоваться только религиозной литературой, он собрал материалы для своих будущих книг, посвященных истории христианства: «Откровение в грозе и буре», «Пророки», «Христос». Позже смог заниматься науками, освоил университетские учебники. В работе «Периодические системы строения вещества» теоретически доказал существование инертных элементов, а также электрона и позитрона (под именем анодий и катодий), изотопов, предположил сложное строение и эволюцию химических элементов, присутствие в атмосфере инертных газов…
Выйдя на свободу в 1905 году, занялся научно-популярной и легальной публицистикой; читал просветительские лекции, которые пользовались огромным успехом. Его вновь арестовали в 1911 году за сборник стихов «Звездные песни», обвинив в возбуждении бунтовщической деятельности и дерзостном неуважении к существующей власти. Хотя он использовал лишь общие слова типа «тиран» или «корона» без конкретного адреса.
В деловом письме антропологу, географу академику Д. Н. Анучину он не без иронии заметил: «Мне, человеку оппозиции, придется доказывать (и совершенно по совести), что, употребив слово „тиран“, я не имел в виду русской верховной власти… а прокурор будет доказывать, что именно подходит! Точно так же и все подведенные под „воззвание к ниспровержению“… места содержат лишь общие призывы к борьбе с угнетением и ни слова не говорят о России, а прокурору придется доказывать, что угнетение именно и есть в России. Поистине удивительные настали времена!»
Его осудили на год заключения. Он провел его в Двинской крепости, не переставая работать…
Как пишет советский химик и историк науки Ю. И. Соловьев: «Произошло удивительное, феноменальное явление! Из крепости, после 25-летнего заключения вышел человек, научные идеи которого были более передовыми, чем представления и убеждения некоторых профессоров, которые с кафедр университетов читали лекции, участвовали в заседаниях научных обществ, могли в любое время пойти в библиотеки и, наконец, работать в тиши своих уютных кабинетов».
В октябре 1907 года его избрали почетным членом Московского общества любителей естествознания, антропологаи и этнографии. Диплом подписали известные русские ученые: Н. А. Умов, Д. Н. Анучин, Н. Е. Жуковский, К. А. Тимирязев, Н. Д. Зелинский…
Он не был похож на упоенных собственными домыслами «изобретателей велосипедов» и научных фантастов. Его теоретические исследования порой на несколько лет опережали открытия профессионалов. Конечно, в некоторых случаях он повторял — не зная того — совершившиеся открытия. И это доказывает замечательную ясность его ума и творческий гений.
Его жизнь и творчество доказывают справедливость высказывания Гёте: «Первое и последнее, что требуется от гения, это любовь к правде».
Лукашевич Иосиф Дементьевич (1863–1928) судьбой своей напоминает Николая Морозова. Правда, Лукашевич поздно примкнул к революционному движению, а в 24 года попал в тюрьму, где провел почти двадцать лет… став незаурядным ученым. Он написал фундаментальную работу «Неорганическая жизнь Земли» (три объемистых тома!), находясь в Шлиссельбургской крепости.
Был он сыном обедневшего внленского (Вильно, ныне — Вильнюс) помещика. С детских лет проявлял неутолимую любознательность и любовь к природе. Поступил в Петербургский университет, стал членом Студенческого научно-литературного общества, подружился с такими же любознательными молодыми людьми — В. К. Агафоновым, В. И. Вернадским, позже ставшими выдающимися геологами. Тогда же вступил в террористическую организацию, активистами которой были А. И. Ульянов и П. Я. Шевырев.
Группа была разгромлена в 1887 году. Их обвинили в подготовке покушения на царя. Ульянова и Шевырева казнили. Лукашевича приговорили к бессрочному заключению. Когда заключенным разрешили получать литературу, Лукашевич стал инициатором организации негласного «тюремного университета». Он с товарищами стал заниматься геологией, биологией, химией, физикой, кристаллографией, палеонтологией, психологией, философией. По свидетельству Веры Фигнер, он был блестящим преподавателем.
«Занимались шлиссельбуржцы серьезно, — писал историк науки Б. П. Высоцкий, — несмотря на неимоверные трудности, особенно в получении литературы. Им позволили связаться с Петербургским подвижным музеем наглядных пособий, и они занялись массовым составлением коллекций по ботанике, энтомологии, минералогии, палеонтологии. Эти коллекции были столь высокого качества, что на Парижской выставке 1898 г. получили золотую медаль; конечно, музей был вынужден скрыть, кто были лауреаты…
Занятия летом проходили в двориках-огородах; в одном находился лектор Лукашевич, в двух смежных — слушатели; общение между заключенными ограничивалось». Когда Иосифу Дементьевичу надо было рисовать геологические схемы и карты, он, как вспоминала Вера Фигнер, «для черной краски брал копоть с лампы, для голубой — скоблил синюю полоску на стене своей камеры, а для красной употреблял собственную кровь». Не всякий лектор способен на подобное самопожертвование!
Лукашевича привлекала и философия естествознания. Он записал в дневнике: «У меня постепенно созрела мысль попытаться самому синтезировать знание… Это и побудило меня написать курс научной философии… Общий план моего сочинения (по духу наиболее близкий к системе Спенсера и Огюста Конта) таков: Том I. Общие начала философии. Том II. Общий обзор точных наук… Том III. Неорганическая жизнь Земли… То IV. Органическая жизнь Земли… Том V. Отправления нервной системы (психология). Том VI. Учение об организованной деятельности. Том VII. Учение об обществе (социология)». В тюрьме он написал третий, четвертый и пятый тома, а из остальных — только отдельные главы.
Замысел грандиозный! Да и том, что ему удалось сделать, — замечательное достижение. За первую часть третьего тома он получил Большую серебряную медаль Русского географического общества и малую премию Ахматова Петербургской академии наук. Его работы по тектонике и психологии были высоко оценены специалистами. Он первым обосновал существование круговоротов вещества в земной коре.
Он высказал чрезвычайно важный тезис: «Жизнь, как проявление особого вида энергии, так же вечна, как движение, теплота, свет и электричество». Позже эти идеи развивал В. И. Вернадский.
…Припомним, вдобавок к Морозову и Лукашевичу, выдающегося мыслителя, естествоиспытателя П. А. Кропоткина, географа и геолога И. Д. Черского, изобретателя Н. И. Кибальчича, биохимика академика А. Н. Баха, известных этнографов В. Г. Тан-Богораза и Л. Я. Штенберга. Выходит, царская тюрьма и ссылка были «кузницей научных кадров»?!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИСТИКА САМОДЕРЖАВИЯ И ТЕРРОРИЗМА
1
В 1998 году вышел сборник работ Н. И. Черняева (1853–1910) «Мистика, идеалы и поэзия русского Самодержавия». Суть авторской позиции:
«Беспристрастный исследователь не может не согласиться, что монархический принцип заключает в себе много таинственного, много такого, что может быть понято и оценено надлежащим образом только путем пытливых размышлений и внимательного изучения истории. Беспрекословное повиновение миллионов одному человеку и их преданность Монарху представляет явление настолько поразительное, что его нельзя объяснить никакою „хитрою механикою“.
Неограниченная Монархия и русское Самодержавие в частности, не может не казаться делом сверхъестественным, которое удовлетворительно объясняется только участием Провидения в судьбах народов… Государственное устройство, имеющее религиозную основу, не может не иметь мистического оттенка: его имеет и русское Самодержавие, ибо оно построено на убеждении, что Император и Самодержец Всероссийский — Помазанник Божий, что Он получил власть от Бога, что Он Монарх Божиею милостию, что сердце Его в руце Божией».
Столь возвышенное высказывание с обилием заглавных букв призвано — хотел того автор или нет — воздействовать прежде всего на эмоции читателя, возбудить в нем священный трепет при упоминании Самодержавного Монарха Помазанника Божия. В те времена, когда так писалось, после императора Александра III вступил на престол Николай II.
Однако были тревожные сигналы о том, что царствовать ему придется в непростых условиях. В Западной Европе террористы не унимались. Особенно свирепствовали итальянские анархисты: в 1894 году убили президента Франции Мари Франсуа Сади Карно, в 1898 — австрийскую императрицу Елизавету, в 1900 — итальянского короля Умберто.
В России начало XX столетия ознаменовалось выступлением на политическую арену новой группы террористов — Боевой организации эсеров (социалистов-революционеров). Она организовала покушения на министров внутренних дел Д. С. Сипягина и В. К. Плеве, на губернаторов И. М. Оболенского и Н. М. Богдановича, на великого князя Сергея Александровича. Опасаясь за жизнь свою и своих близких, Николай II вынужден был пойти на уступки террористам.
Первыми посягнули на мистику самодержавия не террористы. Как мы уже говорили, первыми стали придворные, сановники, офицеры, убившие Петра III и Павла I. Но в народе еще сохранялось благоговение перед царями. Вот, например, свидетельство Н. Лаврова «Из воспоминаний отставного рядового лейб-гвардии гусарского полка» (Ревель, 1901. — ныне Татлин. — Р.Б.). Он писал о событиях 1 марта 1881 года:
«Мне в тот день как раз был день рождения. Я запас немного водочки, рому и к этому подходящей закуски, и начали мы пользоваться столь редким для нас спокойствием в свое полнейшее удовольствие и благодушествовать, попивая горячий пуншик».
Неожиданно вечером их подняли по тревоге, раздав боевые патроны. Сообщили: государь убит или тяжело ранен. Гусары оставались в казармах:
«Эту ночь мы провели, как будто бы это была и не ночь, обо сне и помину не было ни у кого. Всю ночь мы проговорили про покойного Царя, вспоминая его любовь и ласку к нам. Сердце кровью обливалось от совершившегося такого страшного злодейства…
И если бы тогда, да и впоследствии, нас пустили в атаку на народ, сказав, что это сделал он, то, кажется, никакие в мире силы нас не остановили — все вдребезги бы разнесли. И если бы в толпе были и близкие нам, то не пощадили бы ни приятелей, ни друзей и даже не пожалели бы ни братьев, ни сестер, ни отца, ни мать родную, всех бы к черту смяли и конями бы в грязь и прах растоптали, так беззаветно любили и обожали мы все Царя — Освободителя и обновителя России. До того мы были озлоблены и впоследствии, когда все обошлось тихо и смирно, что мы были даже как-то недовольны, что не удалось сорвать наше зло и отомстить за нашего столь любимого Государя».
Таковы результаты воспитания «нижних чинов» в духе поклонения царю. Это уже не просто подчинение приказаниям начальства, а подобие мистического экстаза. Поистине — обожествление личности. Хотя в подобных случаях чрезвычайно важны качества «харизматичного лидера». Если прославляемая фигура искусственно раздута, она рано или поздно лопнет, оставив смрадный след в истории.
…В Париже с 1925 по 1940 год издавался журнал «Путь. Орган русской религиозной мысли». И в первом же номере редактор журнала Н. А. Бердяев затронул злободневную тему в статье «Царство Божие и царство кесаря», вызвав острую дискуссию о сути монархии вообще и России в особенности.
Бердяев писал: «Демократическая или социалистическая республика в такой же степени есть царство кесаря, как и монархия. И вопрос об отношении Царства Божьего к царству кесаря есть одинаково вопрос об отношении и к монархической государственности и к революции». «Старая, священная русская монархия не может возродиться». «Монархии разлагаются и падают, как и все земное… Царство кесаря принадлежит времени. Царство Божье принадлежит вечности». «Религиозная, православная идея самодержавия, священной монархии, есть чистейшая утопия совершенного, идеального государственного и социального строя, такая же утопия, как папская теократия, как совершенный, идеальный социалистический строй».
С самого начала автор оговорился: «К этой теме нельзя прикасаться тому, кто одержим политическими страстями и интересами, кто находится в состоянии злобы и ненависти». И посетовал: «Духовное плебейство, своекорыстие и утилитаризм искажают не только решение, но и саму постановку тем. И в особенно нездоровой атмосфере происходит обсуждение принципиального отношения христианства к монархии и революции». (Все это относится, увы и к нашему времени.)
Ему возразил А. Петров, сделавший упор на «мистическую суть» самодержавия: «Смысл монархии заключается в постоянном олицетворении в лице монарха религиозно-нравственного идеала, живущего в народе, олицетворение Правды Божией. Такой монарх самодержавен, т. е. не ограничен никакими формальными и юридическими нормами, но ограничен содержанием того религиозно-нравственного идеала, носителем и выразителем которого он является, ограничен Божественным законом, носить Который в сердце своем день и ночь он призывается Церковью».
Да где же видан идеальный монарх, образ которого начертал А. Петров? Бердяев имел все основания отметить: «Православие приобрело казенно-императорский стиль». «Религиозная монархия пала, потому что обнаружилась ложь в ее основе, неискренность».
В ответ ему князь Григорий Трубецкой вновь обратился к мистическим основам самодержавия: «Монарх — выразитель совести народа в исторической преемственности его развития; царская власть является живым звеном между прошлыми и будущими поколениями, возвышаясь над преходящими страстями, партиями и классами. Вот почему особа царя — помазанника Божия окружена ореолом в глазах народа».
Ему вторил Андрей Карпов: «Царская власть… не требует себе рабского подчинения, а подчинения сыновнего, основанного на любви к Богу, волю Которого эта власть исполняет».
На подобные высказывания Бердяев отвечал советом обратиться к реальности, к той России, которая возникла после Гражданской войны. Он понимал — и оказался прав, — что к самодержавию возврата нет.
Но разве в прежнем была та благостная власть — от Бога не ветхозаветного, а от Иисуса Христа?! Ни в коей мере.
У царей, от Николая I до Николая II, был шанс проявить «милость к падшим», не применять смертную казнь хотя бы к преступникам политическим, никого не убивавшим. Они не воспользовались этой возможностью.
Мистику самодержавия подорвала не русская литература (она оставалась по большей части вне народа), не народники, не террористы. Ее более всех подрывали сами цари, над которыми, как злой дух, витали бедоносные идеи Победоносцева и его предшественников.
2
Существование мистики самодержавия предполагает не менее иррациональное отношение к нему врагов монархии.
В книге «Бунтующий человек» Альбер Камю писал: «Всю историю русского терроризма можно свести к борьбе горстки интеллектуалов против самодержавия на глазах безмолвствующего народа. Их великая победа в конечном счете обернулась поражением. Но и принесенные ими жертвы и самые крайности их протеста способствовали воплощению в жизнь новых моральных ценностей, новых добродетелей, которые по сей день противостоят тирании и борьбе за подлинную свободу…
Взрывая бомбы, они, разумеется, прежде всего стремились расшатать и низвергнуть самодержавие. Но сама их гибель была залогом воссоздания общества любви и справедливости, продолжения миссии, с которой не справилась церковь, из лона которой явился бы новый Бог».
Революционеров-террористов XIX века вдохновляли не столько учения теоретиков социализма-коммунизма или анархизма, сколько вера в святую правду своей борьбы за идеалы (порой весьма туманные) свободы, справедливости, братства. Это была цель их жизни. «В Катехизисе Нечаева есть что-то мистическое», — отметил Николай Бердяев.
Составитель книги «История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях» (Ростов-на-Дону, 1996) О. В. Будницкий писал: «В литературе уже обращалось внимание на традиционные (религиозные) основы психологии революционеров народников. Изменился объект, но не изменилась структура религиозного чувства. Место Бога занял народ. Еще в большей степени религиозный момент прослеживается в психологии террористов».
Это верно лишь отчасти. Ради своих идеалов террористы шли на смерть; они не скупились на жертвы во имя торжества своих идей. Но при чем тут религия? Вера бывает разной, и не религиозной в том числе. Вера в идеалы не исключает ни теизма, ни атеизма. Вера в народ? В ней народники, а затем и революционеры-террористы быстро разочаровались.
Альбер Камю, например, имел в виду не обожествление народа, но какого-то неведомого нового Бога. Ни народники, ни террористы не идеализировали русский народ. Такая идеализация была присуща в наибольшей степени именно монархистам с их триадой «самодержавие, православие, народность». Террористов вдохновляла идея.
Арестованный и приговоренный к смертной казни через повешение, Александр Михайлов не ощущал ужаса или уныния: «Приятно даже под страхом десяти смертей говорить свободно, исповедать свои убеждения, свою лучшую веру. Приятно спокойно взглянуть в глаза людям, в руках которых твоя участь».
В ночь перед казнью он пережил необычайный душевный подъем: «Я чувствовал себя так, как должен чувствовать войн в ночь перед давно желанной битвой. Я находился в состоянии величайшего вдохновения… Мне страстно хотелось деть». Он воспринимал свою смерть как торжество революционного духа, как высшую жертву во имя идеи. (В последний момент ему заменили казнь на пожизненное заключение, и он вскоре умер в Петропавловской крепости.)
Повторю фрагмент предсмертного послания террориста В. А. Осинского: «Мы ничуть не жалеем о том, что приходится умирать, ведь мы же умираем за идею, и если жалеем, то единственно о том, что пришлось погибнуть почти только для позора умирающего монархизма, а не ради чего-то лучшего, и что перед смертью не сделаем того, что хотели. Желаю вам, дорогие, умереть производительнее нас. Это самое лучшее пожелание, которое мы можем вам сделать…
Дай же вам Бог, братья, всякого успеха! Это единственное наше желание перед смертью. А что вы умрете и, быть может, очень скоро, и умрете с не меньшей беззаветностью, чем мы — в этом мы ничуть не сомневаемся. Наше дело не может никогда погибнуть — эта-то уверенность и заставляет нас с таким презрением относиться к вопросу о смерти».
Такова мистика революционного террора. И она, как показала судьба «Священной дружины», была несравненно сильней мистики самодержавия.
Но и тут не обошлось без духовной катастрофы. Жестокий удар по мистической вере революционеров-террористов нанесло разоблачение одного из лидеров Боевой организации эсеров, организатора терактов Евно Азефа. Он оказался глубоко законспирированным провокатором.
Впрочем, были не менее веские факторы, но это уже другая тема.
…Человеку разумному дана возможность задуматься над самым, быть может, сокровенным вопросом — о смысле жизни своей личной, своего народа, всего человечества, да и вообще всей Вселенной. Тем, кто решил для себя не на словах, а своей судьбой этот вопрос, не страшна даже смерть.
Завершу словами поэта-философа Федора Тютчева: Пускай Олимпийцы завистливым оком Глядят на борьбу непреклонных сердец. Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком, Тот вырвал из рук их победный венец.


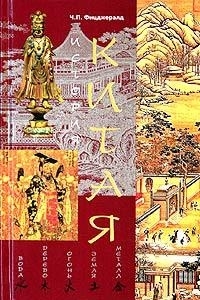
Комментарии к книге «Охота на императора», Рудольф Константинович Баландин
Всего 0 комментариев