До настоящего времени на русском языке не существовало монографии, в которой был бы дан очерк развития основных направлений античной науки позднего периода, — периода, последовавшего за походами Александра Македонского, изменившими облик древнего мира и ознаменовавшими собой важнейший рубеж в мировой истории. Античная наука этого периода (вплоть до начала средневековья) обычно именуется эллинистической наукой независимо от того, относилось ли время жизни ее деятелей к эпохе эллинизма в собственном смысле слова или уже к эпохе Римской империи. Дело в том, что наука как той, так и другой эпохи представляла собой единое целое, связанное прямой преемственностью школ и направлений. Важнейшим центром эллинистической науки вплоть до V в. н. э. оставалась Александрия, причем это была по преимуществу грекоязычная наука (даже в эпоху римского господства), а ее представителями в подавляющем большинстве случаев оказывались греки.
Значение эллинистической науки в истории мировой научной мысли огромно. Именно в эпоху эллинизма греческая наука в лице ее наиболее выдающихся представителей стала наукой par exellence (по преимуществу), — наукой в том смысле, в каком мы понимаем это слово теперь. Великая научная революция XVI–XVII вв. и дальнейшие достижения европейской науки восходят своими корнями к эллинистической науке. Великий Коперник имел в качестве своего предшественника Аристарха Самосского, впервые в ясной и недвусмысленной форме сформулировавшего гелиоцентрическую систему мира. Предпосылки анализа бесконечно малых уже содержались в работах Эвдокса, а особенно Архимеда. Всем известно, что первый в истории науки физический закон, согласно которому тело, погруженное в воду, теряет всвоем весе столько, сколько весит вытесненная им вода, был сформулирован также Архимедом. Не случайно Лейбниц, перечисляя величайших ученых мира, называет имя Архимеда в ряду таких имен, как Галилей, Кеплер, Декарт, Гюйгенс и Ньютон[82]. «Элементы» Эвклида служили образцом для Ньютона, когда он писал свои «Математические начала натуральной философии». Исследования конических сечений Аполлония Пергского легли в основу теории планетных движений Кеплера, стимулировали создание алгебраической теории кривых второго порядка (Декарт) и оказали влияние на основополагающие работы ряда других ученых нового времени. Воздействие идей Диофанта прослеживается на протяжении нескольких столетий от Ферма до Пуанкаре. Александрийский математик IV в. н. э. Папп рассмотрел несколько предложений, относящихся, согласно современной терминологии, к проективной геометрии. Эти примеры можно было бы умножить.
Таким образом, не будет преувеличением сказать, что достижения величайших греческих ученых эллинистической эпохи явились той базой, на которой выросла наука нового времени. Этой базой не могли быть ни космогонические и космологические построения философов-досократиков, ни всеобъемлющее учение Аристотеля. У досократиков еще не было научного метода, который позволил бы придать обязательность их противоречивым и порой парадоксальным утверждениям. Не случайно с такой иронией отзывается Сократ в платоновском «Федоне» о космологических гипотезах своих предшественников. Что же касается Аристотеля, то его система мира именно в силу своей завершенности оказалась неспособной содействовать плодотворному научному поиску. Мы знаем, что аристотелевский образ мира, принятый в качестве парадигмы учеными как восточного, так и западного средневековья, оказался величайшим тормозом, в течение ряда столетий препятствовавшим разработке идей Архимеда, Аристарха и других ученых эпохи эллинизма.
В этом смысле наука эпохи эллинизма представляет собой уникальное явление, не имеющее аналогов в культурах других регионов земного шара. Этого нельзя сказать о философии и науке (или, лучше сказать, преднауке)
досократовской поры. Пробуждение человеческого сознания, проявившееся в учениях досократиков, освободившихся от пелены мифологических образов и представлений, не было чем-то единственным и неповторимым. Подобное пробуждение сознания происходило и у других культурных народов древности. Любопытно, что оно совершалось независимо друг от друга и почти одновременно (слово «одновременно» в данном случае употребляется с точностью до двух-трех столетий). Мы имеем в виду эпоху, охватывающую VII–V вв. до н. э. Так, в это же примерно время возникает китайская философия, основные идеи которой (учение об элементах и о важнейших движущих силах мироздания — инь и ян) во многом можно считать близкими концепциям Гераклита, Парменида, Эмпедокла. В Индии в начале VI в. до н. э. появляется Сиддхартха Гаутама (Будда) — создатель одного из наиболее глубоких религиозно-философских учений. А к несколько более позднему времени относится зарождение шести классических систем брахманизма, из которых, во всяком случае, одна (вайшешика) имеет ярко выраженную натурфилософскую направленность. В Иране Заратуштра произвел радикальное очищение древнеиранских верований от наличествовавших в них элементов мифологии и демонологии и придал иранской религии возвышенный характер, вызывавший симпатии у образованных греков того времени (например, у Геродота). Согласно исследованиям новейшего времени, именно иранские религиозно-философские воззрения оказали наибольшее влияние на мышление ранних досократиков[83]. Но в дальнейшем пути греческой и восточной мысли резко расходятся. В Китае и Индии научно-философское мышление последующих столетий не выходит в принципе за пределы тех идей и тех методов, которые были сформулированы основоположниками соответствующих школ в период «пробуждения сознания». Речь шла лишь о комментировании трудов, признанных классическими, о том или ином их истолковании и о разработке деталей. В отдельных случаях эта разработка имела очень тонкий и изощренный характер, но существа дела это не меняло.
В то же время в Греции наблюдается громадный рывок. В области философии этот рывок выражается в создании великих философских учений Платона и Аристотеля, во всех отношениях превосходивших все, что до этого времени было создано мыслителями досократовского периода. О развитии послеаристотелевской философской мысли кое-что будет сказано в последующих главах. Отмечу тут же, что эти философские экскурсы не будут претендовать ни на полноту, ни на законченность. В частности, пусть читатель не удивляется, что он не найдет в этой книге изложения таких важных философских учений, как концепция Логоса Филона Александрийского или как философия неоплатонизма. С развитием греческой науки эти учения были связаны лишь самым минимальным образом и не внесли в нее (особенно поскольку речь идет об естествознании) практически никакого вклада.
Что же касается науки, то тут мы встречаемся с поразительным феноменом. Уже в IV в. до н. э. греческая наука (математика, астрономия) выделяется из синкретичной «науки о природе» досократиков и получает самостоятельный статус. Этому способствует то, что греческая наука этого периода создает свои собственные методы исследования, которые оказываются необычайно продуктивными и сохранившими свое значение в науке нового времени. Это гипотетико-дедуктивный метод, нашедший широчайшее применение во всех дисциплинах, так или иначе связанных с математикой. И во-вторых, это метод построения моделей, с помощью которых оказывается возможным объяснить наблюдаемые явления (σώζειν τα φαινόμενα, как говорили греки). Этот второй метод оказался особенно плодотворным в астрономии. Использование этих двух методов и явилось тем внутренним стимулом, который позволил грекам осуществить небывалый до этого скачок в развитии научного Знания. Для того чтобы греческая наука встала примерно на один уровень с наукой нового времени, нужен был еще один метод — метод научного эксперимента. Но по ряду причин, на которых мы здесь не будем останавливаться, у греков мы находим лишь зачатки научного экспериментирования. Эксперимента в том смысле, в каком он был создан трудами Галилея, Бойля, Гюйгенса, Ньютона, греческая наука еще не знала.
Но, помимо внутренних причин, несомненно существовали также и внешние причины, обусловленные политической и социально-экономической ситуацией в эпоху эллинизма. Без учета этих внешних причин мы не можем, в частности, объяснить возникновение александрийской научной школы и связанных с ней учреждений. Только потому, что в этот период истории античного мира произошло сочетание внутренних и внешних факторов, благоприятствовавших развитию науки, может быть объяснен удивительный взлет научной мысли, нашедший выражение в трудах Евклида, Архимеда, Аполлония из Перги, Гиппарха и других ученых.
Указанными соображениями во многом определяется структура настоящей работы. Прежде чем перейти к изложению отдельных научных дисциплин, получивших развитие в эпоху эллинизма, автор счел целесообразным посвятить одну главу проблемам, имеющим чисто исторический характер, но которые позволяют читателю осмыслить многие характерные черты эллинистической культуры вообще и эллинистической науки в частности. Во второй главе речь идет об основных философских направлениях эпохи эллинизма. В главе третьей излагается история возникновения, расцвета и дальнейших судеб александрийской научной школы. В этой же главе коротко рассказывается о достижениях александрийских ученых в тех областях знания, которые не нашли отражения в последующих главах, но которые тем не менее имели первостепенное значение в александрийской науке. Это, прежде всего, математика, ставшая в то время ведущей научной дисциплиной, но которую мы не можем причислить к естествознанию, составляющему основной предмет данной работы. И во-вторых, это медицина, считавшаяся не наукой, а ремеслом или искусством (τέχνη), но непосредственно связанная с анатомией и физиологией, которые в качестве самостоятельных теоретических дисциплин находились еще в зачаточном состоянии.
Четвертая глава книги посвящена развитию греческих представлений об ойкумене, т. е. об обитаемом мире. При этом в целях придания материалу большей цельности мы начинаем изложение географических воззрений не с александрийской эпохи, а с середины IV в. до н. э. (с Эвдокса), поскольку именно тогда утвердилось представление о шарообразности Земли и были заложены принципы, которые в дальнейшем легли в основу географической науки.
Астрономия, бывшая предметом первоочередного внимания греческих ученых эллинистического периода, является темой пятой главы. И здесь мы начинаем не с эпохи эллинизма, а с несколько более раннего времени, а именно с того времени, когда жил Эвдокс. Это обстоятельство представляется настолько самоочевидным, что она не нуждается в каком-либо оправдании.
Шестая глава именуется «Наука и техника в античности». В ней анализируется своеобразное соотношение между наукой и техникой в древнем мире, совершенно непохожее на то взаимодействие между этими двумя сферами человеческой цивилизации, которое мы наблюдаем в новейшее время. Античная наука практически не влияла на технический прогресс того времени и, в свою очередь, не получала от техники никаких стимулов для своего развития. Более того, античные мыслители (например, Аристотель) указывали на бесполезность науки как на ее неоспоримое достоинство. Исключением из общего правила может показаться пример Архимеда, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что и это исключение оказывается мнимым.
В главе седьмой рассматривается вопрос о роли римской (латиноязычной) культуры в развитии естествознания. Наконец, последняя, восьмая глава посвящена в основном Иоанну Филопону — этой примечательной фигуре, стоящей на рубеже античности и средневековья.
Из приведенного краткого перечня глав настоящей книги следует, что она отнюдь не претендует на то, чтобы быть всеобъемлющим и исчерпывающим курсом по истории античного естествознания позднего периода. Это, скорее, книга для чтения, рассчитанная на то, чтобы в какой-то мере удовлетворить любознательность и возбудить желание глубже заняться этой удивительной эпохой в истории человеческого мышления. Если эта книга найдет заинтересованного читателя, автор будет считать свою задачу выполненной.
Глава первая Эллинизм и его значение в истории античной цивилизации
Предварительные замечания
Что такое эллинизм? Можно ли дать сколько-нибудь адекватное определение этому своеобразному историческому феномену?
До середины XIX в. историки обычно недооценивали значение эпохи эллинизма, трактуя ее как время политической и культурной деградации эллинского мира. У ученых, занимавшихся историей древнего мира, преобладало стремление поскорее перейти от классической Греции к Римской республике, по возможности не задерживаясь на событиях, происходивших в ареале эллинистических монархий[84]. Такое отношение к истории эллинизма объяснялось, прежде всего, неудовлетворительным состоянием источников, относящихся к этой эпохе. Ничего подобного трудам Геродота и Фукидида (или хотя бы Ксенофонта) об этом времени написано не было; записки очевидцев и участников войн диадохов и последующих событий до нас не дошли; в результате мы вынуждены довольствоваться поздними, вторичными и потому во многом ненадежными источниками (такими, как Диодор Сикилийский и Плутарх). Поэтому величайшей похвалы заслуживает капитальный труд И. Дройзена[85], второй том которого носит название «История диадохов», а третий — «История эпигонов»[86], в котором была сделана попытка дать возможно полную политическую историю эпохи эллинизма. После Дройзена ни один сколько-нибудь добросовестный историк древнего мира уже не может игнорировать эту своеобразную и во многом примечательную эпоху. Что же касается социально-экономической истории эллинизма, то здесь таким же этапным трудом явилось трехтомное сочинение М. И. Ростовцева[87], вышедшее почти ровно через сто лет после первого издания труда Дройзена. В своей работе Ростовцев убедительно показал, что эллинизм был не только новым этапом в истории античной культуры, как его понимало большинство ученых до этого[88], но в такой же, если не в большей степени своеобразным социально-экономическим феноменом, резко отличавшимся от всего, что было в Греции и на Ближнем Востоке до похода Александра.
В советской исторической литературе одно время существовала тенденция рассматривать эллинизм как некий универсальный этап[89] или стадию[90] развития рабовладельческой социально-экономической формации. В дальнейшем эта точка зрения была подвергнута основательной и справедливой критике[91]. Дело в том, что возникновение эллинистических государств никак не может считаться проявлением или следствием развития рабовладельческих форм эксплуатации. В большинстве эллинистических государств рабы не играли существенной роли ни в сельскохозяйственном, ни в ремесленном производстве; тем же классом, труд которого являлся основой и источником богатства эллинистических монархов были не рабы, а крестьяне — λαοί, подвергавшиеся более жестокой и планомерной эксплуатации, чем это имело место в этих странах когда-либо ранее. Некоторым исключением было, по-видимому, лишь возникшее позже других эллинистических монархий Пергамское царство, где установились типичные рабовладельческие отношения, в известной мере предвосхитившие то, что мы позднее найдем в Римской империи. В целом же социально-экономическая и культурная специфика эллинистической эпохи определялась факторами, не связанными с наличием или отсутствием рабовладения.
Ближе всего к истине, по нашему мнению, находится определение эллинизма, данное английским историком Ф. Уолбенком, согласно которому понятие «эллинизм» включает в себя единство социально-экономических, политических и культурно-идеологических структур, которые сложились на территории, завоеванной Александром Македонским, в результате греческой колонизации и взаимодействия эллинских и восточных элементов[92]. Как нам представляется, это определение принимается в основном и большинством советских историков[93].
Борьба диадохов и образование эллинистических монархий
Александр Македонский умер в Вавилоне 10 июня 323 г.[94] Смерть великого полководца явилась полной неожиданностью для его боевых соратников. Никаких распоряжений относительно престолонаследия Александр перед своей кончиной не дал. Правда, Диодор и Курций Руф сообщают, что, уже находясь в агонии, Александр снял со своего пальца перстень и передал его Пердикке. Когда же его спросили, кому он передает свое царство, умирающий ответил «лучшему»[95]. После смерти царя шли долгие дебаты, в которых, согласно традиции, приняло участие все македонское войско. В конце концов было решено назначить наследником Александра сразу двух лиц: его слабоумного единокровного брата Арридия (принявшего имя Филиппа III) и родившегося уже после смерти царя сына его жены Роксаны, названного Александром IV. Пердикка получил права регента, которому было поручено «руководство всем» (ή τών όλων ήγεμονία). После этого на совещании военачальников было произведено распределение сатрапий. Антипатра постановили оставить на Балканском полуострове с титулом «самодержавного стратега» (στρατηγός αύτοκράτωρ). Антигон, по прозвищу Одноглазый (Μονοφϑαλμός), стал сатрапом Большой Фригии, Ликии и Памфилии, Птолемей — Египта, Лисимах — Фракии, Леоннат — Геллеспонтской (Малой) Фригии, Пифон — Мидии. Начальник канцелярии Александра Эвмен получил Пафлагонию и пока еще независимую Каппадокию (в центре Малоазийского полуострова). Об участии в распределении земель Кратера, наиболее популярного в македонской армии полководца, не упоминается, вероятно, потому, что в — момент смерти Александра он находился в пути, сопровождая в Грецию большую колонну македонских ветеранов[96].
Диадохи (преемники) Александра, как названные нами, так и другие, о которых речь пойдет ниже, были людьми бесспорно незаурядными — смелыми, талантли выми полководцами, прошедшими суровую школу Великого похода. Честолюбивый старый вояка Антигон, расчетливый и хитрый политик Птолемей, самый образованный и, возможно, самый умный среди них Эвмен (будучи греком, а не македонцем, он находился среди своих коллег на положении чужака) — каждый из них был способен не только командовать на поло боя, но и руководить государством. Никто из них открыто не выступал против единства империи, созданной Александром, но каждый стремился в первую очередь обеспечить собственные интересы. А так как среди них но было никого, кто бы резко выделялся среди прочих своим авторитетом и мог бы подчинить остальных своей воле, то такая ситуация неизбежно должна была привести — и в дальнейшем привела — к междоусобной борьбе.
Но прежде всего диадохи резко изменили курс, которого придерживался Александр в последние годы своей жизни. Они восстановили привилегии македонской армии и отказались от вынашивавшейся Александром идеи «слияния» народов, что выразилось прежде всего в том, что все они (за исключением Селевка) отвергли персидских жен, навязанных им Александром. Автоматически отпал вопрос и о дальнейших завоеваниях, в частности о походе в Аравию, к которому Александр начал готовиться незадолго до своей смерти.
Между тем при получении известия о смерти Александра в большинстве полисов Балканского полуострова вспыхнули антимакедонские восстания, приведшие к так называемой Ламийской войне (по имени города Ламия, где был осажден Антипатр). Война продолжалась больше года; на помощь Антипатру поспешил сатрап Геллеспонтской Фригии Леонпат, погибший, однако, при первом же столкновении с греками, а также прибывший со своими ветеранами Кратер. После битвы при Кранноне (в августе 322 г.) греческие полисы признали себя побежденными. Что касается Пердикки, который находился в Вавилоне, то он не приобрел того авторитета, какой был бы ему нужен как регенту малолетних царей. Большинство сатрапов относилось к нему с завистью и недоброжелательством. Единственным безусловно верным ему человеком остался Эвмен, по-видимому искренне озабоченный сохранением целостности империи. Вскоре против Пердикки образовалась коалиция, возглавлявшаяся Антигоном и Кратером. На первых порах Пердикка с Эвменом добились успехов. Каппадокия была полностью подчинена и передана Эвмеину. Когда Пердикка вступил в пределы Большой
Фригии, Антигон бежал к Антипатру в Македонию. Выступивший против Эвмена Кратер погиб в битве. Заняв Сирию и Финикию, Пердикка дошел до Египта[97]. Однако неудачная попытка переправиться через Нил, повлекшая за собой большое число жертв, привела к мя тежу в войске и к убийству Нердикки его ближайшими помощниками, среди которых были Пифон и пока еще не проявивший себя Селевк (в июле 321 г.). Войско Пердикки вернулось в Азию под командованием Пифона.
Смерть Пердикки привела к изменению общей ситуации. В том же году все полководцы, за исключением Эвмена, собрались в городе Трипарадисе в Сирии для перераспределения должностей. Регентом при царях вместо убитого Пердикки был назначен Антипатр. Антигон получил звание стратега Азии, выдвинувшись таким образом на первое место среди прочих сатрапов. Селевк стал сатрапом Вавилонии, одной из наиболее важных провинций империи. Здесь же образовалась новая коалиция — на этот раз против Эвмена, — возглавлявшаяся Антигоном. Эвмен, разбивший перед этим сатрапа Армении Неоптолема, был, безусловно, самым опасным соперником Антигона.
Поход Антигона против Эвмена, предпринятый после совещания в Трипарадисе, протекал для последнего неудачно. Армия Эвмена потерпела поражение, а затем была осаждена в маленьком городке на границе Каппадокии. Осада длилась около года, но в конце концов была снята Антигоном, когда в 319 г. было получено известие о смерти Антипатра.
Любопытные детали о взаимоотношениях диадохов приводит Плутарх. Воюя друг с другом и иногда убивая друг друга, они в то же время не забывали, что все они остаются, перефразируя слова Пушкина, «птенцами гнезда Александра». Так, во время осады армии Эвмена Антигон послал к нему для переговоров своего племянника. «. Эвмен спустился к нему, и они обнялись как старые друзья и знакомые — ведь прежде долгое время оба питали друг к другу самые лучшие чувства. Многие из македонян сбежались к месту переговоров, горя любопытством посмотреть, какой из себя тот, о ком после гибели Кратера больше всего говорили в войске. Антигон боялся, что Эвмен станет жертвой насилия, и сперва кричал, запрещая воинам подходить близко, потом стал швырять в них камнями. В конце концов он обнял Эвмена и, с помощью телохранителей раздвинув толпу, с большим трудом вывел его в безопасное место»[98].
Умирая, Антипатр назначил своим преемником по регентству не сына Кассандра, а пожилого полководца, сражавшегося еще при Филиппе II, Полиперхона. Полиперхон, как и Эвмен, был убежденным сторонником единства империи; придя к власти, он предложил Эвмену союз и помощь в борьбе с Антигоном, обещав передать ему звание стратега Азии. В Греции Полиперхон повел политику, отличную от политики Антипатра: он издал указ о свободе и автономии греческих городов-государств, имевший своим следствием восстановление демократических порядков во многих полисах и гонения против олигархов, назначенных в свое время Антипатром. Так, в Афинах был приговорен к смерти и выпил, подобно Сократу, чашу с цикутой престарелый военачальник, сторонник умеренно-консервативной партии Фокион[99].
Торжество афинской демократии оказалось, однако, недолговечным. Между Полиперхоном и сторонниками Кассандра началась борьба. Высадившись в Пирее, Кассандр оккупировав Афины и принудил афинян изменить конституцию (318 г.). Была введена новая должность — «попечителя полиса» (έπιμελήτης τής πόλεως), которым стал ученик Феофраста философ Деметрий Фалерский — человек, о котором у нас еще пойдет речь в будущем. Он произвел кодификацию афинского права и в качестве «попечителя» города, вел себя как благоразумный и рачительный хозяин. Будучи сторонником аристотелевского принципа «умеренной жизни», он поощрял воздержность в быту и в общественных делах и пытался искоренить распущенность и свободу нравов, которой славились афиняне. Судя по комедиям Менандра (бывшего, кстати сказать, другом Деметрия), его идеалом был афинянин среднего достатка, заботящийся о благосостоянии семьи и о надлежащем воспитании своих детей, гуманно относящийся к рабам и не стремящийся к политической деятельности. Возможно, что в значительной степени благодаря Деметрию Фалерскому Афины остались (и продолжали быть в дальнейшем) философской столицей древнего мира: при нем процветали Ликей и Академия, начал читать свои лекции в «расписном портике» (στοιά ποικίλη) китионец Зенон, а несколько позднее (в 300 г.) вернулся в Афины Эпикур. В целом десятилетие правления Деметрия Фалерского (317–307 гг.) расценивалось древними и новыми авторами как одна из самых благополучных страниц в истории Афин.
Вскоре после занятия Афин Кассандр окончательно одержал верх над Полиперхоном, бежавшим в Этолию. Мать Александра, Олимпиада, вернувшаяся при Полиперхоне из Эпира в Македонию и приказавшая убить слабоумного Филиппа III, была сама убита Кассандрой в 316 г., а Роксана с Александром IV была взята под стражу. Позднее, в 311 г., они также были умерщвлены. Все это было вполне в духе македонских дворцовых традиций, хотя мы вправе содрогнуться при мысли: что должен был чувствовать убийца матери, жены и сына великого Александра? Видимо, не случайно (хоть это не помогло делу) Антипатр передал регентство не Кассандру, а Полиперхону. В то же время, стремясь укрепить свое положение как законного наследника македонского престола, Кассандр взял в жены дочь Филиппа II Фессалонику[100]. А для поднятия своего престижа в греческом мире он принял решение о восстановлении Фив, разрушенных в 333 г., причем все греческие полисы должны были принять в этом деле посильное участие.
Победа Кассандра на Балканском полуострове роковым образом ухудшила положение Эвмена. Потеряв Каппадокию и практически не имея собственной территории, Эвмен прошел со своим войском, к которому присоединилась посланная ему на помощь Полиперхоном македонская гвардия — так называемые «среброщитные» (άργοράσπιδες), до Сузианы и Персиды, где заключил союз с Певкестом, остававшимся сатрапом Персиды еще со времен Александра. Селевк, находившийся в Вавилоне, не смог удержать Эвмена, и ему на помощь устремился Антигон. В области, называвшейся Габиена (в Сузиане), в 316 г. произошло сражение между войсками Эвена и Антигона, закончившееся поражением Антигона. Эвена, однако, погубило то случайное обстоятельство, что его обоз вместе с семьями македонян, попал в руки противника. Против Эвена был устроен заговор: «сребролистные» связали его и выдали Антигону в обмен на свои семьи. После некоторых колебаний (как сообщает Плутарх, сын Антигона Деметрий и бывший флотоводец Александра Неарх были за то, чтобы сохранить Эвмену жизнь[101]) Антигон приказал умертвить как Эимена, так и всех тех, кто ого продал. Вся эта история чрезвычайно характерна для войн диадохов и для взаимоотношений, которые существовали между бывшими военачальниками Александра.
Отметим существенное различие между положением. в Греции и отношением к войнам диадохов в азиатских странах. Если для греческих полисов, в частности для Афин, победа, скажем, Полиперхона или Кассандра имела жизненно важное значение, поскольку она приводила либо к торжеству демократии, либо, наоборот, к установлению олигархических порядков, то в Азии борьба диадохов оставляла местное население совершенно равнодушным. Ни в Египте, ни в Вавилонии, пи в Персии не было сделано ни одной попытки поднять восстание и освободиться от власти македонян. Видимо, шок, полученный этими народами в результате побед Александра, был еще очень силен. Кроме того, надо учесть следующее обстоятельство: войны диадохов велись профессиональными армиями — македонянами и греческими наемниками, а население восточных стран в них не принимало никакого участия. Разумеется, области, где происходили военные действия и где расквартировались армии, страдали от поборов и от мародерства солдат, но уже в соседних районах жизнь шла своим чередом. Жителям Каппадокии, Киликии или Сузианы было совершенно безразлично, кто в данный момент считался их правителем — Эвмен, Селевк или Антигон. Но для полисов Старой Греции это было совсем не безразлично. Учитывая это, диадохи стремились всячески угодить гражданам греческих полисов и тем или иным способом завоевать их симпатии.
Гибель Эвмена в 316 г. ознаменовала собой новый рубеж в истории диадохов. В Азии практически неограниченным властителем стал Антигон. В Экбатаие и Сузах он захватил все еще имевшиеся там громадные богатства, позволявшие ему содержать очень большую наемную армию. Пифона, сатрапа Мидии и своего бывшего союзника, он казнил, Певкеста снял с должности сатрапа Персиды; что же касается Селевка, то тот был вынужден бежать из Вавилона и скрылся в Египте, где по-прежнему правил дальновидный и расчетливый Птолемей. В Греции и Македонии власть находилась в руках Кассандра. Был, правда, еще Лисимах, сатрап Фракии и
Геллеспонтской Фригии, но по сравнению с тремя названными его значение было не столь велико. Таким образом, уже начали вырисовываться контуры трех больших государственных образований, которые сыграют определяющую роль в истории эллинизма.
Было вполне естественно, что против Антигона, получившего, по мнению прочих диадохов, слишком большую власть, образовалась новая коалиция, в которую вошли Кассандр, Лисимах, Птолемей и Селевк. На этот раз события сложились для Антигона неблагоприятно: в 312 г. его сын Демстрий потерпел поражение от Птолемея при Газе, а Селевк, считавшийся военачальником Птолемея, снова овладел Вавилонской сатрапией, причем все попытки Антигона изгнать его оттуда окончились неудачей. Отметим, кстати, что 312 год послужил началом «селевкидского летосчисления», которое было в ходу на Ближнем Востоке более тысячи лет[102].
В 311 г. между враждующими сторонами был заключен мир, послуживший, однако, лишь краткой передышкой между войнами. В 307 г. вспыхивает новая борьба, которая теперь ведется в основном за обладание Грецией. Против Антигона выступает прежняя коалиция. В Эгейском море перевес был, казалось бы, на стороне Птолемея, которого поддерживали многие острова и города. Но сын Антигона Деметрий опередил Птолемея; внезапно высадившись в Пирее и провозгласив лозунги свободы и восстановления демократических порядков, он был с восторгом встречен афинским демосом. В Афинах произошла очередная смена режима: олигархи были смещены, преданы суду и казнены, а Деметрий Фалерский бежал в Египет, после чего целиком посвятил себя научной и литературной деятельности.
В 306 г. Деметрий с большим флотом отплыл из Мирен к Кипру, где в морском сражении нанес сокрушительное поражение флоту Птолемея. После этого Антигон и Деметрий принимают (оба) титулы царей. В 305 г. их примеру последовали Птолемей, Селевк, Лисимах и Кассандр, что явилось официальным признанием распада империи Александра. Нам остается перечислить несколько важнейших событий последующих лет, когда окончательно оформились крупнейшие эллинистические монархии.
В 305–304 гг. происходит знаменитая (хотя и безуспешная) осада Родоса войсками Деметрия, который после нее получил прозвище «Полиоркета» (Πολιορκητής), т. е. «осаждающего города». Во время этой осады были использованы все достижения тогдашней военной техники, в том числе «погубительница городов» (έλέπολις) — 9-этажная осадная башня, которую обслуживали 3 тыс. человек [103].
В 303 г. Деметрий возвращается в Грецию, где одерживает ряд побед над Кассандрой и восстанавливает Коринфский союз, к которому присоединяются и многие города Пелопоннесского полуострова (о Полиперхоне и его судьбе источники больше ничего не сообщают).
301 г. Пока Деметрий находился в Греции, Селевк, заручившийся поддержкой могучего индийского царя Чандрагупты, основателя династии Маурьев, которому он передал Парапомисаду, Арахосию и Гедросию (фактически, впрочем, никогда не подчинявшихся Селевку), собрал большую армию, оснащенную несколькими сотнями боевых слонов, и в союзе с Лисимахом вступил в центральные области Малой Азии. Антигон срочно вызывает Деметрия. Летом при Ипсе (во Фригии) происходит решающее сражение, в котором армия Антигона терпит сокрушительное поражение. Сам Антигон, которому к этому времени исполнилось уже 80 пет, погибает на поле битвы, а Деметрий спасается бегством с остатками армий. Происходит раздел владений Антигона между Селевком и Лисимахом. Во владении Деметрия остались лишь несколько городов в Финикии и малоазиатской Ионии.
В 297 г. умирает Кассандр. Воспользовавшись этим, Деметрий высаживается в 295 г. в Афинах, где его встречают уже далеко не так восторженно, как двенадцать лет тому назад. В 294 г. Деметрий становится царем Македонии, но в последующие годы терпит неудачу в войне с объединенными силами Лисимаха и царя Эпира Пирра. Снова оказавшись в Азии, Деметрий ввязывается в новую борьбу с Селевком, в 285 г. попадает к нему в плен и через два года умирает (в положении почетного узника). Так окончилась жизнь этого незаурядного человека, в котором честолюбие и военный талант отца соединялись с авантюризмом, необузданностью страстей и распущенностью. Замечательный портрет Деметрия оставлен нам Плутархом[104].
В 282 г. умирает Птолемей I, прозванный Сотером (Спасителем). За несколько лет до своей смерти он передал государство своему сыну, Птолемею II Филадельфу, а сам на покое занялся писанием мемуаров (жаль, что они до нас не дошли, подобно запискам Юлия Цезаря!). Заметим также, что Птолемей Сотер был единственным из диадохов, кто умер естественной смертью.
281 г. Война Лисимаха с Селевком заканчивается разгромом армии Лисимаха и его смертью в битве при Курупедионе (Большая Фригия). С этих пор царство Лисимаха перестает существовать на карте мира. Все азиатские владения Лисимаха влились в царство Селевка. Намерения Селевка переправиться через Геллеспонт и овладеть европейской частью царства Лисимаха, a может быть, и Македонией оказались неосуществлениными из-за его смерти: в феврале 280 г. Селевк I, по прозвищу Никатор (Победитель), был заколот убийцей из дома Птолемеев. Так, в возрасте около 75 лет погиб последний из диадохов, сражавшихся еще под командованием Александра.
Итак, более чем сорокалетняя борьба за наследство Александра привела к образованию трех более или менее стабильных монархий, игравших ведущую роль в политической, экономической и культурной жизни Восточного Средиземноморья и прилегающих к нему стран. Эти три монархии часто называются именами царствовавших там династий, а именно: царством Лагидов, царством Селевкидов и царством Антигонидов.
С точки зрения истории науки наиболее важным из этих государственных образований было царство Лагидов (или Птолемеев), включавшее в качестве своего основного ядра Египет с примыкающими к нему африканскими территориями. В течение почти всего III в. это царство, которое мы в дальнейшем будем для краткости именовать просто Египтом, владело также целым рядом заморских территорий, среди которых наибольшее значение имели остров Кипр, Линия, Кикладские острова и ряд городов на средиземноморском побережье Малой Азии. Могущество державы Птолемеев определялось в основном двумя факторами: господством на море и международной торговлей, которую она вела, с одной стороны, со странами Азии, в том числе с Аравией и даже с Индией, а с другой — с греческими городами Эгейского ареала. Важным посредником в этой торговле служил традиционный союзник Египта Родос.
Царством Антигонидов была, по сути дола, Македония, с которой, как говорится, «все и началось». Борьба за власть, развернувшаяся в Македонии после смерти Лисимаха, вскоре привела к воцарению там (в 276 г.) Антигона Гоната, сына Деметрия Полиоркота, который и положил начало династии, правившей в Македонии вплоть до ее завоевания римлянами в 146 г. История Македонии в III в. — это в основном история ее сложных взаимоотношений с полисами Балканского полуострова, где в 280 г. организуется мощный Ахейский союз городов, имевший ярко выраженную антимакедонскую направленность.
Наименее органичным из всех трех названных государств было царство Селевкидов, для которого мы не можем найти более удобного наименования, ибо с самого начала это царство представляло собой не что иное, как империю Александра, у которой, однако, были обрублены некоторые важные конечности: Македония, Египет и восточно-азиатские провинции. Тем не менее и в таком виде царство Селевкидов представляло собой грозную силу по причине обширности и богатства занимаемой им территории. После гибели Антигона Одноглазого в 301 г. Селевк I перенес столицу своего царства из Вавилонии в Сирию; в это время ему подчинялись: все Междуречье, Финикия и Палестина, большая часть Малой Азии, Персия, Мидия, Армения, Парфия и Бактрия. Но уже в первой половине III в. от этого огромного государства начинают откалываться куски. В 281 г. па южном побережье Черного моря образовывается Понтийское царство. В 278/7 гг. в Малую Азию вторгаются кельты (галаты) и обосновываются в центре полуострова в роли своеобразной инородной опухоли — Галатии. В 262 г. завоевывает независимость Пергам, до этого бывший чем-то вроде вассального княжества у Селевкидов. В дальнейшем Пергам становится одним из крупнейших центров эллинистической науки и культуры. Около 250 г. от царства Селевкидов отделяются северо-восточные провинции, образуя два независимых государства: Парфию и Греко-Бактрийское царство; последнее в дальнейшем распространяет свою власть почти на все восточные провинции бывшей империи Александра вплоть до Пенджабского пятиречья. Все это, впрочем, не помешало Селевкидам играть и в дальнейшем важнейшую роль в ближневосточных делах, особенно при царе Антиохе III (223–187 гг.), прозванном Великим.
Ну, а что в ото время происходит с Афинами? Афиняне снова и снова делают попытки свергнуть македонскую гегемонию, пока наконец не терпят окончательного поражения в ходе так называемой Хремонидской войны (267–262 гг.). С итого времени Афины переходят на положение второстепенного городка, находившегося в полном подчинении у Македонии и уже не играющего никакой роли в международных делах. Завоевание Афин римлянами (в 86 г.), сопровождавшееся кровавыми эксцессами, лишь заменило хозяина, которому должен был подчиняться город, ранее именовавшийся «школой эллинов». Правда, слава Афин как духовного центра всего эллинского мира продолжает сохранять свое обаяние, привлекая в город тысячи туристов из самых различных стран, в том числе и из Рима. Эти туристы — почти как и в наше время — любуются Акрополем, посещают знаменитые афинские гимнасии и с уважением смотрят издали на философов, прогуливающихся по дорожкам своих садов.
Эллинизация Востока
Как было отмечено в начале этой главы, характернейшим признаком эпохи эллинизма была экспансия греков на Восток — в страны, входившие ранее в состав Персидской империи и впоследствии завоеванные Александром Македонским. Эта экспансия выражалась, прежде всего, в основании многих десятков греческих городов и поселений в этих странах, — иначе говоря, в интенсивной колонизации ближневосточных территорий. Подобная колонизация началась еще при жизни Александра, будучи сознательной и планомерно проводимой политикой великого завоевателя; в дальнейшем она усиленно стимулировалась руководителями новых эллинистических государств — особенно Селевкидами — и продолжалась в течение всего III столетия. Лишь во II в. impetus греческой энергии, направленный на Восток, начал иссякать, когда в эллинистических монархиях начали развиваться иные тенденции, а на Западе решающую роль стала играть новая грозная сила — Рим. Тем не менее греческая колонизация стран Ближнего (и отчасти Среднего) Востока наложила настолько мощный отпечаток на их экономическое, социальное и культурное развитие, что по отношению ко всем этим странам мы можем говорить об эллинизме как о длительной и плодотворной эпохе, когда греческий фермент в них играл исключительно важную, если но решающую роль.
Тут же надо отметить, что экспансия греков за пределы Балканского полуострова и Эгейского архипелага отнюдь но была явлением новым и необычным. Еще в догомеровскую эпоху произошла колонизация греками западного малоазийского побережья, где уже в IX–VIII вв. возникают крупные поселения городского типа. После этого греческая колонизация распространяется, с одной стороны, на запад, захватывая Южную Италию, Сицилию и достигая средиземноморского побережья нынешней Франции и Испании, а с другой — на северо-восток, к берегам Фракии, к проливам, ведущим в Черное море (Понт), а затем к западному и северному Причерноморью, где основываются многочисленные греческие колонии. Менее интенсивно осваивалось Восточное Средиземноморье, где у греков были сильные соперники в лице финикиян, хотя и здесь возникали греческие города (Навкратида в Египте, Кирена, Саламин на Кипре и другие); через которые шла оживленная торговля с Египтом и другими странами Ближнего Востока.
В VI и V вв. колонизационная экспансия греков затухает, что, помимо прочих причин, было обусловлено образованием мощной Персидской империи, под властью которой оказались все страны Ближнего Востока, включая греческие города малоазийского побережья. IV столетие характеризуется кризисом греческой системы городов-государств. Этот кризис нашел свое разрешение в завоеваниях Александра Македонского и в новой волне греческой колонизационной экспансии, относящейся уже к эпохе эллинизма.
Интенсивное градостроительство, начатое Александром, было продолжено диадохами, особенно во время краткой передышки между войнами, приходящейся на 311–307 гг., а также в последующие годы, когда распад державы Александра уже воспринимался как окончательно совершившийся факт. Так, в 306 г. Антигон заложил столицу подвластной ему территории на берегу реки Оронт (в северной Сирии), назвав ее Антигонией. Недалеко от нее был основан город Пелла, названный так в честь македонской столицы. В южной Сирии Антигон заложил целый ряд городов, получивших общее наименование Десятиградья (Δεκάπολις). В Геллеспонтской Фригии возникает еще одна Аитигония, которая после гибели Антигона переименовывается Лисимахом в Никою. Ряд городов был основан также Лисимахом, среди которых наиболыпее значение в дальнейшем получила Лисимахия на геллеспонтском Херсонесе.
Но пальму первенства в области градостроительства надо отдать, бесспорно, Селевку I и его преемникам. Еще будучи и Месопотамии, когда Сирией владел Антигон, Селевк основал столицу своего царства на реке Тигр, в 70 км от Вавилона, назвав ее Селевкией и переселив туда часть вавилонских жителей. Почему Селевк не последовал примеру Александра и не выбрал в качестве своей столицы Вавилон? Потому что он (как и все прочив диадохи) хотел, чтобы его столица была греческим городом, построенным по греческим канонам и имевшим все приметы больших греческих городов. В дальнейшем, после раздела владений Антигона, Селевк перенес центр своего царства в Сирию. Там, вблизи еще не построенной Антигонии, возникла столица царства Селевкидов — Антиохия (названная так в честь отца Селевка Антиоха). В качестве важнейшей гавани царства Селевкидов, связывавшей Антиохию с морем, в устье реки Оронт была построена еще одна Селевкия (откуда не следует, что Селевкия на Тигре была заброшена: она развивалась и процветала, превратившись в один из самых больших городов древнего мира). Немного южнее Селовкии на Оронте была построена Лаодикея, а основанная Антигоном Пелла была переименована в Апамею. Вообще, по замыслу Селевка, Сирия должна была в его царстве играть роль новой Македонии, причем река Оронт была переименована в Аксий соответственно названию крупнейшей македонской реки. В дальнейшем в Сирии, Месопотамии, Малой Азии (особенно к северу от Тавра), Мидии, Персии, Парфии как грибы вырастают новые Селевкии, Антиохии, Лаодикеи, Апамеи, а также десятки других городов, названия которых должны были напоминать грекам об их прежней родине (Амфиполис, Эвропос, Халкида, Эдесса, Аретуза, Лариса, Ахайя и многие другие)[105]. Меньше информации у нас имеется о колониях, основывавшихся Селевкидами в восточных провинциях бывшей Персидской империи; надо, впрочем, учесть, что эти территории вскоре отпали от царства Селевкидов.
Какие цели преследовались Селевкидами при осуществлении этого грандиозного градостроительства? Если оставить в стороне столицу страны Антиохию, а также имевшую огромное экономическое значение Селевкию на Тигре и несколько больших городов, основанных в Сирии— этой «новой Македонии», то основная масса городов, закладывавшихся Селевкидами в различных областях их царства, имела военно-политическое значение. Ощущая органическую слабость своей державы, раскинувшейся на территории многих стран, сильно отличавшихся по споим географическим условиям и населенных разноязыкими народами, во всех отношениях непохожими друг на друга, Селевкиды считали необходимым спаять эти страны воедино путем создания сети городов, населенных в основном или по преимуществу греками и которые могли бы служить опорными пунктами их власти. Вполне возможно и даже вероятно, что большинство этих городов были первоначально не более как военными поселениями (κατοικίαι), лишь в дальнейшем получившими статус городов. В целях привлечения в эти города максимального числа поселенцев они обычно закладывались на реках или на торговых путях; тем самым предусматривалась перспектива превращения этих городов в важные экономические центры страны. Разумеется, не все новые города строились на пустом месте: некоторые из них были предназначены возродить существовавшие ранее, но пришедшие в запустение или разрушенные войнами городские поселения (к таковым относился ряд греческих полисов на малоазийском побережье Эгейского моря), другие основывались по соседству с уже существовавшими местными центрами (ярким примером такого города может служить Дура — Эвропос на Евфрате, раскопки которого дали так много для понимания различных аспектов эллинистической культуры[106]), третьи создавались путем так называемого «синойкизма», т. е. объединения ряда небольших городков и поселений в один город. Но в любом случае они строились по новому плану с учетом всех достижений греческого градостроительного искусства. Последнее, однако, не означает, что новые города были стандартно-однообразными. Правда, все они создавались на основе принципов, сформулированных великим архитектором V и. Гипподамом: и каждом из них имелась центральная площадь (агора), окруженная храмами и общественными зданиями и от которой отходили широкие прямые улицы, пересекавшиеся, как правило, под прямыми углами. Далее, почти в каждом городе существовали театр, стадион, гимнасии, палестры и другие обязательные компоненты полисов Старой Греции[107]. В остальном внешний вид городов очень сильно варьировался в зависимости от размеров, географического положения, условий местности и функциональных особенностей данного города. Одно дело, если это была столица государства, подобно Антиохии на Оронте, другое — если это была морская гавань, или административный центр провинции (сатрапии), или торговый, военно-политический или просто представительный город — в любом из этих случаев характер города резко менялся.
Кем заселялись новые города, основывавшиеся греками в странах Ближнего Востока? При Александре основное ядро их населения составляли македонские ветераны; лица ставшие непригодными к военной службе; бывшие наемники; штрафники. К ним добавлялись военные гарнизоны, оставлявшиеся Александром для защиты города от возможных нападений извне. Далеко не все из этих поселенцев горели желанием навсегда остаться в Бактрии, Согдиане, Индии и других местах, которые казались им бесконечно удаленными от их родной Греции. Этим объясняются волнения в греческих городах Бактрии еще при жизни Александра и вскоре после его смерти.
У нас нет сведений о том, что подобные случаи происходили также и при Селевкидах. Основные районы, где происходило градостроительство, — Сирия, Месопотамия, Малая Азия — были от Греции не так удалены; они посещались греками с давних времен и потому были им хорошо знакомы. Здесь жители новых городов не чувствовали себя отрезанными от родины, с которой они могли поддерживать регулярную связь. Перенаселенность Старой Греции, невозможность найти адекватное применение своим способностям в родных полисах, надежда на лучшую жизнь и, возможно, на обогащение в новых местах, далее, врожденное греческое стремление к новизне и даже, если угодно, авантюризм, гениально изображенный еще Гомером в «Одиссее», — все это стимулировало невиданный доселе поток переселенцев, желавших обосноваться в новых городах. Помимо греков из различных городов Балканского полуострова, с островов Эгейского моря, из малоазиатской Ионии, среди переселенцев было много более или менее эллинизированных представителей других народностей, населявших северные части Балканского побережья, западные районы Малой Азии, Сирию, Палестину, Финикию. Многие из них, возможно, и не собирались навсегда поселиться в новых городах, но, как правило, по тем или иным причинам оставались там жить. Аристократию среди этих иммигрантов составляли, разумеется, македонцы, а также ссыльные политические деятели греческих полисов, военачальники и командиры армии и флота. Это были люди, в большинстве случаев уже имевшие опыт государственной или военной деятельности. Кроме того, среди иммигрантов было много специалистов, отличившихся в своей области: это были инженеры, строители, художники, актеры и т. д. Эта аристократия оседала в основном в больших городах, и прежде всего в столице — при царском дворе. Большинство же иммигрантов состояло из многих тысяч солдат, отслуживших свой срок и решивших вернуться к гражданской жизни, и десятков тысяч лиц различной классовой принадлежности и самых различных профессий — учителей, врачей, юристов, рядовых актеров и художников, ремесленников, торговцев, всякого рода дельцов и, наконец, просто людей, почему-либо не нашедших применения на своей прежней родине. К сожалению, не существует статистических данных о числе этих иммигрантов, но, во всяком случае, в царстве Селевкидов и в Египте они составляли значительную, а во многих новых городах преобладающую прослойку населения.
Не следует думать, что местным жителям было запрещено селиться в новых городах. Наоборот, такое переселение зачастую поощрялось властями: так, например, значительную часть населения Селевкии на Тигре составляли бывшие жители Вавилона, который, начиная с этого времени, постепенно приходит в упадок. Население египетского городка Канопус, находившегося в устье нильской дельты, было целиком влито в Александрию (о том, что Александрия вскоре сделалась подлинно интернациональным городом, мы еще будем говорить в дальнейшем). Разумеется, лишь немногие эллинизировавшиеся аборигены получали права гражданства в новых полисах: большинство из них селились там на правах метэков, столь хорошо известных нам по городам Старой Греции, образуя свои национальные общины (πολιτεύματα). В этом Деле, впрочем, не существовало единообразной политики: многое здесь зависело от местных условий, а также от умонастроений городских властей.
Новые города отнюдь не были независимыми городами-государствами наподобие полисов классической эпохи. Каждый город находился на земле, которая считалась собственностью царя: он был обязан платить царю определенную подать и поставлять ему солдат для армии. Посредниками между царем и городами служили начальники сатрапии и епархии (все свое царство Селевкиды разделили на 25 сатрапий и 72 епархии). Тем не менее греки всегда оставались греками: и в новых городах они крайне дорожили остатками самоуправления, хотя это самоуправление ограничивалось теперь внутригородскими делами. Формы старой полисной жизни оказались весьма живучими: как и в прежние времена, граждане новых городов собирались на общие собрания и с той же страстностью и увлеченностью обсуждали очередные вопросы — хотя бы это были вопросы всего-навсего о выборе гимнасиарха (руководителя гимнасии) или об установке в общественном месте бюста почетного гражданина данного города. Эллинистические монархи снисходительно относились к такого рода ограниченной полисной демократии и даже поощряли ее. Рецидивы полисной психологии выражались также в чувстве гордости за свой город, в желании всеми силами способствовать его красоте и процветанию. Известны многие случаи, когда богатые граждане того или иного города жертвовали крупные суммы на строительство храмов, на поддержание гимнасий, на организацию празднеств и спортивных состязаний. Эта гордость — быть гражданином небезызвестного города (ούκ άσήμου πόλεως πολίτης)[108] — в небольших городах выражалась, пожалуй, еще резче, чем в огромных блистательных столицах, где близость царя и его двора была слишком сильно ощутимой. Наряду с этой гордостью в сердцах греков не угасала мечта о «свободе», которая нa территориях эллинистических монархий стала уже чистой фикцией. Естественно, что эта мечта в большей степени сохранялась в городах Старой Греции: во-первых, потому, что память о прошлых временах была там еще достаточно живой, а во-вторых, в силу того, что эти города формально никогда не входили в состав новых монархий (в том числе и македонской). Но и гражданам новых городов эта мечта о «свободе» отнюдь не всегда была чуждой. Нередко это приводило к тому, что города принимали за чистую монету заверения очередного завоевателя даровать им «свободу», а потом горько разочаровывались. Отсюда, между прочим, следует, что городам было, в сущности, безразлично, кто над ними в данное время царствует: Кассандр, Деметрий Полиоркет или Антигон Гонат; Птолемеи, Селевкиды или Атталиды. Никаких династических предпочтений у греков эллинистической эпохи не было, и для них был хорош любой правитель, который в наименьшей степени тревожил жизнь города.
Как уже было сказано выше, бурное градостроительство, начатое Александром, было продолжено главным образом на территории царства Селевкидов. Градостроительная деятельность других эллинистических государств, в частности Македонии и Египта, была значительно менее интенсивной. В Македонии мы знаем всего лишь три крупных города, заложенные в конце IV или начале III столетия, из которых два были основаны Кассандром, а один — Деметрием Полиоркетом. Кассандрия, возникшая на месте прежнего Олинфа, должна- была, по мысли ее основателя, стать новой столицей Македонии, однако в дальнейшем она не получила развития. Наоборот, судьба Фессалоники, названной так в честь жены Кассандра и основанной в результате синойкизма 26 греческих городов и поселений, расположенных на северозападном побережье Эгейского моря, оказалась весьма удачной. Вскоре Фессалоника стала богатым и процветающим портовым городом, которому удалось пережить все дальнейшие пертурбации: начиная с завоевания Македонии римлянами в 168 г. и кончая турецким нашествием в XV в. н. э.; в наше время он существует в качестве второго по величине города Греции (Салоники). Третий город — Деметриада — был основан также путем синойкизма, строго говоря, не в Македонии, а на побережье Фессалии.
Птолемеи построили в Египте только два больших новых города — правда, одним из них была Александрия. Очень интересно описание закладки Александрии в 331 г., содержащееся у Плутарха; мы позволили себе процитировать соответствующее место дословно: «Рассказывают, что, захватив Египет, Александр решил основать там большой многолюдный греческий город и дать ему свое имя. По совету зодчих он было уже отвел и огородил место для будущего города, но ночью увидел удивительный сон. Ему приснилось, что почтенный старец с седыми волосами, встав подле него, прочел следующие строки:
На море шумно-широком находится остров, лежащий Против Египта; его именуют там жители Фарос[109].
Тотчас поднявшись, Александр отправился на Фарос, расположенный несколько выше Канобского устья[110]; в ту пору он был еще островом, а теперь соединен с материком насыпью. Александр увидел местность, удивительно выгодно расположенную. То была полоса земли, подобная довольно широкому перешейку; она отделяла обширное озеро от моря, которое как раз в этом месте образует большую и удобную гавань. Царь воскликнул, что Гомер, достойный восхищения во всех отношениях, вдобавок ко всему — мудрейший зодчий. Тут же Александр приказал начертить план города, сообразуясь с характером местности. Под рукой не оказалось мела, и зодчие, взяв ячменной муки, наметили ею на черной земле большую дугу, равномерно стянутую с противоположных сторон прямыми линиями, так что образовалась фигура, напоминавшая покрой хламиды. Царь был очень доволен планировкой.»[111] Диодор к этому добавляет, имея в виду уже построенную Александрию: «Окончательный план города напоминает хламиду; почти по середине его перерезает улица, удивительная по своей величине и красоте; длина ее равна 40 стадиям [свыше 7 км], а ширина одному плефру [~ 30 м]; она вся застроена роскошными домами и храмами. Велел Александр построить и дворец; его величина и мощность постройки поразительны»[112].
Разумеется, Александрия сразу планировалась как очень большой город, как столица если не всей империи, то по крайней мере Египта, — поэтому она и строилась очень долго (сам Александр так и не увидел ее)[113]. Тем не менее уже Птолемей I Сотер сделал ее столицей своего царства, а еще через столетие она стала одним из величайших (если не самым большим) городов древнего мира. По данным Диодора, относящимся, правда, к сравнительно позднему времени (60 г.), в Александрии насчитывалось 300 тыс. свободных граждан[114]. Учитывая, что большинство населения города составляли но полноправные граждане, но жители других категорий, к которым относились как греки, так и но греки — египтяне, сирийцы, евреи, а также рабы, о числе которых у нас вообще нет никакой информации, можно с довольно большой степенью уверенности утверждать, что к концу эпохи эллинизма население Александрии насчитывало не менее миллиона (Антиохия на Оронте и Селевкия на Тигре имели, примерно, по 500 тыс. жителей). Для сравнения отметим, что население Афин даже в лучшие периоды истории этого города никогда не превышало 100 тыс. жителей.
Вторым большим городом, построенным Птолемеями и обладавшим правами греческого полиса, была Птолемаида, служившая административным центром Верхнего Египта и бывшая главным опорным пунктом власти Птолемеев в этой части страны. В целом же колонизационная политика Птолемеев сильно отличалась от политики Селевкидов (или Атталидов в Пергаме). Вместо строительства новых городов Птолемеи раздавали наделы земли («клерухии») солдатам, офицерам и представителям греческой администрации, предоставляя им право либо жить в своих поместьях, либо селиться в старых египетских городах, расположенных вдоль долины Нила. Эти города получали греческие названия (Арсиноя, или Крокодилополь, Гелиополь, Гераклиополь, Элефантина и др.), оставаясь, по сути дела, египетскими городами, лишь частично подвергавшимися эллинизации, поскольку в каждом из них жило значительное число греков.
Строительство новых городов, осуществлявшееся Птолемеями за пределами Египта, также было незначительным. Несколько поселений, основанных ими вдоль западного берега Красного моря, были не столько городами, сколько торговыми факториями, оборудованными причалами для кораблей и складами для хранения товаров. Особенно важное экономическое значение среди них имела Береника у так называемой «Грязной бухты» ('Ακάθαρτος κόλπος), откуда шел хорошо освоенный торговый путь к нильскому городу Копту.
В отличие от Птолемеев цари Пергамского царства стремились следовать политике Солевкидов. Правда, их градостроительная деятельность приходится в основном на более позднее время — на конец III и начало II в., в особенности когда после сражения при Магнесии (190 г.), в котором пергамский царь Эвмен II Сотер нанес в союзе с римлянами сокрушительное поражение Антиоху III, под власть Пергама подпало практически все малоазийское побережье Эгейского моря. По этому же пути пошли и цари Вифинии — небольшого государства на северо-западе Малой Азии, сумевшего сохранить свою независимость на протяжении всего периода эллинизма. В 264 г. царь Вифинии Никомед основал на берегу Мраморного моря новую столицу своего царства — Никомедию, которая вскоре сделалась одним из самых процветающих городов этого региона.
Почему мы придаем такое большое значение греческому градостроительству в странах Востока? Потому что это градостроительство было важнейшим фактором, способствовавшим распространению греческой культуры за пределами Старой Греции. Греческая культура всегда была в основном городской культурой. В новых городах она продолжала жить во всех формах общественной, экономической и духовной жизни, тщательно сохраняемых гражданскими властями, состоявшими из греков, которые — откуда бы они ни прибыли — говорили на одинаковом языке, имели примерно одинаковое образование и почти не отличались по образу жизни. Их бывшая принадлежность к тому или иному полису Старой Греции теряла свое значение в новых условиях: здесь они были эллинами, представителями единой культуры, которой они гордились и которую считали (не без основания) наивысшей. К этой культуре невольно приобщались тысячи и тысячи лиц иной этнической принадлежности, которым довелось жить в новых городах и ежедневно общаться с греками.
Огромную роль в этом процессе эллинизации играл греческий язык, вернее, то его наречие — κοινή, которое выработалось в результате смешения различных греческих диалектов, но в основе которого лежал аттический диалект, тот диалект, на котором писали Эсхил, Софокл и Эврипид и на котором произносили свои речи великие ораторы — Исократ и Демосфен. Во всех основанных греками или в той или иной степени эллинизированных старых городах говорили на κοινή — это был международный язык в области политических сношений и торговли, это был язык официальной и неофициальной переписки, язык юридических документов, наконец, это был язык армии во всех эллинистических государствах. Греческому путешественнику, купцу или переселенцу не нужно было изучать местные языки, так как везде его понимали и говорили на его языке. Наоборот, местные жители любых профессий, если они были в какой бы то ни было степени связаны с городской жизнью, стремились изучить греческий язык: это было им нужно из чисто практических соображений.
Не только язык, но и все остальное было знакомо и понятно греческим пришельцам в новых городах. В административной системе, в организации судебного дела, в налогообложении между царством Селевкидов, Египтом и другими эллинистическими монархиями было не так много различий. До завоеваний. Александра во многих странах Востока еще господствовал натуральный товарообмен; теперь же он был везде вытеснен товарно-денежными отношениями. Денежная система была унаследована эллинистическими государствами от Александра: в ее основу была положена серебряная драхма и, хотя содержание серебра в этой драхме несколько отличалось в различных государствах, эти отличия не представляли затруднений для деловых сделок. Во всех эллинистических монархиях существовали банки — царские, муниципальные и частные, выдававшие ссуды, обеспечивавшие обмен валют и заключение торговых сделок. Цены на товары, разумеется, менялись от места к месту, но эти различия не были существенными. Все части эллинистического мира были связаны между собой торговыми взаимоотношениями (которые обычно не нарушались даже во время войн между государствами), и цены на предметы первой необходимости, например на зерно, диктовались международным рынком.
Но еще большее значение, чем единообразие администрации и деловых отношений, имело сходство в образе жизни. Повсюду грек встречал те же формы городской жизни, с которыми он был знаком в Старой Греции. Везде существовали βουλή (народное собрание) и δήμος, везде имелись те же формы городского самоуправления и та же система выборов должностных лиц, гимнасиархов и жрецов. Правда, к греческим богам были добавлены новые — прежде всего это был Александр и представители правящей династии, — но формы богослужения и религиозные обряды оставались прежними.
Как и в Старой Греции, мальчики воспитывались в греческих учебных заведениях — сначала в частных начальных школах, а потом в гимнасиях. Греческая гимнасия в любой эллинистической монархии по-прежнему оставалась основой воспитания того, что греки называли παιδεία. Таким же неотъемлемым признаком городской жизни были спортивные игры и музыкальные или драматические представления.
Процесс эллинизации, захвативший огромные территории — от Сицилии и Южной Италии до Инда и от Нубии до берегов Амударьи, придал всему этому географическому ареалу известное единство, если не политическое, то, во всяком случае, экономическое и культурное. Сам факт этого единства был поразительным историческим феноменом, ибо он свидетельствовал об исключительной мощи и жизненности греческой цивилизации. Но это единство было единством греческого мира; греки же составляли в странах, вошедших в состав эллинистических монархий, лишь верхний слой населения — правда, слой, наиболее энергичный и деятельный, но все же значительно уступавший по своей численности народностям, оказавшимся под их властью. Взглянем теперь на другую сторону медали и зададим вопрос: насколько глубокой была эллинизация, обусловленная греческим ферментом в странах Востока? Иначе говоря, в какой степени эта эллинизация затронула местные, не греческие слои населения? На этот вопрос необходимо дать прямой и недвусмысленный ответ: она была не очень глубокой и далеко не всеобъемлющей. Прежде всего, она практически не коснулась сельского населения, Составлявшего большинство жителей Египта, Месопотамии, Ирана, Мидии, Армении и других стран, завоеванных Александром Македонским. Крестьяне этих стран продолжали трудиться при Селевкидах и Лагидах так же, как они грудились раньше при фараонах и персидских царях, сохраняя в основном прежний образ жизни и прежние обычаи и верования. Греки для них были новыми хозяевами — не больше, причем хозяевами пришлыми, говорившими на чужом языке и во многих отношениях более требовательными. В следующем разделе этой главы будет показано; что положение египетских крестьян при Птолемеях стало более тяжелым по сравнению с тем, каким оно было раньше. Для греческих администраторов эти крестьяне — λαοί — были всего лишь источником доходов; никаких попыток приобщить крестьян к греческой культуре не делалось; они не служили в армии и не принимали никакого участия в общественной жизни страны (этим они отличались от сельских хозяев Старой Греции, которые были связаны с определенными полисами и, как правило, были их гражданами). Греческий путешественник, отправлявшийся в поездку по странам Востока, общался по преимуществу с греками же: равнодушным взглядом смотрел он на этих λαοί, работавших на полях в стороне от дороги: ему не было до них никакого дела, как и им не было дела до него.
Но не только сельское население покоренных греками стран оставалось не затронутым эллинизацией. В равной степени это относилось и к жителям многих городских поселений. Так, например, храмовые города древней Вавилонии, составлявшие там основную форму городской цивилизации, ревниво охраняли свою самобытность, оказывая пассивное сопротивление всяким попыткам проникновения в них греческих форм жизни. Впрочем, Селевкиды и не стремились их эллинизировать: они предоставляли им право жить своей жизнью, сохраняя свою религию и свои обычаи. Подобная политика позволила вавилонским жрецам установить хорошие отношения с Селевкидами, которые покровительствовали вавилонской религии и содействовали восстановлению разрушенных персами вавилонских храмов (так, Антиох I восстановил разрушенный Ксерксом храм Бела в Вавилоне[115]; при Селевке IV в начале II в. был восстановлен храм Ану в Уруке). Вообще, время правления Селевкидов было временем некоторого возрождения древней вавилонской культуры: снова стала распространяться клинописная письменность; проводились астрономические изыскания, использованные затем греками при построении ими геоцентрической системы мира Гиппарха — Птолемея. Тот факт, что жрец Бела, знаменитый Берос, написал по-гречески исторический труд по истории Вавилонии, посвященный Антиоху I, отнюдь не был признаком эллинизации вавилонской культуры: наоборот, написание этого труда имело, скорее, целью просветить греков и опровергнуть фантастические легенды о прошлом этой страны, имевшие в Греции хождение со времен Ктесия[116] (аналогичный труд был написан в Египте примерно в это же время верховным жрецом Гелиополя Мапефоном).
Очень незначительной была эллинизация персидского населения, хотя на территории Персии (и Мидии) возникали греческие города. В свое время Александр Македонский вынашивал идею слияния греков и персов в единый народ: он поощрял смешанные греко-персидские браки, привлек многих персов в число своих приближенных, предоставлял им ответственные административные посты в государстве, подготавливал, наконец, целые соединения персидских военнослужащих, которые должны были влиться в единую греко-македоно-персидскую армию. Однако с его смертью и особенно после снятия Певкеста (Антигоном) с должности сатрапа Персиды эта политика была прекращена. Хотя греческий язык был в Персии, как и в других сатрапиях, официальным языком документов и служебной переписки, персы продолжали смотреть на греков как на завоевателей. Процесс эллинизации Персии приостановился в середине III в., когда весь прилегающий к ней регион вошел в состав Парфянского царства.
Несколько сложнее обстояло дело в Египте. Здесь было мало греческих полисов; многие греки жили в египетских городах, и, следовательно, поддерживали с египтянами более непосредственные контакты. Разветвленный бюрократический аппарат египетской администрации делал необходимым привлечение большого числа египетских чиновников (по крайней мере на среднем и нижнем уровнях), умевших читать и писать по-гречески. В конце III столетия Птолемей IV даже призвал в армию большие контингента египтян, которые помогли ему одержать победу в сражении при Рафии 217 г. (впрочем, это был единственный случай такого рода во всей истории эллинистических монархий). В основном Птолемеи проводили политику союза с господствующими слоями египетского общества, прежде всего с жречеством, которое, хотя и потеряло свое былое могущество, все же было благодарно новым царям зa то, что те предоставляли им многие привилегии и поддерживали египетскую религию хотя бы наравне с куль-ром олимпийских богов. В этой связи характерен установленный Птолемеем I культ Сераписа — синкретичного божества, и образе которого были соединены египетские боги Осирис и Апис. Почитание Сераписа получило широкое распространение среди александрийских греков.
Считая себя преемниками египетских фараоном, Птолемеи поощряли некоторые формы древней египетской цивилизации — в области архитектуры, изобразительного искусства и т. д., которые могли служить для прославления новых властителей. С этой же целью использовались иероглифические надписи на стенах и каменных плитах, хотя сами Птолемеи вряд ли могли их читать[117]. Некоторые из таких надписей сопровождались греческим переводом; именно такого рода билингва (так называемая Розеттская надпись) позволила Шампольону найти ключ к расшифровке египетской иероглифической письменности.
Александрия, которая формально не считалась частью Египта, хотя и была столицей царства Птолемеев, сама по себе была мощным эллинизирующим фактором. Этот громадный по масштабам того времени многонациональный город был населен, помимо греков, египтянами, сирийцами, евреями и представителями многих других национальностей. Жители Александрии быстро приобщались к греческому образу жизни, начинали говорить и писать по-гречески, а через два-три поколения порой забывали язык своих предков. Это случилось, например, со значительной частью александрийских евреев, в интересах которых был предпринят грандиозный труд: перевод Библии на греческий язык (так называемая «Септуагинта») — мероприятие тем более замечательное, что до этого искусство перевода больших литературных произведений практически отсутствовало. В дальнейшем возникла целая литература, авторами которой были евреи, писавшие по-гречески; в числе ее представителей надо назвать писателя II в. Аристобула, давшего популярное изложение (для неевреев) Пятикнижья Моисея, а также знаменитого философа I в. и. о. Филона Александрийского. Помимо Александрии, евреи солились и в других городах Египта: они арендовали землю, использовались в качестве сборщиков налогов и даже занимали командные посты в армии Птолемеев. Именно к этому времени следует отнести начало еврейской диаспоры: наряду с Египтом быстро увеличивалось число евреев, живших в Сирии, Малой Азии и других странах. Они легко принимали внешние формы греческой жизни и прежде всего греческий язык (даже богослужение в некоторых синагогах велось по-гречески), но все же, как правило, оставались верны культу Иеговы и считали Иерусалим святым городом[118].
В самой Палестине, входившей вначале в состав царства Птолемеев, но с 200 г. подпавшей под власть Селевкидов, процесс эллинизации натолкнулся на ожесточенное сопротивление сторонников ортодоксального иудаизма, приведшее к длительной борьбе, известной под наименованием войн Маккавеев. В конце концов Селевкиды вынуждены были примириться с существованием на их территории независимого (и отнюдь не эллинизированного) иудейского государства, которое продержалось вплоть до разрушения Иерусалима в 70 г. н. э. римским императором Титом.
Мы коснемся здесь еще одного удивительного феномена эллинистической эпохи, именуемого Греко-Бактрийским царством. Бактрия, завоеванная вместе с прилегающей к ней Согдианой еще Александром Македонским, была страной, обладавшей развитой системой сельского хозяйства и имевшей ряд довольно больших по тому времени городов, среди которых выделялись Бактра (позднее — Балх) и Мараканда (Самарканд). После тяжелой двухлетней войны Александр присоединил эти районы к своей империи и основал там ряд греческих городов, которые должны были стать опорой его власти в этой стране. После смерти Александра и образования эллинистических монархий Бактрия вошла в состав царства Селевкидов, которые, по-видимому, продолжали там градостроительную политику Александра, хотя и не в тех масштабах, в каких она проводилась в центральных провинциях этого царства. В середине III в. сатрап Бактрии Диодот объявил себя царем Бактрии; примерно в это же время от царства Селевкидов отпала и Парфия, включавшая области, лежавшие к югу и юго-востоку от Каспийского моря. Таким образом, Селевкиды лишились важнейших окраинных провинций своего царства (к ним надо добавить провинции, уступленные Селевком I индийскому царю Чандрагупте). Но если в Парфии к власти пришел Аршак — человек явно не греческого происхождения, то в Греко-Бактрийском государстве воцарилась греческая династия. К сожалению, литературные источники по истории этого государства практически отсутствуют и мы должны полагаться в основном на данные нумизматики и археологии. Монеты, выпускавшиеся царями Бактрии, имеют греческие надписи и отличаются исключительной художественностью исполнения. На основании монет мы можем установить имена свыше тридцати царей Греко-Бактрийского государства, правивших с середины III в. до приблизительно середины I в. Судя по именам, все эти цари были греками (Диодот, Эвтидем, Антимах, Деметрий, Агафокл, Эвкратид, Менандр и многие другие). Любопытно, что именно в Бактрии чеканились самые крупные в истории древнего мира монеты — золотые, весом около 120 грамм, и серебряные, весом более 80 грамм (достоинством в 20 драхм).
К середине XX века много новых данных о культуре Греко-Бактрийского царства было получено в результате археологических раскопок, производившихся на территории Афганистана, Индии и в среднеазиатских республиках Советского Союза. Особенно примечательными оказались остатки греческого города на границе Афганистана и Советского Таджикистана при впадении реки Кокча в Пяндж (около нынешнего местечка Ай Ханум), обнаруженные в 60-х годах французской археологической экспедицией под руководством Шлюмберже. Это был типичный эллинистический город, в котором имелись общественные здания и храмы, украшенные колоннами с коринфскими капителями, палестра, стадион и другие неотъемлемые элементы греческой городской культуры той эпохи. На стенах некоторых построек были обнаружены греческие надписи, причем одна из них содержала изречение Дельфийского оракула. Можно не сомневаться, что это был не единственный греко-бактрийский город такого рода, так что дальнейшие археологические изыскания должны будут привести к новым аналогичным открытиям[119].
Самым поразительным во всем этом представляется исключительная стойкость и живучесть греческого элемента: в чуждой Бактрии, удаленной от Старой Греции на тысячи километров, греки сохраняли (и, по-видимому, довольно долго) свой язык, свой образ жизни и свою культуру.
В период расцвета Греко-Бактрийское царство охватывало большой ареал, включавший южные районы нынешних среднеазиатских республик СССР, весь Афганистан и значительную часть Индии. Особенно больших успехов достиг царь Менандр (около 155–130 гг.), распространивший свои владения па восток вплоть до долины Ганга. Согласно индийским источникам, именно Менандр был первым греческим царем, принявшим буддийскую религию. В дальнейшем Греко-Бактрийское царство подвергается нашествию кочевых среднеазиатских племен — тохаров (по-китайски да-юэчжи) и на месте прежней Бактрии возникает так называемое Кушанское царство, в котором греки уже не играли ведущей роли и постепенно ассимилировались с местным населением. То же случилось и с греками, жившими в Индии. Эта ассимиляция происходила постепенно и давала своеобразные промежуточные формы. Раскопки, производившиеся на северо-западе Индии, в области, называвшейся в древности Гандхара, привели к интереснейшим находкам — образчикам древнего искусства, получившего наименование гандхарского, в котором эллинистические элементы причудливым образом сочетались с индийским и отчасти иранскими влияниями. Однако уже к началу нашей эры греческие островки оказываются окончательно поглощенными мощным индийским окружением.
В истории человеческой цивилизации Греко-Бактрийское царство интересно еще тем, что оно было первым эллинистическим государством, установившим непосредственные контакты с Китаем, который до этого был грекам совершенно неизвестен. Во II в. китайский путешественник Чжан Цянь посетил страны Средней Азии и оставил дошедшие до нас описания Бактрии и прилегающих к ней районов. Примерно в это же время начинает функционировать великий шелковый путь, проходивший через Бактрию и связавший столицу китайской империи Гань-Су со странами греко-римского мира[120].
В заключение отметим, что, хотя Парфия была, по сути дела, иранским, а отнюдь не эллинистическим государственным образованием, парфянские цари относились терпимо к греческим поселениям, находившимся на подвластной им территории, и использовали многие достижения греческой культуры. Влияние эллинизма отчетливо усматривается в дошедших до нас образцах парфянского искусства.
Экономические и социальные аспекты эллинизма
Резкий рост товарно-денежных отношений в эпоху, непосредственно последовавшую за завоеваниями Александра, стимулировался рядом факторов. В качестве первого из них надо отметить увеличение массы денег, находившихся в распоряжении греков, как участвовавших в походе, так и оставшихся в тылу. Захватив огромные сокровища персидских царей, накопленные за два с лишним века господства династии Ахеменидов и лежавшие втуне в хранилищах Суз и Персеполя, Александр получил возможность щедро одаривать своих приближенных и соратников, воинов, находившихся у него на службе, а также тех, кто возвращался домой или обосновывался в новых греческих городах. Большие суммы посылались Александром Антипатру в Македонию; многое перепадало и представителям греческих полисов, которые приезжали к Александру либо в составе официальных делегаций, либо для участия в организуемых им мусических и гимнастических соревнованиях (как это было, например, в Египте в 332 г.). Щедрость Александра способствовала повышению уровня благосостояния значительной части греческого населения.
Существенную роль сыграла денежная реформа, проведенная Александром после захвата им персидских сокровищ. На всей территории империи была установлена единая денежная система. При этом, в отличие от персидских царей и своего отца Филиппа II, Александр распорядился о принятии в качестве денежного стандарта серебряных монет аттического образца. Массовый выпуск серебряных тетрадрахм с изображением Александра, ставших основной денежной единицей империи, оказал весьма благоприятное воздействие на развитие торговли во всем этом ареале. Чеканка монет в сатрапиях и отдельных городах была — по крайней мере при жизни Александра — строго воспрещена.
Большинство новых городов, закладывавшихся Александром и его преемниками, строилось по берегам больших рек и на магистральных торговых путях, соединявших страны Востока и Запада. Большие дороги еще при персах были оборудованы почтовыми станциями, при которых имелись постоялые дворы, где путники — кто бы они ни были — могли остановиться и передохнуть. Теперь эти дороги были усовершенствованы. Все это стимулировало поездки по новым странам и облегчало установление торговых связей между полисами Старой Греции и новыми греческими поселениями. Известно, что одним из симптомов кризиса греческой полисной системы были затруднения со сбытом товаров, производившихся в традиционных центрах греческого ремесла. Теперь для греческих товаров появились новые рынки сбыта. Поселенцы новых городов, бывшие в основном греками и македонянами, нуждались в предметах обихода, которыми они привыкли пользоваться на родине. Это были по преимуществу керамические и металлические изделия, одежда, а также продукты сельскохозяйственного производства, как вино и оливковое масло. Караваны с этими товарами в большом количестве шли с Запада на Восток, причем жители новых городов имели возможность оплачивать стоимость этих товаров звонкой монетой. В свою очередь, на Запад отправлялись товары, в которых нуждались старые греческие города: шерсть, ковры, предметы роскоши и т. д. Вслед за греческими армиями на Восток устремилось большое число торговцев, перекупщиков, всякого рода дельцов, набиравших караваны, груженные товарами, строивших постоялые дворы и склады, заключавших всевозможные сделки. Сами армии стали превосходными рынками, о чем более подробно будет сказано несколько ниже.
Все это способствовало значительному, хотя и оказавшемуся недолговечным, — экономическому подъему в Старой Греции. Для Македонии время вплоть до нашествия кельтов в 70-х годах III в. было временем материального благополучия — и это несмотря на то, что практически все способное носить оружие мужское население находилось в это время в армии. Экономически развитые полисы Средней Греции, такие, как Афины и Коринф, также переживали время подъема. В особенности это относилось к Коринфу, который после потери Афинами их морской гегемонии стал крупнейшим торговым портом на Балканском полуострове (и оставался таковым вплоть до его разрушения римлянами в 146 г.). Расцвет ремесленного производства в этих городах и оживление торговли привели к уменьшению пропасти между богатыми и бедными, которая была одним из характерных признаков кризиса полисной системы в IV в. Средний зажиточный афинянин — характерная фигура комедий Менандра, писавшего в основном в конце IV в. Наибольшее экономическое благополучие афинского населения приходится на десятилетие 317–307 гг., когда правителем Афин был перипатетик Деметрий Фалерский, находившийся, как уже было сказано, в дружеских отношениях с Менандром. Вероятным представляется предположение, что Деметрий стремился на деле осуществить аристотелевский идеал «умеренной жизни», хотя бы для этого пришлось пожертвовать традиционным афинским идеалом «свободы». В некоторых отношениях прагматическая политика Деметрия сыграла отрицательную роль в развитии афинской культуры: так, изданный им запрет устанавливать на могилах художественно выполненные надгробные стеллы привел фактически к гибели этой интереснейшей ветви аттического прикладного искусства[121].
Это время для Старой Греции было, по выражению М. И. Ростовцева, временем «несбывшихся надежд»[122]. В III в. благосостояние полисов Балканского полуострова начало быстро падать[123]. Это объяснялось- рядом причин, одной из которых были почти непрерывные войны македонских властителей Кассандра, Деметрия Полиоркета, Антигона Гоната за преобладание в Старой Греции, традиционно считавшейся родиной и важнейшим очагом греческой культуры. Особенно опустошительное влияние эти войны оказали на области Пелопоннеса, где в основном происходили военные действия, так как пелопоннесские государства — Спарта, а затем образовавшиеся в III в. Ахейский и Этолийский союзы городов — продолжали оказывать македонской гегемонии отчаянное сопротивление.
Другим важным фактором, подрывавшим благосостояние Старой Греции, было постепенное падение спроса на греческие товары — по мере того, как в эллинистических монархиях Востока развивалось собственное производство таких же товаров, но значительно более дешевых, чем те, которые привозились морем, а затем караванными путями из далекой Греции. Подъем экономики в новых государствах был связан с оттоком на Восток многих тысяч ремесленников, стремившихся найти применение своему умению в новых греческих городах. Наиболее удачливые из них оседали в столицах — Александрии, Антиохии, а затем в Пергаме. Это приводило к постепенному упадку ремесленного производства в старых городских центрах.
В связи со сказанным снова возобновился — и притом с усиленной скоростью — процесс расслоения граждан на богатых и бедных. В особенности это относилось к полисам, жившим за счет сельскохозяйственного производства, где происходит обезземеливание большинства сельских хозяев и сосредоточение земли в руках немногих землевладельцев. Показателен в этом отношении пример Лакедемона — страны по преимуществу сельскохозяйственной, в которой владение землей было необходимым условием получения гражданства. По дошедшим до нас сведениям[125], в середине III в. почти вся земельная собственность Спарты была сосредоточена в руках примерно одной сотни землевладельцев, в то время как общее число граждан этого полиса составляло около 700 человек. Это означало, что по крайней мере 6/7 спартиатов были бедняками, у которых не хватало средств даже на то, чтобы обзавестись оружием. Это обстоятельство в связи с общим уменьшением численности населения объясняет, почему Спарта, бывшая когда-то сильнейшим в военном отношении государством Пелопоннеса, к этому времени утратила свою былую мощь. Даже если допустить, что приведенные цифры дают сильно утрированную картину положения вещей, все равно они указывают на общую тенденцию, кото-рая была характерна для всех аграрных полисов Балканского полуострова.
В полисах, где основу благосостояния, как, например, в Афинах, составляло ремесленное производство, происходит новое резкое обострение противоречий между беднотой, включавшей разорившихся ремесленников, рабочих, живших наемным трудом, а также лиц, не имевших постоянных занятий, и состоятельными гражданами, скопившими в своих руках значительные богатства. К последним относились владельцы крупных мастерских, использовавшие все большее число рабов, оптовые торговцы, кораблевладельцы, банкиры и представители других прибыльных профессий, которых М. И. Ростовцев объединяет наименованием «буржуазия»[168]. В основном богачи были гражданами своих полисов, но некоторые из них могли быть метэками и даже вольноотпущенниками. Во всяком случае, они уже не имели ничего общего с аристократией полисов классического времени. Наиболее богатые из них подчас выступали в качестве меценатов, жертвуя крупные суммы денег на благоустройство своих городов, на организацию спортивных и мусических соревнований и на другие общественные нужды. Эта их деятельность была некоторой отдушиной, смягчавшей накал социальных противоречий в Старой Греции.
Между этими двумя группами общества существовала прослойка, приобретшая в эту эпоху большое значение не только в Старой Греции, но и во всех других эллинистических государствах. Эту прослойку можно было бы обозначить термином «античная интеллигенция». В нее входили представители профессий, требовавших определенного уровня знаний и культуры: архитекторы, скульпторы, художники, инженеры, землемеры, врачи, учителя. По сравнению с эпохой классической античности интеллигенция стала значительно более многочисленной и влиятельной группой населения… И если в классическую эпоху общественный статус рядовых представителей этих профессий практически не отличался от статуса ремесленников (не случайно и ремесло и искусство обозначались в то время одним и тем же термином τέχνη), то теперь положение существенно изменилось. Как пишет Т. В. Блаватская, «наличие пользующейся общественным признанием группы свободного населения, которая посвятила себя профессиональному умственному труду, составляет важную особенность, характеризующую общество эллинистической Греции»[169]. Поскольку, однако, в силу общего экономического упадка Старой Греции труд интеллигентов оплачивался там очень невысоко, многих из них покидали старые полисы и находили более прибыльное применение своим знаниям и способностям в новых государствах. Эта «утечка мозгов» из Старой Греции была одним из характерных явлений эпохи эллинизма. Следует отметить, что в эпоху расцвета эллинизма Афины не дали ни одного крупного имени в области изобразительных искусств или поэзии[170].
Да и в целом положение греков в странах Востока было значительно более благоприятным. Прежде всего, они были несравненно обеспеченней своих сородичей в городах Старой Греции, причем их обеспеченность определялась в основном эксплуатацией покоренных ими народов. Будучи доминирующим элементом, своего рода господствующим «этноклассом»[171] в эллинистических государствах, греки определяли политический строй и экономический уклад этих государств. Естественно, что отношение эксплуатируемых масс к грекам было, как правило, враждебным; Если эта враждебность не проявлялась до поры до времени в форме открытой борьбы, то это объяснялось главным образом опорой греков на привилегированные слои старых восточных государств — на жрецов в Египте и Вавилоне, на персидскую аристократию в Иране и Бактрии и т. д. Естественно также, что в этих условиях у греков, живших в восточных странах в чуждом и недружелюбном окружении, этническая солидарность стала более заметной, чем это было раньше в полисах Балканского полуострова. Правда, эллинистические монархии — Египет, царства Лисимаха и Селевкидов, а позднее Пергам — вели друг с другом почти непрерывные войны, но это уже не были войны враждующих друг с другом полисов — это были войны монархов, в основе которых лежала борьба за власть и другие чисто династические интересы. Не случайно эти войны велись почти исключительно наемными войсками. Что же касается полисов, входивших в состав того или иного государства, то они, как правило, находились между собой в согласии, объединенные более глубокими интересами.
Разумеется, мир и безопасность были важными условиями нормального развития товарно-денежных отношений, и прежде всего международной торговли. При жизни Александра такие условия были созданы, по крайней мере на территориях, находившихся под его контролем. Пират ство, бывшее до этого бичом морской торговли, было практически искоренено. Дороги в Малой Азии и в прилегающих к ней странах были существенно улучшены. Персидская система почтовой связи была распространена на всю империю. О финансовой реформе Александра и ее значении для экономики древнего мира уже было сказано выше. Но уже через несколько лет после смерти Александра положение изменилось к худшему. Непрерывные распри диадохов, неизменно приводившие к военным столкновениям, оказывали пагубное воздействие на те районы, которые становились театрами военных действий. Население этих районов страдало от поборов, мародерства и насилий солдат — независимо от того, к какой из враж дующих групп эти солдаты принадлежали. И все же войны диадохов не могли помешать экономическому развитию стран, до этого входивших в империю Александра. Более того, в некотором отношении эти войны сами оказались стимулирующим фактором для такого развития. Этот парадоксальный факт объясняется специфическим характером армий диадохов, о котором не мешает рассказать немного подробнее.
Армия Александра никогда не демобилизовывалась — ни при его жизни, ни после его смерти. Это была постоянная армия, служившая под командой то одного, то другого военачальника. Основная часть этой армии находилась в распоряжении Пердикки и Антипатра, Антигона и Эвмена, Полиперхона и Кассандра, в то время как Селевк, Лисимах и Птолемей увеличивали доставшиеся им доли за счет дополнительных контингентов, состоявших в основном из наемников.
Итак, армия или, лучше сказать, армии диадохов не были прикреплены к какой-либо определенной стране или территории: они двигались от одного места к другому, постоянно сражаясь или, во всяком случае, находясь в постоянной боевой готовности. Каждая такая армия была своего рода государством в государстве, являясь условием существования данного диадоха как политической фигуры. Пример Эвмена в последние годы его жизни показал, что диадох мог существовать без принадлежащей ему территории, но он сразу же исчезал с политического горизонта, если лишался поддержки армии.
Что же представляла собой эта армия? Она состояла из отрядов фактически бездомных людей, сражавшихся не в интересах какой-либо страны и не ради каких-либо идеалов. Их. домом был военный лагерь, почти всегда находившийся в движении и состоявший отнюдь не из одних только военнослужащих; это был своего рода движущийся полис, ради которого солдаты были готовы воевать, умирать и при случае изменять своим вождям. Преданность солдат командующему зависела, прежде всего, от высокой и регулярной оплаты, от предоставлявшихся им возможностей пограбить и обогатиться, наконец, от личных качеств самого командующего — от его авторитета и умения ладить со своими подчиненными.
Ядро каждой такой армии все еще составляли македонцы, но это ядро было окружено численно превосходящими его контингентами наемных войск, куда входили не только греки, но также фракийцы, иллирийцы, персы, представители семитских народностей, индийцы и т. д.
Аристократию в армии образовывали командиры различных рангов, причем македонцы среди них были, разумеется, самыми гордыми и, как правило, наиболее богатыми. Всадникам отдавалось предпочтение перед пехотинцами. Помимо пехоты и конницы, в армию входили также ииженерные части, укомплектованные людьми, умеющими обращаться с осадными машинами и артиллерией, далее — переводчики, проводники, врачи, ветеринары, обозники. Армейские обозы сопровождались многочисленным гражданским персоналом, не имевшим прямого отношения к армии: это были семьи и наложницы, военнослужащих, слуги, рабы, погонщики вьючных животных. Все имущество как офицеров, так и солдат странствовало вместе с армией. К этому надо добавить торговцев, ростовщиков, профессиональных гетер и других лиц, кормившихся и обогащавшихся за счет армии. Лагерь такой армии можно было сравнить с большим городом, численность населения которого зачастую превосходила население крупных городов того времени. Надо добавить, что, как правило, это был очень богатый город. Офицеры армий диадохов были богачами по сравнению с офицерами Александра; даже рядовые солдаты имели при себе немалые запасы денег, накопленных ими за многолетнюю службу или вырученных в результате продажи награбленной добычи. В лагере не прекращалась оживленная и отнюдь не военная деятельность: в нем совершались торговые операции, заключались сделки, ссужались значительные денежные суммы и т. д. и т. п. По остроумному выражению М. И. Ростовцева, подобный лагерь представлял собою «огромный деловой концерн»[172].
Военнослужащие, уходившие в отставку по инвалидности, болезни или возрасту, либо оставались жить в каком-нибудь из основанных Александром или диадохами городов, либо уезжали на родину, в любом случае они пополняли собой класс богатых или по крайней мере зажиточных людей. Многие из них приобретали видное положение в городах, где они обосновывались.
Ко всему этому надо добавить еще следующее замечание. Занимая какую-либо территорию, отвоеванную у соперников, данный полководец — будь то Антигон, Селевк или Лисимах — рассматривал ее как свое потенциальное владение или как часть своего будущего царства; поэтому он не был заинтересован в ее опустошении, в истреблении населения, в разрушении городов и т. д. Диадохи вели войны друг с другом, а не с иноземными царствами и не с народами тех стран, где проходили военные действия. По этой причине войны диадохов имели сравнительно гуманный характер по сравнению с войнами прежних эпох. Такие факты, как разрушение Фив или Галикарнасса Александром, как массовая продажа в рабство жителей завоеванных городов, уже перестали быть типичными. Когда в 70-х годах III в. на Балканский полуостров, а затем в Малую Азию вторглись кельты (галаты), они наводили ужас на греков своим «варварством», выражавшимся в опустошении целых областей и в массовых убийствах мирных жителей. Писавшие об этом греческие авторы, очевидно, забыли, что еще в недавнем прошлом так поступали сами же греки. И здесь оказался справедливым универсальный психологический закон: к хорошему люди привыкают гораздо быстрее, чем к плохому.
Уже в тот период, когда происходила борьба диадохов за наследство Александра, в Малой Азии, Сирии, Месопотамии, Египте начали складываться новые формы экономических и социальных отношений, получивших полное развитие в III в., когда окончательно оформились крупнейшие эллинистические монархии. Без уяснения — хотя бы в самых общих чертах — характера этих отношений трудно понять специфику той неповторимой страницы в истории человечества, которую мы условились называть эллинистической культурой. Не имея, однако, возможности излагать социально-экономическую историю всего эллинистического мира (изложение этой истории читатель может найти в неоднократно цитировавшемся нами труде М. И. Ростовцева[173]), мы выберем в качестве примера одно из государств — Египет эпохи Птолемеев. И не потому, что Египет был наиболее типичным эллинистическим государством, наоборот, некоторые аспекты социально-экономических отношений, установившихся в эллинистическом Египте, существенно отличали эту страну от других ближневосточных монархий того времени. Но, во-первых, потому, что о Египте мы имеем наиболее богатую информацию не только историографического характера, но и в виде огромной массы папирологических, эпиграфических и археологических материалов, изучение которых далеко еще не закончено[174]. Во-вторых же, потому, что столицей Египта эпохи Птолемеев стала Александрия — крупнейший центр эллинистической культуры, и прежде всего эллинистической науки.
Египет всегда был богатой страной, однако темпы его экономического развития были очень медленными. Важнейшей отраслью экономики Египта было сельское хозяйство, процветание которого полностью определилось наличием уникальных по своему плодородию заливных земель нильской долины. В основе могущества фараонов с незапамятных времен была эксплуатация труда сельского населения. Торговля в доптолемеевском Египте велась главным образом в формах натурального обмена. Правда, в египетских храмах, в царских сокровищницах и во владении частных лиц имелось много золота, серебра и других драгоценностей, но это обстоятельство не способствовало развитию товарно-денежных отношений. Освященные многовековыми традициями обычаи и формы жизни, социальные и административные структуры, а также представления египтян о мире, о судьбе человека, о загробной жизни были исключительно стабильными.
При Александре обстановка в Египте оставалась примерно той же, что и до него, при персах. Персидские гарнизоны были заменены македонскими, а подати, которые раньше уплачивались персидским царям, шли теперь в казну Александра.
Положение существенно изменилось, когда власть в Египте перешла в руки Птолемея, сына Лага, принявшего впоследствии титул Птолемея I Сотера (т. е. Спасителя). Умный и дальновидный политик, Птолемей, по-видимому, никогда не верил в возможность сохранения единства империи Александра. Поэтому он сразу же облюбовал для себя Египет, отказавшись от притязаний на Персию, Месопотамию и другие восточные области. Он, очевидно, понимал, что Египет занимает исключительно выгодное стратегическое положение, позволявшее успешно защищать его от внешних врагов. То, что его расчет был правилен, показывает тот факт, что на протяжении многих десятилетий (вплоть до 170 г.) Египет не знал иноземных вторжений.
Но Птолемей понимал также и то, что для обеспечения безопасности его царства одного благоприятного местоположения было недостаточно. Географический фактор дол-жен был быть подкреплен сильной армией и достаточно мощным флотом. На первых порах у него не было ни того ни другого. Для того чтобы создать и содержать вооруженные силы — а они, как и у ряда других диадохов, могли состоять в основном из наемников, солдатам и офицерам надо было хорошо платить. Для этого нужны были большие денежные средства.
Вторая проблема состояла в укреплении власти нового правителя. Будучи в Египте иноземцами, Птолемей и его преемники не могли надежно опираться на коренное население страны, даже если учитывать то, что некоторая влиятельная часть этого населения (жречество) готова была их поддержать. Надо отметить, что, прибыв в Египет, Птолемей I совершенно не знал египетского языка и имел, вероятно, лишь крайне приблизительное представление об истории этой страны и ее культуре. Чтобы справиться с ролью самодержавного монарха, он должен был окружить себя достаточно большим штатом греко-македонян, которые занимали бы в государстве важнейшие административные и военные должности. Для того чтобы эта правящая верхушка оставалась верной царю, она должна была получить соответствующие привилегии и быть заинтересованной в сохранении своего положения.
Наконец, новой династии властителей Египта необходимо было завоевать престиж во всем греческом мире. Это означало, что Египет должен был выглядеть — хотя бы со стороны своего фасада — представителем и наследником великой греческой культуры. И вот роль такого фасада была призвана играть новая столица страны — Александрия. Александрия строилась с самого начала не только как политический и экономический центр страны, но и как большой греческий город, который должен был поражать красотой и великолепием всех, кто приезжал туда. Этой цели служили и роскошный дворцовый комплекс столицы, и высочайший в древнем мире Фаросский маяк, и прославившие Александрию научные учреждения — Библиотека и Мусейон.
Чтобы успешно решить все эти проблемы, Птолемеям нужны были деньги, деньги и еще раз деньги. Для их получения Птолемей I предпринял реформу существовавшей в Египте экономической системы; эта реформа была завершена его сыном, Птолемеем II Филадельфом. При проведении реформы исконные египетские традиции отнюдь не устранялись, наоборот, они по возможности сохранялись, будучи приспособлены, однако, к греческим административно-правовым формам, перенесенным на египетскую почву. Из этого сочетания египетских традиций и греческих форм возникла своеобразнейшая социально-экономическая структура, основные черты которой будут сейчас нами вкратце изложены.
Прежде всего Птолемей I объявил себя самодержавным правителем Египта, законным наследником, с одной стороны, древних фараонов, а с другой — Александра Ма кедонского. Эти его претензии были поддержаны египетским жречеством, которое провозгласило его фараоном со всеми титулами, издревле дававшимися носителям этого звания. В дополнение к этому в начале III в. была проведена церемония обожествления Птолемея II Филадельфа и его жены Арсинои. С тех пор Птолемеи считались божествами; их культ был навязан всему населению. Египта — как египетского, так и греческого происхождения. В качестве абсолютных монархов, имевших божественную природу, Птолемеи были неограниченными повелителями всей страны и собственниками ее земель, всех ее бо гатств и труда ее жителей. Всем этим царь мог распоряжаться по своему усмотрению. Мы не знаем, была ли эта доктрина зафиксирована в письменном виде; во всяком случае, она была чужда греческому политическому мышлению классической эпохи. Заметим, однако, что именно в это время. начали появляться философские (вернее — псевдофилософские) сочинения, представляющие абсолютную монархию как лучшую форму государственного устройства и содержавшие разъяснения, каким должен быть идеальный монарх[175]. Деметрий Фалерский, ставший после своего переселения в Египет чем-то вроде царского консультанта по идеологическим и научным вопросам, несомненно, знал эти сочинения, а какие-то из них, вероятно, рекомендовал читать и самому Сотеру.
Учитывая греческие традиции, Птолемеи сохранили некоторые формы городского самоуправления у немногих полисов Египта (Александрии, Птолемаиды, Навкратиды), а также у греческих городов Киренаики, Сирии и малоазиатских владений Египетского царства. Заметим, с другой стороны, что государственно-правовые аспекты монархической формы правления в каком-то смысле смыкались с греческим частным правом. Греческий хозяин — землевладелец, будучи равноправным гражданином своего полиса, в то же время обладал правами неограниченного самодержца по отношению к своему дому, имуществу, земле и принадлежавшим ему рабам. Именно таким полновластным хозяином своего дома (οικία) и своей земли (χώρα) чувствовал себя египетский фараон. Связь государственного мышления Птолемеев с греческой действительностью классического полиса с очевидностью проступает в наименованиях высших административных должностей эллинистического Египта. Так, главным помощником царя по финансовым вопросам был управляющий, «диойкет» (διοικητής), у ного были свои помощники (ύποδιοικεταί); в египетских номах (провинциях) интересы царя были представлены «экономами» (οικονόμοι) и т. д.
Все плодородные земли — основное богатство Египта — не только считались собственностью царя, но и находились на строгом учете. Они делились на несколько категорий, имевших различный юридический статус. Наибольшее хозяйственное значение имели собственно царские земли (γη βασιλική), обрабатывавшиеся крестьянами, связанными с государством договорными обязательствами. С каждым крестьянином в начале года заключался письменный контракт, в котором уточнялся подлежащий обработке участок и указывалось количество всех родов продукции (по каждому роду отдельно), которое крестьянин был обязан поставить государству в виде налога. Подчеркиваем, что в контрактах указывалась не доля урожая (как это было при прежних египетских династиях), а абсолютные цифры поставок в весовых единицах; таким образом, обязательства крестьян оставались неизменными независимо от фактически снятого урожая. Поставки были настолько большими, что оставшейся у крестьянина доли порой едва хватало на прокорм его семьи. Правда, государство предоставляло крестьянину зерно или семена для посева, а также скот для обработки земли, но за это надо было расплачиваться из очередного урожая. При всем этом крестьянин не был ни рабом, ни крепостным: юридически он был свободен и мог покинуть свою деревню и переселиться в другое место, но сделать это он имел право лишь после выполнения очередных обязательств по контракту; в противном случае он считался беглым и подлежал поимке и соответствующему наказанию вплоть до продажи в рабство. Беглых, однако, было много, так как невыполнение обязательств по контракту также сурово наказывалось. Уход (или бегство) крестьян с государственных земель особенно усилился в конце III и во II в. — в период кризиса экономической системы Птолемеев. В течение сельскохозяйственного сезона деятельность крестьян контролировалась множеством чиновников. Преж де всего, это были деревенский староста — «номарх» (κωμάρχης) и деревенский писец (κωμογραμματευς), которые, в свою очередь, находились под бдительным присмотром ежегодно сменявшихся «королевских писцов» (βασιλικοί γραμματείς). Деревенские отчеты сводились в таблицы «топархами» (τόπος — аналог района) и отвозились в управление нома (провинции) специальным чиновником, несшим ответственность за возделывание царских земель данного района. Соответственным образом обработанные отчеты всех номов отправлялись в Александрию. Что касается крестьянина, то он, собрав жатву (для примера пусть это будет пшеница), отвозил ее на молотильный ток, молотил и просеивал — все это под наблюдением специально назначенных для этой цели надсмотрщиков (γενηματοψόλακες). После просеивания зерно делилось на часть, принадлежащую государству, и часть, остававшуюся у крестьянина. Вторую часть крестьянин увозил с собой, а первая отвозилась в амбары, рассеянные по всей стране. Из местных амбаров зерно по воде и земле поступало в большие зернохранилища, расположенные в Александрии. Аналогичная практика существовала и для других видов продукции, например для льна. Все эти процедуры были изложены в царских инструкциях, разработанных с величайшей детальностью и обстоятельностью. Каждая фраза этих инструкций была, видимо, результатом длительной работы царских чиновников. Наряду с этой иерархией административных лиц, ответственных за учет, сбор и хранение сельскохозяйственной продукции, существовала целая сеть контролеров, которые непосредственного участия в указанных операциях не принимали и единственная функция которых состояла в том, чтобы следить за правильностью выполнения этих операций. Создавая эту сложную систему, Птолемеи учитывали старые египетские традиции: в Египте правительственная бюрократия всегда играла очень большую роль. Но теперь традиционный бюрократический аппарат был превращен в широко разветвленный механизм, все звенья которого действовали на основе точных письменных инструкций и конечная цель которого состояла в том, чтобы выжать из природных ресурсов страны максимальное количество доходов для царской казны. Нижние звенья этого механизма, включая деревенских старост, писцов и т. д., укомплектовывались из местных жителей (в Египте — из египтян). На каком-то уровне (на каком именно — мы точно не знаем) местные чиновники заменялись греками. Высшая правительственная бюрократия состояла, как правило, из македонян и греков.
Положение низших (местных) чиновников было не из приятных: на них лежала основная ответственность за получение доходов; за свою работу они получали довольно скудное вознаграждение и в то же время с них строго спрашивали, им не доверяли и их непрерывно контролировали. Но хуже всего, конечно, приходилось непосредственным производителям — крестьянам. Для египетского крестьянина система, установленная Птолемеями, была гораздо страшнее старых египетских порядков, при которых сохранялась известная патриархальность отношений. Кроме того, крестьянин был лишен всякой инициативы: он сеял и сажал лишь то, что предписывалось присылавшимися сверху инструкциями. Положение усугублялось тем, что, помимо обычной работы, крестьяне были обязаны нести многочисленные дополнительные повинности. Принудительные работы по строительству каналов и плотин, по посадке деревьев, по транспортировке грузов очень часто отрывали крестьян от их повседневной деятельности, ложась на их плечи тяжелым добавочным бременем. Уклонение от государственных работ каралось так же, как и невыполнение обязательств по контрактам.
Вторую категорию земель составляли так называемые «уступленные» земли (γη έν άφέσει). К ним относились:
а) Земли, принадлежавшие египетским храмам и обрабатывавшиеся служителями храмов, так называемыми «священными рабами» (ίερόδουλοι). Это не были рабы в прямом смысле слова; это были люди, на всю жизнь посвятив шие себя служению тому или иному богу (некоторое подобие позднейшего монашества).
б) Земли, переданные городам, имевшим статус греческих полисов (γη πολιτική). В Египте таких городов было мало; их было больше в малоазийских владениях Птолемеев.
в) Участки, предоставленные в распоряжение воинов-клерухов (γή κληρουχική). Эти участки были рассеяны по всей стране. В большинстве случаев они обрабатывались самими клерухами, которые использовали при этом свой греческий опыт и вносили в землепользование те или иные улучшения. Иногда эти участки сдавались в аренду египтянам.
г) Дарственные земли (δωρεαί), которыми награждались приближенные царя, представители высшего чиновничества и военного командования. Эти земли обычно сдавались в аренду крестьянам, предпочитавшим иметь дело не с официальными чиновниками, а с частными владельцами. При всех этих различиях перечисленные категории земель считались принадлежащими царю и лишь находящимися во временном пользовании частных лиц, городов и храмов. И если на храмовые земли царь обычно не покушался (это могло бы привести к конфликту со жречеством), то дарственные земли и земли клерухов могли быть в любое время отобраны царем и превращены в царские земли или переданы другим лицам. Все уступленные земли облагались налогами, размеры которых устанавливались государством. Разница по сравнению с царскими землями состояла в том, что ответственными за уплату этих налогов были не государственные чиновники, а (временные) владельцы земель, или города, или храмы. Владельцам земель была, по-видимому, предоставлена несколько большая возможность проявить инициативу, хотя и здесь государство вмешивалось в порядок землепользования и давало указания, которые подлежали неуклонному выполнению.
Сельское хозяйство было той отраслью египетской экономики, от которой царь получал основные доходы. Меньшее значение имело ремесленное производство, хотя и оно при Птолемеях было взято под строгий контроль государства. Наряду с частными мастерскими в Египте большую роль играли царские мастерские, весь доход от которых шел в государственную казну (отметим отличие от Старой Греции, где ремесло всегда основывалось на частном предпринимательстве). Царскими мастерскими был охвачен ряд отраслей, производивших товары широкого потребления. К ним относились, например, текстиль, главным образом шерстяные ткани (производство льняного полотна с давних пор было привилегией храмовых мастерских), изделия из пеньки, ячменное пиво (излюбленный напиток египтян), растительное масло и т. д. Производство некоторых товаров, например растительного масла, было полностью монополизировано государством: все маслобойни находились в ведении специального ведомства, которое вело учет всего производимого в стране масла, поступавшего из маслобоен в государственные хранилища, откуда оно продавалось частным торговцам по установленным государством твердым оптовым ценам. Такое положение существовало и с некоторыми другими товарами. В большинстве случаев наряду с государственными мастерскими существовали частные предприятия, прибыль от которых шла в карман хозяину, платившему государству налог. Любопытно, что производство папируса оставалось, по-видимому, в ведении частного предпринимательства. Важнейшим центром производства бумаги из папируса, изделий из стекла, ювелирных изделий, различных предметов роскоши была, конечно, Александрия.
Надо признать, что первые Птолемеи достигли значительных успехов в деле повышения эффективности как сельского хозяйства, так и ремесленного производства. Они много сделали для улучшения ирригации земель, внедрили в Египте наиболее урожайные сорта пшеницы и других злаков, выписывали из Милета овец, славившихся качеством своей шерсти, поощряли разведение виноградников и т. д. В результате Египет стал крупнейшим экспортером многих товаров — от пшеницы до папируса, — которые развозились из Александрии по всему свету.
Наряду с экспортом товаров внутриегипетского производства значительный доход государству приносила также транзитная торговля товарами, шедшими из Южной Аравии и Восточной Африки морем, через египетские порты на Красном море, или по суше, через нынешний Суэцкий перешеек, в Александрию, где они продавались иностранным купцам. Это были в основном всякого рода пряности, благовония, жемчуг, слоновая кость и т. д.
Сосредоточению денежных богатств в руках правителей Египта способствовали, наконец, финансовые мероприятия Птолемеев. В качестве основной денежной единицы была установлена драхма финикийского стандарта, содержавшая меньшее количество серебра по сравнению с аттической драхмой, принятой в качестве основной денежной единицы в других эллинистических государствах. Иностранцы, приезжавшие в Египет, обязаны были обменивать имеющиеся у них денежные суммы на египетские деньги; эти операции производились центральным царским банком в Александрии и его филиалами в других городах страны. Циркуляция иностранных валют внутри страны была строжайше воспрещена. С течением времени золотые и серебряные деньги были вообще изъяты из внутреннего обращения и заменены медными монетами. Во избежание недомолвок необходимо сказать пару слов о роли рабства в эллинистическом Египте. Как и вообще в древнем мире, рабство считалось в Египте нормальным явлением, хотя, как мы видели из сказанного выше, рабский труд не играл в египетской экономике сколько-нибудь значительной роли. С приходом греков число рабов в стране, по-видимому, сильно возросло (хотя цифровые данные по этому вопросу у нас полностью отсутствуют). Как правило, рабами становились военнопленные негреческого происхождения, несостоятельные должники, правонарушители. Работорговлей широко промышляли пираты, продававшие в рабство моряков и пассажиров захваченных ими судов. Работорговые рынки существовали во многих городах Греции и Востока.
В Египте рабы использовались главным образом в качестве домашней прислуги (особенно многочисленной при царском дворе и в домах высокопоставленных вельмож и военачальников), а также в качестве вспомогательной рабочей силы в мастерских и в торговле (особенно в Александрии) — в роли рассыльных, носильщиков и т. д. Обращение хозяев со своими рабами было, как правило, относительно гуманным; в этом сказались идейные веяния новой эпохи, когда раб стал считаться таким же человеком, как и все прочие люди. Преданный своему хозяину и исполнительный раб мог вполне рассчитывать на хорошее к себе отношение. В отдельных случаях рабы становились приближенными своих хозяев, их помощниками и советчиками (о рабынях и говорить нечего: вспомним рабынь царицы Клеопатры Иру и Хармиону, упоминаемых Плутархом в биографии Антония[176], а позднее выведенных Шекспиром в «Антонии и Клеопатре»).
Отдельно надо упомянуть царские рудники на юге страны (в Нубии), игравшие роль каторги для преступников и лиц, оказавшихся по тем или иным причинам неугодными режиму. Об ужасных условиях работы на этих рудниках сообщает Диодор Сикилийский[177]. Но подобного рода каторга не была отличительным признаком рабовладельческого строя, о чем свидетельствуют примеры совсем других эпох (Французская Гвиана в XVIII–XIX вв., царская каторга в Сибири и т. д.). В целом порядки, существовавшие в Египте в эпоху Птолемеев, не стимулировали развития рабства как ведущей формы производственных отношений.
Такова была социально-экономическая структура, возникшая в IV–III вв. в Египте и на первых порах функционировавшая очень успешно. Но эта ее успешность была недолговечной. В конце III в. в Египте начинается период экономического застоя, сопровождавшегося внешнеполитическими неудачами в войнах с Селевкидами и крестьянскими волнениями внутри страны. Для характеристики этого периода мы ограничимся несколькими выдержками из работы видного советского специалиста в области социально-экономических отношений в эпоху эллинизма И. С. Свенцицкой.
«Со II в. до н. э. Египет испытывает экономический и политический кризис. Этот кризис ранее всего сказывается в сельском хозяйстве, где особенно ярко выступает незаинтересованность непосредственных производителей в труде. Во II–I вв. растет количество бездоходных, т. е. запущенных, земель. Ухудшается ирригационная система, происходит засоление почвы. Правительство пыталось увеличить доходность земель, вводя принудительную аренду: царских земледельцев заставляли, кроме своих участков, обрабатывать еще и запущенные. Но земледельцы отвечали на эти меры бегством, уходили из своих деревень. Крестьяне переселялись в города или на частные земли, становясь там арендаторами».
«Для II в. до н. э. характерно, с одной стороны, усиление роли частного землевладения, а с другой — попытка со стороны центральной власти усилить контроль над экономикой страны путем увеличения бюрократического аппарата. В ремесленном производстве также происходит нарушение царских монополий, появляются частные мастерские. Чтобы в известной мере сдерживать и контролировать все эти процессы, Птолемеи увеличивают и «совершенствуют» свой бюрократический аппарат. Но усиление бюрократического аппарата привело к обратным результатам. Бюрократия превратилась в самодовлеющую силу в государстве, и злоупотребления на местах приняли такую форму, что центральная власть оказалась не в состоянии с ними справиться.»
«Неустойчивость экономического положения порождает постоянную борьбу за власть, которая доходит до самых ожесточенных форм. в 118 г. были изданы так называемые „декреты человеколюбия“, где объявлялась амнистия всем участникам политической борьбы и провозглашалась борьба с злоупотреблениями чиновников.»
«Однако эта попытка наладить нормальную жизнь в стране не увенчалась успехом, Птолемеи боролись с засильем чиновников бюрократическими же методами. Существование громоздкой машины управления приводило к перенапряжению экономики. В I в. до н. э. продолжается ухудшение сельскохозяйственного производства: почвы заболачиваются, земледельцы бегут, происходит обесценивание денег и, как естественное следствие, усиливаются злоупотребления местного аппарата..»
«Присоединение Египта к Риму являлось прежде всего следствием внутреннего ослабления этой некогда сильнейшей державы Средиземноморья»[178].
* * *
Лишь бегло коснемся мы социально-экономических отношений в царстве Селевкидов; основу этих отношений, как и в Египте, составляла эксплуатация автохтонного сельского населения, осуществлявшаяся сходными методами. Как и в Египте, обладавший божественными прерогативами царь считался собственником земли, ее богатств и продуктов труда обрабатывавших ее земледельцев. Как и там, земли делились на царские, т. е. непосредственно принадлежащие царю, и уступленные, к каковым относились дарственные поместья, а также земли, находившиеся в распоряжении городов, военных поселений и храмовых общин. Как и там, доходы, получаемые от сельского хозяйства, составляли основу могущества царя, а также власти и благосостояния греко-македонской верхушки общества. Однако конкретные формы социальных отношений в царстве Селевкидов существенно отличались от того, что мы видели в Египте.
Прежде всего в силу необычайной гетерогенности царства Селевкидов, составлявшего причудливый конгломерат из многих стратегий (сатрапий), сильно отличавшихся как по этническому составу, так и по уровню развития своей экономики, здесь исключалась возможность единого административно-бюрократического аппарата, подобного тому, который был создан Птолемеями в Египте. Существовавшая там практика заключения индивидуальных контрактов с крестьянами была здесь практически неосуществимой. В царстве Селевкидов определенная сумма налога устанавливалась для общины (деревни) и община как целое отвечала за выполнение налоговых обязательств, а то, каким образом эти обязательства распределялись между отдельными производителями, было для вышестоящих инстанций несущественно. Более того, в ряде областей царства Селевкидов — в Малой Азии, Сирии, Вавилонии — налог можно было платить не натурой, а деньгами.
Отсутствие разветвленного административного аппарата возмещалось у Селевкидов тем, что в качестве промежуточного звена между сельскими общинами и царской властью они использовали города, прежде всего новые греческие города, возникавшие, как мы видели выше, в большом числе на всей территории царства. Каждому городу приписывалась определенная территория близлежащей «хоры» (χώρα) — сельской местности, приписывалась в том смысле, что город становился ответственным за уплату этой территорией причитавшегося с нее налога. Таким образом, суммарный налог, который платил город царю, включал в себя как налоговые обязательства самого города, так и налог с приписанной к нему сельской местности. При отсутствии в данной области греческих городов аналогичные функции могли быть переданы военным поселениям — «катэкиям» (κατυίκιαι) или местным городским центрам; в ряде областей (например, в Вавилонии) эту роль выполняли храмовые городские общины (взаимодействие между местным жречеством и царской властью было, как правило, хорошо налажено). В случае неурожая царская администрация могла пойти на уступки и снизить установленную для данной территории сумму налога.
Для успешного выполнения заданий по сбору налогов город должен был располагать многочисленным штатом местных, городских чиновников, занятых этим делом. Сборщики налогов были фигурами крайне непопулярными среди сельского населения, и именно на них обрушивался народный гнев в случае крестьянских волнений. Тем не менее в целом система сбора налогов, установленная Селевкидами, оказалась достаточно эффективной и была впоследствии заимствована римлянами. Термин «мытарь», так часто встречающийся в Евангелии, это синоним сборщика налогов, находящегося на службе у города. Что касается самих крестьян, то их фактическое по ложение в царстве Селевкидов было нисколько не лучше, чем в Египте; скорее наоборот. Египетский крестьянин заключал с государством индивидуальный письменный контракт, и этим подчеркивалась его личная свобода. У крестьянина в Сирии, Вавилонии или Малой Азии не было и намека на такую свободу; более того, фактически осуществленное Селевкидами прикрепление крестьян к соответствующим податным единицам (деревням, общинам) делало их в самом прямом смысле крепостными. Во II в. царство Селевкидов, как и Египет, переживает период упадка. Правда, греческие города продолжают расти и богатеть, но следствием этого оказываются сепаратистские тенденции этих городов, их стремление освободиться от царского контроля. В сельском хозяйстве государственное землепользование постепенно хиреет, а царские земли все больше переходят в руки частных лиц и городов. Параллельно с этим происходит политический распад царства: все восточные области, включая Вавилонию, попадают под власть новой могущественной державы — Парфии, а на западе все большие претензии заявляет Рим. В 190 г. царь Антиох III (до этого получивший прозвище Великого) терпит от римлян сокрушительное поражение в битве при Магнесии, приводящее к потере Селевкидами почти всех малоазийских владений. Положение усугубляется непрерывной династической борьбой. В 58 г. Сирия — последняя область, остававшаяся под властью Селевкидов, — становится Римской провинцией.
В заключение будет небесполезно сказать несколько слов о Пергамском царстве, избравшем другой путь развития по сравнению с прочими эллинистическими монархиями. В первое время это была одна из стратегий державы Селевкидов, но в 266 г. правитель Пергама объявил о своей независимости от Селевкидов, провозгласив себя самодержавным монархом под именем Аттала I и став тем самым основоположником династии Атталидов. В последующие десятилетия Пергамское царство стало быстро крепнуть и расширять свои границы. Максимальных размеров оно достигло после 188 г., когда, согласно мирному договору, заключенному в Апамее после поражения Антиоха III в войне с римлянами, последние передали Пермагму практически все западные и северо-западные области Малой Азии.
Развитие социальных отношений в Пергамском царстве пошло по иному пути по сравнению с царством Селевкидов и Египтом. А именно, властители Пергама взяли курс на максимальное поощрение рабовладельческих форм хозяйства как в деревне, так и в городе. Все царские земли, составлявшие основу земельного фонда Пергамского царства, обрабатывались рабами, причем по преимуществу это были обращенные в рабство местные крестьяне, пополнявшиеся затем за счет иноплеменных рабов. В городе большое экономическое значение имели царские ремесленные мастерские, во главе которых стояли управляющие, назначенные царем, но основной рабочей силой в которых были также рабы. Короче говоря, пергамские властители выбрали римский путь развития экономики (не случайно римляне всегда благоволили Пергаму).
Рост рабовладельческого хозяйства в Пергаме привел к консолидации класса рабов, противостоящего классу эксплуататоров-рабовладельцев. В 133 г. на территории Пергамского царства вспыхивает восстание рабов, руководимое отпрыском царского рода Аристоником, который был фигурой примечательной во многих отношениях. Аристоник не ограничился ролью руководителя восстания, но выступил в качестве идеолога угнетенных масс, выдвинув программу создания справедливого государства — Гелиополя, в котором все люди были бы свободны и равны (сравни «Город Солнца» Кампанеллы в начале XVII в. н. э.). К движению «гелиополитов» (как называли себя сторонники Аристоника) примкнули широкие массы неимущей бедноты. Особый размах восстание приобрело после смерти тогдашнего царя Пергама Аттала III. Не имея возможности справиться с восставшими, городские власти Пергама и других городов издали декреты о предоставлении свободы всем рабам — как царским, так и городским. Эти меры, однако, не возымели действия. В борьбу ввязались римляне, использовавшие в качестве предлога завещание Аттала III, согласно которому власть над Пергамским царством после смерти царя передавалась Риму. Сторонники Аристоника упорно и мужественно
сопротивлялись, но не могли противостоять мощи римских легионов. Осажденный римлянами в городе Стратоникее (Кария) Аристоник был принужден к сдаче после более чем годичной осады и казнен в 130 г. Окончательное подавление восстания произошло в 129 г., после чего Пергамское царство было преобразовано в римскую провинцию, именовавшуюся Азией.
Глава вторая Философия эпохи эллинизма
Предыстория: киренаики и киники
В принятом нами определении эллинизма подчеркивается факт взаимодействия греческих и восточных элементов, имевший своим следствием образование своеобразных политических, социально-экономических и культурно-идеологических структур, существенно отличавшихся от всего того, что было ранее в Старой Греции и странах Ближнего Востока. К этому определению надо добавить оговорку. В сфере культуры ситуация сложилась несколько отличная от той, какая имела место в политической и социально-экономической сферах: здесь еще долго доминировали греческие элементы. Эллинистическая культура была прежде всего и по преимуществу греческой культурой, она оставалась таковой вплоть до конца эллинизма или, если быть точнее, вплоть до появления христианства. Эллинизация Востока сопровождалась распространением греческих культурных ценностей всюду, где селились греки. Очень дорожа своим культурным богатством, и прежде всего системой воспитания молодежи, одновременно и духовного и физического, — тем, что обозначалось емким термином παιδεία, греки, где бы они ни обосновывались, в первую очередь строили гимнасии, палестру, стадион и театр — основные компоненты греческой городской культуры. К ним надо добавить греческий язык, который в форме κοινή — обобщенного наречия, вобравшего в себя различные греческие диалекты, — стал поистине международным языком той эпохи.
Отмечая относительную стабильность внешних форм греческой культуры, нельзя упускать из виду ту трансформацию, которой эта культура подверглась со стороны своего внутреннего содержания. Мироощущение грека эпохи эллинизма имело очень мало общего с мироощущением гражданина классического греческого полиса. Это изменение произошло не под влиянием восточных элементов, а в силу той переоценки ценностей, которой сопровождался кризис полисной формы общественно-политического устройства и симптомы которой можно обнаружить в таких явлениях эпохи предэллинизма, как философия, литература, искусство.
Уже в конце V в. можно указать на некоторые феномены, бывшие новыми и необычными для классической греческой культуры. Одним из них была софистика. Не случайно софисты подвергались ожесточенным нападкам со стороны ревнителей старых полисных устоев. Софисты подвергли критическому анализу всю систему общественных установлений, основанных на традиции, на авторитете предков или на общепринятых религиозных представлениях. Три характерные черты софистики V в. делали ее предшественницей духовных течений эпохи эллинизма — это субъективизм, релятивизм и скептицизм. Софисты отрицали объективную значимость любых высказываний о космосе, об общественном устройстве или человеческом поведении. Все зависит от точки зрения, ибо, как говорил Протагор, «человек есть мера всех вещей — существующих, что они существуют, и не существующих, что они не существуют»[179]. Отсюда вытекает относительность любого утверждения, претендующего на истинность. Можно с одинаковой степенью убедительности доказывать истинность двух прямо противоположных положений, что софисты неоднократно и делали — иногда в качестве учебных упражнений. И если это справедливо для кажущихся очевидными вещей нашего повседневного опыта, то тем более это будет справедливо для суждений о космосе, о богах, о таких отвлеченных понятиях, как справедливость, благо, мудрость. Скептическая установка софистов с особенной яркостью проявилась в рассуждении Горгия, который доказывал: 1) что ничто не существует; 2) что если нечто и существует, то оно непознаваемо; 3) что если оно познаваемо, то это познание не может быть высказано[180].
Разумеется, не следует думать, что приведенные высказывания Протагора и Горгия разделялись всеми софистами. Софистика не была единой философской школой, и взгляды отдельных представителей этого течения могли существенно отличаться друг от друга. Кроме того, в своей педагогической практике (а софисты были прежде всего учителями, странствующими разносчиками мудрости) они, по-видимому, смягчали наиболее острые углы своих воззрений. Но общая тенденция софистики как теоретического учения была именно такой.
Огромную роль в идейной подготовке эллинистического мироощущения сыграло творчество Эврипида. Последний из трех великих трагиков V в., он при жизни был наименее популярен из них. Он получил значительно меньшее число отличий на театральных соревнованиях, чем Софокл, хотя оба они были, по сути дела, современниками. Это объяснялось тем, что Эврипид во многом опередил свое время и те стороны его творчества, которые позднее стали восприниматься как достоинства его произведений, при его жизни могли считаться их недостатками.
И личность, и образ жизни Эврипида казались его современникам во многом необычными. Он жил замкнуто, много читал, много думал и чуждался общественных дел. Порой он надолго уединялся на своем родном острове Саламине. Будучи одним из образованнейших людей своего времени, Эврипид хорошо знал сочинения философов-досократиков и был знаком с Анаксагором, отзвуки воззрений которого можно обнаружить в ряде эврипидовских трагедий. Именно по этой причине он был прозван современниками «философом на сцене» (σκενικός φιλόδοφος). Между прочим, он был обладателем большой библиотеки, что для V в. было новинкой.
Кардинальное отличие Эврипида-драматурга от его предшественников состояло в том, что он впервые начал уделять внимание психологии индивидуальной человеческой души. В отличие от статичных образов Эсхила и Софокла, Эврипид изображает людей в развитии, в динамике их чувств и страстей. В особенности его привлекала женская психология, и в истории мировой литературы он остался прежде всего в качестве величайшего психолога, раскрывшего тайны женской души.
Действительно, сопоставим два замечательных об раза древнегреческой литературы: софокловскую Антигону и эврипидовскую Медею. В течение всей трагедии Антигона остается живым воплощением внутреннего долга, которому она остается верна до конца и по велению которого идет на смерть. У нее нет ни сомнений, ни колебаний. В своей статуарности она подобна идеальным образам Фидия.
Ничего похожего нет у Эврипида. Его Медея вся сплетена из противоречивых страстей, Страстно полюбив Ясона, ради которого она пошла на страшные преступления, она резко меняется, узнав об измене своего мужа. Непреодолимые муки ревности терзают ее. Страстная любовь переходит в столь же страстную ненависть. Медею разрывает борьба между любовью к детям и стремлением к мести. Последнее одерживает верх, и трагедия заканчивается потрясающей сценой, которая и в наше время производит большое впечатление на зрителей.
Другой пример — Федра в «Ипполите», пример слишком хорошо известный, чтобы на нем стоило подробно останавливаться. Далее, эврипидовская Электра, столь непохожая на софокловскую Электру, несмотря на общий сюжет обеих трагедий, носящих к тому же одинаковое заглавие. Наряду с этими трагическими образами мы находим у Эврипида и женские персонажи совсем другого рода, мягкие и привлекательные; назовем хотя бы Алкесту и Ифигению, нарисованных с большой теплотой и психологической выразительностью.
Итак, в центре внимания Эврипида находится индивидуальная человеческая душа. Мифологический сюжет служит, у него лишь каркасом для построения действия. Образы богов показывают критическое отношение Эврипида к традиционной религии: боги у него отнюдь не идеальные существа: они зачастую жестоки, мстительны, капризны. В последних своих трагедиях Эврипид подчеркивает решающее значение случайности (τύχη) в жизни людей, заменяющей волю богов и непреложность рока прежней эпохи. Все это делало Эврипида близким мироощущению людей эллинистической культуры. Уже Александр Македонский знал наизусть целые пассажи эврипидовских трагедий. А в III в. Эврипид становится наиболее популярным драматургом, пьесы которого ставятся в театрах всего греческого мира. Его роль в процессе формирования человека эпохи эллинизма трудно переоценить.
Итак, если софисты показали первостепенное значение субъективности в человеческом опыте и познании и тем самым выдвинули на первый план проблему критерия истины, то Эврипид открыл грекам внутренний мир отдельной человеческой личности. Раньше достоинство человека, его высшая добродетель — то, что греки называли трудно переводимым термином καλοκαγαθία — определялась полисом, как главной нормативной инстанцией. Теперь же точкой отсчета, по отношению к которой рассматриваются важнейшие этические и социальные проблемы, становится счастье единичного человеческого индивидуума. Кардинальное значение этого перелома мы продемонстрируем на примере двух сократических школ, существование которых до IV в. было едва ли возможным.
Мимоходом заметим, что термин «сократические школы» представляет собой чистую условность, за исключением того, что предполагаемые основатели этих школ имели какое-то отношение к Сократу. Учения, развивавшиеся этими школами, настолько отличались одно от другого и имели так мало общего с воззрениями Сократа (если вообще можно говорить с какой-либо степенью уверенности о воззрениях этой во многом загадочной личности), что мы едва ли сможем вычленить из них какую-либо общую основу, восходящую к Сократу[181].
Одной из сократических школ была Киренская школа, названная так по городу Кирена в Северной Африке, откуда был родом Аристипп, основатель и руководитель школы, и куда он возвратился в конце своей жизни. В качестве учителей Аристиппа древние источники называют Протагора и Сократа. Аристотель упоминает Аристиппа в своих сочинениях дважды[182], причем один раз называет ого софистом. Действительно, по своим воззрениям и по тому, что он давал уроки за плату, он стоит гораздо ближе к софистам, чем к Сократу. Подобно софистам, он не находил смысла в изучении природы, а также отрицательно относился к математике, поскольку он считал, что математика в отличие от других сфер человеческой деятельности не различает хорошего и дурного. Единственным источником знания о внешнем мире, по мнению Аристиппа, могут быть только ощущения, а так как ощущения суть не более как наши внутренние состояния, которые у разных людей могут существенно различаться, то истинная природа вещей, вызывающих эти ощущения, от нас скрыта. Если, таким образом, ощущения не могут дать истинного знания о внешнем мире, то, с другой стороны, они могут служить путеводной нитью в нашей деятельности. Здесь теория познания Аристиппа смыкается с его этикой. Естественно, что человек стремится к такого рода ощущениям, которые ему приятны, т. е. к наслаждению, и избегает ощущений, доставляющих ему неудовольствия, например боль. И вот единственной целью человеческой деятельности Аристипп провозглашает индивидуальное наслаждение. При этом он пытается уточнить природу наслаждения: наслаждение есть плавное движение, воспринимаемое нашими чувствами. Наоборот, боль есть воспринятое нами резкое движение. Остается неясным, что при этом движется и каков механизм восприятия этого движения; можно, однако, полагать, что здесь Аристипп следовал Протагору, изложение теории ощущений которого мы находим в «Теэтете» Платона[183].
Итак, согласно Аристиппу, мы больше всего стремимся к наслаждению и больше всего стремимся избегать боли. Телесное наслаждение много интенсивнее и потому желательнее наслаждения духовного, а телесное страдание много тяжелее, чем страдание души. Совокупность всех частных наслаждений, включая также прошлое и будущее, есть счастье. Однако к счастью человек стремится не ради него самого, а ради частных сиюминутных наслаждений, которые его составляют. Ведь прошлое уже не существует, поэтому печалиться о прошлом или радоваться ему бессмысленно. Что касается будущего, то оно нам неизвестно, поэтому так же бессмысленно надеяться на будущее или опасаться его. Действительно только настоящее мгновение; только оно принадлежит нам; только его следует ловить. Формула Горация: carpe diem quam minimum credula postero[184] как нельзя лучше выражает суть мироощущения Аристиппа.
Такова в основе своей этика киренаиков, которую, помимо основоположника школы, развивали его ученики, в первую очередь дочь Аристиппа Арета и его внук, тоже Аристипп. Этику такого рода обычно определяют как гедонизм (от греческого ηδονή — наслаждение). Ее субъективистский и притом эгоистический характер бесспорен: ведь каждый человек стремится к своему наслаждению и ему нет никакого дела до того, испытывают ли при этом наслаждение или боль другие люди. Разумеется, лицезрение чужой боли может вызывать неприятные ощущения, которых следует избегать, но только потому, что это моя неприятность. С другой стороны, погребальные песнопения могут доставлять мне наслаждение, хотя они и связаны с горем других людей. Даже если наслаждение достигается с помощью некрасивых и недостойных поступков, оно не перестает быть благом, ибо все некрасивое и недостойное, равно как, с другой стороны, прекрасное и справедливое, является таковым лишь по установле-
нию, а не по природе. Однако разумный человек будет воздерживаться от дурных поступков, чтобы избегнуть позора и наказания. Аналогичным образом разумный человек должен закалять свое тело, чтобы избежать неприятных ощущений, которые могут явиться следствием телесных наслаждений.
Эти и другие подобные оговорки, смягчавшие крайности учения Аристиппа, либо принимались, либо отвергались его последователями, в зависимости от чего в школе киренаиков существовало несколько направлений — гегесианцы, анникеридовцы, феодоровцы. Входить в эти детали мы, однако, не будем. В целом же учение Аристиппа нашло большое число приверженцев, главным образом в высших слоях общества — как греческого, так и позднее римского. Зачастую оно смешивалось с эпикурейством, хотя этика самого Эпикура существенно отличалась от этики Аристиппа.
Столь же показательной для этой эпохи была вторая школа, появившаяся также в IV в., — киническая. Ее возникновение обычно связывается с именем Антисфена — одного из наиболее близких к Сократу людей, воспринявшего от своего учителя некоторые черты характера и особенности поведения. Был ли Антисфен действительным основателем школы киников, вопрос спорный. В древности происхождение термина «киники» объяснялось тем, что после смерти Сократа Антисфен вел занятия со своими учениками в Киносарге — афинской гимнасии, в которой учились юноши смешанного происхождения и незаконнорожденные (сам Антисфен был сыном фракиянки и не был полноправным гражданином Афин). Об его философских воззрениях до нас дошли лишь отрывочные сведения; тем не менее древние свидетельства позволяю говорить о нем по крайней мере как о предшественнике кинического направления. Мы имеем в виду, в частности, ого подчеркнутый антигедонизм, его отношение к женщинам, к физическому труду и т. д. И все же подлинным основателем и главой школы киников следует считать не Антисфена, а его знаменитого ученика Диогена Синопского.
Образ Диогена окутан массой анекдотических рассказов. Поскольку никаких сочинений он но писал (будучи в этом подобен Сократу), путь к раскрытию его философских воззрений лежит через заросли этих анекдотов,
Основное, что мы при этом узнаем, это его апофтегмы, выраженные в форме вопросов, загадок и аллегорий, а также рассказы об его поступках, удивлявших современников своей парадоксальностью, а порой кажущейся абсурдностью. И тем не менее у авторов, писавших о Диогене, встречаются места, которые могут послужить ключом к раскрытию смысла его парадоксов и необычных поступков. Возьмем, например, главу о Диогене Синопском у Диогена Лаэртия, который остается едва ли не самым важным источником сведений о его знаменитом тезке[185]. Выпишем несколько наиболее показательных цитат.
«Он постоянно говорил: Для того чтобы жить как следует, нужно иметь или разум, или петлю».
«Говорил он также, что судьбе он противопоставляет мужество, закону — природу, страстям — разум».
«На вопрос, что дала ему философия, он ответил: По крайней мере готовность ко всякому повороту судьбы».
«На вопрос, откуда он, Диоген сказал: Я — гражданин мира (κοσμοπολίτης)».
«Он говорил, что как слуги в рабстве у господ, так дурные люди в рабстве у своих желаний».
«Он говорил, что никакой успех в жизни невозможен без упражнения; оно же все превозмогает. Если вместо бесполезных трудов мы предадимся тем, которые возложила на нас природа, мы должны достичь блаженной жизни; и только неразумие заставляет нас страдать. Само презрение к наслаждению благодаря привычке становится высшим наслаждением; и как люди, привыкшие к жизни, полной наслаждений, страдают в иной доле, так и люди, приучившие себя к иной доле, с наслаждением презирают само наслаждение. Этому он и учил, это он и показывал собственным примером; поистине это было „переоценкой ценностей“ (νόμισμα παραχαράττων). ибо природа была для него ценнее, чем обычай».
«... закон — это городская прихоть».
«Единственным истинным государством он считал весь мир».
«Музыкой, геометрией, астрономией и прочими подобными науками Диоген пренебрегал, считая их бесполезными и ненужными».
Кроме этого, в конце шестой книги своего труда Диоген Лаэртий дает краткое изложение кинического учения, но в нем говорится в основном об Антисфене.
На основании приведенных цитат и учитывая прочие высказывания и поступки Диогена, мы можем сформулировать взгляды главы кинической школы в более или менее связной форме.
Начнем с конца. В согласии с киренаиками и отчасти с софистами Диоген считал бессмысленными и бесполезными науки, не имеющие прямого отношения к человеческому поведению, — и не только «физику» (т. е. науку «о природе»), но также математику, астрономию, логику и музыку. Таким образом, положительная сторона кинической философии сводилась к учению о правильном образе жизни. Все остальное сводилось к разрушительной критике существующего общества и всех его устоев. В этой критике киники исходили из противопоставления «природы» (φύσις) человеческим установлениям (νόμοι), — противопоставления, впервые сформулированного еще в середине V в. Архелаем и усиленно обсуждавшегося софистами. Проблема φύσις—νόμος решалась киниками самым радикальным образом в пользу «природы». А именно, они отвергали все политические, социальные и религиозные основы, на которых держался греческий полис. Законы и обычаи, сословные и имущественные различия, подчинение одних людей другим, в том числе и в форме рабства, общепринятая религия, брак, собственность — все это относилось к сфере человеческих установлений и потому считалось противоречащим истинной «природе» человека. Все поведение Диогена, его парадоксы и причуды были наглядной демонстрацией пренебрежения к перечисленным установлениям.
Отсюда следовало, что жизнь людей должна быть перестроена таким образом, чтобы она полностью соответствовала человеческой «природе». Это означало, что человеку нужно было отказаться от всех привычек, обычаев, форм поведения и потребностей, которые являлись «надстройкой» над его природной сущностью. А природная сущность человека — это в конечном счете его физическое тело с теми потребностями и отправлениями, которые для него жизненно необходимы.
На первый взгляд может показаться, что, следуя Диогену, мы открываем простор чисто животным влечениям и инстинктам. Но это не так. Человек отличается от всех прочих живых существ тем, что у него есть разум.
Разум служит регулятивным и сдерживающим фактором для всех побуждений и желаний, которым подвластны люди, не руководствующиеся в своем поведении разумом. Именно здесь пролегает граница между хорошим и дурным. Хорошими надо считать поступки, продиктованные разумом. Хорошие люди. — это люди, следующие велениям разума. Дурное — синоним неразумного. Дурные люди оказываются игрушкой своих влечений и похотей. Таким образом, этика киников — это строго рационалистическая этика.
Каким же образом разум может устоять от подстерегающих человека соблазнов и искушений? Только путем упражнений, причем таких упражнений, которые соответствуют нашей природе. Непрерывно упражняясь, мы вырабатываем в себе привычку к воздержанию, к максимальной умеренности, к жизни, лишенной всяких излишеств. Привычка позволит нам без труда избегать наслаждений, к которым обычно стремятся люди; более того, эти наслаждения покажутся нам отвратительными и неприятными, а жизнь, основанная на воздержании и упражнениях, соответствующих природе человека, будет восприниматься как высшее счастье.
Человек, ведущий разумную, т. е. воздержную, аскетическую, жизнь, будет легко переносить любые повороты в его судьбе. Его ничто уже не сможет испугать или привести в уныние, ибо такому человеку нечего будет терять в жизни, да и сама смерть перестанет ему быть страшной. Такого человека мы по праву сможем назвать мудрым. Куда бы его ни забросила судьба, он везде будет чувствовать себя как дома, ибо он не связан ни с каким городом и ни с какой родиной. Его родина — весь мир, следовательно, такой человек будет иметь право называть себя космополитом, т. е. гражданином вселенной (этот термин был впоследствии взят на вооружение стоиками, но впервые он был употреблен именно Диогеном). Такова была нравственная философия Диогена Синопского. Мы видим, что она представляла собой цельную и законченную концепцию, которая в определенных общественных условиях могла импонировать очень многим. Такие общественные условия возникли в результате кризиса полисной организации общества, когда человек перестал осознавать себя членом коллектива, когда он ощутил свое одиночество и свою беззащитность перед непредсказуемыми коловращениями судьбы. Для человека с таким мироощущением киническая философия сообщала жизни смысл и давала утешение. Позднее эту роль станут играть религиозные учения, в частности христианство, но IV–III вв. были временем, когда религию еще могла заменять философия.
Действительно, киническая философия вскоре оказалась весьма популярной. Диоген Лаэртий рассказывает о поразительной силе убеждения, которой обладал Диоген-киник и которая привлекала к нему множество последователей.
Но дело было не только в личных качествах Диогена и в его умении убеждать людей, а в том, что само содержание его учения отвечало духу эпохи, будучи в то же время простым и общепонятным.
Существует точка зрения, согласно которой киническое учение выражало собой идеологию рабов и обездоленных слоев античного общества[186]. Мы воздержимся от столь категорического утверждения. Разумеется, это учение находило отклик, прежде всего, среди людей, испытавших тяготы жизни. Так, последователи Диогена Бион, Моним и Менипп были (согласно древним источникам) первоначально рабами, лишь потом получившими свободу. Но, с другой стороны, бесспорно, что интерес к философии киников выходил далеко за пределы какого-либо определенного слоя населения. Мы знаем, что сам Александр питал глубокое уважение к Диогену и домогался встречи с ним (хорошо известно его высказывание: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном»)[187]. Во время своего пребывания в Коринфе Александр останавливался в доме известного ученика Диогена, Кратета. В числе философов, сопровождавших Александра в его походе на Восток, был киник Онесикрит. Живой интерес великого завоевателя и его приближенных к индийским аскетам (которых греки называли «гимнософистами») был отчасти вызван тем, что последние воспринимались греками в качестве своеобразной разновидности киников.
В дальнейшем (в III в.) популярность кинического учения возросла еще больше, чему, вероятно, способствовала литературная деятельность киников — Кратета, Биона, Монима, Мениппа и других. К сожалению, от этой богатой литературы до нас дошли лишь незначительные фрагменты. Особенно широко кинические писатели использовали жанр диатрибы — рассуждения на философские, в том числе моральные, темы, иногда в диалогической форме. Другой жанр — мениппова сатира — получил свое наименование по имени Мениппа, писавшего философско-сатирические диалоги, отличавшиеся вольным стилем, причудливыми, часто фантастическими сюжетами и смесью прозаической речи со стихами. Впоследствии этот жанр культивировался римским писателем Варроном, а в наши дни термин «мениппея» с легкой руки Μ. Μ. Бахтина вошел в арсенал современного литературоведения и широко используется даже теми, кто не имеет ни малейшего представления о самом Мениппе.
Вернемся к Диогену Синопскому. Его деятельность не сводилась к одной лишь пропаганде своих взглядов; она имела резко полемический характер, будучи направлена, с одной стороны, против школы Аристиппа, а с другой — против платоновской Академии. Противоположность рационалистического аскетизма киников сенсуалистическому гедонизму киренаиков очевидна и не требует особых комментариев. Пафос большинства апофтегм и поступков Диогена имеет в своей основе критику гедонизма и восхваление воздержания («Он хвалил тех, кто хотел жениться и не женился, кто хотел путешествовать и не поехал, кто собирался заняться политикой и не сделал этого, кто брался за воспитание детей и отказался от этого, кто готовился жить при дворе и не решился», — пишет Диоген Лаэртий). И все же при всем различии этих двух учений не следует упускать из виду то общее, что их объединяет: принципиальный индивидуализм, отрицание полезности любых наук, кроме науки о человеческом поведении, пренебрежение к законам и прочим человеческим установлениям (хотя у Аристиппа это пренебрежение проявлялось скорее на словах, чем на деле). Эти общие черты обусловлены единством мироощущения, на почве которого выросли оба этих учения.
Более глубокие корни имел антагонизм кинической школы и платоновской Академии. Еще Антисфен подчеркивал свое резко отрицательное отношение к философии Платона; эта оппозиция усугублялась личной неприязнью друг к другу обоих мыслителей. Антисфен написал против Платона сатирическую инвективу в трех книгах, озаглавленную «Сафон» (Σαθων — от нецензурного слова ή σάϑή обозначавшего мужской половой орган); что же касается Платона, то, следуя своему обыкновению, он ограничивался молчаливым презрением, не упоминая имени своего оппонента (хотя некоторые исследователи усматривают в «Теэтете», «Кратиле» и еще кое-где критику воззрений, сходных с антисфеновскими). К Диогену, которого Платон мог знать лишь в годы своей старости, у пего было пренебрежительно-ироническое отношение: он называл его «сумасшедшим Сократом». О полемических выпада Диогена против Платона существует много рассказе к ним относится и анекдот об ощипанном петухе, и заявление Диогена, что он видит стол и чашу, но не видит стельности и чашности, и многое другое. Основу расхождений Диогена и Платона надо искать, конечно, не в их личных симпатиях и антипатиях, а в диаметрально противоположном подходе к коренному вопросу философии того времени, а именно к дилемме νόμος — φύσις. Как мы видели выше, Диоген фактически отвергал νόμος, отрицая ценность каких-либо человеческих установлений. Наоборот, для Платона именно νόμος — закон — то ли божественный, то ли человеческий — имел первостепенное значение. Космос в целом создан, согласно платоновскому «Тимею», Демиургом по заранее установленному идеальному плану. Небесные светила движутся по своим кругам не потому, что такова их природа, а в соответствии с божественным установлением. Идеальное государство Платона с начала и до конца зиждется на установлениях, предписаниях и запретах. Итоговое сочинение Платона имело отнюдь не случайное заглавие «Законы» (Νόμοι). Кстати, как раз в этом сочинении Платон обрушивается на философов, объяснявших возникновение мира и человека действием «природы», т. е. естественной необходимостью, которая, по Платону, была тождественна случайности. Любая философия, признававшая «природу» космообразующим началом, была для Платона неприемлемой.
Разумеется, Диоген не вступал с Платоном в метафизические дискуссии: он был чужд любой метафизике и выражал по отношению к ней величайшее презрение, и притом не только словами, но и действиями. Такие его поступки надо оценивать не только как эпатаж по отношению к общепринятой морали, но и как акции, имевшие, как полагал сам Диоген, определенное философское значение. Это была, так сказать, аргументация действием, которая
была направлена, как мы смеем думать, в частности, и против сугубо отвлеченных (и тем самым элитарных) построений, которыми были заняты сотрудники платоновской Академии[188]. Вообще, если рассматривать философию как совокупность логических умозаключений, то киникам вряд ли найдется место в ее истории. Если же трактовать философию как более широкое культурное явление, отражающее умонастроение и мироощущение соответствующей эпохи, то надо будет признать, что во второй половине IV в. киники были важнейшей философской школой, во всех отношениях противостоявшей платонизму.
В философии эпоха эллинизма знаменовалась упадком некоторых школ, процветавших в IV в., и появлением новых школ, вскоре ставших весьма влиятельными.
Академики
После смерти Платона (в 347 г.) руководство Академией перешло к его ученикам — сначала к племяннику Платона Спевсиппу (347–339 гг.), а затем к Ксенократу (339–314 гг.). Оба этих философа по мощи своего мышления не могли, конечно, сравниться с их учителем. И все же они были самостоятельными мыслителями, развивавшими платонизм в том направлении, которое было намечено Платоном в последние годы его жизни, а именно в направлении сближения платоновской теории идей с пифагореизмом. Уклон в сторону числовой мистики особенно заметен у Ксенократа. Разумеется, подобная эволюция учения Платона не способствовала развитию его наиболее живых и плодотворных аспектов. В интерпретации Ксенократа платонизм превратился в застывшую догматическую систему, в которой мистика чисел сочеталась со своеобразной демонологией (Ксенократ полагал, что между звездными сферами, равно как и в подлунном пространстве, обитает множество злых и добрых духов, по существу родственных человеческим душам). Мифы, встречающиеся в платоновских диалогах и которые для Платона служили иносказательным способом изложения его абстрактных концепций, воспринимались Ксенократом буквально; к ним он добавлял собственные мифы, в том числе связанные с доктриной метемпсихоза. Все это свидетельствовало о деградации платонизма уже у непосредственных учеников Платона.
В период 314–270 гг. Академию возглавляли последовательно Полемон, Кратет непутать с Кратетом из Фив, учеником Диогена Синопского) и Крантор. Это были менее оригинальные мыслители, не добавившие после Спевсиппа и Ксенократа ничего нового к теоретической стороне платонизма. Некоторый вклад был внесен ими в этику; так, понятие о первичных естественных благах, введенное Полемоном, было затем принято как стоиками, так и эпикурейцами. Хотя труды этих философов до нас не дошли, все же нужно упомянуть сочинение Крантора «О страданиях» (Περι πένϑους), снискавшее в древности большую популярность; по словам Цицерона, восхищавшегося этой «небольшой, но поистине золотой» книгой, стоик Панэтий советовал выучить ее наизусть от слова до слова[189].
Начиная с Аркесилая, руководившего Академией с 270 по 240 г., следует период так называемой Средней Академии. Отказавшись от направления своих предшественников, обращавшихся к поздним сочинениям Платона (прежде всего к «Тимею»), Аркесилай обратился к изучению ранних платоновских диалогов, в которых, по его мнению, излагались неискаженные взгляды Сократа. Аркесилай нашел, что в этих диалогах отсутствует всякая догматика; Сократ ограничивается в них критикой чужих мнений, прежде всего тех, которые развивались софистами, но не формулирует никакой положительной системы, довольствуясь констатацией собственного незнания. Аркесилай пришел к выводу, что такова же была точка зрения раннего Платона и что именно она должна быть положена в основу философии академической школы. Исходя из этих предпосылок, Аркесилай ограничил свою деятельность критикой догматических учений — эпикуреизма и стоицизма, а также преподаванием, причем он заставлял своих учеников упражняться в доказательстве и опровержении одних и тех же тезисов (как это делали раньше софисты). Никаких сочинений Аркесилай после себя не оставил.
Крупнейшим руководителем Академии после Аркесилая был Карнеад (160–129 гг.), в основном принявший скептическую позицию Аркесилая. Его усилия были главным образом направлены на подрыв критериев знания, выдвигавшихся догматическими школами. Эпикуровское убеждение в безошибочности чувственных восприятии было с самого начала отвергнуто Карнеадом как явно абсурдное. Но и предложенный стоиками критерий истинности, в конечном счете тоже полагавший в качестве высшей инстанции чувственные восприятия (мы о нем будем говорить в дальнейшем при изложении учений стоиков), не давал, по мнению Карнеада, достоверного и в лучшем случае позволял получать лишь вероятное знание. Карнеад различал три степени вероятности человеческих представлений: 1) вероятное представление; 2) вероятное и не противоречащее никаким другим пред ставлениям представление; 3) вероятное, не противоречащее другим представлениям и всесторонне проворенное представление. Но даже самая высокая степень вероятности представлений еще не говорит об их безусловной истинности. Поскольку никакого другого источника знаний, кроме чувственных представлений, Карнеад не признавал, то его теоретико-познавательную концепцию следует определить как агностицизм, хотя и несколько смягченный по сравнению с агностицизмом скептиков.
В 156 г. Карнеад вместе с представителями других греческих философских школ посетил Рим. Там он произнес две публичные речи. В первой из них доказывалось, что справедливость присуща самой природе человека, а во второй, произнесенной на другой день, утверждался противоположный тезис, а именно, что справедливость есть условное человеческое установление. Римские источники сообщают, что Катон Старший был настолько возмущен этими речами, что потребовал от сената немедленной высылки греческих философов из Рима.
Как и Аркесилай, Карнеад не излагал своих взглядов в письменной форме. Но его лекции, по-видимому блестящие по форме, были записаны учениками (прежде всего Клитомахом), которые обнародовали их после смерти учителя. Этим объясняется, что до нас дошла некоторая информация о философских воззрениях Карнеада.
Преемник Карнеада Клитомах был последним представителем Средней Академии. Следовавшие за ним руководители школы Филон из Лариссы и Антиох из Аскалона отошли от скептицизма своих предшественников и встали на путь эклектического объединения взглядов Древней Академии с учениями перипатетиков и стоиков, утверждая, что между этими тремя школами, по сути дела, нет противоречий. Этот эклектизм, полемическое острие которого было направлено против эпикуреизма и скептицизма, стал отличительной особенностью Новой Академии, история которой уже выходит за пределы собственно эллинизма.
Перипатетики
В первые десятилетия после смерти Аристотеля перипатетическая школа, возглавляемая Феофрастом (323–287 гг.), переживала период своего расцвета: она насчитывала несколько крупных ученых, выпестованных Аристотелем, каждый из которых, согласно замыслу основателя школы, работал в определенной области науки. Именно в Ликее впервые осуществилась дифференциация научных дисциплин, ранее составлявших нерасчлененное синкретичное целое науки «о природе». Подобная специализация, позднее осуществившаяся в деятельности александрийского Мусейона и оказавшаяся столь плодотворной, была для греческой науки делом новым и необычным. Наиболее значительными учениками Аристотеля, составившими гордость перипатетической школы, были Феофраст из Эреса (на острове Лесбос), Эвдем Родосский, Аристоксен Тарентский, Дикеарх Мессинский. Все они были самостоятельными учеными, сохранившими общий дух основоположника Ликея, но в отдельных вопросах не останавливавшимися перед существенными отклонениями от взглядов своего учителя.
Самым талантливым из них был, бесспорно, Феофраст [(р. в 372 г.), возглавивший школу после того, как Аристотель незадолго до смерти в последний раз покинул Афи-ны. Феофраст написал множество сочинений, относившихся к самым различным областям знания, из которых до нас почти целиком дошли только два больших сочинения по ботанике («История растений» и «Причины растений»), имевшие такое же значение для становления этой (науки, как «История животных» Аристотеля для зоологии. Наряду с более или менее значительными отрывками из Других естественнонаучных сочинений Феофраста (например, «О камнях», «О ветрах» и др.) мы имеем ряд фрагментов из его большого труда «Мнения физиков», в кото-)ом в систематическом порядке излагались воззрения философов-досократиков. О характере этого сочинения можно судить по сохранившемуся отрывку «Об ощущениях». Утеря «Мнений» представляется особенно огорчительной потому, что они были основным источником сведений о досократиках для позднейших доксографов (Диоген Лаэртий, Плутарх, Стобей и др.), составлявших историко-философские или философско-биографические компиляции, из которых мы до сих пор черпаем информацию (многократно препарированную и потому, безусловно, искаженную) о взглядах ранних греческих мыслителей. Что касается «Характеров» Феофраста, бывших в прошлом (особенно в XVIII в.) необычайно популярными, то их, по-видимому, следует рассматривать как ряд эксцерптов из большого феофрастовского сочинения по этике.
Эвдем, о жизни которого почти не имеется сведений, был менее продуктивным и оригинальным мыслителем, чем Феофраст. В первые годы после смерти Аристотеля он работал вместе с Феофрастом над дальнейшим развитием аристотелевской логики, а затем вернулся к себе на родину (на о-в Родос), где открыл филиал школы. Большой интерес, по-видимому, представляли его работы по истории астрономии и математики, на которые впоследствии многократно ссылался неоплатоник Прокл.
Аристоксен был выходцем из пифагорейской школы, влияние которой сильно ощущалось в его сочинениях. Так, в его рассуждениях о соотношении души и тела большую роль играло пифагорейское понятие гармонии. Он написал несколько сочинений по истории и теории музыки, а так?ке биографии Пифагора и Платона. От этих сочинений до нас дошли отдельные отрывки.
Что касается Дикеарха, то он занимался преимущественно географией, историей и политикой. Он предпринял первую попытку установления размеров земного шара с помощью измерений положения зенита на разных широтах, занимался определением высот горных вершин и написал ряд сочинений, из которых следует отметить описание Греции в трех книгах. Более подробно о его вкладе в географическую науку будет сказано в главе четвертой.
После смерти Феофраста перипатетической школой руководил Стратон из Лампсака (287–269 гг.). Это был, несомненно, выдающийся ученый, интересы которого лежали главным образом в области физики и психологии; к сожалению, от его сочинений до нас дошли лишь немногие и малозначительные фрагменты. На основании косвенных источников можно заключить, что Стратон отошел от аристотелевской физики в ряде самых существенных пунктов. Важнейшим понятием в его учении был-«природа» (φύσις), которую он считал универсальной, неа отделимой от материи силой; наоборот, бог и душа как самостоятельно действующие агенты им решительно отрицались. Он отказался от аристотелевской концепции естественных мест для элементов и полагал, что все четыре элемента обладают различными степенями тяжести. Стратон подвергнул обстоятельной критике атомистическое учение своего современника Эпикура, но в то же время заимствовал некоторые положения атомистики. Материя, по его мнению, состоит из частиц, в принципе делимых, которые отделены друг от друга промежутками, занимающими меньший объем, чем сами частицы (наличием этих «зазоров» Стратон объяснял свойство сжимаемости, присущее многим телам, которое считалось одним из важнейших аргументов в пользу атомистики). Помимо удара и тяжести, Стратон допускал существование и других действующих сил.; к ним он относил, в частности, теплоту и холод. Душу, в отличие от Платона и Аристотеля, Стратон считал единой; по его мнению, она является источником как восприятий и ощущений, так и мышления и локализуется в передней части головы, между бровями. Нам только кажется, что ощущения возникают в органах чувств: последние служат лишь восприемниками внешних раздражений, которые передаются душе с помощью промежуточного агента, каковым является пневма (воздух). Неизвестно, приписывал ли Стратон также и душе воздушную природу. Восприятия могут сохраняться в душе в течение длительного времени: в результате их движения возникает мышление, ибо мы не можем мыслить ничего, что ранее не было бы воспринято нами (это была общепринятая точка зрения в философии того времени).
В целом учение Стратона представляло собой своеобразную материалистическую переработку перипатетической физики и психологии; оно содержало ряд новых положений, которые можно рассматривать как существенный шаг вперед по сравнению с воззрениями Аристотеля. То, что в дальнейшем это учение было основательно забыто, а многочисленные сочинения Стратона оказались утерянными, объясняется стечением ряда обстоятельств, в том числе и тем фактором, что у Стратона не нашлось достойных его преемников.
Действительно, следующий руководитель перипатетической школы, Ликон из Троады (ум. в 225 г.), не был крупным ученым, хотя и написал ряд сочинений, отличавшихся не столько глубиной содержания, сколько изяществом формы. Он занимался но преимуществу преподавательской деятельностью, причем главное место в обучении уделялось им хитроумным диалектико-риторическим упражнениям. Научные сочинения Аристотеля практически перестали изучаться, тем более, что аристотелевский архив, оказавшийся в распоряжении перипатетика Нелея из Скепсиса, был вывезен последним из Афин и долгое время пылился где-то без употребления, пока не был куплен афинским богачом и библиофилом Апелликоном.
Другие перипатетики конца III в., как, например, Аристон Кеосский, ставший руководителем школы после смерти Ликона, и Иероним Родосский, порвавший со школой, хотя и продолжавший считать себя перипатетиком, не вели никакой научной работы, занимаясь в основном писанием популярных сочинений на этические и историко-биографические темы. Это был период глубокого упадка одной из величайших философских школ античности. Из перипатетиков II в. заслуживает упоминания лишь Критолай из Фазелиса, вместе с академиком Карнеадом и стоиком Диогеном из Селевкии посетивший в 156 г. Рим. О Критолае известно, что он пытался возобновить в школе философские исследования, но не нашел в этом деле продолжателей.
Новый этап в истории перипатетической школы ознаменовался началом изучения философских рукописей Аристотеля, которые вместе с библиотекой Апелликона были вывезены Суллой в Рим после взятия им Афин в 86 г. Проживавшие в Риме греческий филолог Тираннион из Амизоса и перипатетик Андроник Родосский провели большую работу по прочтению и классификации попавшего в их ведение аристотелевского архива; именно им мы обязаны тем, что Corpus Aristotelicum (Свод Аристотеля) дошел до нас в том виде, в каком мы его знаем теперь. С тех пор основной задачей перипатетической школы становится комментирование этого свода, бывшего, по-видимому, итогом научной (и преподавательской) деятельности Аристотеля в Ликее. Наоборот, книги Аристотеля, изданные им при жизни и предназначенные для широкого распространения, постепенно постигает забвение (хотя еще Цицерон знал их и приводил из них цитаты).
Крупнейшим комментатором Аристотеля был перипатетик конца II — начала III в. н. э. Александр Афродисийский, который, помимо этих комментариев, написал также несколько собственных сочинений, из которых до нас дошли «О судьбе» и «О душе». В дальнейшем комментированием Аристотеля начинают заниматься неоплатоники, и в этот период перипатетическая школа постепенно сливается с неоплатонической.
Эпикурейцы
Из трех важнейших философских школ, возникших уже в эпоху эллинизма, мы рассмотрим сначала эпикурейскую. Эпикур (342/1 — 270 гг.) был сыном афинянина Неокла, имевшего клерухию на острове Самос. Восемнадцати лет от роду он встретился с Навсифаном, сторонником атомистической доктрины Демокрита, и в результате общения с ним принял основные положения атомистики. Большое влияние на Эпикура (главным образом в части этики) оказало также учение основателя скептической школы Пиррона. Выработав собственную философскую систему, Эпикур в течение нескольких лет преподавал в Лампсаке и Митилене, а затем в 306 г. перенес свою школу в Афины, где жил со своими учениками в «саду» (το κήπος), который и после его смерти продолжал оставаться основным местопребыванием школы.
Эпикур делил философию на три части: канонику, физику и этику. Логику и диалектику он отвергал, считая их науками бесполезными: согласно его убеждению, для того чтобы верно мыслить, достаточно правильно пользоваться словами, обозначающими соответствующие предметы.
Каноника была изложена в сочинении «Канон», в котором содержалось общее введение в философию и формировались критерии истины (κριτήρια της αληϑείας). Поскольку, однако, каноника Эпикура неразрывно связана с его физикой (не случайно Диоген Лаэртий писал, что «обычно каноника рассматривается вместе с физикой»), мы рассмотрим сначала его физические воззрения.
Физика Эпикура была изложена в большом трактате «О природе», включавшем 37 книг. Трактат этот до нас не дошел (как, впрочем, и большинство других сочинений Эпикура), однако основные идеи эпикурейской физики изложены в его письмах и Геродоту и Пифоклу, дословно приведенных Диогеном Лаэртием, а кроме того, достаточно точно воспроизведены в поэме Лукреция Кара «О природе вещей».
В основе физики Эпикура лежит атомистика Левкиппа — Демокрита. Сам Эпикур, однако, отрицал свою зависимость от Демокрита, а существование Левкиппа вообще ставил под сомнение[190]. Как бы мы ни относились к этим заявлениям Эпикура, несомненно, во всяком случае, что его атомистическое учение в некоторых важных пунктах существенно отличается от демокритовского. Считая, что основные положения философии Демокрита хорошо известны читателям, мы обратим особое внимание на те коррективы, которые внес в эту философию Эпикур.
Так, например, если Демокрит считал пространство бесконечным и изотропным, т. е. обладающим одинаковыми свойствами во всех направлениях, то Эпикур, признавая бесконечность пространства, допускал его анизотропию в вертикальном направлении. Эта анизотропия проявляется в том, что атомы, являющиеся мельчайшими структурными единицами вещей, обладают, помимо величины и фигуры, также тяжестью, которая заставляет их стремиться в определенном направлении, а именно сверху вниз. Тяжесть атомов может быть различной, ибо она зависит от величины атомов (точнее, от их объема), но скорость, с которой атомы падают вниз, от их тяжести не зависит: все они летят вниз с одной и той же скоростью (объяснение этого на первый взгляд загадочного феномена будет дано ниже). Таким образом, эпикуровский образ Вселенной — это безграничный поток бесчисленного множества атомов, несущихся сверху вниз в бездонную бездну пространства. Эта картина совсем не похожа на демокритовскую, в которой атомы движутся беспорядочно во все стороны, наподобие пылинок, пляшущих в солнечном луче: атомы Демокрита непрерывно сталкиваются, разлетаясь или сцепляясь друг с другом, причем во втором случае они могут захватывать новые и новые атомы, образуя по воле случая вихреобразные скопления, из которых зарождаются бесчисленные миры, кружащиеся, подобно волчкам, в бесконечном пространстве. Нага мир есть не более как один из этих волчков, оказавшийся — также по воле случая — населенным живыми существами. У Эпикура случай проявляет себя иначе. Летящие вниз атомы обладают свойством без всякой причины, спонтанпо, отклоняться от строго вертикального падения. Это отклонение (по-гречески παρέγκλισις; более известен, однако, латинский перевод этого термина — clinamon) бывает ничтожно малым; тем не менее в процессе длительного падения атомов оно может привести к столкновениям отклоняющихся атомов с другими. Подобные столкновения приводят как к отталкиванию атомов друг от друга, так и к их сцеплению. Будучи охвачены сцепленными частицами, отклонившиеся атомы начнут колебаться в разовые стороны, не прекращая, впрочем, своего падения вниз. Сцепление большого числа атомов приведет к тому же результату, что и у Демокрита, а именно к образованию вихрей, из которых затем возникнут миры. Разница по сравнению с Демокритом состоит лишь в том, что эпикуровские миры продолжают падать вниз с той же скоростью, что и отдельные атомы; мы участвуем в этом движении и потому не замечаем его.
Эпикуровская идея спонтанного отклонения атомов от прямолинейного падения привлекала к себе внимание как древних мыслителей, так и ученых нового времени. В большинстве случаев она встречала по отношению к. себе резко отрицательную реакцию. Еще Цицерон писал по этому поводу, что нет ничего более позорного для физика, чем утверждать, что нечто совершается без при чины: ait enim declinare atomum sine causa; quo nihil turpius physico quam fieri quisquam sine causa dicere[322]. А вот как выразится по этому поводу известный историк философии XIX в. Эд. Целлер: «Его учение об уклонении атомов стоит в полном противоречии со строго механическим взглядом атомизма на природу»[323].
Высказывание Целлера отражает предрассудки, которые были присущи науке XVIII–XIX вв. Действительно, откуда следует, что атомизму должен быть присущ «строго механический взгляд на природу»? Это, по-видимому, хорошо понимал К. Маркс, который в своей диссертации «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» решительно принял сторону Эпикура. В наше время соображения молодого Маркса могут показаться схоластическими. И все же они свидетельствуют о его поразительной проницательности: напомним, что физика XX столетия, сформулировавшая соотношения неопределенности Гейзенберга, решительно отказалась от механического детерминизма в области микромира, — того самого детерминизма, который казался Целлеру неотъемлемой принадлежностью атомистики. Разумеется, сходство между «отклонениями» Эпикура и закономерностями квантовой механики имеет характер чисто внешней аналогии. Любопытно, однако, что и в том и в другом случае отказ от детерминизма на атомном уровне использовался для обоснования человеческой свободы воли. Для Эпикура это был, по-видимому, основной стимул, побудивший его допустить спонтанное отклонение атомов. В современной науке связь между соотношениями неопределенности и фактами человеческого сознания остается пока что не более чем гипотезой[324].
Перечислим еще некоторые отличия эпикурейской атомистики от демокритовской. Атомы Демокрита бесконечно разнообразны как по форме, так и по величине. Имеются свидетельства, что Демокрит допускал возможность существования огромных атомов, по своим масштабам сравнимых с космосом, в котором мы живем[325]. Представление о таких атомах, к тому же не воспринимаемых нашими органами чувств (ибо, согласно теории ощущений Демокрита, наши органы чувств могут воспринимать только большие совокупности атомов), содержало в себе нечто жутко-апокалиптическое — в особенности же при мысли о возможных последствиях столкновения такого атома с нашим миром. Эпикур не допускал таких страшных картин: его атомы всегда малы и именно поэтому недоступны для восприятия. Что же касается разнообразия атомов по виду (т. е. по форме), то оно, согласно Эпикуру, необъятно (άπεριλέπτον), но все же конечно. С другой стороны, число атомов каждого вида бесконечно велико (άπειρον); действительно, если бы оно было конечным, то атомы оказались бы рассеянными по всему безграничному пространству и ни один мир не мог бы возникнуть.
Подобно тому как атомы не могут быть сколь угодно велики, они при всей их миниатюрности не могут быть и сколь угодно малыми. Есть нижний предел для величины физических тел, причем наименьшие атомы уже не состоят из частей и потому не могут быть подвергнуты даже умозрительному делению. Эти минимальные атомы получили в доксографической литературе наименование «амеров» (τά άμερη), т. е. не имеющих частей[71]. Обычные атомы, обладающие более или менее сложной формой, состоят из нескольких или многих амеров, и хотя физически они — как и все вообще атомы — неделимы, они могут быть подвергнуты мысленному разделению на минимальные частицы — амеры.
Частицам наименьшей величины соответствуют и наименьшие мыслимые промежутки пространства. Таким образом, пространство Эпикура оказывается как бы квантованным. Квант пространства уже не может быть разделен на более мелкие длины, потому что это неизбежно повлекло бы за собой допущение частиц меньших, чем амеры. Аналогичным образом время также состоит из наименьших длительностей, своего рода квантов времени; Движущиеся атомы всегда проходят один квант пространства за один квант времени, откуда следует, что они движутся всегда с одной и той же скоростью. Элементарное рассуждение показывает, что из допущения иных скоростей неизбежно последует признание интервалов пространства (или соответственно времени), которые будут меньше наименьших, что, разумеется, абсурдно.
Мы видим, что физика Эпикура существенно отличается от физики Демокрита в ряде пунктов. Можно признать, что предпосылки к некоторым из перечисленных выше положений Эпикура уже содержались в скрытом виде в атомистике Левкиппа — Демокрита, но приписывать их четкую формулировку Демокриту (как это делает С. Я. Лурье в отношении амеров[72]) мы все же не имеем никакого права.
Следующим предметом нашего рассмотрения будет теория ощущений Эпикура, т. е., по сути дела, его гносеология. Физический механизм возникновения ощущений у Эпикура не отличается от демокритовского. Оба философа принимают гипотезу об «истечениях», подобно тончайшим атомным пленкам непрерывно отделяющихся от предметов и с громадной скоростью распространяющихся в пустоте (остается неясным, в каком отношении эта скорость находится к скорости движения атомов в пустоте). Эпикур называет эти пленки «образами» (είδολα), ибо они действительно сохраняют вид или образ исходного пред-мота и, попадая в наши органы чувств, вызывают в них соответствующий отпечаток (оттиск), Эти отпечатки еще не тождественны самим чувственным восприятиям, поскольку органы чувств представляют собой лишь промежуточную инстанцию между образами вещей и душой. Сами же восприятия возникают в душе.
Между теориями истечений Демокрита и Эпикура существует, впрочем, следующее различие. Согласно Демокриту, атомы могут обладать только величиной и формой, прочие же качества, которые в философии нового времени получили наименование вторичных (цвет, звук, вкус, запах, теплота и т. д.), не присущи предметам самим по себе, а возникают в процессе восприятия в нашей душе. Эпикур с этим не согласен. Он признает, что отдельные атомы могут обладать только величиной и формой (да еще тяжестью, которая у Демокрита не является изначальным свойством атомов). Но он не согласен с Демокритом в том, что перечисленные выше вторичные качества носят субъективный характер. Эти качества не суть свойства отдельных атомов, но они присущи предметам, состоящим из многих атомов. Предмет становится красным, черным или белым в зависимости от расположения образующих его атомов. Таким образом, вторичные свойства суть свойства коллективов атомов — точка зрения, в известной мере согласующаяся с представлениями современной нам физики.
Эпикур понимает, что признание объективности вторичных качеств еще не гарантирует полной адекватности «образа» и предмета, от которого он отделялся. Так, например, на пути распространения истечений могут встретиться посторонние атомы, которые исказят образ предмета. Чтобы избежать ошибок, возникающих в аналогичных случаях, требуется подтверждать данное восприятие последующими восприятиями или производить проверку, сравнивая его с восприятиями того же предмета, возникающими в душах других людей. Но все возможности погрешностей относятся лишь к первому этапу процесса восприятия, — этапу, на котором отделяющиеся от предметов истечения несутся через пространство и достигают органов чувств. На втором же этапе, на котором оттиски, отпечатавшиеся в органах чувств, передаются душе, какие-либо ошибки, по мнению Эпикура, уже невозможны. Если в нашей душе и возникают порой ошибки и противоречия, то они порождаются не процессом восприятия, а мышлением. Восприятие же не мыслит, не предполагает, ничего не убавляет и не прибавляет, а только испытывает воздействие со стороны органов чувств.
Эпикур приводит еще следующий аргумент в пользу тезиса об истинности восприятий (т. е. об их полном соответствии оттискам, отпечатавшимся в органах чувств). Если бы хоть одно из восприятий оказалось лживым, то у нас но было бы оснований считать истинными и все прочие восприятия. Ведь все они возникают совершенно одинаково и отличаются только своими объектами. Допустив ошибочность хотя бы одного восприятия, мы ставим под сомнение весь наш чувственный опыт в целом. Итогда чувственные восприятия перестанут быть критерием нашего знания. Однако другого критерия у нас нет. Отказавшись от этого критерия, мы неизбежно придем к скептицизму.
Наряду с восприятиями внешних предметов (αΐσϑήσις) Эпикур в своей теории познания вводит еще следующие понятия:
Во-первых, это восприятия внутренних чувств (παϑή), прежде всего удовольствия (наслаждения) и неудовольствия (боли). Как и внешние восприятия, они также пассивны и столь же непогрешимы. Если внешние восприятия являются критерием нашего знания, то внутренние восприятия определяют наши желания и действия.
Во-вторых, это «предвосхищения» (προλήψεις) или восприятия родовых понятий. Они ни в коем случае не присущи нашей душе от рождения (врожденные понятия категорически отрицаются Эпикуром), но образуются на основе многочисленных единичных восприятий и потому, как и те, непогрешимы. В процессе какого-либо исследования или в ходе наших рассуждений предвосхищения существуют в качестве необходимых предпосылок. Нет смысла выводить их каждый раз из единичных восприятий или как-либо определять их — достаточно просто назвать их, и тогда в душе слушателей (собеседников) возникнут соответствующие образы. Вводя эти предвосхищения, Эпикур не нарушает своего принципа последовательного сенсуализма.
В третьих, это «образные броски мысли» (φανταστικαί έπιβολαί της διανοίας) — наиболее неясное из понятий эпикуровской теории познания. В отличие от пассивных восприятий, это активное схватывание образа предмета. Природа этой активности в дошедших до нас текстах, к сожалению, не поясняется.
Как уже было отмечено, ложность любого единичного восприятия подрывает критерий истины эпикуровской теории познания. Здесь нет никаких исключений. Даже галлюцинации душевнобольных и сновидения спящих трактуются Эпикуром как восприятия реальных предметов, только в этих случаях образы предметов попадают не в органы чувств, а проникают сквозь поры тела непосредственно в душу человека. Боги также являются людям в сновидениях — и это обстоятельство служит очевидным свидетельством их существования, по мнению Эпикура. Вера в богов присуща всем людям и подтверждается массой единичных восприятий; она так же достоверна, как и любые другие предвосхищения. Но в большинстве случаев люди имеют о богах самые превратные представления. Богам приписываются гнев и другие страсти; богов боятся, потому что они якобы правят миром и вмешиваются в людские дела, наказывая за дурные поступки и посылая всевозможные пророчества и знамения. По мнению Эпикура, все это нелепые вымыслы и предрассудки. Боги — существа бессмертные и блаженные; они имеют человеческий облик, но в то же время они далеки от земных страстей и забот. Все, происходящее с людьми, их нисколько не касается. Их нельзя также представлять себе творцами и правителями мира, потому что это обременило бы их трудами, которых они чуждаются. Ведя безмятежное и беспечальное существование, боги ничем не угрожают людям. По этим причинам страх перед богами, равно как и вера в предсказания и пророческие сны, отвергается Эпикуром как вреднейшее суеверие, разрушающее спокойствие духа человека. Учение о богах относится к числу характернейших страниц учения Эпикура.
В философском плане Эпикур сделал очень важный шаг вперед по сравнению с Демокритом: он выдвинул на первый план проблему критерия истины. Это соответствовало духу эпохи эллинизма. Проблема критерия истины находилась в центре внимания практически всех философских школ того времени. Данное Эпикуром решение этой проблемы выдержано, казалось бы, в духе последовательного сенсуализма. По этот сенсуализм имел под собой чисто спекулятивную натурфилософскую основу-атомистическую физику. Признание атомов началами всего сущего — началами, которые принципиально ни при каких условиях не могут быть восприняты нашими Органами чувств, — находится в явном противоречии с сенсуализмом. Философию Эпикура следует поэтому рассматривать как своеобразный гибрид досократовской демокритовской) натурфилософии и теоретико-познавательного сенсуализма. Эта гибридность философии Эпикура выявляется особенно отчетливо, когда наш философ пытается трактовать явления физического мира в духе своей гносеологии. Он, в частности, утверждает, что «величина Солнца и других светил для нас такова, какова кажется, сама же по себе она или больше видимой, или немного меньше, или равна ей»[73]. Это утверждение должно было казаться нелепым нетолько современным Эпикуру астрономам, но даже таким досократикам, как Левкипп и Анаксагор (лишь у Гераклита мы найдем сходные высказывания, но не забудем, что, во-первых, Гераклит жил на 200 лет раньте Эпикура и, во-вторых, не претендовал на то, чтобы считаться ученым). Еще удивительнее то, что эпикуровские высказывания о величине небесных светил были повторены Лукрецием Каром в его поэме, написанной в первом веке, как если бы до этого не было оценок размеров Солнца, производившихся Аристархом, Гиппархом и Посидонием.
До сих пор, излагая воззрения Эпикура, мы неодно кратно употребляли термин «душа». Как же представлял себе душу Эпикур и чем она у него отличалась от тела? Вслед за Демокритом Эпикур полагал, что душа состоит из многих атомов, распределенных по всему телу, но тем не менее образующих некое единство. Атомы души отличаются от всех прочих атомов только своей легкостью и подвижностью. Множественность функций живого организма объясняется тем, что сама душа имеет множественную структуру. Она состоит из четырех частей, различающихся степенями тонкости и подвижности составляющих эти части атомов, причем более тонкие части души содер-жатся в более грубых частях, подобно тому как вся душа в целом содержится в теле. Наиболее грубая часть души сходна с воздухом, она менее всего подвижна и является началом покоя. Следующая, более подвижная часть состоит из пневмы, это — начало движения души. Третья, огненная часть души обусловливает наличие теплоты в организме. Наконец, четвертая, самая тонкая субстанция не имеет аналога среди физических элементов и определяет душевную деятельность в узком смысле слова. Таким образом, учение о душе у Эпикура не совсем совпадает с демокритовским, будучи более сложным и разработанным (как мы знаем, у Демокрита все атомы души отождествлялись с атомами огня). Это различие, впрочем, не имеет принципиального характера; в своих основных чертах обе концепции имеют много общего. Как и у Демокрита, у Эпикура душа сдерживается телом, играющим роль своего рода оболочки, за пределы которой атомы души не могут проникнуть. Оба мыслителя согласны в том, что наличие такой связи между душой и телом является необходимым условием жизни организма. В случае разрушения телесной оболочки атомы души вырываются из нее и рассеиваются в пространстве; при этом единство души нарушается, а вместе с ним прекращаются все жизненные функции организма, в том числе восприятия и ощущения.
К учению о душе непосредственно примыкает этика Эпикура — центральный пункт и в то же время конечный итог всей его философии. Как указывает Диоген Лаэртий (X, 30), эпикуровская этика изложена в книгах «Об образе жизни» и «О конечной цели», а также в письмах, из которых до нас дошло «Письмо к Менекею». Этический характер имеют также «Главные мысли» (Κύριοι δόξαι), приводимые Диогеном в конце его книги об Эпикуре[74]. В основе эпикуровской этики лежит тезис о смертности души. Этому тезису, который вытекает из представления о душе как о совокупности атомов, Эпикур придавал очень большое значение. Вера в бессмертие души, по мнению Эпикура, является причиной страха смерти, а косвенным образом и всякого другого страха. Ибо страх смерти, это страх по преимуществу (κατ΄ έξοχήν). Из него проистекают страхи перед будущими страданиями, перед загробной жизнью и т. д. Наоборот, отрицание бессмертия души позволяет человеку избавиться от всех этих страхов. Водь если душа смертна, то смерть, считающаяся самым ужасным из всех зол, не имеет к нам никакого отношения. Как пишет Эпикур, «когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют»[75].
Задача философии — вести человека к счастью. Надо только понять, в чем состоит счастье. Понятие счастья неразрывно связано с понятием блага. Абсолютное счастье есть полное обладание всеми благами. Но такое абсолютное счастье достижимо только для вечных и совершенных существ — для богов. Человеческое счастье состоит в том, чтобы благо в его жизни перевешивало зло. Что же такое благо? Это то, к чему человек стремится ради него самого. А единственная вещь, к которой стремятся все живые существа ради нее самой, это наслаждение. Наслаждение есть истинное и высшее благо в той же степени, в какой боль есть истинное и высшее зло. Счастье, являющееся целью человеческой жизни, есть совокупность наслаждений, следующих одно за другим. Но мудрый человек будет стремиться не ко всякому наслаждению, а лишь к такому, которое не повлечет за собой неприятных последствий. С другой стороны, временную боль мы подчас предпочтем наслаждению, если за ней последует более сильное и длительное наслаждение. Следовательно, если всякое наслаждение есть благо, а всякая боль — зло, то все же не всякое наслаждение заслуживает немедленного предпочтения и не всякой боли следует безусловно избегать. Во всех случаях надо принимать обдуманное решение, соразмеряя полезное и неполезное, наслаждение и боль, благо и зло.
По этим причинам мудрый человек не будет стремиться к наслаждениям распутства или чувственности, к непрерывным попойкам и празднествам, а предпочтет им умеренную и простую жизнь, лишенную страстей и страданий. В этом случае он достигнет состояния покоя, которое заключается в отсутствии всего неприятного и дурного, ив первую очередь страха смерти. В этом Эпикур отличается от киренаиков, которые признавали только наслаждение в движении. Другое отличие Эпикура от Аристиппа состояло в том, что тот считал телесную боль наибольшим злом, Эпикур же полагал, что хуже всего душевная боль, «потому что тело мучится лишь бурями настоящего, а душа — и прошлого, и настоящего и будущего».
Стоики
Стоическая школа была, бесспорно, самой значительной философской школой эпохи эллинизма как по длительности своего влияния, так и по своим научным достижениям. Основателем школы был Зенон, родившийся в городе Китионе на острове Кипр то ли в 364, то ли в 336 г. (данные о времени его рождения сбивчивы и противоречивы, хотя вторая дата представляется значительно более правдоподобной). Учителями Зенона считаются киник Кратес, представитель мегарской школы Стильпон и академик Полемон. В самом конце IV в. Зенон начал преподавать в Афинах, причем школа его получила наименование по месту, где проходили занятия, — это была так называемая «Живописная стоя (колоннада)» (Ποικίλη στοά). Зенон руководил своей школой до своей смерти, последовавшей в 264/3 г., после чего во главе школы стал Клеанф из Асса (ум. в 232 г.). Наибольшего расцвета стоическая школа достигла под руководством Хрисиппа из киликийских Сол (с 232 по 204 г.). Хрисипп был исключительно плодотворным писателем (сообщая о числе его сочинений, Диоген Лаэртий называет цифру 705) и, несомненно, крупнейшим философом-стоиком эпохи эллинизма, внесшим существенный вклад как в логику, так и в физику стоицизма. Преемниками Хрисиппа были Диоген из Вавилона, Антипатр из Тарса и учитель Цицерона Панэтий Родосский. Последним значительным представителем греческого стоицизма был ученый-энциклопедист I в. Посидоний, родившийся в городе Апамея (Сирия), но большую часть своей жизни проведший на острове Родос. Под влиянием Панэтия и Посидония стоическое учение, главным образом в своих этических аспектах, получает широкую популярность в Риме, где его наиболее значительными адептами были Сенека и император Марк Аврелий.
Естественно, что на протяжении столь длительного времени философия стоицизма подверглась значительной трансформации и воздействиям со стороны других школ. Оставляя в стороне диахроническую сторону этого вопроса, мы рассмотрим основы стоического учения в том виде, в каком оно сложилось в эпоху Хрисиппа.
Согласно основоположникам стоицизма, философия распадается на три отдела: на логику, физику и этику.
В отличие от Аристотеля стоики полагали, что логика есть столь же самостоятельная наука, что и две прочие. Основным содержанием логики является словесное выражение нашего знания, т. е. логос. Составными частями логики являются риторика, грамматика и диалектика. Риторику мы оставим в стороне. Что касается грамматики, то здесь стоики достигли значительных успехов; в частности, они разработали принятую до настоящего времени классификацию падежей и глагольных времен. В сферу диалектики стоики включали теорию познания, изучение различных форм умозаключений и доказательств, выяснение формальных критериев истинности и ложности логических суждений. Не имея возможности останавливаться на всех этих вопросах, мы уделили особое внимание проблемам стоической теории познания.
Стоики проводят резкую грань между словесными знаками (звуками, слогами, словами, предложениями) и тем, что ими обозначается. Словесный знак есть звуковое образование, которое имеет смысл только в корреляции с обозначаемым. Обозначаемое же есть представление чего-то, что существует в реальной действительности, — будь то вещь со всеми ее качествами и свойствами, движение, отношение и т. д. Представление может образоваться лишь посредством чувственного восприятия — в этом отношении стоики вполне согласны с эпикурейцами, но в отличие от последних они не занимаются спекуляциями по поводу механизма образования чувственных восприятий (у эпикурейцев таким механизмом было отделение от предметов атомных истечений, попадающих в наши органы чувств), а принимают чувственные восприятия как очевидный факт действия предметов на нашу душу.
В какой мере мы можем доверять чувственным восприятиям, иначе говоря — в чем заключается их критерий истинности? Здесь они расходятся с эпикурейцами, отнюдь не считая истинными любые восприятия. Для стоиков не подлежит сомнению существование ложных восприятий (сюда относятся, в частности, сны и галлюцинации); весь вопрос состоит в том, как отделить их от истинных. Для того чтобы убедиться в адекватности восприятий породившим их объектам, требуется выполнение ряда условий. Прежде всего, должны быть нормальными ум человека, а также органы чувств, через которые в душу проникают восприятия. Надо проверить расстояние, на которое от нас удален воспринимаемый объект, а также учесть его расположение относительно соответствующего органа чувств. Надо убедиться в том, что акт восприятия длился достаточно долго, чтобы были схвачены все стороны объекта. Далее, надо проверить, не препятствует ли нашему восприятию среда, находящаяся между органом чувств и объектом; наконец, данное единичное восприятие должно быть подтверждено последующими восприятиями, как нашими, так и чужими.
Если такая всесторонняя проверка будет произведена и результатом ее явится полное соответствие представления, возникшего в нашей душе, самому предмету, то такое представление стоики называли каталептическим (καταληπτική φαντασία). Когда наш разум дает согласие (αογκατάθεσις) на какое-то восприятие, возникает адекватное суждение восприятия, каталепсис (κατάληφις). Каталептическое восприятие само собой вызывает наше согласие. Этим и определяется свойство, делающее его истинным. Таков, согласно учению стоиков, критерий истинности чувственных представлений.
Наше мышление — в суждениях, умозаключениях и т. д. — имеет дело не с единичными чувственными восприятиями, а с понятиями. Все понятия имеют эмпирический характер, т. е. возникают в результате нашего опыта. Будучи последовательными сенсуалистами, стоики категорически отвергали наличие в душе человека врожденных понятий. Когда человек рождается, его душа подобна чистой восковой табличке (этот наглядный образ — tabula rasa — был впоследствии [использован Локком). Чувственные восприятия заполняют эту табличку отпечатками воспринятых предметов. Общее в содержании восприятия одного и того же объекта приводит к образованию понятия этого объекта.
Стоики различали два вида понятий. Во-первых, «предвосхищения» (προλήψεις — термин, употреблявшийся также эпикурейцами) или, иначе говоря, общие понятия (κοινάί έννοιαι). Эти общие понятия образуются естественным путем у всех людей на основании сходного опыта. Во-вторых, сознательно конструируемые понятия. Только естественные общие понятия являются безошибочными. Человек, сознательно конструирующий понятия, может образовать понятия кентавров, великанов и других, реально не существующих объектов.
Будучи словесно выраженным, понятие становится предметом высказывания (λεκτόν). Концепцию «лектон» следует признать вполне оригинальным вкладом стоиков в логику, не имеющим аналогов в других философских учениях древности. Своеобразие этой концепции состояло в том, что стоики считали предмет высказывания — лек тон — нетелесным. На первый взгляд может показаться странным, каким образом могут быть нетелесными такие предметы высказываний, как камень, дерево, лошадь и т. д. На самом же деле все это не так просто. Утверждение нетелесности лектона показывает, что стоики очень тонко различали реальный предмет, являющийся объектом нашего восприятия и не зависящий от нашего сознания, и словесно выраженное представление об этом предмете. Этим самым им удалось избежать ошибок, присущих всем вульгарноматериалистическим воззрениям вплоть до нашего времени. Об этом можно было бы написать очень много, но мы ограничимся приведением цитаты из статьи о стоиках А. Ф. Лосева, где на одном (правда, несколько модернизованном) примере очень хорошо разъясняется суть вопроса.
«Можно ли, например, сказать, что своими глазами или ушами мы воспринимаем какие-то колебания той или иной среды? Вовсе нет. Музыкант, несомненно, приводит в движение воздушную среду и образует определенного рода воздушные волны, которые вполне телесны и являются физической основой музыки. Однако, слушая музыку, мы слышим вовсе не какие-нибудь физические колебания воздушной среды, которые вполне телесны, но музыку, которая, очевидно, нетелесна. Иначе музыку могли бы слышать только одни физики, да и те, слушая музыку, вовсе не воспринимают соответствующие воздушные колебания, хотя эти последние и являются единственной физической основой музыки. Вот то же самое и стоики говорят о своем нетелесном λεκτόν и утверждают, что предмет высказывания, взятый сам по себе, ничего телесного в себе не содержит, хотя физика и акустика и являются для него единственной физической основой»[76].
Из сказанного следует, что в исследовании теоретико-познавательной проблематики стоики ушли вперед по сравнению с Платоном или Аристотелем.
Аристотелевское учение о категориях было существенным образом преобразовано стоиками. По их убеждению, категории могут относиться только к телам, ибо тело есть единственный род бытия. Такие понятия, как пространство, пустота, время (а также лектоны), бестелесны и потому не относятся к сфере бытия. Четыре категории, фигурирующие в логическом учении стоиков, это не различные формы бытия, а лишь различные точки зрения на тело, проявляющиеся в человеческой речи. Первая категория — это субстанция или подлежащее (τό ύποκείμενον), когда тело мыслится как нечто, противопоставленное всем своим свойствам. Вторая категория — существенное свойство (ποιόν), когда тело определяется этим свойством (например, в понятии «мудрец»). Третья категория (πως έχον) указывает на состояние тела, например, находится ли оно в покое или в движении и т. д. Четвертая категория (προς τι πως ξχον) характеризует отношение, в котором данное тело находится к другим телам. Таким образом, категории у стоиков имеют менее формальный характер, чем у Аристотеля: с одной стороны, они гораздо онтологичнее, с другой же — они значительно теснее связаны со словесным выражением, т. е. с логосом.
В дальнейшем, на протяжении всей античности, логика стоиков существовала и изучалась наравне с аристотелевской логикой.
Физические воззрения стоиков обладают большим своеобразием. Стоики полагали, что существует один-единственный космос: он имеет сферическую форму и окружен бесконечным пустым пространством (т. е. беспредельным небытием). Космос — живое, разумное существо, совершающее циклический путь своего развития. Он рождается из первичного огня (здесь стоики соприкасаются с Гераклитом, от которого они заимствовали целый ряд идей) и в процессе своей эволюции проходит стадии, когда в нем развертывается все многообразие сущего, а затем вновь разрешается в стихию огня в результате всеобщего воспламенения (έκπύρωσις). Этот процесс бесконечно повторяется, он необходим и закономерен. Будучи одушевленным, космос обладает статусом божества, но в отличие от аристотелевского перводвигателя космическая душа стоиков не противопоставляется космосу как материальному телу, а составляет его имманентную сущность. В этом смысле стоическое учение о божестве можно определить как пантеизм.
Закономерности развития космоса — это закономерности первичного огня, его логос (как и у Гераклита, термин «логос» имеет у стоиков многозначный характер). В ходе своих трансформаций мировой огонь превращается в три прочих элемента — в воздух, в воду и в землю, которые наряду с огнем характеризуются четырьмя основными качествами — теплотой, холодом, сухостью и влажностью. Четыре элемента распадаются на две неравноправные пары: высшая пара — огонь и воздух — противопоставляется низшей — воде и земле, отличаясь от последней своей активностью и способностью к формообразованию.
Вступая в связь друг с другом, огонь и воздух образуют пневму (πνεδμα — термин, который можно лишь условно и очень неточно перевести словосочетанием «теплое дыхание»). Именно пневме стоики приписывали функции мировой души. Будучи первоначально сосредоточенной в небесных сферах, пневма распространяется по всему космосу, придавая вещам форму и давая им жизнь. Все свойства вещей считаются материальными и представляют собой различные модификации пневмы. «Проникая» какое-либо тело, пневма сообщает ему его основные свойства (έξις), которыми определяется единство данного тела и его форма. Пневма живого существа есть не что иное, как его душа. Души, следовательно, материальны, причем они различаются своими степенями или градациями. На высшей ступени лестницы находится мировая душа (бог), состоящая из тончайшей и чистейшей пневмы. Затем идут души людей, отличительным признаком которых служит разум, причем степень разумности того или иного человека определяется тонкостью и чистотой пневмы, образующей его душу. Души животных состоят из более грубой пневмы. Пневма, или душа, растений — это их φύσις, а в мире неорганической природы, как уже было сказано, — εξις.
Говоря о том, что пневма «проникает» тело, стоики имели в виду совсем не то, что она заполняет пустые промежутки или поры между частицами этого тела. Таких пор, по их мнению, в телах вообще быть не может (поэтому поводу они горячо полемизировали с атомистами). Взаимопроникновение пневмы и тела имеет своеобразный характер: пневма непрерывна и заполняет все пространство, в том числе и те его точки, которые представляются занятыми телами. Стоики поясняли эту идею на примере куска раскаленного железа. И железо, и «проникающий» его огонь (синоним теплоты) занимают один и тот же объем, причем оба они сохраняют при этом свои основные свойства. А если возможно полное взаимопроникновение двух тел, то оно же возможно и для большего их числа. Этим решается проблема единства вещи и множественности ее свойств. Каждое из этих свойств, есть тоже своего рода пневма; совокупность всех пневм, проникающих данное тело, сообщает ему полную определенность.
Следует ли считать изложенную концепцию совершенно беспрецедентной в греческой философии? Нет. Сошлемся на представления Анаксагора, у которого взаимоотношение «семян» и основных качеств (теплоты, холода и т. д.) имело, по-видимому, характер аналогичного взаимопроникновения[77].
Было бы совершенно превратно, представлять себе пневму как некое подобие газа или пара. Прежде всего, пневме присуща активность и способность к непрестанному движению. В масштабе космоса происходит безостановочное перемещение пневмы от периферии к центру и обратно, от центра к периферии. Аналогичные перемещения происходят и в отдельных телах. Они приводят к тому, что пневма находится как бы в состоянии постоянного напряжения. Это напряжение (или натяжение) стоики обозначали термином «тонос» (τόνος). Тонос — одно из важнейших понятий стоической физики. Тоническим натяжением обеспечивается единство космоса в целом. В каждой отдельной вещи стремление пневмы от центра вещи к ее периферии обусловливает размеры вещи и ее форму. Обратное движение пневмы к центру оказывается фактором, обеспечивающим единство вещи и связанность ее частей. В отсутствие пневмы все вещи распались бы и в мире воцарился бы хаос — нечто вроде πάντα δμοδ Анаксагора. Пневма как бы сдерживает или склеивает вещь, придавая ей определенное качество (отсюда и термин έξις, обозначающий основное свойство и в то же время происходящий от глагола έχω — держу). В живых организмах пневма тождественна с душой, поэтому то, что было сказано выше о тонкости и грубости души, полностью относится и к пневме. В то же время пневма есть логос вещи, т. е. закон ее существования и развития. Вообще для философии стоиков характерна взаимозаменяемость важнейших понятий: первичный огонь, логос, мировая душа, пневма — все это обозначения различных аспектов единого мирового процесса. С учением о пневме тесно связаны представления стоиков о причинности и судьбе. Эволюция космоса мыслилась ими как единый и взаимосвязанный во всех своих деталях поток событий. Все, что происходит в мире, происходит по какой-либо причине. При этом активным, причинным фактором стоики считали пневму, а пассивными — тела, состоящие из тяжелых элементов. Причинно обусловленные процессы представляют собой ряды событий, в которые включены не только физические, но и психические явления. Источник и первопричина всех этих процессов — космический первоогонь. Из первоогня, следуя всеобщему логосу, с необходимостью образуется мир, распадающийся на бесчисленное множество причинно обусловленных цепочек, которые лишь по видимости представляются независимыми друг от друга. Эта независимость мнимая, поскольку все они суть разветвления единого мирового процесса. И когда космос будет снова охвачен мировым пожаром, знаменующим собой конец одного и начало следующего цикла развития, эти цепочки вновь сольются в едином первоогне, давшем им начало. Всеобщую и необходимую связь всего происходящего в мире стоики называли судьбой или роком (ειμαρμένη).
Судьба стоиков имеет мало общего с необходимостью в атомистике Левкиппа — Демокрита. Космический первоогонь — это не слепая неразумная сила, а творческий огонь (πϋρ τεχνικόν), изливающийся в мир и оплодотворяющий его идеями-логосами (σπερματικοί, λόγοι). Первоогонь действует не только как исходная материальная причина, но и как разум, как духовное целеполагающее начало. Поэтому стоики наряду с судьбой признавали наличие в мире благотворного провидения (πρόνοια). Всё в мире причинно обусловлено, и в то же время всё, что в нем совершается, направлено к благой, прекрасной и разумной цели. Таким образом, стоическое учение о причинности обладает двумя аспектами: с одной стороны, безысходно-фаталистическим (ибо все в мире идет к одному и тому же концу — к мировому пожару), с другой же — провиденциально-телеологическим.
Причинность и взаимообусловленность всех явлений в едином мировом процессе, естественно, соприкасаются с проблемой свободы воли. Можем ли мы считать человека свободным в его решениях и действиях, если все его помыслы и поступки включены в причинную цепочку событий, из которых ни одно не может считаться произвольным? Решение этой проблемы стоиками было одновременно и оригинальным и глубоким. Очевидно, что понятие свободы воли имеет смысл только для живых существ, руководствующихся в своем поведении не только внешними импульсами, но и внутренними побуждениями. Нельзя говорить о свободе воли в мире неорганических тел, где движение и изменение состояния каждого предмета полностью определяются воздействием на него внешних факторов. Растения имеют начало движения в самих себе, но и у них не может быть речи о каких-либо проявлениях свободы воли, ибо их развитие (рост, цветение и т. д.) целиком зависит от поступающего извне питания, которое перерабатывается соответственно природе каждого растения. У животных мы уже находим душу, обусловливающую появление внутренних влечений и побуждений. Но эти влечения не произвольны: они вызваны теми или иными представлениями и имеют своим результатом определенные действия, также в соответствии с природой данного животного. Поэтому имеющаяся у животного возможность выбора на самом деле является мнимой.
Человек отличается от прочих живых существ тем, что у него есть разум. Будучи разумным существом и размышляя о последствиях своих поступков, он может не согласиться с возникшим в его душе представлением и не обязательно последует зову влечения. В основе разумного человеческого акта лежит суждение о том, как следует поступать в каждом конкретном случае. В этом смысле можно говорить о наличии у человека свободы воли. Но фактически она реализуется только у мудрых людей, которые подчиняют свои действия голосу разума. Разум указывает человеку, как надо вести себя, чтобы его поступки соответствовали всеобщему логосу. Следуя указаниям разума, мудрец сознательно включается в необходимость мирового процесса. На этой высшей стадии духовного развития свобода воли и необходимость оказываются тождественными. Можно, по-видимому, утверждать, что именно стоики были первой философской школой, уяснившей известный тезис, что свобода есть осознанная необходимость.
Переходим к этике. Перечисляя основные проблемы этической философии стоиков, Диоген Лаэртий называет в качестве первого пункта первичное влечение (πρώτη ορμή). Понятие первичного влечения фигурировало также в философии Эпикура, который утверждал, что первичное влечение направлено на получение наслаждения и устранение всякого страдания. Стоики были решительно не согласны с такой точкой зрения. По их убеждению, пер вичное влечение любого живого существа, в том числе и человека, имеет своей главной целью самосохранение данного существа, точнее говоря, сохранение того состояния, которое в наибольшей степени соответствует его природе. Любое живое существо счастливо, когда оно находится в споем природном состоянии: животные резвятся, растения цветут и т. д. Природное состояние человека — это состояние, когда он здоров, силен, красив, когда он чувствует себя в расцвете своих физических и духовных сил. Следуя своему первичному влечению. человек стремится сохранить это состояние.
Сказанным, однако, первичное влечение не исчерпывается. Оно означает стремление не только к самосохранению данного индивидуума, но и к размножению, к сохранению своего потомства. Всем живым существам, а человеку в особенности, присуща любовь к своим детям. В этой любви проявляется первичное влечение к сохранению потомства.
У животных первичное влечение остается неосознанным — инстинктивным. Человек же, как уже было сказано выше, обладает еще и разумом. Поэтому он может прийти к сознательному уяснению того, что соответствует его природе и что пет, почему ему следует поступать именно так, а не иначе. С этого уяснения начинается развитие логоса в душе человека. Этот логос, который, посути дела, совпадает с всеобщим логосом, составляет внутреннюю сущность человеческой природы, усовершенствование которой становится важнейшей задачей человека. По отношению к природному влечению разум оказывается как бы мастером (τεχνίτης), направляющим его в надлежащую сторону. Поэтому жизнь в соответствии с природой тождественна для человека жизни в соответствии с разумом. Господство разума во всех побуждениях, помыслах, поступках становится высшей целью человеческого существования. Достижение такого господства именуется мудростью (φρόνησις).
К представлению о высшей цели примыкает стоическое учение о добродетельных действиях и добродетелях. Добродетельными действиями назывались действия, проистекающие из разумных решений и согласующиеся с природой как человека, так и космоса в целом. Вообще говоря, стоики различали три вида действий: действия добродетельные (κατορθώματα), действия неверные, или ошибочные (αμαρτήματα), и действия промежуточные, или «надле-жащие» (μέαα καθήκοντα). Последние свойственны большинству людей, они обычпо согласуются с природой человека, но, поскольку у них отсутствует разумная осознанность, их нельзя считать добродетельными в собственном смысле слова. Добродетельные действия могут по внешности не отличаться от «надлежащих» действий; различия между теми и другими имеют не внешний, а внутренний характер, поскольку добродетельные действия проистекают из правильного образа мыслей, который не всегда бывает очевиден. Строго говоря, добродетельные действия присущи лишь людям, обладающим добродетелью, т. е. мудрецам.
Что же такое добродетель сама по себе? Исходя из определения добродетельных действий, мы ужо можем сказать, что добродетель ость свойство души, состоящее в осознанной согласованности помыслов и поступков с природой человека и космоса в целом. Это свойство никому не присуще от рождения: оно приобретается на основе теоретических и практических упражнений под руководством разума (в качестве представителя которого может выступать учитель). Руководители стоической школы по-разному классифицировали добродетели, но в основном они исходили из традиционного представления о четырех основных добродетелях: рассудительности, умеренности, справедливости и мужестве. Этим четырем добродетелям противостоят четыре главных порока: неразумие, невоздержанность, несправедливость и трусость. От пороков можно освободиться только путем приобретения соответствующих добродетелей с помощью длительных упражнений.
Отдельный раздел стоической этики составляет учение о благе и зле. Благом (иначе говоря — хорошим) будет все то, что способствует достижению высшей цели человеческой жизни — разумной согласованности с природой человека и космоса, злом же (дурным) — то, что противоречит этой цели. Но наряду с хорошими и дурными существуют вещи, которые занимают как бы нейтральное, промежуточное положение, хотя они могут казаться в одних случаях хорошими, а в других — дурными. К ним относятся, например, с одной стороны, богатство, слава, здоровье, сила, а с другой — бедность, изгнание, болезнь, немощь. Эти вещи не находятся в нашей власти: они результат внешних обстоятельств, лишь в малой степени определяемых нашей волей. В качестве природных существ мы зависим от них, и они могут вызывать у нас чувства наслаждения или страдания. Но, с точки зрения мудрых людей, к ним следует относиться безразлично. Ведь они не могут повлиять на нашу внутреннюю сущность, на логос, в котором мудрец находит высшее и наиболее полное удовлетворение.
Надо еще сказать об отношении стоиков к страстям. Страсти определялись ими как единичные, неразумные и не согласованные с природой движения души. Вред Страстей для человеческой души едва ли может быть переоценен: страсти следует считать главным злом, препятствующим людям жить счастливо, т. е. находиться в постоянном и осознанном соответствии с природой. Существует четыре главные страсти — это скорбь, страх, вожделение и наслаждение. В свою очередь, каждая из этих страстей делится на более узкие виды, детально исследовавшиеся стоиками. Многие возникшие при этом вопросы решались различными представителями школы по-разному; одним из таких вопросов было отношение страстей к заблуждениям, а именно; следует ли считать страсть следствием заблуждения (ложного суждения), или, наоборот, заблуждение — возникающим под воздействием страстей. Мы не будем останавливать внимание читателей на этих деталях. Длительные страсти приводят к привычным душевным состояниям, которые нельзя назвать иначе как душевными болезнями. В качестве примеров подобных болезней назовем тщеславие, сластолюбие, негостеприимство и т. д, а также указанные выше пороки — робость, невоздержанность и другие. Таким образом, страсти следует считать причиной большинства бед и всего дурного, что имеется в человеческой душе. Отсюда следует, что со страстями следует бороться самым непримиримым образом. Частичное укрощение и сдерживание страстей оказывается при этом недостаточным, а порой совершенно неэффективным. Страсти подлежат полному и радикальному искоренению. Прежде всего следует изжить скорбь: ни печаль, ни уныние, ни чувство сострадания не должны иметь доступа и душу мудрого человека. Что касается трех других страстей — страха, вожделения и наслаждения, то они должны быть заменены тем, что стоики называли «первичными добрыми страстями», т. е. такими контролируемыми разумом душенными состояниями, как осторожность (вместо страха). добрая воля (вместо вожделения) и спокойная радость (вместо наслаждения). При этом к осторожности они также относили совестливость и скромность, к доброй воле — доброжелательство, добросердечие, любезность, к спокойной радости — веселость, благодушие. Мудрым следует прежде всего считать такого человека, который избавился от всех дурных страстей и которому присущи только перечисленные «добрые» страсти.
Неподверженность страстям стоики обозначали термином «апатия» (απάθεια). Было бы, однако, неверно понимать под апатией полное безразличие ко всему окружающему. Среди четырех основных добродетелей стоицизма имеется одна, которая требовала выхода за рамки рационалистического эгоизма, каковым на первый взгляд было этическое мировоззрение стоиков. Эта добродетель — справедливость, не позволяющая человеку замкнуться в сфере узкого индивидуализма и ставящая его лицом к лицу с другими людьми. Мы видели, что уже первичное влечение выводит человека за пределы собственного самосохранения и заставляет его заботиться о своих детях, любить их, стремиться к их благополучию. Но этим природное влечение не ограничивается. Оно вовлекает в свой круг любовь к родителям, заботу о братьях и сестрах, о родственниках и друзьях. Возникающее при этом чувство связи с ближними распространяется затем на более широкие круги людей. Ведь логос имеется не только в нас одних; в той или иной степени развития он присущ всем людям. А логос любого человека тождествен мировому логосу, который есть не что иное, как первоогонь, как закон, управляющий миром. Поскольку логос един, мы должны любить его во всех наших ближних. Таким образом чувство связи и заботы в нашей душе распространяется на членов общины, к которой мы принадлежим, на всех живущих в нашем государстве и в конечном счете на все человечество. При этом стоики не делали никаких исключений ни для людей других национальностей и рас, ни для женщин, ни для рабов. Все они — граждане единого великого государства, ими которому — космос. Термин «космополит», впервые введенный в употребление Диогеном Синопским, был заимствован стоиками и стал как бы их политическим девизом. Такое мировоззрение не могло сложиться в эпоху классической Греции — Греции самостоятельных, разрозненных полисов, той Греции, которая противопоставляла свой мир и свою культуру миру «варваров». Для того чтобы полисный партикуляризм и традиционное высокомерие эллинов по отношению ко всем, говорившим на других языках, рухнули в самом основании, требовались грандиозные исторические потрясения. Таким беспримерным по своей силе потрясением были походы Александра Македонского и последовавшее за ними рождение великой многонациональной державы. Политическое мировоззрение стоиков явилось в конечном счете идеологией всемирного государства, подобного империи Александра. Не случайно молодость Зенона, основателя стоицизма, пришлась как раз на эпоху македонских завоеваний.
Правда, империя Александра Македонского распалась вскоре после смерти ее основателя. На ее развалинах образовались крупные эллинистические монархии. Каково было отношение стоиков к новым государственным образованиям? Руководители стоической школы требовали от своих адептов активного сотрудничества с новыми властителями, отнюдь не считая, что такое сотрудничество противоречит их космополитической установке. Ведь если мы воспользуемся схемой концентрических кругов и в центр ее поставим философа-стоика, то в первом круге окажутся дети философа, во втором — его родители, родственники и ближайшие друзья, затем — граждане полиса, в котором живет философ, еще дальше — государство во главе с монархом, и, наконец, самый внешний круг будет обнимать человечество в целом. Каждый из этих кругов должен быть предметом заботы, внимания и поддержки со стороны философа. В сочинениях о государстве, о форме правления, о том, каким должен быть справедливый монарх, стоики проявляли заботу о предпоследнем из указанных кругов. Как относились к стоической школе сами монархи? Мы знаем, что из эпигонов начала III в. по крайней мере один — Антигон Гонат — явно покровительствовал Зенону и даже предлагал ему переселиться в Македонию[78]. Однако и Зенон, и все его преемники по руководству школой вплоть до Панэтия и Посидония предпочитали иметь своим местопребыванием столицу греческой философии Афины. Заметим при этом, что ни один из них не был афинянином по рождению.
Широкую популярность приобрела стоическая философия в Риме в эпоху становления и расцвета империи. Помимо прочего, этому способствовали и космополитизм стоиков, и поощрение ими политической активности на службе государства (в последнем пункте они резко отличались от эпикурейцев, отгораживавшихся в своих «садах» от житейских и политических бурь). Не случайно многие государственные деятели и даже верховные правители империи (Марк Аврелий) причисляли себя к адептам стоической школы. Несомненно далее, что идеи стоического космополитизма оказали большое влияние на формирование христианских представлений о всемирном братство людей в лоне церкви. Но это — тема, которая выходит за рамки настоящей книги.
Скептики
Прежде чем перейти к рассмотрению третьего важнейшего философского направления эпохи эллинизма — скептического, небесполезно будет сделать некоторые предварительные замечания.
Следует проводить четкое различение между философской школой скептиков, основоположником которой был Пиррон, и скептицизмом как мироощущением в широком смысле слова, которое было свойственно грекам начиная с древнейших времен. Это мироощущение проявлялось в недоверчивом отношении к любого рода притязаниям на абсолютную истину, в утверждении относительности человеческого знания, с одной стороны, неустойчивости и текучести мира вещей — с другой, и, наконец, в ненадежности человеческого счастья и благополучия. Посвящая характеристике этого мироощущения пространный абзац в своей главе о Пирроне, Диоген Лаэртий называет его основоположником Гомера, а его сторонниками Архилоха, Эврипида, Ксенофана, Гераклита, Зенона Элейского, Эмпедокла, Демокрита и Гиппократа. Еще до него Цицерон называл скептиками Ксенофана, Парменида, Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита, Сократа и Платона. Появление в этих перечнях таких имен, как Демокрит, Анаксагор и Платон, может нас удивить; этих философов зачислили в скептики, по-видимому, лишь по причине их недоверия к данным чувственных восприятий. Мы на звали бы их не скептиками, а рационалистами; рационализм же отнюдь не тождествен скептицизму. И все же нельзя отрицать того, что на всем протяжении существования греческой философии в ней можно проследить скеп тическую тенденцию, которая, не будучи вначале очень заметной, постепенно усиливается и расцветает пышным цветом у софистов и в таких сократических школах, как киренаики и киники. А в эпоху эллинизма и Римской империи скептицизм становится едва ли не господствующим мироощущением — особенно в образованных слоях общества. Весь ход развития событий, приведших к кризису полисной идеологии, к ослаблению традиционных религиозных верований, к возникновению монархий, лишенных сколько-нибудь отчетливой идейной основы, толкал людей античного мира к скептицизму.
В этом разделе, однако, речь пойдет не о скептицизме в этом расширенном смысле, а о конкретной философской школе. Ее основатель, Пиррон из Элиды (конце IV — начало III в.), был в молодости живописцем, но затем увлекся философией. Его главным учителем был последователь Демокрита Анаксарх, которого Пиррон сопровождал в восточном походе Александра. В Индии на Пиррона большое впечатление произвели аскеты (так называемые «гимнософисты»), с которыми он много беседовал и которые, согласно общепринятому в древности мнению, содействовали выработке его собственной философской позиции. В чем же эта позиция заключалась?
Исходное положение Пиррона — утверждение недостоверности человеческого знания. Ни чувственное восприятие, ни логическое мышление не могут служить основанием для утверждений об истинности каких бы то ни было высказываний, если только эти высказывания не сводятся к простой констатации явлений. Повседневный опыт показывает, что каждому чувственному восприятию можно противопоставить противоречащее ему чувственное восприятие. Точно так же, высказав какое-либо суждение, мы всегда можем сформулировать другое суждение, противоположное по смыслу первому. Из двух противоречащих друг другу чувственных восприятий, равно как из двух противоположных по смыслу суждений, одно должно быть верным, а другое ошибочным. Для того чтобы установить, какое из них верно, а какое ошибочно, необходим критерий истины, который был бы вполне достоверным. Но такого критерия истины не существует. Отрицание критерия истины — важнейшая особенность концепции Пиррона, резко отличающая ее от эпистемологических построений эпикурейцев и стоиков, создававшихся примерно в это же время.
Итак, ни чувственные восприятия, ни логические суждения не могут претендовать на истинность. А раз так, познание сущности вещей оказывается принципиально невозможным. Мы должны ограничиться лишь констатацией явлений, воздерживаясь от любых утверждений, относящихся к природе вещей самих по себе. В ответ на упрек, что подобная точка зрения приводит к отрицанию жизни, так как она отвергает все, из чего жизнь состоит, сторонники Пиррона говорили: «Это неверно. Мы ведь не отрицаем, что мы видим, а только не знаем, как мы видим. Мы признаем явления, но по признаем, что они таковы и есть, каковы кажутся (και γαρ το φαινόμενα τιθέμενα, ούχ ώς και τοιοδτον ον). Мы чувствуем, что огонь жжет, но жгучая ли у пего природа, от такого суждения мы воздерживаемся»[79]. Воздержание от суждений — εποχή — основной принцип жизненной философии Пиррона.
Особо важное значение скептики придавали воздержанию от суждений, касающихся таких понятий, как прекрасное и безобразное, хорошее и дурное, справедливое и несправедливое. Именно они оказываются основным источником противоречивых мнений, споров и раздоров между людьми. Поэтому мудрый человек никогда не будет высказываться по поводу этих понятий, полагая, что по природе никакая вещь но может считаться прекрасной, хорошей, справедливой или, наоборот, безобразной, дурной и несправедливой. Только такая позиция может доставить человеку невозмутимость, «атараксию» (αταραξία), которая, по Пиррону является высшей целью человеческой жизни.
Строго говоря, сказанным исчерпывается все, что мы знаем о философии Пиррона. Сам Пиррон никаких сочинений не писал (в этом отношении он был подобен Сократу и Диогену Синопскому) и философской школы, в том смысле, в котором мы говорим о школе стоиков или Академии, не создал. Вторую половину своей жизни он провел в своем родном городе, в Элиде, где, по свидетельству Диогена Лаэртия, снискал уважение своих сограждан и даже был избран на должность верховного жреца. Диоген называет также несколько имен его учеников, из которых наиболее известен Тимон из Флиунта, автор ряда поэм, трагедий, сатирических драм, элегий, а также мелких сатирических стихотворений, получивших наименование «силл» (σίλλοι). Многие силлы Тимона, в которых он едко высмеивал как современных ему, так и более древних философов, цитировались Диогеном и другими авторами поздней античности и потому дошли до нас.
После этого, однако, скептицизм как самостоятельное философское направление временно прекращает свое существование. Эстафету скептицизма подхватывает Средняя Академия, о важнейших представителях которой — Аркесилае и Карнеаде — мы говорили выше. В I в. Энесидем из Кносса возрождает скептическую школу, которая после этого продолжает непрерывно существовать, по крайней мере, до III в. н. э. Это поздний античный скептицизм, бесценным памятником которого остаются дошедшие до нас книги Секста Эмпирика «Пирроновы положения» и «Против ученых», написанные в конце Π в. н. э. Во многом опираясь на аргументацию представителей Средней Академии, Энесидем, однако, отказался от «вероятностного» подхода Карнеада и вернулся к крайнему скептицизму в духе Пиррона. Согласно точке зрения Энесидема, мы должны воздерживаться не только от любого рода утверждений о природе вещей, но даже от констатации собственного незнания. Эту позицию Энесидем обосновал с помощью десяти аргументов, или «тропов» (ΙΙυρόώνειοι τρόποι), из которых первые пять говорят о свойствах воспринимающего субъекта, а остальные относятся к особенностям воспринимаемой действительности. Эти «тропы» излагаются Диогеном Лаэртием в его главе о Пир-роне[80], а более подробно — Секстом Эмпириком[81].
Характерной особенностью скептицизма римского периода было то, что большое число адептов этого направления составляли врачи, принадлежавшие к медицинской школе эмпириков. Таким врачом был, по-видимому, и Секст Эмпирик (отсюда его прозвище). В эту эпоху — до Галена — эмпирики были наиболее влиятельной медицинской школой. Их принципиальная позиция состояла в отказе от всякого теоретизирования, в том числе от любых попыток установления истинных причин (или «природы») болезни. В своей врачебной практике они ограничивались констатацией видимых симптомов заболевания, на основе которых они предписывали те или иные терапевтические средства. При атом они руководствовались как собственным опытом, так и опытом своих предшественников. Изучение анатомии и физиологии ими начисто отрицалось как занятие пустое и бесполезное. Подобная установка объясняет тяготение этой школы к скептической философии.
Надо, впрочем, заметить, что, несмотря на явную антинаучность такой установки, среди эмпириков встречались врачи, обладавшие высокой квалификацией и пользовавшиеся заслуженной популярностью среди своей клиентуры.
* * *
Итак, на предыдущих страницах был дан краткий очерк важнейших философских школ, возникших в эпоху эллинизма, — эпикурейцев, стоиков и скептиков. При всем различии этих школ (к ним можно добавить также киренаиков и киников) у них имеется нечто общее. Все они в конечном счете заняты проблемой поведения отдельного индивидуума, — проблемой, которая мыслителям до сократовский эпохи казалась самоочевидной. Как вести себя человеку в бурное и неспокойное время, когда прежние социально-этические нормы оказались несостоятельными, когда отдельный индивидуум почувствовал себя одиноким, предоставленным самому себе, перед лицом сил, от него никак не зависевших, но которые всецело определяли его судьбу? Поскольку воздействовать на эти силы он не был в состоянии, ему оставалось искать в самом себе ключ к своему счастью и благополучию, к тому, что у греков обозначалось емким словом ευδαιμονία. Эпикурейская ηδονή, плюс свобода от страха смерти, стоическая άπαίϑα, скептическая αταραξία давали каждая по-своему такой ключ.
Естественно, что именно в этих условиях, в условиях роста индивидуалистических тенденций, начала выкристаллизовываться идея личности, которая отсутствовала в эпоху классической античности и которая получит полное развитие позднее, в христианской этике.
Глава третья Александрийская наука
В своем капитальном труде по истории эллинистической культуры немецкий исследователь Карл Шнейдер[82] подвергает критике широко распространенное представление о том, что эллинизм был временем расцвета науки, когда точные науки окончательно отделились от философии и завоевали самостоятельное положение в качестве специальных дисциплин, во многом определивших характер всей эпохи.
Против этого представления названный автор выдвигает следующие возражения.
Первое. Научная работа в эпоху эллинизма велась лишь в очень небольшом числе культурных центров — прежде всего, в Александрии, затем в Пергаме и некоторых других малоазиатских городах (Милет, Эфес, Лампсак), на острове Родос и благодаря Архимеду в Сиракузах.
Характеризовать эллинизм в целом как эпоху расцвета наук было бы совершенно неправильно.
Второе. В хронологическом плане основные научные достижения эпохи эллинизма относятся лишь к сравнительно узкому временному интервалу. Александр окружил себя штабом ученых, но, помимо нескольких философов и историков, это были в основном практики, главным образом офицеры инженерных служб. Научная работа в армии Александра сводилась прежде всего к уточнению географических карт, а также к сбору материалов, которые отправлялись в Грецию (прежде всего в Ликей). В Александрии расцвет науки приходится на III столетие, а начиная с первых десятилетий II в. там уже не было создано ничего значительного, во всяком случае в области точных наук. В Сиракузах всякая научная деятельность прекратилась после их завоевания римлянами. Что касается Пергама, то там вообще преобладали гуманитарные (исторические и филологические) исследования.
Третье. Размежевание специальных наук и философии так до конца и не было осуществлено. В греческом мышлении слишком сильно укоренилось стремление отыскивать «причины» в ущерб систематическим опытным исследованиям. Свободному развитию античного естествознания препятствовал ряд философских догм: в физике — аристотелевское учение об энтелехии, в · астрономии — догма круговых движений и убеждение в центральном положении Земли. Натурфилософские спекуляции стоиков и эпикурейцев не только не способствовали развитию положительных наук, но оказывались тормозом для прогресса научной мысли. Но особенно губительное воздействие на науку оказал возникший во II в. неопифагореизм, проложивший путь к распространению в эллинистическом мире оккультных псевдонаук.
Четвертое. Характер эллинистического мышления, его склонность к эстетизации природы и к ее буколической идеализации отнюдь не содействовали выработке трезвого подхода к изучению природных явлений. Давали себя знать и рецидивы мифологических представлений. По-прежнему культивировалась вера в универсальную непогрешимость авторитета Гомера.
Пятое. Характерной чертой эллинистической науки была любовь к систематизации и к каталогизации самых различных классов явлений в ущерб их непредвзятому изучению. Этот дефект был в большой степени присущ деятельности александрийского Мусейона.
Шестое. Перечисленные минусы эллинистической науки способствовали развитию скептического отношения к научным исследованиям вообще. Скептицизмом были заражены широкие круги античного общества; под его влияние подпали даже многие серьезные врачи, выражавшие сомнение в плодотворности научного изучения человеческого организма.
Все эти черты существенным образом отличали эллинистическую науку от науки нашего времени и способствовали тому, что вслед за кратковременным взлетом в III в. античная наука начала обнаруживать черты упадка и деградации.
Приведенные соображения авторитетного немецкого ученого представляются весьма убедительными. Эпоху эллинизма действительно нельзя назвать «веком науки» в том смысле, в каком это наименование прилагалось, например, к XIX столетию нашей эры. Нет смысла спорить против утверждения, что эллинистическая наука не стала повседневным явлением греческого быта, каким, несомненно, были литература, искусство или религия. И все перечисленные черты эллинистической науки действительно были присущи греческой науке III–II вв. в особенности на ее среднем уровне.
Но наряду с этим средним уровнем наука того времени продемонстрировала достижения такого масштаба, кото рые позволяют говорить о подлинном взлете научного мышления, подобного которому мы не знаем ничего во всей предыдущей истории человечества. Ведь именно тогда, в III в., и прежде всего в Александрии, был заложен фундамент позднейшего математического естествознания. То, что было создано в этом веке и немного позднее Эвклидом, Аристархом, Архимедом, Аполлонием из Перги, стало нетленным сокровищем европейской науки, не до конца понятым современниками, в большей своей части забытым потомками, по через много веков оказавшим решающее воздействие на зарождение новой науки, — науки Коперника, Галилея, Кеплера и Ньютона. Это был грандиозный прорыв в будущее. И то, что этот прорыв произошел именно в эпоху эллинизма, никак нельзя считать случайностью: это был феномен, кажущийся загадочным и требующий объяснения, но безусловно закономерный.
Разумеется, для того чтобы такой взлет научной мысли оказался возможным, необходимы были соответствующие предпосылки — как внутренние, так и внешние. Внутренние предпосылки определялись развитием греческой науки в предшествующую эпоху, внешние — общественными условиями, способствовавшими успешной деятельности греческих ученых в III в. Рассмотрим эти предпосылки по порядку.
Прослеживая прогресс греческой научной мысли в эпоху классической античности, мы обнаружим, что до середины IV в. только одна научная дисциплина была вправе претендовать на наименование науки в строгом и точном смысле этого слова. Этой дисциплиной была математика. Греческая математика V–IV вв. не только имела бесспорные и значительные достижения, но она ясно осознала свой предмет и — что еще важнее — выработала свой специфический метод исследования, а именно метод математической дедукции, который до нашего времени остается основным методом математических дисциплин.
После того как математика перестала быть эзотерической привилегией одной лишь пифагорейской школы и ею стали заниматься многие ученые в разных концах греческого мира, мы можем констатировать в этой области несколько научных достижений первостепенного значения. К числу этих достижений мы отнесем: разработку геометрической алгебры, позволившей методами геометрии решать многие алгебраические задачи; первые попытки создания дедуктивной геометрии, в которой свойства геометрических фигур и соотношения между ними выводятся чисто логическим путем из небольшого числа исходных положений (в конце V в. Гиппократ Хиосский, а в IV в. — непосредственные предшественники Эвклида — Февдий и Неон); создание теории делимости целых чисел и теории пропорций (Архит); теорию квадратичных иррациональных величин (Теотет); метод «исчерпывания» Эвдокса, представлявший собой прообраз будущей теории пределов; общую теорию отношений Эвдокса, глубина которой была по-настоящему оценена лишь во второй половине XIX в., когда трудами Дедекинда и других математиков были заложены основы современной теории вещественных чисел.
В свете этих замечательных достижений работы Эвклида, Архимеда и Аполлония из Перги уже не могут казаться чем-то неожиданным и необъяснимым. По сути дела, они лишь блестяще продолжили дело своих непосредственных предшественников. Становится также понятным, почему высшие достижения эллинистической науки относились к области математики. В III в. область применения математики была распространена и на другие науки — не только на астрономию (это сделал уже Эвдокс в IV в.), но также на оптику, механику, гидростатику. Начал вырисовываться комплекс наук, получивших впоследствии наименование математического естествознания.
Что касается внешних причин, способствовавших развитию науки в III в., то тут в первую очередь надо отметить государственное покровительство, которое оказывалось ученым со стороны эллинистических монархов, и прежде всего со стороны Птолемеев.
Надо отметить, что меценатство было далеко не новой чертой античной культуры. Оно существовало в эпоху тиранов VII–VI вв. и в дальнейшем возрождалось практически везде, где во главе государства оказывались единоличные правители. Поликрат Самосский и Писистрат Афинский, в какой-то степени и Перикл, тираны Сицилии, предок Филиппа И македонский царь Архелай — все они были известны в качестве покровителей выдающихся деятелей греческой культуры. Но в эти старые времена меценатство распространялось в основном на представителей литературы и искусства и почти но касалось ученых (исключение составлял разве что один Анаксагор), деятельность которых имела частный характер и, как правило, не возбуждала со стороны правителей сколько-нибудь значительного интереса.
Историческая заслуга Птолемеев состояла в том, что они впервые решили стимулировать научную деятельность ради нее самой — как путем непосредственной оплаты труда ученых, так и путем создания государственных учреждений, которые создавали благоприятные условия для научной работы. Мы не будем гадать по поводу субъективных причин, которые побудили Птолемеев занять такую позицию. Обычно считается, что большую роль в этом вопросе сыграли рекомендации перипатетика Деметрия Фалерского, переселившегося в Александрию в 307 г. и до самой смерти Птолемея I Сотера бывшего его ближайшим советником[83].
Библиотека и Мусейон
Учреждений, связанных с научной работой и содержавшихся на средства царской казны, в Александрии было два: знаменитая Библиотека и Мусейон. Источники обычно указывают на Птолемея II Филадельфа как создателя этих учреждений. Но можно считать несомненным, что замысел их создания возник уже при Сотере. Так как точных дат, относящихся к их созданию, мы не знаем, мы будем описывать их так, какими они стали во второй половине III в.
Начнем с Библиотеки. Ранее уже существовали библиотеки, или, лучше сказать, собрания рукописей, находившихся во владении тиранов (Поликрата, Писистрата) и небольшого числа частных лиц. Мы уже упоминали, что значительная по тому времени библиотека имелась у Эврипида. Можно думать, что эти библиотеки (или коллекции) не были очень обширными и встречались не часто, что объяснялось прежде всего трудностями, связанными с размножением текстов. Тем не менее в конце V в., по крайней мере в Афинах, появились книжные лавки, торговавшие папирусными свитками...[84] В IV в. число библиотек увеличилось. Известно, что Аристотель собрал большую библиотеку в Ликее. Не исключено, что именно пример этой библиотеки побудил Деметрия Фалерского дать совет Сотеру приступить к организации царской библиотеки в Александрии, которая содержала бы всю имевшуюся к тому времени в списках греческую литературу как научного, так и художественного содержания. В первые годы царствования Филадельфа она уже существует. Мы будем обозначать ее Библиотекой с большой буквы, ибо в то время это была единственная библиотека такого рода — поистине библиотека библиотек. Позднее примеру Птолемеев последовали другие эллинистические монархи, прежде всего Атталиды, цари Пергамского царства.
Александрийская Библиотека состояла из двух частей — внутренней (или царской) и внешней. Первая из них находилась на территории дворцового комплекса и в период своего расцвета насчитывала более 400 тыс. свитков. Ее организаторы поставили перед собой цель собрать в ней не только все произведения греческих авторов (из которых многие имелись в Библиотеке в нескольких экземплярах), но также все, что было переведено к тому времени на греческий с других языков (сюда относилась, в частности, Septuaginta — греческий перевод Библии). Внешняя Библиотека, основанная позже царской (по-видимому, при Птолемее III Эвергете), помещалась в Серапейоне — на территории храма Сераписа. Количество свитков в ней не превышало, по-видимому, 100 тыс., но она была более доступной, так как ею могли пользоваться лица, не обладавшие правом находиться на территории дворца.
Во главе Библиотеки стоял главный библиотекарь (προατάτης или επιστάτης της βιβλιοθήκης), назначавшийся непосредственно царем. Это был очень важный пост, тем более что должность главного библиотекаря обычно (хотя и не всегда) совмещалась с должностью воспитателя царских детей. Вот примерный перечень ученых, занимавших эту должность со времени основания Библиотеки до середины II в.: Зенодот Эфесский, редактор и комментатор Гомера (~285–270); Аполлоний Родосский, поэт, автор «Аргонавтики» (~270–245); Эратосфен Киренский, ученый, историк, грамматик (~245–204/1); Аристофан Византийский, грамматик, комментатор Гомера и других авторов (~204/1—189/6); Аполлоний Эйдограф (о его трудах мы почти ничего не знаем) (~189/6—175); Аристарх Самофракийский, грамматик и комментатор ряда древних авторов (~175–145)[85].
За исключением Эратосфена, бывшего универсальным ученым (о нем еще пойдет речь в дальнейшем), все перечисленные в этом списке лица были представителями гуманитарных дисциплин. Это, впрочем, и понятно: должность главного библиотекаря была неизбежно связана с текстологическими и филологическими изысканиями. Нам неизвестно, существовал ли в подчинении главного библиотекаря какой-либо штат помощников или младших библиотекарей (скорее всего — да), а также в каком отношении к основной (царской) Библиотеке находился ее филиал, размещавшийся, как мы уже сказали, в Серапейоне. Бесспорно, во всяком случае, что при Библиотеке существовало бюро переписчиков, занимавшихся копированием и размножением рукописей. Одной из важнейших функций руководителей Библиотеки было приобретение новых рукописей; при этом надо отметить, что первые цари династии Птолемеев сами проявляли большую заинтересованность в пополнении фондов Библиотеки. Особенно активную деятельность в этом направлении развил сын Филадельфа Птолемей III Эвергет (время правления 246–222 гг.). По свидетельству Галена, этот царь издал указ, согласно которому все корабли, прибывавшие в Александрию, подлежали обыску на предмет изъятия находившихся на борту рукописей. Эти рукописи немедленно переписывались писцами Библиотеки, причем хозяевам возвращались красиво оформленные копии. Приобретенные этим способом свитки снабжались ярлыками έκ πλοίων («с кораблей») — вероятно для того, чтобы отличить их от свитков, купленных агентами Библиотеки на книжных рынках[86].
До середины II в. Библиотека продолжала пользоваться покровительством царей и, по-видимому, процветала. Последовавший затем упадок монархии Птолемеев отрицательно сказался и на деятельности Библиотеки. До об этом периоде будет сказано ниже.
Вторым учреждением, определившим в научном мире славу Александрии, был Мусейон. Этим термином еще в давние времена назывались культовые центры, или святилища, создававшиеся в целях почитания муз. Такого рода святилище представляло собой обычно портик с алтарем, но не было храмом в собственном смысле слова. Между колоннами портика размещались статуи девяти муз. Часто с культом муз связывался погребальный культ, когда мусейон воздвигался в память конкретного лица, обычно кого-либо из умерших членов семьи. Родственники усопшего собирались в определенные дни в мусейоне, причем один из них исполнял обязанности жреца. В других случаях мусейоны служили местами собраний для литературных и артистических кружков.
В интересующем нас контексте представляет интерес наличие мусейона в Ликее. Он был организован, по-видимому, уже после смерти Аристотеля. О его существовании мы узнаем из предсмертного завещания Феофраста. В нем имеются следующие строки: «...На деньги же, что положены у Гиппарха [ученик и один из душеприказчиков Аристотеля], да будет сделано вот что. Прежде всего, довершить святилище и статуи муз и все прочее, что удастся там украсить к лучшему. Далее, восстановить в святилище изваяние Аристотеля и все остальные приношения, сколько их там было прежде. Далее, отстроить портики при святилище не хуже, чем они были, и в нижний портик поместить картины, изображающие всю землю в охвате, и алтарь устроить законченным и красивым»[87].
Намек на это святилище имеется и в завещании Стратона, преемника Феофраста по школе: «Школу я оставляю Ликону... Ему же я оставляю все книги, кроме написанных много, и всю застольную утварь, и покрывала, и посуду»[88].
Из этих строк следует, что библиотека Ликея находилась, по-видимому, при святилище муз — мусейоне и там же происходили ежедневные трапезы членов школы.
Мы имеем все основания предполагать, что святилище муз в Ликее явилось непосредственным прообразом александрийского Мусейона. Идея создания последнего могла быть подсказана Птолемею I Сотеру Деметрием Фалерским, или Стратоном, или обоими вместе. Со Стратоном дело обстояло следующим образом. Когда встал вопрос о выборе для детей царя достойного наставника в области наук, Деметрий порекомендовал Птолемею пригласить для этой цели Феофраста (очевидно, имея в виду пример Аристотеля, приглашенного в 343 г. Филиппом II в качестве наставника юного Александра). Однако Феофраст, не желавший отрываться от Ликея, отклонил приглашение, направив вместо себя своего лучшего ученика Стратона. Мы точно не знаем, сколько лет пробыл Стратон в Египте: во всяком случае, в 287 г., узнав о смерти Феофраста, он срочно отбыл в Афины, чтобы взять на себя руководство школой[89]. Несомненно, однако, что у него была полная возможность неоднократно беседовать с царем и давать ему рекомендации по поводу строительства Мусейона и организации Библиотеки. Но независимо от того, исходила ли в этом вопросе инициатива от Стратона или Деметрия Фалерского, представляется крайне вероятным, что именно Летней оказался непосредственным звеном, связавшим афинскую науку IV в. с александрийскими научными учреждениями.
Что же представлял собою александрийский Мусейон? К сожалению, у нас нет описаний, которые относились бы к раннему периоду его существования; поэтому мы должны довериться свидетельству Страбона, посетившего Египет в 24–20 гг., т. е. уже в эпоху римского владычества. Страбон, в частности, пишет: «Мусейон также является частью помещения царских дворцов; он имеет место для прогулок, экседру [крытую галерею с сиденьями] и большой дом, где находится общая столовая для ученых, состоящих при Мусейоне. Эта коллегия ученых имеет не только совместный фонд (κοινά χρήματα), но и жреца — правителя Мусейона, который раньше назначался царем, а теперь — Цезарем»[90].
Мы видим, что характерные черты греческих святилищ муз продолжают сохраняться и в Мусейоне (его сакральный характер, общественные трапезы и т. д.). От Ликея заимствовано и «место для прогулок» (πβρίπατον), которое с тех пор становится неотъемлемой принадлежностью любого философского или научного учреждения. Отличительным признаком александрийского Мусейона было наличие «большого дома», в котором, помимо общей столовой, располагались рабочие кабинеты, а также, по-видимому, царская Библиотека. Дело в том, что в своем описании достопримечательностей Александрии Страбон не называет Библиотеки, откуда можно заключить, что она не размещалась в отдельном здании, а находилась в уже упомянутом «большом доме» Мусейона. Члены Мусейона имели свои жилища в городе, вне дворцового комплекса, но большую часть дневного времени они проводили в Мусейоне. Деньги на свое содержание они получали из «совместного фонда», о котором пишет Страбон[91]. Помимо жреца, в Мусейоне имелся управляющий, или эпистат (επιστάτης), выполнявший административные обязанности и распоряжавшийся «совместным фондом», за расходование которого он отчитывался перед царской казной, в то время как за жрецом сохранялись, по-видимому, чисто представительские и сакральные функции.
Каковы были направления научно-исследовательской деятельности, развивавшиеся в Мусейоне? Здесь перед нами открывается широкое поле для догадок и предположений, потому что ни один из крупных ученых III–II вв. не упоминается источниками в прямой связи с Мусейоном. Вполне естественным, однако, представляется предположение, что те ученые, которые в эту эпоху жили и сколько-нибудь длительное время работали в Александрии, были с Мусейоном в той или иной степени связаны. В первую очередь это относится к руководителям и сотрудникам царской Библиотеки, а также к тем представителям гуманитарных наук, которым в их литературной и филологической работе приходилось постоянно пользоваться Библиотекой. Несколько сложнее обстоит дело с естественными науками. Несмотря на мощные импульсы, которые были даны александрийской науке Деметрием Фалерским и Стратоном, ни перипатетическая философия, ни естественнонаучные направления, развивавшиеся в перипатетической школе в эпоху Аристотеля и Феофраста, по каким-то не очень для нас понятным причинам в Александрии не привились. Что касается Деметрия, то он занимался в основном проблемами государства и права, историей, этикой и риторикой, а от теоретической философии, математики и физики был достаточно далек (об этом свидетельствует список его сочинений, приводимый Диогеном Лаэртием[92]). Иное дело Стратон, который даже получил прозвище «физика». Будучи крупнейшим философом, и притом философом естественнонаучного, чисто аристотелевского склада, он, по-видимому, просто не успел создать в Александрии научной школы (этому, конечно, мешала и его деятельность в качестве наставника царских детей). Но удивительно то, что, вернувшись в Афины и возглавляя Ликей в течение восемнадцати лет, он не оставил ни одного ученика, который продолжил бы его исследования. Не с этим ли связано то обстоятельство, что все его научные сочинения оказались полностью утерянными? Хотя Диоген называет более сорока заглавий его трудов[93], до нас дошли от них лишь самые незначительные фрагменты. О научной деятельности преемников Стратона по школе — Ликона, Аристона Кеосского мы практически ничего не знаем; вообще, со смертью Стратона наступает период глубокого упадка перипатетической школы.
Александрийская математическая школа
По крайней мере, одно направление принесло александрийской науке нетленную славу. Это была математика, точнее, геометрическая алгебра, основы которой были заложены в Греции в V–IV вв. Возникновение александрийской математики связано с именем Эвклида, который был не только крупнейшим ученым, но, судя по всему, также замечательным педагогом и систематизатором. Капитальный труд его жизни — «Элементы» (Στοιχεία) наложил глубокий отпечаток на все последующее развитие европейской пауки. В этом труде основные достижения греческой математики V–IV вв. были изложены в дедуктивно-аксиоматической форме, которая осталась образцом и идеалом научной строгости для многих поколений ученых. Этой формой в дальнейшем пользовались далеко не только математики. Спиноза писал свою «Этику», имея перед глазами «Элементы» Эвклида. Апофеозом Эвклидовой геометрии — не только по существу, но и по характеру изложения — явились «Математические начала натуральной философии» Ньютона. В школьных учебниках геометрия до самого недавнего времени излагалась «по Эвклиду», а кое-где излагается так и теперь.
Личность Эвклида и его биография известны нам очень плохо; источники не сообщают ни имени его отца, ни города, где он родился. Лишь в комментариях Прокла к первой книге «Элементов» имеются, правда, скудные, но все же важные указания, из которых можно сделать некоторые выводы[94].
Прежде всего Прокл сообщает, что расцвет деятельности Эвклида приходится на время царствования Птолемея I и что Архимед упоминает его имя в первой своей книге (это действительно так, если считать, что здесь имеется в виду первое из двух писем Архимеда к Досифею «О шаре и цилиндре»; возможно также, что это письмо вообще ставилось первым в списке сочинений Архимеда). Далее Прокл приводит известный анекдот о вопросе, который будто бы был задан Птолемеем Эвклиду: «Нет ли в геометрии более краткого пути, чем [тот, который изложен] в, Элементах?» — на что Эвклид якобы ответил, что «в геометрии не существует царской дороги»[95]. Затем сообщается, что Эвклид был моложе учеников Платона, но старше Эратосфена и Архимеда, которые, по словам самого Эратосфена, были людьми одного возраста. В ходе дальнейшего изложения Прокл пишет о том, что по своим склонностям Эвклид был платоником и хорошо знал философию Платона и что именно поэтому он закончил свои «Элементы» изложением свойств так называемых «платоновских тел» (т. е. пяти правильных многогранников). Не следует ли сделать вывод, что до своего приезда в Александрию (куда он прибыл, по-видимому, уже будучи зрелым математиком) Эвклид достаточно долгое время провел в Афинах и был тесно связан с Академией, в это время находившейся под руководством Ксенократа и (после 314 г.) Полемона? И не относится ли создание «Элементов» именно к этому, афинскому, периоду жизни Эвклида? Если бы эти предположения оказались верными, тогда удалось бы протянуть прямую линию преемственности от двух величайших философских школ Греции IV в. к александрийской науке. При этом оказалось бы, что Ликей определил главным образом организационные формы этой пауки (Библиотека, Мусейон), а Академия через Эвклида способствовала утверждению в Александрии математики как ведущего направления научных исследований.
Коротко изложим структуру и содержание «Элементов» Эвклида.
Первые четыре книги «Элементов» посвящены геометрии на плоскости — в них представлен тот же материал, который предположительно уже содержался в книге Гиппократа Хиосского. Из этого, однако, не следует, что в своем изложении Эвклид просто повторял Гиппократа.
В особенности это относится к первой книге, начинающейся с определений, постулатов и аксиом. В числе постулатов имеется знаменитый (пятый) постулат о параллельных линиях, попытки изменения которого привели впоследствии к созданию неевклидовых геометрий. После этого идут теоремы, устанавливающие важнейшие свойства треугольников, параллелограммов, трапеций. В конце книги приводится теорема Пифагора.
Во второй книге излагаются основы геометрической алгебры. Произведение двух величин трактуется в ней как прямоугольник, построенный на двух отрезках. Дается геометрическая формулировка нескольких типов задач, эквивалентных задачам на квадратные уравнения.
Третья книга посвящена свойствам круга, его касательных и хорд.
Наконец, в четвертой книге рассматриваются правильные многоугольники. Строятся правильные n-угольники при n=3, 4, 5, 10, 15, причем построение правильного 15-угольника принадлежит, по-видимому, самому Эвклиду. Пятая и шестая книги «Элементов» отражают вклад Эвдокса в теорию отношений и ее применения к решению алгебраических задач. Особой законченностью отличается пятая книга, посвященная общей теории отношений, охватывающей как рациональные, так и иррациональные величины.
Седьмая, восьмая и девятая книги посвящены арифметике, т. е. теории целых и рациональных чисел, разработанной, как указывалось выше, пифагорейцами не позднее V в. до н. э. Помимо теорем, относящихся к сложению и умножению целых чисел и умножению их отношений, здесь рассматриваются вопросы теории чисел: Вводится «алгоритм Эвклида», излагаются основы теории делимости целых чисел, доказывается теорема о том, что существует бесконечное множество простых чисел. Эти три книги написаны, по-видимому, на основе не дошедших до нас сочинений Архита.
Десятая книга, содержащая изложение результатов, полученных Теэтетом, посвящена квадратичным иррационaльностям. Дается их классификация (биномиали, апотомы, медиали и т. д.).
В одиннадцатой книге рассматриваются основы стереометрии; здесь содержатся теоремы о прямых и плоскостях в пространстве, трехмерные задачи на построение и т. д.
В двенадцатой книге излагается метод исчерпывания Эвдокса, с помощью которого доказываются теоремы, относящиеся к площади круга и к объему шара, а также выводятся соотношения объемов пирамид и конусов с объемами соответствующих призм и цилиндров.
Основные результаты тринадцатой книги, посвященной пяти правильным многогранникам, принадлежат Теэтету.
Позднее к «Элементам» были присоединены четырнадцатая и пятнадцатая книги, не принадлежавшие Эвклиду, а написанные позднее — одна во II в. до н. э., а другая в VI в. н. э. Об их содержании будет сказано ниже.
При всем богатстве материала, включенного в «Элементы» Эвклида, это сочинение отнюдь не было всеохватывающей энциклопедией античной математики. Так, в него не вошли теоремы о «луночках» Гиппократа Хиосского, а также три знаменитые задачи древности — об удвоении куба, трисекции угла и квадратуре круга. Мы не находим в нем также ни единого упоминания конических сечений, теория которых в это время уже начала разрабатываться (в том числе и самим Эвклидом). Кроме «Элементов», Эвклид написал еще несколько сочинений, относящихся к различным разделам математики. Лишь немногие из них сохранились — либо в оригинале, либо в арабских переводах. Перечислять их и останавливаться на их содержании мы не будем, поскольку математика не является сюжетом данной книги (соответствующие сведения можно найти в любом курсе по истории древней математики[96]). Однако стоит отметить, что, помимо чисто математических сочинений, у Эвклида были работы, которые, согласно нынешней терминологии, относятся к различным разделам математической физики. Это «Явления» (Φαινόμενα), посвященные) элементарной сферической астрономии, далее — «Оптика» и «Катоптрика» и, наконец, небольшой трактат «Сечения канона» (Κατατομή κανόνος), содержавший десять предложений о музыкальных интервалах. Изложение во всех этих сочинениях, как и в «Элементах», имело строго дедуктивный характер, причем теоремы в них выводились из точно сформулированных физических гипотез и математических постулатов. Таким образом, и в работах по математической физике Эвклид следовал традициям Академии: никаких ссылок на опыты и на экспериментальные устройства мы в них не находим.
Эвклид умер где-то между 275 и 270 годами. Это было время правления Птолемея II Филадельфа (Птолемей I Сотер умер в 282 г.), когда Мусейон уже был построен, главным библиотекарем и воспитателем детей Филадельфа стал Зенодот. Несмотря на отсутствие прямых данных, можно не сомневаться, что в последние годы своей жизни Эвклид был связан с Мусейоном и занимался там научной и педагогической деятельностью. К сожалению, в древности никто не написал сборника биографий великих ученых, подобного «Жизнеописаниям философов» Диогена Лаэртия, поэтому у нас нет сведений о непосредственных учениках Эвклида. На основании косвенных соображений можно предположить, что у Эвклида учился Конон из Самоса — астроном и математик середины III в., с которым был близок Архимед во время своего пребывания в Александрии (судя по всему, не столь уж. краткого). Именно Конон, бывший па 10–20 лет старше Архимеда, ввел последнего в круг математических проблем, которыми занимались александрийские ученые. О работах самого Конона известно мало. Сообщается, что он написал 7 книг по астрономии, к сожалению до нас не дошедших, назвал одно из созвездий северного полушария Волосами Береники (в честь жены Птолемея III Эвергета[97]), а также предложил Архимеду заняться рядом геометрических задач, в том числе теорией открытой им спирали[98]. Последняя задача была блестяще решена Архимедом в трактате «О спиралях» (Перί ελίκων), где, между прочим, предвосхищаются методы дифференциального исчисления. Письма Архимеда, которые он писал Конону после своего возвращения в Сиракузы, не сохранились, зато мы располагаем текстами пяти писем, посланных Архимедом ученику Конона Досифею (как раз в первом из них Архимед выражает соболезнование по случаю смерти Конона, последовавшей примерно в 240 г.). Каждое из писем есть законченная научная работа. Об одной из них («О спиралях») только что было сказано, в других же («О квадратуре параболы», два письма «О шаре и цилиндре», «О коноидах и сфероидах») Архимед вычисляет площади и объемы различных геометрических фигур, развивая метод «исчерпывания» Эвдокса и фактически подходя к понятию определенного интеграла. В этих работах Архимед предстает перед нами в качестве величайшего математика древности, предугадавшего будущее развитие методов математического анализа.
Из других дошедших до нас математических сочинений Архимеда следует назвать «Измерение круга», где вычисляется приближенное значение отношения длины окружности к диаметру (число я)[99], и позднюю работу «Псаммит» (примерный перевод «Исчисление песчинок»), уже в древности завоевавшую большую популярность. В «Псаммите» Архимед разрабатывает систему классификации больших чисел. Эта классификация, кажущаяся нам теперь неоправданно сложной, заканчивается числом, которое в нынешних обозначениях может быть записано так: 108*10^15. Громадность этого числа должна была поражать воображение древних, не привыкших оперировать с очень большими числами. По сравнению с ним количество песчинок, которые заполнили бы пустую сферу, равновеликую сфере неподвижных звезд, оказалось, согласно расчетам Архимеда, равным неизмеримо меньшему числу — 1063.
Не все математические сочинения Архимеда дошли до нашего времени. Некоторые известны нам в изложениях средневековых арабских ученых, от других сохранились лишь заглавия. Что же касается работ Архимеда, относящихся к механике, в том числе его знаменитого (предсмертного) трактата «О плавающих телах», то о них речь пойдет ниже в специальной главе.
Почему мы так много пишем об Архимеде в связи с александрийской математической школой? Да потому, что фактически, как математик, он принадлежал к этой школе, хотя большую часть своей жизни прожил в Сиракузах. Он получал импульсы от работ александрийских математиков, он развивал разрабатывавшиеся александрийцами проблемы и методы, наконец, он находился в постоянном творческом общении с учеными, работавшими в III в. в Александрии. Помимо Конона и Досифея, здесь надо назвать Эратосфена, занимавшего при Птолемее III Эвергете (246–222) и при Птолемее IV Филопаторе (222—205) пост главного библиотекаря.
Эратосфен из Кирены (около 275–195 гг.) был во многом примечательными человеком и ученым, воплотившим в своем лице некоторые характерные черты александрийской науки. В молодости он учился у знаменитого александрийского поэта Каллимаха, затем провел несколько лет в Афинах, где общался с представителями ведущих философских школ, в том числе с академиком Аркесилаем стоиком Аристоном Хиосским. Вернувшись в Александрию, он занялся научными изысканиями и вскоре приобрел репутацию одного из ученейших людей своего времени, что побудило Птолемея Эвергета предложить ему заведование александрийской Библиотекой (после того как предыдущий главный библиотекарь, поэт Аполлоний, уехал на остров Родос).
Отличительной особенностью Эратосфена-ученого была универсальность, что делает невозможным точное определение его научной специальности. У него были исследования по математике, астрономии, географии, истории и филологии; кроме того, он сам писал стихи и поэмы. В каждую из этих областей он внес определенный вклад, хотя, может быть, и не всегда первостепенный по своему научному или художественному значению. В истории науки особенно известны его работы по географии и по измерению размеров земного шара. Об этих работах у нас пойдет речь в последующих главах, здесь же мы вкратце изложим то, что нам известно о его достижениях в области математики и исторической хронологии.
К сожалению, тексты сочинений самого Эратосфена до нас не дошли. Позднейшие античные авторы (Никомах, Теон Смирнский, Папп) приводят в своих книгах названия двух трактатов Эратосфена — «О средних» (Περί μεσοτήτων) и «Платоник» (Πλατωνικός). Более или менее краткие изложения первого из них позволяют заключить, что в нем Эратосфен исследовал различные виды целочисленных пропорций, сводя их путем различных преобразований друг к другу. Трактат начинался с философского введения, в котором утверждалось, что «отношение есть источник пропорциональности и начало возникновения всего, что происходит в порядке. Все пропорции возникают из отношений, а источник всех отношений есть равенство»[100]. Аналогичные, характерные для позднего Платона идеи развивались, по-видимому, и в диалоге «Платоник», хотя конкретное его содержание остается загадочным. Кроме того, еще в древности получили известность два математических открытия Эратосфена. Первым из них было механическое решение так называемой «делийской» задачи об удвоении куба, высеченное на камне в одном из александрийских храмов. По-видимому, не случайно Архимед изложил свой «механический» метод доказательств геометрических теорем в письме, адресованном именно к Эратосфену. Вторым открытием александрийского энциклопедиста было так называемое «решето» (κόσκινον) — простой способ выделения простых чисел из любого конечного числа нечетных чисел, начиная с трех. Этот способ изложен Никомахом из Геразы, написавшим около конца I в. н. э. «Введение в арифметику» (Εισαγωγή αριθμητική), в котором были популярно пересказаны достижения греческой науки в этой области.
В целом можно сказать, что в области математики Эратосфен отнюдь не был творческим гением, прокладывавшим, подобно Архимеду, новые пути, хотя и находился в курсе достижений современной ему математической науки.
Помимо математических работ (Эратосфена, имеет смысл упомянуть о его изысканиях в области исторической хронологии. Для греков классической эпохи было характерно удивительное равнодушие к проблемам хронологии: пи у кого из ученых V–IV вв., включая даже Аристотеля, мы не найдем хронологических отсылок, которые позволили бы устанавливать точные даты исторических событий. Отчасти это можно объяснить отсутствием общепринятой системы летосчисления в ту эпоху, что, в свою очередь, вызывалось разрозненностью греческих городов-государств. В централизованных деспотических монархиях Вавилонии и Египте уже за тысячелетия до нашей эры существовали хорошо разработанные системы записей исторических событий в их хронологической последовательности. В этой связи характерно, что в основу первого общегреческого летосчисления, ставшего общепринятым, были положены олимпийские игры — единственное регулярно повторявшееся событие, в котором принимали участие все полисы Балканского полуострова[101].
Интерес к хронологии в широком смысле слова появился лишь у ученых эллинистической эпохи. Уже Деметрий Фалерский составил «Список архонтов», в котором наряду с историческими сведениями сообщались некоторые данные о жизни философов, использованные последующими хронографами. Но лишь Эратосфен предпринял первую серьезную попытку пересмотреть и систематизировать всю имевшуюся к тому времени информацию хронологического характера. Имея в качестве материала для своих изысканий все богатства Библиотеки, Эратосфен провел колоссальную работу по нахождению и сопоставлению источников, по устранению неверных сведений и по установлению надежных дат. Таким образом, именно Эратосфена следует считать основоположником научной хронологии.
Основное сочинение Эратосфена по этим вопросам (Χρονογραφίαι) было в древности окружено ореолом непогрешимости, но в то же время, по-видимому, имело слишком специальный характер, чтобы получить широкое распространение. Содержащиеся в нем сведения с добавлением новых данных были затем использованы историком II в. Аполлодором, написавшим большую дидактическую поэму (Χρονικά), в которой ямбическими триметрами излагалась вся история Греции от падения Трои (приуроченного на основании вычислений Эратосфена к 1184 г.) до 149 г. Все последующие авторы, включая Диогена Лаэртия, пользовались именно этой поэмой, а не исходным сочинением Эратосфена.
Младшим современником Эратосфена и Архимеда был александрийский математик Никомед. Время его жизни определяется двумя указаниями: с одной стороны, он критикует предложенный Эратосфеном метод решения «делийской» задачи об удвоении куба, с другой же — его имя упоминается Аполлонием из Перги. Как математик Никомед известен открытием новой алгебраической кривой — конхоиды, или кохлоиды (в полярных координатах уравнение этой кривой имеет вид ρ=a+b/cosφ). Как рассказывают древние источники, в частности Прокл, Никомед очень гордился этой кривой и построил прибор для ее черчения. Он применил эту кривую для решения той же «делийской» задачи, а также для решения другой знаменитой задачи древности — трисекции угла[102]. Этим исчерпываются наши сведения о математических достижениях Никомеда.
Аполлоний из Перги был третьим великим математиком александрийской школы (к первым двум мы относим Эвклида и Архимеда). О времени его жизни имеются противоречивые свидетельства; в связи с этим некоторые исследователи полагают, что он родился около 260 г., другие же смещают эту дату примерно на три десятилетия. Имеются основания считать, что около 170 г. он был еще жив[103]. Родившись и получив первоначальное воспитание на южном побережье малоазийского полуострова, Аполлоний еще юношей уехал в Александрию, где прожил большую часть своей дальнейшей жизни, общаясь с александрийскими математиками и ведя научную, а затем и преподавательскую работу. Как сообщает он сам в предисловии к первой книге «Конических сечений», он начал работу над этим трудом по настоянию некоего геометра Навкратеса, который слушал его лекции в Александрии. Подобно Архимеду, Аполлоний посылает отдельные книги «Конических сечений» знакомым ему математикам — Эвдему из Пергама и Атталу (возможно, из Эфеса)[104]. По-видимому, он посещал эти города еще до окончания своего основного труда, а потом снова вернулся в Александрию. Из предисловия ко второй книге следует, что в Эфесе Аполлоний познакомил Эвдема с другим своим коллегой — геометром Филонидом. Из этих немногих данных можно заключить, что к концу III в. в ряде греческих городов появились математики, которые, хотя и не были творческими гениями, все же имели настолько высокую квалификацию, что могли разбираться в работах Аполлония и вести с ним дискуссии по различным проблемам геометрии.
Основное сочинение Аполлония «Конические сечения» (Κωνικά) состояло из восьми книг. Только первые четыре дошли до нас в оригинальном греческом тексте; три последующие сохранились в арабском переводе, а последняя, восьмая, считается утерянной, хотя о ее содержании мы можем судить по изложению Паппа в его «Математическом сборнике». Сам Аполлоний в предисловии к первой книге указывает, что первые четыре книги содержат общую аксиоматическую теорию предмета, а в остальных дается развитие найденных в первых книгах фундаментальных принципов.
Сама по себе идея конических сочинений не была новостью в греческой математике. Первым математиком, который еще в IV в. занялся исследованием этой проблемы (и, кстати сказать, ввел в употребление термин «конические сечения»), был ученик Эвдокса Менехм. После него конические сечения исследовались мало известным нам математиком Аристсом, а затем Эвклидом, написавшим по этому вопросу но дошедшее до нас сочинение. Нο, как отмечает Аполлоний в предисловии к своей первой книге, Эвклиду не удалось дать полной теории вопроса. Эта теория была развита и «Конических сечениях» Аполдония настолько полно и в такой законченной форме, кто никто из последующих математиков древности не смог к ней добавить буквально ничего. Все доказательства Аполлония имеют чисто геометрический характер, и в этом отношении ого труд представляет собой высшую точку, которой достигла греческая геометрическая алгебра. Перевод рассуждений Аполлония на алгебраический язык был произведен в XVII в. создателями аналитической геометрии — Декартом и Ферма. Надо, однако, признать, что, и не пользуясь алгебраической символикой, Аполлоний в своем труде очень близко подошел к методам аналитической (и даже проективной) геометрии. Так, например, он классифицирует все три вида конических сечений по характеру определяющих их уравнений (по его терминологии, «симптомов»), хотя эти уравнения записываются им в словесно-геометрической форме. По сути дела, Аполлоний дал законченную теорию кривых второго порядка, причем эта теория была изложена им не только без каких-либо алгебраических символов, но даже без использования таких понятий, как «ноль» и «отрицательная величина», которые еще не были известны греческой математике того времени[105].
В целом же изучение трудов Аполлония Пергского оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, мы не можем не восхищаться остроумием и глубиной его геометрического мышления и полнотой полученных им результатов, составивших одну из самых блестящих страниц в истории математических наук. С другой же стороны, мы все время ощущаем границы, которые ставила геометрическая алгебра дальнейшему развитию математики. Геометрические методы александрийской школы были подобны панцирю, облекавшему живое тело греческой математики и стеснявшему ее дальнейший свободный рост.
Еще один аспект достижений Аполлония не может не привлечь внимания историка пауки. Теория конических сечений, разработанная великим математиком из Перги, осталась абстрактной математической теорией, по получившей никакого применения ни в математическом естествознании, ни в технике того времени (если не считать законов отражения света от параболических зеркал, сформулированных византийским математиком VI в. н. э. Анфемием, прославившимся главным образом в качестве строителя собора св. Софии в Константинополе). Так, например, несмотря на все успехи технической баллистики в эпоху эллинизма, осталось незамеченным то кардинальное обстоятельство, что тело, брошенное под углом к горизонту, летит по кривой, близкой к параболе. Своевременное уяснение этого факта (который был осознан лишь почти две тысячи лет спустя) могло бы послужить мощным импульсом к развитию динамики движущихся тел.
Другой капитальный просчет греческой науки состоял в неуклонной приверженности к догме круговых движений небесных тел. Движутся ли планеты, согласно геоцентрической модели мира, вокруг Земли, или же Земля вместе с другими небесными телами совершает свои обороты вокруг Солнца, как с необычайной для своего времени смелостью предположил Аристарх Самосский, и в том и в другом случае движение считалось происходящим по круговым орбитам. В пятой главе, посвященной эллинистической астрономии, будет рассказано, каким образом объяснялись видимые нерегулярности в движении небесных тел: для этого была придумана гипотеза эпициклов и введено понятие эксцентрических орбит; при всем этом, однако, в основе небесных орбит лежали комбинации круговых движений. Заметим, кстати, что первым ученым, который ввел в науку гипотезу эпициклов, был все тот же Аполлоний из Перги. Уж кто-кто, но он, во всяком случае, мог заметить, что при определенных соотношениях круговых скоростей движения планеты по эпициклу и движения центра эпицикла по деференту (см. пятую главу) обе круговые орбиты сливаются, превращаясь в эллипс. Таким образом, теоретическая возможность заменить круговые орбиты эллиптическими у греков имелась. Реализация этой возможности в сочетаний с гелиоцентрической системой Аристарха означала бы колоссальный скачок в развитии астрономии. Но для того, чтобы совершить этот скачок, грекам надо было преодолеть психологический барьер, отделявший античное мышление от мышления нового времени. Сделать это им было не дано (заметим, что еще Коперник находился в плену у догмы круговых движений).
Таким образом, теория конических сечений Аполлония была чисто математической теорией, созданной задолго до того, как представилась реальная возможность ее использования в каких-либо естественнонаучных дисциплинах. В истории науки можно указать и другие примеры подобного опережения математического мышления по сравнению с мышлением естественнонаучным — упомянем хотя бы теорию групп или неевклидову геометрию. Но теория конических сечений является в этом отношении особенно показательной.
Поскольку данная книга не ставит перед собой задачи систематического изложения истории греческой математики, мы не будем останавливаться на других, не дошедших до пас работах Аполлония. От некоторых из них сохранились только заглавия, о содержании других можно составить представление на основе позднейших компиляций — таких, как «Математический сборник» Паппа. Во всяком случае, по своему значению эти работы не могут идти ни в какое сравнение с «Коническими сечениями».
После Аполлония в александрийской математике обнаруживается резкий спад. Правда, до нас дошли сведения о работах нескольких александрийских математиков меньшего калибра — Диокла, Зенодора, Гипсикла, живших в конце III — начале II в. В истории математики эти ученые получили наименование «эпигонов». Они действительно были эпигонами в том смысле, что к основному богатству античной математики, накопленному гениями IV–III вв., добавили лишь некоторые мелочи, не выходившие за рамки уже существовавших идей и теорий. А затем наступает провал, длившийся более двух столетий.
О причинах этого странного перерыва, в течение которого математическая жизнь в Александрии казалась совсем замершей, у историков науки нет сколько-нибудь убедительного объяснения. Чаще всего ссылаются на неблагоприятную обстановку, которая сложилась в Александрии к середине II в. Действительно, государство Птолемеев находилось в это время в состоянии внешнего и внутреннего упадка. Кризис египетской экономики, восстания народных масс, неудачи в почти непрекращавшейся борьбе с Селевкидами, потеря Египтом важных заморских и ближнеазиатских владений, борьба за власть в правящей верхушке страны — все это, разумеется, не способствовало расцвету духовной жизни в Александрии. После нескольких действительно выдающихся деятелей — Птолемея I Сотера, Птолемея II Филадельфа и Птолемея III Эвергета во главе страны появляются монархи либо малолетние, либо слабовольные и неспособные к энергичному руководству государственными делами. Власть фактически переходит в руки придворных клик или женщин — матерей и жен официально царствующих монархов. Вырождению династии, возможно, способствовали кровосмесительные браки между членами царского дома (первым из них была женитьба Птолемея II Филадельфа на родной сестре Арсиное). Особо роковую роль для александрийской науки сыграла междоусобная борьба двух братьев — Птолемея VI Филометора и Птолемея VII Эвергета Фискона, закончившаяся в 145 г. гибелью Филометора. Овладевший Александрией Фискон устроил грандиозную резню среди лиц, поддерживавших Филометора. Жертвами этой резни явились и многие ученые, работавшие в Мусейоне.
Эти события нанесли тяжелый удар по деятельности александрийской школы. Большинство из оставшихся в живых членов Мусейона срочно покинуло страну. Известный филолог Аристарх Самофракийский, занимавший до этого должность главного библиотекаря, бежал на о-в Кипр, где и умер через два года. Во главе Библиотеки встал никому не известный Кидас, которого оксиринхский папирус называет «одним из копейщиков» (έκ των λογχοφόρων); по-видимому, это был не ученый, а просто один из свиты царских телохранителей,. После него источники упоминают имя только одного библиотекаря, а именно Она-сандера, назначенного на эту должность Птолемеем VIII (Сотером II), но о его научной деятельности у нас нет никаких сведений.
События 145 г., однако, не могут объяснить прекращения математических исследований во всей Греции. Ведь, помимо Александрии, существовали и другие научные центры, где могли обосноваться математики, — назовем хотя бы Пергам, Эфес и о-в Родос. Но ничего похожего на продолжение традиций александрийской математической школы ни в одном из этих центров мы не находим. Иначе обстояло дело с другими науками — историей, географией, астрономией. Величайший греческий историк эпохи эллинизма — Полибий жил во II в. Время жизни знаменитого географа Страбона, о котором будет подробно написано в следующей главе, определяется датами 65–21 гг. н. э. Из астрономов достаточно назвать гениального Гиппарха из Никеи (в Вифинии), о работах которого будет подробно рассказано в пятой главе. Годы жизни Гиппарха (~190–120) совпадают с эпохой упадка царства Птолемеев. Он много путешествовал, проводя наблюдения в разных местах, прежде всего в своем родном городе Никее, затем в Вавилоне, Сиракузах, а особенно много на острове Родос, где он прожил большую часть своей жизни. Гиппарх побывал также и в Александрии, где, по сведениям, приводимым Клавдием Птолемеем в «Альмагесте», в марте 146 г. он проводил измерения точки весеннего равноденствия, используя для этой цели прибор типа армиллярной сферы (κρίκος), установленной в одном из александрийских портиков (έν τη τετραγώνψ καλούμενη στοά)[106]. В ходе дальнейшего изложения Клавдий Птолемей указывает, что и в последующие годы (в 135 и 128 гг.) в Александрии проводились аналогичные наблюдения, откуда следует, что трагические события 145 г. не привели к полному прекращению астрономических исследований. Это можно объяснить тем обстоятельством, что именно в это время александрийские астрономы начинают заниматься астрологией, пользовавшейся поддержкой слабых и суеверных властителей (в прежнее время вавилонская и египетская астрология находилась почти исключительно в ведении жреческой касты).
Надо также отметить, что наряду с астрономией имеются данные о филологической работе по редактированию и комментированию греческих классиков, проводившейся в Мусейоне во второй половине II в. По-видимому, эта работа велась учениками Аристарха Самофракийского, которые избежали репрессий 145 г. и сочли за благо остаться в Александрии. Мы мало знаем о достижениях этих филологов; ясно, во всяком случае, что среди них не было пи одного великого ученого, подобного тем, которые составили славу александрийской филологии в III в.
В эту эпоху на первое место выдвинулись другие научные центры — Родос и Пергам. Развитие науки на острове Родос было стимулировано еще в конце IV в. Эвдемом Родосским, учеником Аристотеля, который после смерти своего учителя вернулся на родину и основал там нечто вроде филиала перипатетической школы (чего не удалось сделать Деметрию Фалерскому и Стратону Лампсакскому в Александрии). Хотя Эвдем и не был особенно большим ученым (об этом мы уже писали во второй главе, в разделе, посвященном перипатетической школе), все же брошенные им семена упали на Родосе на благоприятную почву. Не случайно во II в. там жил и работал Гиппарх, а в начале I в. свою вторую родину на Родосе нашел философ-стоик и универсальный ученый Посидоний из Апамеи. Его труды по философии, истории, географии, метеорологии и астрономии пользовались в эпоху поздней античности колоссальной популярностью. Но его слабым местом была математика, и в этом отношении Посидоний никак не может считаться продолжателем александрийской научной школы.
Что касается Пергама, то там, как и в Александрии, решающим фактором, определившим развитие научных исследований начиная с конца III в., явилась огромная библиотека, за короткое время собранная властителями Пергамского царства Атталидами. По числу содержавшихся в ней свитков эта библиотека стояла в античном мире на втором месте после александрийской. Однако общее направление научных работ, выполнявшихся в Пергаме, существенно отличалось от направления александрийской школы. Ничего подобного достижениям великих математиков III в. Эвклида, Архимеда, Аполлония из Перги пергамские ученые не могли создать, хотя и там велись — правда, в ограниченном объеме — математические и астрономические исследования. Основной специальностью пергамской школы были филологические и грамматические изыскания. Величайшим пергамским филологом начала II в. был Кратес из Малла, современник и научный противник Аристарха Самофракийского. Помимо многочисленных критических и экзегетических работ о поэмах Гомера, которые истолковывались Кратесом в аллегорическом смысле (в значительной степени под влиянием стоической философии), а также комментариев к Гесиоду, Эврипиду, Аристофану и другим авторам, особое значение имел большой труд Кратеса «Об аттическом диалекте» (Περί 'Αττικής διαλέκτον), который может рассматриваться в качестве первого в Греции научного сочинения по лингвистике — науке, до этого времени еще не существовавшей. Среди учеников Кратеса древние источники называют стоика Панэтия (учителя Цицерона), Зенодота из Малла (которого не следует путать с первым александрийским библиотекарем Зенодотом), Деметрия Иксиона и других ученых, оказавших значительное влияние на позднеэллинистическую и римскую филологию. Любопытно, что столица царства Селевкидов Антиохия на Оронте, будучи большим и славившимся своей красотой городом, не стала сколько-нибудь заметным научным центром. В первую очередь этот факт следует, видимо, объяснить личными качествами правителей этого царства, которые в отличие от первых Птолемеев не проявляли большого интереса к науке. Мы, правда, знаем, что в Антиохии при первом царе династии Селевкидов Селевке I Никаторе какое-то время жил знаменитый врач и анатом Эрасистрат, но этот факт никак не повлиял на развитие науки в Антиохии.
Вернемся к александрийским делам. Несмотря на упадок научной жизни в Александрии в конце II и в I в., Библиотека и Мусейон оставались важнейшими достопримечательностями египетской столицы и худо ли бедно ли, но продолжали функционировать. Но в 47 г. наука древнего мира понесла тяжелый удар: в ходе так называемой «александрийской» войны, которую Юлий Цезарь вел во время своего пребывания в Египте, в прибрежных районах Александрии вспыхнул пожар, перекинувшийся на дворцовый комплекс. В результате этого пожара погибла значительная часть рукописей царской Библиотеки (точных масштабов этой катастрофы мы не знаем и, конечно, никогда не узнаем).
Несколько позднее, уже в годы второго триумвирата, Марк Антоний, владевший тогда восточными частями Римской державы (куда входило и бывшее Пергамское царство), объявил Клеопатре, что в целях возмещения потерь, понесенных во время пожара 47 г., он дарит ей Пергамскую библиотеку, насчитывавшую в то время около 200 тыс. свитков. Этот «подарок» остался, по-видимому, широковещательным жестом: у нас нет сведений, были ли предприняты конкретные меры по перевозке Пергамской библиотеки в Александрию. В 31 г. Египет был присоединен к Римской империи, и с этого времени в истории александрийской науки начинается новый период — римский. Выше мы рассказали об исключительных достижениях александрийской математической школы. Однако, помимо математики и гуманитарных дисциплин, в каких еще областях велись исследования в александрийском Мусейоне при Птолемеях? В области астрономии — бесспорно; пример Эратосфена показывает, что и в области географии — также. О достижениях географов и астрономов эпохи эллинизма будет рассказано ниже, в соответствующих главах этой книги. Менее ясно, как обстоит дело с механикой: мы знаем о блестящих успехах, достигнутых в области пневматической техники александрийцем III в. Ктесибием, а позднее Филоном из Византии (который также работал в Александрии); об этих успехах будет сказано в шестой главе; но проводились ли эти работы в рамках Мусейона? Известно, что античная наука (включая даже Архимеда) резко отмежевывалась от всякого рода технических приложений. Распространялась ли эта установка также и на деятельность членов Мусейона? И кем были написаны «Механические проблемы» — трактат, по традиции приписываемый Аристотелю, но, по всей видимости, принадлежащий какому-то александрийскому автору? Все это вопросы, на которые история науки пока еще не может дать сколько-нибудь членораздельных ответов.
Ясно одно: в дисциплинах, относящихся к описательному естествознанию, — каковыми являются зоология, ботаника, минералогия — александрийская наука не продемонстрировала какого-либо прогресса. Основополагающие труды Аристотеля и Феофраста[107] исчерпали, как тогда казалось, все существенное, что могло быть сказано по поводу этих разделов науки о природе (которая в то время именовалась физикой). На трудах Аристотеля основан как каталог птиц, составленный поэтом Каллимахом, так и зоологический сборник уже упоминавшегося выше грамматика Аристофана из Византии. Характерно, что эти работы, имевшие чисто популяризаторский характер, были написаны представителями гуманитарных дисциплин, причем в них уже чувствуется склонность к чудесному и сказочному, оказавшая столь вредное влияние на развитие естествознания в эпоху поздней античности.
Но была еще одна отрасль научных исследований, которая наряду с математикой и филологией процветала в Александрии эпохи Птолемеев. Речь идет о медицине и связанных с нею анатомических и физиологических исследованиях. Эти исследования проводились в Мусейоне и других местах, причем они существенно расширили имевшиеся до того у греков познания о строении человеческого организма и функционировании отдельных органов. На этих исследованиях необходимо будет остановиться, прежде чем перейти к римскому периоду александрийской науки.
Александрийская медицина
Как и в наше время, деятельность врачебного сообщества в Александрии имела два аспекта: с одной стороны, практический, лечебный, а с другой — научно-исследовательский аспект, стимулировавший развитие анатомических и физиологических знаний. Именно этот, второй аспект будет интересовать нас в первую очередь. При этом, однако, мы не сможем не коснуться и состояния врачебной практики того времени.
В IV в. особую славу в греческом мире приобрела косская медицинская школа, получившая свое наименование от острова Кос, где издавна жили многие поколения врачей, считавших себя потомками легендарного полубога Асклепия и передававших свои знания и опыт по наследству — от отцов к сыновьям. Бесценным памятником косской школы остается Свод Гиппократа (Corpus Hippocraticum), дающий исчерпывающее представление о характере и уровне греческой медицины того времени. По-видимому, лишь некоторые из трактатов Гиппократова свода могут быть приписаны самому Гиппократу; большинство же из них было написано в IV в. его учениками и последователями.
Из врачей косской школы в конце IV в. наибольшей известностью пользовался Праксагор, учитель знаменитого Герофида. Праксагор в основном следовал воззрениям и рекомендациям, изложенным в трактатах Гиппократова свода, с некоторыми модификациями, сделанными, возможно, под влиянием физиологических теорий Аристотеля. В трактатах Гиппократа (напр., «О священной болезни») мы находим указания на точку зрения, восходившую еще к Алкмеону, что органом, ответственным за психическую деятельность человека, является головной мозг[108]. Между тем Праксагор (как и Аристотель) считал местопребыванием души и, следовательно, источником психических явлений сердце, от которого, по его мнению, берут начало нервы, являющиеся мелкими разветвлениями артерий. Согласно господствовавшему в то время мнению, Праксагор полагал, что артерии наполнены не кровью, а воздухом (пневмой). В целом же взгляды Праксагора известны нам плохо. Он написал лишь одно сочинение, «Анатомия», пользовавшееся в конце IV и начале III в. большой популярностью. От него до нас дошли лишь некоторые незначительные отрывки.
О биографии Праксагора нет почти никаких сведений. Несомненно, однако, что он занимался на острове Кос преподавательской деятельностью и имел там многих учеников. В конце своей жизни он, по-видимому, переселился с группой учеников в Александрию; среди этих учеников был, возможно, и Герофил из Халкедона. Представляется вполне вероятным, что переезд Праксагора произошел по приглашению самого Птолемея Сотера, у которого были личные связи с островом Кос (между прочим, именно там в 309 г. родился его сын, будущий Птолемей II Филадельф).
Надо думать, что в числе представителей косской интеллигенции, эмигрировавшей в Александрию, были далеко не одни только врачи. Так, среди лиц, приглашенных Сотером в свою столицу, был и известный поэт с острова Кос Филет. В Александрии Филет был приближен царем и получил должность воспитателя детей Сотера. Выше мы писали, что аналогичную должность занимал во время своего пребывания в Александрии и Стратон Лампсакский. Надо полагать, что у царских детей было несколько воспитателей, причем Филет обучал их литературе и изящным искусствам, а Стратон — философии и физико-математическим дисциплинам.
Вообще Птолемеи покровительствовали острову Кос, который в III в. был одним из важных опорных пунктов Египетской державы в Эгейском море. По-видимому, иммигранты с этого острова составляли значительную прослойку греческого населения в Александрии в первый период ее существования. Но наибольшим почетом среди косских переселенцев пользовались, разумеется, врачи. Те из них, которые занимались научно-исследовательской работой, получили возможность продолжить эту деятельность в Мусейоне наряду с математиками и представителями гуманитарных наук. О характере этой деятельности нам за неимением конкретных данных трудно судить. Можно думать, что в Мусейоне имелись специальные помещения, игравшие роль своего рода анатомических лабораторий.
Что касается лечебной практики александрийских врачей, то она, по-видимому, проводилась в частном порядке и к Мусейону отношения не имела. Естественно возникает вопрос: какое влияние на эту практику оказали достижения древней египетской медицины, в свое время считавшейся лучшей в мире. Однако все, что мы знаем о египетской медицине (самым значительным из египетских папирусов, посвященных медицинской проблематике, до сих пор считается так называемый папирус Эберса[109], относящийся ко времени XVIII династии, т. е. примерно к 1550–1300 гг.), дает основание полагать, что она остановилась в своем развитии задолго до эпохи эллинизма и врачам косской школы уже нечему было учиться у своих египетских коллег. На лечебную практику александрийских врачей египетская медицина не оказала, по-видимому, никакого влияния. В еще большей степени это относилось и к теоретическим воззрениям египтян в области анатомии и физиологии. Хотя египтяне, казалось бы, имели большое преимущество перед греками в том отношении, что они с давних пор практиковали рассечения трупов с целью их бальзамирования и последующего сохранения мумий (в то время как у греков вскрытие трупов умерших традиционно считалось большим грехом), но из этого опыта они не сделали никаких теоретических выводов. Бальзамирование трупов осуществлялось согласно древним, унаследованным от предков рецептам, и никаких побочных целей научного характера египтяне при этом не ставили. Как в практическом, так и в теоретическом плане греческая медицина и в Египте осталась чисто греческой, развивавшей свои традиции и следовавшей своим методам лечения.
Переходя к достижениям александрийской медицины, а также связанных с нею наук — анатомии и физиологии, мы должны обратиться прежде всего к Герофилу. В течение первой половины III в. Герофил считался величайшим греческим врачом и слава его распространилась далеко за пределы Александрии.
Об обстоятельствах его жизненного пути мы почти ничего не знаем, его сочинения (среди которых в источниках упоминаются «Анатомия», «О глазах», «О пульсе» и и др.) до нас не дошли, и сведения о нем ограничиваются тем, что мы находим в сочинениях позднейших авторов. Прежде всего, это эфесские писатели-врачи I в. н. э. Руф и Соран, знаменитый римский энциклопедист Корнелий Цельс и, конечно, Гален.
Ставя выше всего наблюдения и опыт, Герофил сумел избавиться от ряда укоренившихся догм и во многих отношениях явился пролагателем новых- путей в науке. — Его важнейшие работы в области анатомии относились к строению и функционированию нервной системы: он тщательно изучил нервные центры и отдельные нервы и окончательно установил, что головной мозг (вопреки мнению Праксагора и Аристотеля) служит средоточением умственных способностей человека. Из общей массы нервов Герофил выделил нервы чувствительные, идущие от периферии человеческого тела к спинному и головному мозгу. Он провел четкое различение между артериями и венами и пришел к правильному выводу (окончательно доказанному лишь несколько столетий спустя Галеном), что артерии получают кровь из сердца. Исследуя с помощью клепсидры пульс[110], он впервые оценил значение пульса как важного диагностического средства. Правда, связь пульса с сокращениями сердечной мышцы продолжала оставаться для него неясной. С пульсом Герофил связал механизм дыхания, причем дыхательный цикл был у него разбит на четыре этапа: вдыхание свежего воздуха, распространение этого воздуха по всему телу, извлечение из тела загрязненного воздуха и устранение этого последнего путем выдыхания. Кроме того, Герофил дал подробное описание анатомии глаза, печени, половых органов и других частей тела, а также провел сопоставление анатомического устройства человека и животного.
Все эти открытия можно было сделать лишь на основе тщательных анатомических исследований. По-видимому, существовавший в Греции предрассудок о греховности вскрытия трупов умерших людей в Александрии уже не имел силы. Кроме того, некоторые древние авторы настойчиво утверждают, что Герофил проводил вивисекторские опыты над преступниками, поставлявшимися ему царем. Этот вопрос оживленно дискутировался в позднеантичной литературе[111]. Так, например, Тертуллиан в сочинении «О душе» («De anima») называет Герофила «тем мясником, который разрезал сотни- [человеческих существ], чтобы исследовать природу» (Herophilus ille medicus aut lanius qui sexcentes exsecuit, ut naturam scrutaretur)[112]. Источником для Тертуллиана в данном случае был, по-видимому, Соран, резко отрицательно относившийся к любым хирургическим операциям[113].
В области практической медицины Герофил уделял большое внимание действию лекарственных препаратов, в особенности тех, которые изготавливались из трав; наряду с этим он подчеркивал значение правильной диеты и гимнастических упражнений. В вопросе о причинах болезней Герофил придерживался гуморальной гипотезы, согласно которой любое заболевание объяснялось нарушением соотношения между четырьмя основными жидкостями, или «соками» (χυμοί, ύγρότητες), входящими в состав человеческого тела. К такого рода «сокам» большинство гиппократиков, в том числе и Герофил, относили кровь, желтую и черную желчь и флегму. О существовании болезнетворных бактерий Герофил, как, впрочем, и вся античная наука, не имел ни малейшего представления. В заключение следует добавить, что Герофил внес существенный вклад в разработку анатомической терминологии. Многие из введенных им терминов укоренились в медицинской науке и используются вплоть до нашего времени.
Будучи одним из ведущих сотрудников Мусейона, Герофил пользовался большим авторитетом у царя (Птолемея Филадельфа) и, надо полагать, в нужных случаях оказывал ему и другим членам царской семьи медицинскую помощь (хотя и не носил официального титула царского лейб-медика). Кроме того, он был близок с величайшим александрийским поэтом того времени Каллимахом и вообще принадлежал к кругу наиболее привилегированной интеллектуальной элиты Александрии.
Другим выдающимся врачом III в. был современник Герофила Эрасистрат, родившийся на о-ве Кеос — одном из Кикладских островов, недалеко от юго-восточной оконечности Аттики. Его учителем был Хрисипп Родосский, представитель древней книдской медицинской школы. Предполагается, что Книдская школа сформировалась под влиянием восточной медицины еще в VI в.; она продолжала эмпирические традиции египетских и вавилонских врачей, детально описывая отдельные комплексы болезненных симптомов и для каждой болезни разрабатывая свою, порой достаточно сложную, терапию. Сочинения врачей Книдской школы до нас не дошли, но их фрагменты, по-видимому, вошли в состав некоторых трактатов Свода Гиппократа[114],
Хрисипп Родосский был другом знаменитого математика и астронома IV в. Эвдокса. Именно с Хрисиппом Эвдокс после своего первого двухмесячного пребывания в Афинах (о котором так красочно рассказывает Диоген Лаэртий в биографии Эвдокса[115]) отправился в Египет. Это было задолго до завоеваний Александра, когда Египет еще находился под властью персов. Сколько времени пробыл Хрисипп в Египте, мы не знаем, но через какое-то время он вернулся в Афины, где занялся врачебной деятельностью. Видимо, там он встретился с Эрасистратом, который стал наиболее талантливым его учеником.
О жизни Эрасистрата у нас нет почти никакой информации. Имеются сведения, что некоторое время он жил на о-ве Кос, приобщаясь к знаниям и опыту врачей косской школы, а затем уехал в Александрию, где уже царствовал Птолемей I. Неизвестно, встречался ли он сГерофилом и каковы были взаимоотношения этих двух выдающихся представителей эллинистической медицины. Ясно, однако, что Эрасистрат не оставил в Александрии столь же глубокого следа, как Герофил. Имя Эрасистрата чаще называется в связи с Антиохией на Оронте, где он будто бы стал придворным врачом Селевка I, основателя династии Селевкидов, а затем его сына Антиоха I Со-гера[116]. Однако поскольку научно-исследовательская деятельность Эрасистрата во многих отношениях шла по тем же путям, что и деятельность Герофила, и поскольку в памяти последующих поколений Эрасистрат встал рядом с Герофилом, то было бы несправедливо, если бы мы не сказали несколько слов и о его достижениях.
Эрасистрат продолжил анатомические исследования Герофила — особенно в области нервной системы. Он подразделил нервы на двигательные и чувствительные, установил различие между большим головным мозгом и мозжечком, а также обратил внимание на извилины головного мозга человека и высших животных; большую сложность этих извилин он связал с более высоким уровнем интеллекта. В отличие от Герофила он утверждал, что кровь циркулирует только по венам, в то время как артерии он считал наполненными воздухом (эта господствовавшая в то время точка зрения основывалась на наблюдениях над трупами, артерии которых при вскрытии оказывались пустыми). Главным двигателем крови и воздуха по телу Эрасистрат признавал сердце. Авторы поздней античности рассказывают, что Эрасистрат производил в Антиохии живосечения на преступниках, поставлявшихся ему царем. Рассказы эти очень похожи на аналогичные сообщения о Герофиле. Это сходство наводит на размышления. Была ли это просто легенда, возникшая уже после смерти обоих великих врачей и распространенная на обоих? Или же Эрасистрат (а также сирийский царь) следовал в этом примеру Герофила (соответственно египетского царя). Первое из этих предположений представляется более вероятным. Если бы Эрасистрат анатомировал живых людей, то он легко мог бы убедиться, что его представление об артериях не соответствует истине (как в этом позднее убедился Гален, производивший вивисекторские опыты с высшими животными, в частности с обезьянами). С другой стороны, обывательские представления о научно-исследовательской работе, проводившейся врачами, слава о которых гремела по всему древнему миру, были благоприятной почвой для всякого рода злонамеренных сплетен.
В своей врачебной практике Эрасистрат придерживался иных принципов, чем Герофил. Он полемизировал с гуморальными гипотезами гиппократиков и скептически относился к терапевтическим методам, основанным на принятии внутрь лекарственных препаратов. Считая причиной почти всех болезней неправильное питание, Эрасистрат доказывал, что основным лечебным средством при любых заболеваниях является правильно выбранная диета.
Сообщается, что в последние годы своей жизни Эрасистрат полностью прекратил врачебную практику и целиком посвятил себя научным изысканиям. Именно в это время было, по-видимому, написано его основное (не дошедшее до нас) анатомическое сочинение «О рассечениях» (Διοαρέσεοηι βιβλία).
Как Герофил, так и Эрасистрат имели многочисленных последователей, которые так и именовались: «герофильцы» (Ήροφίλεοι) и «эрасистратцы» (Ερασισχράτειοι). В Александрии естественным образом преобладали герофильцы. Герофильцы развили широкую преподавательскую деятельность, сочетавшую лекции с наглядными демонстрациями и с практическими работами, выполнявшимися самими слушателями. Наиболее известные из них проводили занятия в Мусейоне. До нас дошли имена некоторых учеников Герофила — это Эвдем, Каллимах (не путать с поэтом Каллимахом), Бакхей из Танагры, Андрей, бывший лейб-медиком Птолемея IV Филопатора[117], а во II в. — Зенон и Мантий.
Вскоре после смерти Герофила в его шкале произошел раскол. Филин Косский, начавший свою деятельность в качестве ученика Герофила, образовал вместе с группой своих учеников новую медицинскую школу, которая получила наименование школы эмпириков.
В 250–150 гг. школа эмпирикой получила признание в Александрии, а затем нашла многочисленных приверженцев в других частях эллинского мира, а также в Риме. Ее теоретические установки сложились под большим влиянием скептической философии. В отличие от Герофила эмпирики утверждали, что занятия анатомией и физиологией не могут принести сколько-нибудь существенную пользу для практической врачебной деятельности. В основе последней, по их мнению, должен лежать опыт и только опыт. Задача врача состоит в том, чтобы хорошо знать симптомы болезней и чисто эмпирическим путем устанавливать, что именно следует предпринять в случае того или иного заболевания. При этом настоящий врач не должен ограничиваться своим личным опытом; он должен использовать также описания болезней (ίστορίοα — отсюда дошедший до нашего времени термин «история. болезни»), зафиксированные другими врачами. Отсюда вытекает важность изучения медицинской литературы (в том числе и трактатов Гиппократова свода) не для того, чтобы строить умозрительные заключения по поводу роли «соков», элементов и других причин, истинность или ложность которых все равно никогда не сможет быть проверена, а исключительно лишь для того, чтобы использовать практический опыт, накопленный врачебным сообществом. Естественно, что такая установка не могла способствовать развитию теоретических основ медицины, хотя она и не исключала того, что среди эмпириков встречались серьезные и знающие врачи. Одним из таких, получивших широкую известность эмпириков был Гераклид Тарентский, ученик герофильца Мантия, живший в Александрии, по-видимому, во второй половине II в. По словам Галена, это был врач, обладавший высоким профессиональным уровнем и выдающимися моральными качествами[118]. Гераклид написал несколько медицинских сочинений, пользовавшихся широкой известностью в первые века нашей эры. Учеником Гераклида был, между прочим, известный философ-скептик Эпесидем.
Наряду с эмпириками в Александрии возникла другая медицинская школа, представители которой получили наименование догматиков. Основной своей задачей догматики поставили изучение и комментирование Свода Гиппократа. Продолжали существовать и ортодоксальные «герофильцы». Вообще при последних царях династии Птолемеев медицина переживает в Александрии известный подъем, резко контрастирующий с общим упадком научной деятельности. В I в. среди врачей-герофильцев выделялся некий Хрисерм, учитель двух других врачей — Гераклида из Эритреи и Аполлония Миса, которых Страбон называет своими современниками[119]. Оба они написали книги по истории герофильской школы, которые были известны Галену[120]. Это были последние «герофильцы», о которых мы находим упоминания в литературе.
Из александрийских эмпириков I в. следует упомянуть Зопира, бывшего по преимуществу фармакологом (его рецепты неоднократно цитируются знаменитым врачом IV века н. э. Орибазием), и его ученика, Аполлония из Китиона, комментарий которого к гиппократовскому трактату «О членах» (Περί άρθρων) дошел до нашего времени. В предисловии к этому комментарию Аполлоний пишет, что он предпринял свою работу по предложению царя (Птолемея Авлета), которому он ее и посвящает. Два других сочинения Аполлония, из которых одно называлось Θεραπευτικά, а другое имело полемический характер, не сохранились.
На рубеже нашего летоисчисления центром наибольшей активности медицинских школ становится Рим. В это время наряду с эмпириками и догматиками появляются новые школы — методисты, пневматики, эклектики, различавшиеся теоретическими воззрениями и методами практического лечения. Несмотря на полемику, которую вели друг с другом представители этих школ, все они признавали Гиппократа классиком медицины и писали комментарии к тем или иным трактатам Гиппократова свода. Поскольку эти школы уже не имели непосредственного отношения к александрийской науке, мы на них больше останавливаться не будем.
Однако никакое изложение эллинистической медицинской пауки не могло бы считаться полным, если бы оно не включало рассмотрения жизни и деятельности величайшего врача и ученого поздней античности — Галена. Гален преодолел узкий прагматизм «эмпириков», схематизм «пневматиков» и других упомянутых выше медицинских школ, процветавших на территории Римской империи в первых веках нашей эры, и вышел на путь непредвзятого изучения человеческого организма, его строения и его функций. В этом отношении Гален явился прямым продолжателем традиций великих врачей III в. Герофила и Эрасистрата и потому его можно считать завершителем александрийской медицинской традиции.
Клавдий Гален (129–199 гг.) родился в Пергаме. В доме своего отца (архитектора) он получил многостороннее и достаточно глубокое по тому времени образование. Потом он изучал философию и медицину в Смирне, Коринфе и Александрии, работал в Пергаме, а в 162 г. переехал в Рим, где и жил (с небольшим перерывом) вплоть до смерти. Как ученый Гален был почти универсален, как писатель — необычайно плодовит: лишь в области медицины число написанных им трудов достигло 150 (из них сохранилось около 80), а общий список сочинений Галена включает около 250 названий. Правда, эта плодовитость имела и свои теневые стороны: труды Галена в большинстве своем страдают многословием и подчас не слишком оригинальны (последнее относится главным образом к его философским трактатам). Как человек Гален был, по-видимому, не очень привлекателен: писавшие о нем авторы отмечают его самолюбие, его почти детское тщеславие, карьеризм. Эти недостатки, однако, не должны заслонить от нас заслуги Галена-ученого.
Прежде всего, Гален был прекрасным анатомом, и этим он выгодно отличался от большинства «эмпириков», «методистов», «пневматиков» и «эклектиков». Он изучал анатомию не только человека, но и разных животных — быков, овец, свиней, собак и т. д. Стимулом к этим исследованиям было то обстоятельство, что вскрытие трупов людей в Риме было запрещено — как прежде в Элладе. Затрудняя, с одной стороны, деятельность врачей, этот запрет, с другой стороны, оказал благотворное воздействие на развитие сравнительной анатомии животных. В частности, Гален заметил большое сходство в строении человека и обезьяны; водившаяся в то время на юго-западе Европы маленькая мартышка была тем объектом, над которым он проводил опыты (в том числе и вивисекторские) по изучению мышц, костей и других органов тела. Физиологические воззрения Галена базировались в основном на теории «соков» Гиппократа. Гален пре красно знал труды своего великого предшественника и комментировал их не только с медицинской, но также с языковой и текстологической точки зрения. Большое влияние на средневековую медицину оказало учение Галена об «основных силах», присущих отдельным органам и распределенных по телу согласно мудрому установлению природы; в этом учении отразились телеологические аспекты мировоззрения Галена. Детальному изучению Гален подвергнул центральную и периферическую нервные системы, в частности он пытался установить связь спинномозговых нервов с процессами дыхания и сердцебиения. Сравнительно простым образом Гален опровергнул распространенную в то время точку зрения о том, что артерии наполнены не кровью, а воздухом: это было им сделано путем перетягивания ниткой и последующего вскрытия артерий у живого организма. Несмотря на этот опыт, в котором Гален выступает перед нами в качестве провозвестника научного экспериментального метода в физиологии, истинный механизм работы сердца и кровообращения остался им не разгаданным.
В своей терапии наряду с воздухо- и водолечением и диететикой Гален придавал большое значение лекарственным препаратам, порой необычайно сложным, включавшим в себя до нескольких десятков компонентов, среди которых фигурировали яды и другие, порой неожиданные и неаппетитные вещества. Надо признать, что в рецептурных предписаниях Галена имелись элементы донаучного знахарства, но это только способствовало их популярности как в то время, так и позднее, в эпоху средневековья.
Александрийская наука в эпоху Римской империи
Переход власти от Птолемеев к римлянам прошел для населения Египта сравнительно безболезненно. Октавиан Август оставил в неприкосновенности административную структуру Египта и существовавшие там религиозные и культурные учреждения. В отличие от других римских провинций Египет был подчинен непосредственно императору, принявшему титул царя Египта и управлявшему страной через своего префекта. В пределах Египта были расквартированы три (позднее — два) римских легиона; помимо префекта, лишь некоторые высшие должности (эпистратеги) были замещены римлянами. Для Александрии, и в частности для Мусейона, страдавшего в эпоху последних Птолемеев от государственных неурядиц и царских прихотей, наступил период относительного благополучия. Государственное субсидирование Мусейона было обеспечено авторитетом императорской власти; в свою очередь, император оставил за собой право назначать членов Мусейона и его руководство — жреца (ίβρογραμματβύς) и заведующего — эпистата (επιστάτης). Однако никаких попыток романизации Мусейона императорская власть не предпринимала: как и раньше, подавляющее число членов Мусейона были греками.
В научную деятельность Мусейона римляне, как правило, не вмешивались. Имеется, правда, курьезное сообщение Светония о том, что император Клавдий повелел организовать наряду с Мусейоном второе аналогичное учреждение — Клавдиум и «распорядился, чтобы из года в год по установленным дням сменяющиеся чтецы оглашали в одном из них этрусскую историю, а в другом — карфагенскую: книга за книгой, с начала до конца, как на открытых чтениях»[121]. Эти нововведения, по-видимому, не пережили самого Клавдия.
Веспасиан был вторым, после Октавиана Августа, императором, посетившим Египет (в 69 г. н. э.). Среди приветствовавших его представителей населения Александрии находились и ученые, очевидно члены Мусейона. Сообщается, что во время своего пребывания в городе Веспасиан неоднократно с ними беседовал.
Во II в. н. э. монархами — покровителями наук считались императоры Адриан, Антонин Пий и Марк Аврелий. В связи с Мусейоном источники чаще всего упоминают имя Адриана. В 130 г. н. э. Адриан совершил поездку в Египет и, находясь в Александрии, посещал Мусейон и даже принимал участие в происходивших там ученых дискуссиях. Ряд лиц были назначены им в это время членами Мусейона, причем, помимо профессиональных ученых (среди которых были софисты Антоний Полемон из Лаодикеи и Дионисий Милетский[122]), в Мусейоне оказались высокопоставленные чиновники, бывшие военачальники и даже известный атлет Асклепиад. Следует также отметить, что по личному распоряжению Адриана эпистатом Мусейона стал учитель императора Л. Юлий Вестин (насколько нам известно, это был первый случай, когда во главе Мусейона оказался на грек, а римлянин). Отсюда можно заключить, что к этому времени Мусейон стал терять облик чисто научного учреждения и что членство в нем во многих случаях сделалось синекурой для лиц, тем или иным путем угодивших императору. Это, впрочем, не означало, что научная работа в Мусейоне полностью прекратилась. Наоборот, именно в римскую эпоху наблюдается новый подъем александрийской науки, причем можно не сомневаться, что этот подъем был тем или иным образом связан с деятельностью Мусейона.
Выше указывалось, что последние века до нашей эры были отмечены упадком александрийской науки — за исключением, может быть, гуманитарных наук и медицины. Подобная ситуация имела место, по-видимому, и в начальный период римского господства, по крайней мере до конца I в. н. э. До нас дошли имена некоторых ученых, возглавлявших в это время научную работу в Мусейоне, — все это были грамматики или историки. Так, при Октавиане Августе это был выдающийся грамматик и лингвист Трифон, а позднее — комментатор александрийских поэтов (Феокрита, Каллимаха и др.) Теон. Преемником Теона по руководству Мусейоном был Апион (в царствование Калигулы он возглавил посольство от имени александрийских греков, выступившее с обвинениями против еврейской общины[123]). Апиону наследовал грамматик и историк Хэремон, который в сочинении, посвященном истории Египта (Αιγυπτιακή ιστορία), нарисовал романтически идеализированную картину Древнего Египта. В49 г. Хэремон был отозван в Рим в качестве одного из воспитателей будущего императора Нерона (другим воспитателем Нерона был, как известно, философ Сенека). На этом дошедший до нас список руководителей Мусейона обрывается.
Однако уже в конце I в. н. э. в Александрии появляются крупные ученые, работавшие в области математических наук. Прежде всего, это Менелай Александрийский — выдающийся астроном и математик, время жизни которого определяется тем фактом, что в 98 г. н. э., находясь в Риме, Менелай производил астрономические наблюдения, на которые ссылается Птолемей в «Альмагесте». О нем у нас еще пойдет речь в пятой главе настоящей книги, посвященной эллинистической астрономии. В истории математики основная заслуга Менелая состояла в том, что он явился основоположником сферической тригонометрии.
Другим замечательным математиком этой эпохи был Герон Александрийский. Ввиду практически полного отсутствия биографических данных о Героне датировка его жизни и деятельности долгое время представляла для историков науки почти неразрешимую задачу. В настоящее время в результате изысканий Нейгебауэра и других исследователей[124] можно считать установленным, что время жизни Герона падает примерно на вторую половину I в. н. э., т. е оказывается, что он был современником Менелая. Обширный список в большинстве своем не дошедших до нас сочинений Герона показывает, что это был исключительно разносторонний и плодовитый ученый. О его достижениях в области теоретической и прикладной механики будет рассказано в шестой главе настоящей книги, здесь же мы ограничимся характеристикой того места, которое он занял в истории математических наук.
Из математических работ Герона мы знаем лишь одну — «Учение об измерениях» (Μετρικά), рукопись которой была обнаружена в одной из константинопольских библиотек всего лишь в 1896 г. От других его сочинений в области математики до нас дошли лишь заглавия; это — комментарий к «Элементам» Эвклида и «Определения», представлявшие собой введение в элементарную геометрию. Трудно судить о том, в какой мере эти не сохранившиеся сочинения продолжали традиции классической греческой математики. Что же касается «Метрики», то она знаменовала собой резкий разрыв с этими традициями. В отличие от геометрической алгебры с ее строго логическими доказательствами в духе Архимеда или Аполлония из Перги мы встречаемся здесь с чем-то вроде энциклопедии вычислительной математики. Цель, которую ставил перед собой Герон в этом сочинении, состояла не столько в уяснении логической взаимозависимости математических понятий и образов, сколько в изложении методов вычисления, которые могут быть применены в измерительной или инженерной практике. «Метрика» делится на три книги: в первой из них приводятся методы измерения плоских и некоторых искривленных поверхностей, во второй содержатся формулы для вычисления поверхностей и объемов трехмерных тел, а третья включает задачи на деление поверхностей и объемов в заданных отношениях. В целом «Метрика» представляет собой собрание задач, логически не связанных друг с другом и решаемых не в общем виде, а на конкретных числовых примерах. Это, впрочем, но мешает Герону в отдельных случаях приводить строгие доказательства или ссылаться на соответствующие теоремы из «Элементов» Эвклида или «Конических сечений» Аполлония из Перги. Так, например, строго доказывается известная «Формула Герона» для вычисления площади треугольника, когда даны длины трех его сторон. В других случаях приводятся приближенные формулы, которые излагаются догматически и лишь иллюстрируются числовыми примерами (к ним относится формула для приближенного извлечения корня из целого числа, не являющегося точным квадратом другого числа).
Приближенные формулы и методы вычисления, приводимые в «Метрике», не были, разумеется, собственным изобретением Герона (что, конечно, не исключает возможности его личного вклада в отдельных случаях). В большей своей части они, по-видимому, уже издавна использовались греками в практике инженерной и строительной деятельности. Частично же они могли быть заимствованы греческими мастерами и строителями у культурных народов Востока; несомненно, что вероятность таких заимствований сильно возросла после походов Александра и включения стран Ближнего и Среднего Востока в орбиту греческого мира. Мы знаем, что вавилонские математические тексты представляли собой, как правило, сборники конкретных задач, для решения которых задавались алгоритмы, иногда достаточно сложные. Эти алгоритмы не выводились с помощью математической дедукции (которая была чужда вавилонской математике); они задавались догматически и проверялись в ходе их практического применения. Нечто подобное мы находим и в «Метрике» Герона.
«Высокая» греческая математика, относившаяся пренебрежительно ко всякого рода практической деятельности, к τέχνη, игнорировала приближенные формулы и методы вычисления. Заслуга Герона состояла в том, что он свел математику с неба на землю и показал, что между строгой дедуктивной математикой и вычислительными методами, применяемыми в практической деятельности человека, не существует непроходимой пропасти.
Две грандиозные фигуры доминируют в греческой науке II в. н. э. Это знаменитый врач и физиолог Клавдий Гален и великий астроном, завершитель геоцентрической системы мира, Клавдий Птолемей. О Галене мы уже рассказали в разделе данной главы, посвященном александрийской медицине, с которой Гален был связан прежде всего генетически — в порядке научной преемственности (его основным местопребыванием в зрелую пору жизни стал, как известно, Рим).
Что же касается Птолемея, то его важнейшие достижения относятся к области астрономии и — в меньшей мере — к географии и к оптике; об этих достижениях будет рассказано соответственно в четвертой, пятой и шестой главах. Кроме того, Птолемей был прекрасным математиком, хотя математика была ему нужна главным образом для решения астрономических и картографических задач. Но он не чуждался и чисто математической проблематики, о чем свидетельствует то, что им было написано сочинение о параллельных линиях и о пятом постулате Эвклида (о чем сообщает Прокл). Текст этого сочинения утрачен, и сколько-нибудь детальными сведениями о его содержании мы не располагаем (Прокл проводит якобы птолемеево доказательство пятого постулата Эвклида, содержащее грубую ошибку).
Следует отметить, что в «Альмагесте» Птолемей широко пользуется заимствованной у вавилонян шестидесятиричной системой нумерации, применяя ее не только для дуг круга, но также для отрезков и площадей. Таким образом, «минуты», «секунды» и т. д. становятся у него отвлеченными числами, не связанными с каким-либо определенным видом величины. Любопытно, что в его записи дробей существовал символ о («омикрон»), служивший для обозначения отсутствия одного из шестидесятиричных разрядов. Это — первое появление нуля в европейской математической литературе.
Работы Менелая, Герона, Птолемея показывают, что в Ι—II вв. н. э. в Александрии происходит возрождение математических наук. При этом обращает на себя внимание следующее обстоятельство: если в IV–III вв. центральным направлением, разрабатывавшимся александрийскими математиками, была геометрическая алгебра, то после Аполлония из Перги (II в.) это направление заходит в тупик и теперь заметный прогресс наблюдается в прикладной математике (приближенные вычисления) и в разделах, связанных с астрономией (сферическая тригонометрия), картографией и оптикой. То, что этот прогресс не получил дальнейшего развития в античную эпоху, зависело не от внутренних закономерностей развития науки, а от внешних условий, оказавших крайне неблагоприятное воздействие на научную деятельность того времени, и в частности на судьбу александрийской научной школы.
Эти неблагоприятные условия дали себя знать уже начиная с конца II в. н. э. Для Римской империи III век н. э. был веком политического развала и социального разложения. После смерти императора Коммода (в 192 г.) начинается ожесточенная борьба за императорский трон между сенатом и различными армейскими группировками. В период со 192 по 284 год на римском престоле сменилось 22 императора, большинство которых погибло насильственной смертью. В подавляющем числе случаев эти монархи были грубыми, необразованными временщиками, которым не было никакого дела до науки и культуры и основная забота которых состояла в том, чтобы как можно дольше продержаться на троне и хотя бы на время отразить врагов, наседавших на империю со всех сторон. На севере, в Галлии, это были франки и алеманны, на северо-востоке, на Дунае — готы, сарматы и маркоманны, в Азии — новая персидская держава Сассанидов. В различных частях империи вспыхивают восстания крестьян, колонов и рабов, усиливаются центробежные тенденции, приводящие к возникновению новых государственных образований, которые раздуваются, а затем лопаются как мыльные пузыри. Одним из таких государств стала Пальмира, центром которой был одноименный город — оазис, расположенный на перекрестке торговых путей в восточной части Сирийской пустыни. В 60-е годы III в. н. э. Пальмира объединила под своей властью всю
Сирию, значительную часть малой Азии, Аравию и Египет вместе с Александрией. После разгрома Пальмиры войсками императора Аврелиана (270–275 гг. н. э.) в Александрии вспыхивает антиримское восстание, руководимое неким Фирмусом. Отсутствие материалов не позволяет нам делать какие-либо заключения о социальной природе и целях этого восстания, но его последствия оказались гибельными для александрийской науки. Римляне окружили восставших в Брухейоне — центральном районе Александрии, в котором был расположен бывший дворцовый комплекс, включавший Мусейон. В результате осады Брухейон был разрушен и сожжен, а вместе с ним погибли остатки царской Библиотеки. Это произошло в 272 г. н. э. Правда, за пределами Брухейона еще оставалась «малая» библиотека, расположенная на территории храма Сераписа. И хотя деятельность Мусейона, по-видимому, окончательно прекратилась, в Александрии еще продолжали жить и работать ученые. Любопытно, что это были в основном математики. И вот о деятельности этих последних могикан александрийской математической школы нам остается рассказать в этой главе.
Прежде всего это был Диофант, величайший математик III столетия. В его лице мы встречаемся с представителем нового, алгебраического направления в античной математике, которое не находилось ни в какой связи с традиционной греческой геометрией. В свете новейших открытий в области ориенталистики можно считать вероятным, что корни алгебры Диофанта (так же, как и приближенных формул Герона) восходят к вавилонской математике. К сожалению, мы не располагаем никакими промежуточными звеньями, которые позволили бы проследить процесс переноса вавилонских алгебраических методов на эллинистическую почву.
О жизни и личности Диофанта у нас нет никаких сведений, если не считать стихотворной эпиграммы-задачи, из которой следует, что Диофант прожил 84 года. Основное сочинение Диофанта — «Арифметика» — посвящено «достопочтеннейшему» Дионисию. Мы знаем, что в середине III в. в Александрии существовал известный христианский деятель Дионисий, с 231 по 247 г. стоявший во главе александрийского христианского училища для юношества, а в 247 г. ставший епископом Александрии. Если в посвящении к «Арифметике» речь идет именно о нем, то это почти единственное указание на время жизни Диофанта, которым мы располагаем.
«Арифметика» состояла из тринадцати книг, из которых до нас дошли только шесть. Уже само построение «Арифметики» существенно отличается от дедуктивно-аксиоматического способа изложения, принятого в классической греческой математике. «Арифметика» представляет собой собрание задач, которые решаются независимо друг от друга; эти решения подчас бывают очень остроумны, хотя, по-видимости, не претендуют на всеобщность. Было бы однако неправильно считать, что Диофант не владел общими методами или недооценивал их значения. В первой книге Диофант рассматривает задачи, приводящие к определенным квадратным уравнениям. Судя по всему, он умел решать эти задачи не хуже вавилонян и индийцев, причем в эпоху Диофанта, по-видимому, уже существовала устойчивая традиция решения таких задач.
Начиная со второй книги, Диофант рассматривает главным образом неопределенные уравнения — сначала второго, а потом и более высоких порядков. В Европе нового времени «Арифметика» стала известна в XVI в.; развитые Диофантом методы решения неопределенных уравнений оказали огромное влияние на Виета и Ферма. Эти методы находятся в таком же отношении к позднейшей алгебре и теории чисел, в каком архимедовы методы вычисления площадей и объемов находятся к анализу бесконечно малых.
Для обозначения алгебраических выражений Диофант впервые ввел буквенную символику, сделав тем самым важный шаг вперед как по сравнению с числовой алгеброй вавилонян, так и по сравнению с греческой геометрической алгеброй классического периода. В его сочинении алгебра впервые находит свой собственный, присущий ей язык; правда, этот язык очень отличается от алгебраической символики нашего времени. Так, например, у Диофанта еще нет знака + («плюс»); если нужно сложить несколько членов, он просто пишет их друг за другом. Для вычитания же у него существует особый символ Д (можно ли рассматривать этот символ как обозначение отрицательного числа, остается неясным). В качестве примера укажем, что уравнение
x3 + 8x — (5x2 + 1) = x
выглядит в записи Диофанта следующим образом:
Κδαςςη Д Δ*εΜ°αιςα
Для историка математики большой интерес представляет вопрос о том, был ли Диофант гениальным одиночкой, не имевшим ни непосредственных предшественников, ни последователей, или же его работы вписывались в какую-то уже существовавшую в александрийской математике традицию. В пользу второй возможности говорят указания на другого математика той же эпохи — Анатолия Александийского, на которого ссылается неоплатоник IV в. Ямвлих Анатолий (позднее ставший епископом Лаодикийским) написал сочинение в десяти книгах «Введение в арифметику», текст которого до нас, к сожалению, не дошел. Сравнение этого сочинения с трудами Диофанта, вероятно, позволило бы уяснить многое в тенденциях развития арифметико-алгебраического направления в александрийской науке. Однако на фоне общего культурного упадка в эпоху гибели античного мира эти тенденции были обречены на увядание. И это несмотря на то, что работы Диофанта были хорошо известны александрийским математикам IV в. н. э. Паппу и Теону. А знаменитая Гипатия написала комментарий к арифметике Диофанта.
Конец III и начало IV в. н. э. характеризуются мощным наступлением христианской идеологии на языческую античную культуру. До поры до времени христиане еще оставались преследуемой религиозной сектой. Своего апогея гонения на христиан достигли при императоре Диоклетиане (285–305 гг.), которому удалось добиться известной консолидации Римской империи. Однако ни кровавые преследования последователей учения Христа, ни разрушение христианских храмов, ни сожжение священных книг не могли задержать победного шествия нового вероучения. Усиление репрессий приводило лишь к тому, что в лоно христианской церкви вливались тысячи и тысячи новых ее адептов. И уже через несколько лет после смерти Диоклетиана на престол вступил Константин Великий (312–337 гг.) — первый римский император, официально принявший христианство.
Ранее христианское мироощущение было во всех отношениях враждебно античной культуре. Разумеется, среди христиан было немало образованных людей, обладавших достаточно широким кругозором, чтобы надлежащим образом оценивать достижения искусства и литературы, философии и науки предшествовавших столетий (к ним, несомненно, принадлежали упомянутые выше епископы Дионисий и Анатолий). Но основная масса христиан относилась к этим достижениям как к порождениям богопротивного язычества. Классическое греческое искусство было для нее мерзостным идолопоклонством, великая греко-римская литература рассматривалась как собрание басен, недостойных внимания верующего христианина, философия же ценилась лишь постольку, поскольку в ней находили идеи, в той или иной мере родственные христианству. Естественно, что и научная деятельность, результаты которой были воплощены в десятках тысяч папирусных свитков, еще хранившихся в библиотеках Александрии, Рима и других городов, представлялась рядовому малограмотному христианину чем-то, по крайней мере, подозрительным. И когда император Феодосии (379–395 гг.) распорядился о закрытии языческих храмов, фанатичная христианская толпа, предводительствуемая патриархом Александрии Феофилом, разгромила Серапейон и вместе с ним уничтожила «малую» библиотеку — последнее оставшееся в Александрии собрание письменных памятников античной науки и литературы. Это было в 390 г. н. э.
Нет ничего удивительного, что деятельность александрийских ученых этого столетия — а это были, как мы уже сказали, в основном математики — отмечена печатью обреченности. Самым выдающимся из них был, несомненно, Папп Александрийский, живший в начале IV в. Он составил комментарий к «Началам» Эвклида, к «Альмагесту» Птолемея и еще к некоторым другим сочинениям великих математиков прошлого. Но его важнейшим трудом был «Математический сборник» (Συναγωγή), состоявший из восьми книг, из которых большая часть до нас не дошла. В этом сочинении Папп собрал все, что он нашел интересного в трудах своих предшественников; по этой причине «Сборник» является бесценным источником сведений о содержании утерянных книг Эвклида, Аполлония и других греческих математиков. Невольно создается впечатление, что Папп сознательно подводит итоги всей многовековой истории александрийской математики, излагая в своей книге те ее достижения, которые он хотел бы сохранить и передать будущим поколениям. Наряду с этим Папп приводит и свои собственные результаты, показывающие, что он был не только компетентным компилятором, но и творческим исследователем высокого класса. Наибольшее значение имеют его теоремы, относящиеся к изучению кривых на торе и других поверхностях. Некоторые теоремы Паппа, вновь доказанные в XVII в. Дезаргом и Паскалем, положили начало проективной геометрии как особой ветви математической науки.
Менее значительной фигурой был Теон Александрийский, живший в конце IV в. и написавший комментарий к «Альмагесту», а также заново издавший «Начала» Эвклида. Он известен главным образом как отец Гипатии — единственной женщины, имя которой сохранилось в истории греческой науки. О работах самой Гипатии мы знаем мало. Она занималась платоновской философией и писала комментарии к Аполлонию и, как было уже упомянуто выше, к Диофанту. Всесторонняя образованность Гипатии, ее ум, красота и личное обаяние снискали ей уважение и восхищение многих видных деятелей той эпохи, в том числе епископа Птолемаиды Синесия и префекта Александрии Ореста. В 415 г. она была буквально растерзана толпой христианских фанатиков, напавшей на нее прямо на улице. Ее трагическая гибель как бы символизировала конец александрийской научной школы.
Глава четвертая Эволюция образа ойкумены
Походы Александра Македонского в большей степени, чем любое другое событие предшествовавшей греческой истории, расширили географический кругозор греков. Правда, большинство стран, завоеванных греческими войсками в 333–323 гг., входило до этого в состав великой Персидской державы и потому было известно грекам хотя бы понаслышке. Исключение составляли, пожалуй, лишь Согдиана, часть Индии, лежавшая к востоку до Инда (дальше которого войска Дария не проходили), и пустынная Гедрозия (южный Белуджистан), впервые в истории пересеченная армией Александра на ее обратном пути из Индии. Но одно дело знать о стране из третьих рук, по рассказам, часто недостоверным и изобиловавшим фантастическими подробностями, а другое — пройти ее из конца в конец своими ногами, непосредственно ознакомившись с ее рельефом, особенностями ее природы, с образом жизни и обычаями населяющих ее народов, а также убедиться в ее реальных размерах, которые довольно точно оценивались работниками «научного штаба» Александра. Немаловажное значение имела также морская экспедиция Неарха, проплывшего от устья Инда до Персидского залива и разрешившего многие вопросы, которые оставались до этого времени неясными. Все это способствовало пополнению географических знаний об Азии, что, в свою очередь, существенно стимулировало прогресс географической науки.
Но дело было не только в этом. Помимо увеличения реальных географических знаний, конец IV и весь III в. ознаменовались блестящими достижениями в области географии, которые позволяют считать именно эту эпоху временем рождения научной географии. Этот процесс связан с именами крупнейших ученых того времени — Эвдокса, Дикеарха, Эратосфена и уже во II в. — Гиппарха. Из чисто описательной дисциплины, которая черпала свою информацию из личных наблюдений, рассказов моряков и торговцев и прочих «очевидцев», а порой из сообщений, полученных через вторые и. третьи руки, или из местных легенд и преданий, география сделалась точной наукой, использующей математические методы и данные астрономических наблюдений. В первую очередь это отразилось на составлении географических карт. После Эратосфена и Гиппарха среди греческих географов начало укрепляться убеждение, что расстояния между географическими объектами следует наносить не произвольно, «на глазок», а путем более или менее точного определения их широт и долгот. Таким образом, география стала принимать тот облик, который она в значительной мере сохранила до нашего времени.
Идея шарообразности Земли
Следует указать на одно обстоятельство, имевшее первостепенное значение для становления географической науки. Согласно представлениям Гекатея, Геродота и других ученых VI–V вв., вся ойкумена представлялась в виде диска или плоской лепешки, на которой континенты (Европа, Азия и Ливия), моря, реки и горы располагались достаточно произвольным образом. У Гекатея этот диск считался окруженным мощной круговой рекой — Океаном (представление, идущее еще от Гомера и Гесиода). Геродот ставит под сомнение существование Океана, и количество описываемых им географических объектов существенно увеличивается, но общая схема ойкумены остается у него прежней. От представления о шарообразности Земли эти ученые стояли еще очень далеко.
Идея шарообразности Земли зародилась, по-видимому, в пифагорейской школе, а потом и за ее пределами, среди ученых, занимающихся астрономией. Эта идея уже четко формулируется Платоном[125], причем можно думать, что Платон, сначала общавшийся с Архитом, а потом с Теэтетом и Эвдоксом, заимствовал ее у них. Но у Платона еще нет попыток обоснования шарообразной формы Земли или оценок ее размеров. Все это мы впервые находим у Аристотеля (этим вопросам посвящена последняя глава второй книги трактата «О небе»)[126]. Помимо физических соображений, состоящих в том, что все тяжелые тела, стремящиеся к центру космоса, располагаются равномерно вокруг этого центра, Аристотель указывает на
следующие эмпирические факты, свидетельствующие в пользу шарообразности Земли. Во-первых, это тот факт, что во время лунных затмений граница между освещенной и затемненной стороной Луны имеет всегда дугообразный характер. Во-вторых, это хорошо известный факт смещения небесного свода при передвижении из одного места на поверхности Земли в другое. «Так, — пишет Аристотель, — некоторые звезды, видимые в Египте и в районе Кипра, не видны в северных странах, а звезды, которые в северных странах видны постоянно, в указанных областях заходят»[127]. То, что такие изменения небосвода происходят при небольших перемещениях по поверхности Земли, указывает, по мнению Аристотеля, на сравнительно небольшие размеры земного шара. Далее Аристотель ссылается на некоторых математиков, не называемых им по имени, которые оценивали длину окружности Земли в 400 тыс. стадиев.
Можно считать несомненным, что не только определение окружности Земли, но и аргументы в пользу ее шарообразности (за исключением чисто физических) были заимствованы Аристотелем у кого-то из математиков. У кого же именно? По-видимому, у Эвдокса или у кого-нибудь из его школы (Каллиппа?). Но как раз Эвдокс был тем ученым, который, будучи привержен идее шарообразности Земли, постарался обосновать эту идею с помощью астрономических наблюдений. Страбон свидетельствует о том, что Эвдокс наблюдал с о-ва Книд звезду Канопус (а созвездия Киля)[128], которая впоследствии была использована Посидонием для определения размеров земного шара. Естественно предположить, что наблюдения Канопуса Эвдоксом служили той же цели.
К сожалению, о достижениях Эвдокса в области географии мы можем только гадать, потому что его сочинения до нас не дошли (хотя Страбон неоднократно ссылается на его труд, в котором, помимо прочего, содержалось подробное описание Греции)[129].
Но есть одна вещь, которую мы можем приписать Эвдоксу с довольно высокой степенью вероятности. Это учение о зонах (или поясах), излагаемое Аристотелем в «Метеорологике»[130]. Аристотель выделяет на земном шаре пять климатических зон: две полярные (арктическую и антарктическую), две умеренные (в северном и соответственно южном полушарии) и одну экваториальную.
Экваториальная зона отделена от умеренных зон тропиками, а умеренные зоны отграничены от полярных полярными кругами. По мнению Аристотеля, только умеренные зоны пригодны для обитания людей:, в полярных зонах люди не селятся из-за холода, а в экваториальной — из-за жары. Мы живем в северном умеренном поясе; в южном умеренном поясе тоже могут жить люди, только y нас с ними нет никакой связи, поэтому о них мы ничего не знаем. Учение о земных зонах не было, по всей видимости, изобретением Аристотеля. Ему предшествовало предоставление о небесных кругах, которое было отчетливо осознано греческими астрономами по крайней мере в V в. Понятие небесных тропиков было теснейшим образом связано с понятием эклиптики; между тем источники сообщают, что афинский астроном второй половины V в. Эйнопид не только имел представление об эклиптике, но, возможно, пытался измерить угол наклона плоскости эклиптики к плоскости экватора[131]. О Полярном круге, который в то время отождествлялся с кругом не заходящих за горизонт звезд, было известно уже давно. И вот, когда утвердилась идея шарообразности Земли, эти круги были спроектированы на земной шар, выделив на нем несколько поясов, которые естественным образом стали рассматриваться в качестве климатических зон. Подобная проекция небесных кругов на Землю явилась, по всей видимости, заслугой Эвдокса.
Здесь следует сделать такое замечание. Экватор и тропики были теми кругами, которые могли быть определены на земном шаре достаточно точно. Так, тропик Рака (северный тропик) был кругом, на котором вертикальные предметы не отбрасывают тени в момент летнего солнцестояния, поскольку солнце стоит в это время прямо над головой. Соответственно, на тропике Козерога (южном тропике) солнце стоит над головой во время зимнего солнцестояния. Иначе обстояло дело с полярными кругами, если определять их как круги звезд, всегда находящихся над горизонтом. Эти круги зависят от положения наблюдателя. Для Аристотеля, находившегося в Греции, Северный полярный круг проходил где-то через центральные области современной России. Севернее этих областей, по мнению Аристотеля, лежали необитаемые холодные страны.
Таким образом, говорит Аристотель, нелепо изображать обитаемую землю (ойкумену) в виде круглого диска. Ойкумена ограничена по высоте — с севера и с юга. Если же идти по ней с запада на восток, то при условии, что нам не помешают морские пространства, мы придем в ту же точку только с другой стороны. Таким образом, ойкумена это не диск, не овал, не прямоугольник (как полагал историк IV в. Эфор), но, скорее, замкнутая лента, на которой суша чередуется с морями. Если же учитывать только известную нам часть ойкумены (от Индии до Геракловых Столпов с востока на запад и от Меотиды до Эфиопии с севера на юг), то окажется, что ее длина относится к ширине примерно как пять к трем.
В «Метеорологике» разбираются многие вопросы, имеющие прямое отношение к физической географии. Так, Аристотель делает ряд глубоких замечаний о круговороте воды в природе, о периодической смене суши и моря, об изменении течения рек. Объяснения же многих других явлений кажутся нам теперь смехотворно наивными.
Описательной географии Аристотель уделяет мало места: эта наука его, по-видимому, вообще не интересовала. Об Океане он почти ничего не говорит и не упоминает о таком явлении, как приливы и отливы (вероятно, оно осталось ему совершенно неизвестным). Утверждая, что самые большие реки стекают с самых высоких гор, Аристотель приводит в подтверждение этого несколько примеров. В целом же географические пассажи, встречающиеся в «Метеорологике», содержат мало конкретных сведений, которые обнаруживали бы сколько-нибудь существенный прогресс по сравнению с Геродотом.
Эпоха эллинизма. Дикеарх
Как уже было отмечено в начале этой главы, восточный поход Александра в 333–323 гг. сыграл роль грандиозной географической экспедиции, в большой степени расширившей познания греков в отношении стран Ближнего и Среднего Востока. После восточного похода известный грекам мир существенно изменился по сравнению с тем, каким он им представлялся до этого. Этот измененный и намного расширившийся мир подлежал изучению и нанесению на карты географами эллинистической эпохи.
Возникновение эллинистических государств само по себе не добавило многого к тому, что стало известно при жизни Александра. Но уже тот факт, что Селевкиды и Птолемеи установили связи со своими соседями, находившимися ранее за пределами известной грекам ойкумены, не мог не содействовать поступлению информации из стран, бывших до этого совершенно незнакомыми. Так, Селевк I Никатор вступил в контакт и завязал дружеские отношения с индийским царем Чандрагуптой, столица которого — город Паталипутра (по-гречески Палиботра) — находилась на Ганге — реке, о которой ничего не знал не только Геродот, но даже Аристотель. В Вавилон, бывший в то время столицей Селевка, прибыли индийские послы; в свою очередь, к Чандрагупте был направлен Мегасфен, умный и образованный грек, сделавший все возможное для подробного ознакомления с новой страной, ее природой и ее населением. Книга, которую затем написал Мегасфен, до нас не дошла, но из тех ссылок, которые на нее делают Диодор, Страбон и Арриан (в сочинении Ινδική), можно заключить, что эта книга отличалась богатством, полнотой и достоверностью сообщавшихся в ней сведений. Достаточно привести в качестве примера, что Мегасфен дает детальное описание кастовой структуры индийского общества, причем высшую касту — касту браминов — он называет философами. Для образованного грека того времени кастовое общество Индии могло показаться осуществлением идеала общественного устройства, нарисованного в «Государстве» Платона. Как в этом, так и в других пунктах изложение Мегасфена подтверждается индийскими литературными и археологическими памятниками. Надо сделать, однако, следующую оговорку. Сведения Мегасфена ограничивались северной частью Индии. О южной оконечности полуострова и о Декханском плато в центре он не имел, по-видимому, почти никакой информации. В его представлении южный берег Азии образовывал почти прямую линию, проходившую от Персидского залива до восточных окраин Индии. Впрочем, Мегасфен знал о существовании большого острова — Тапробаны (Цейлона) — к югу от Индии, первые сведения о котором греки получили от индийцев еще во время похода Александра.
Новая информация поступала к грекам также из областей Африки, граничивших с царством Птолемеев. При первых царях этой династии произошло окончательное освоение Красного моря, на западном берегу которого греки основали ряд поселений и торговых факторий, служивших промежуточными инстанциями в торговле Египта с Аравией, Индией и Западной Африкой. Вдоль западного берега Африки греческие мореплаватели доплывали до восточной оконечности этого материка — мыса Гандафуй, который у Страбона называется Южным Рогом (Νότου Κέρας)[132]. Прилегающая к этому мысу территория была известна под именем «коричной страны» (Κυνναμωνοφόρος), под которой надо, очевидно, понимать нынешнее Сомали.
Установление власти Птолемеев в Египте имело своим следствием расширение сведений о странах, лежащих к югу от Египта. Если для Геродота последним известным ему пунктом вверх по течению Нила была столица Эфиопии Мероэ[133], то теперь греческие экспедиции, направлявшиеся в эту часть Африки, привели к знакомству с территориями, лежащими у слияния Белого и Голубого Нила и даже еще дальше на юг. Одна из этих экспедиций, посланная Птолемеем I Сотером, возглавлялась неким Филоном, который, по словам Страбона, оставил описание своего путешествия[134]. Это были места, которые, по мнению Аристотеля, должны были считаться необитаемыми из-за невыносимой тропической жары.
Обратимся теперь к странам, лежавшим у северных границ империи Александра. В отличие от Индии и Африки, при диадохах здесь не отмечено сколько-нибудь существенного прогресса в изучении этих стран. Сам Александр со своим войском побывал в Гиркании (на южном берегу Каспийского моря), а затем прошел в Среднюю Азию, где несколько раз пересекал реки Окс (Аму-Дарью) и Яксарт (Сырдарью). Однако о северных границах Каспийского моря, а также о том, куда впадают Окс и Яксарт, грекам не было известно ничего достоверного. Существовала даже фантастическая версия, что Яксарт есть верхнее течение Танаиса (Дона), впадающего в Азовскоре море.
В последующие годы военачальник Селевка I и Антиоха I Патрокл, под властью которого находились области между Каспийским морем и двумя указанными реками, пытался провести обследование этих мест, в том числе путем посылки морской экспедиции по Каспийскому морю. При этом он пришел к совершенно ложному выводу, что Каспийское море не есть замкнутый бассейн (как предполагал — и совершенно правильно — еще Геродот), а представляет собой залив Океана, из которого можно попасть в Индию, обогнув Азию с востока. Что же касается Окса и Яксарта, то они впадают в этот залив на нe слишком большом расстоянии друг от друга[135] (об Аральском море никто из античных авторов не имел ни малейшего представления). Это ложное мнение оказалось весьма живучим, и его разделял еще Страбон[136]. Западная часть тогдашней ойкумены осталась не затронутой походами Александра, и относительно западных и северных берегов Европы в Греции все еще господствовало глубокое неведение. Греческие мореплаватели не решались уходить далеко за Геракловы Столпы, а карфагеняне, которые туда плавали, распространяли об Атлантическом океане странные слухи, которые отбивали у греков желание направлять туда экспедиции. Эту инерцию преодолел замечательный греческий путешественник Пифей из Массилии (Марселя), имя которого может быть поставлено в один ряд с именами знаменитых мореплавателей XV–XVI вв. н. э. Однако посмертная судьба Пифея достойна сожаления. Книга, которую написал Пифей о своих путешествиях, утеряна, мы даже не знаем ее заглавия. Мы можем только гадать о времени, когда были совершены эти путешествия; предположительно это была последняя четверть IV в. Во всяком случае, Аристотель еще ничего не знал о Пифее; впервые его имя упоминается Дикеархом[137], а Эратосфен уже широко пользовался полученными им результатами. Однако сообщавшиеся им сведения о вновь открытых странах казались настолько необычными для греков того времени, что его рассказы вызывали недоверие со стороны многих достойных людей последующей эпохи. Полибий прямо называет его лжецом, ни одному слову которого нельзя верить; к этой же оценке присоединяется, хотя и более осторожно, и Страбон. А между тем Полибий и Страбон — единственные источники, из которых мы знаем о Пифее и его плаваниях.
В пользу Пифея говорит то обстоятельство, что он был достаточно образованным человеком, сведущим в астрономии. Его определение широты Массилии оказалось очень точным. Эратосфен и Гиппарх — крупнейшие авторитеты эпохи эллинизма в области математической географии — приводят данные Пифея о широтах стран Северной Европы, не выражая по их поводу никакого сомнения (хотя об этом мы узнаем из того же Страбона). Но и помимо этого ряд сведений, сообщенных Пифеем о северных странах, позднее оказался соответствующим истинному положению дела. То же. что в его рассказе представлялось неправдоподобным или фантастичным, можно объяснить двояким образом. Либо это были позднейшие легенды, наслоившиеся на его изложение, либо же просто аберрации, характерные для моряков, попадавших в незнакомые и необычные для них условия.
Практическая цель путешествия Пифея к северу Европы состояла, по-видимому, в определении тех мест, откуда карфагеняне (по морю) и кельтские торговцы (по суше) доставляли грекам олово и янтарь. Для этой цели Пифей прошел Геракловы Столпы (Гибралтар) и. посетив финикийскую колонию Гадес (Кадикс), поплыл на север, вдоль берегов Иберии. Он обнаружил Бискайский залив, а за ним далеко выдающийся на запад большой полуостров (Бретань). Окончание этого полуострова Пи-фей ошибочно принял за крайнюю западную точку Европы (определение долгот в то время еще находилось в зачаточном состоянии). Обследовав острова, находившиеся вблизи этого полуострова, Пифей пересек Ла-Манш и достиг Британии в районе нынешнего Корнуолла. Вероятно, именно там находились оловянные рудники, откуда олово вывозилось туземцами на остров Иктис (не поддающийся бесспорному отождествлению с каким-либо из известных теперь островов), а затем передавалось торговцам, прибывшим с континента. Обследовав южные и восточные берега Британии, Пифей установил, что эта страна представляет собой треугольный остров, вершинами которого являются мыс Белерион (в Корнуолле), Кантион (нынешний Кент) и Оркас (северная оконечность Шотландии) и стороны которого относятся друг к другу, как 3: 6: 8[138]. Правда, абсолютные длины этих сторон сильно преувеличены Пифеем, но при тогдашнем состоянии техники определения расстояний на море эта ошибка может считаться извинительной. Надо сказать, что оценки положения и формы Британии, произведенные Пифеем, оказались значительно более верными, чем у некоторых позднейших авторов (так, например, Страбон «исправил» Пифея, вытянув Британию вдлину вдоль европейского побережья). По словам Пифея, он совершил несколько экскурсий в глубь страны[139], где ознакомился с живущими там племенами и их обычаями. Сообщаемые Пифеем сведения представляются весьма правдоподобными, хотя Полибию они казались чистой выдумкой. В целом Пифея надо считать первым европейцем, открывшим и описавшим Британию.
Об Ирландии (которую позднейшие греки называли Иерне) Пифей знал только понаслышке.
Теперь мы подходим к самому загадочному пункту в путешествии Пифея. Как он сообщает, на расстоянии шести дней плавания к северу от Британии находится остров Фуле, расположенный «вблизи замерзшего моря»[140]. Из изложения Страбона отнюдь не следует, что Пифей сам побывал на этом острове, и все, что он о нем сообщает, относится, скорее всего, к сведениям, полученным из вторых и третьих рук. В частности, неясно, считал ли он этот остров обитаемым; то, что он рассказывает о людях, живущих вблизи холодного пояса, относится, по-видимому, к жителям Северной Британии[141], а отнюдь не к обитателям Фуле. Географы нового времени пытались отождествить остров Фуле с самым крупным из Шетландских островов, с побережьем Норвегии и даже с Исландией, но аргументы, высказывавшиеся в пользу каждого из этих предположений, базируются на слишком шатких основаниях. Мы оставим в стороне этот спор, а также не будем обсуждать фантастические сообщения о том, что Пифей будто бы побывал в областях, «где нет более ни земли в собственном смысле, ни моря, ни воздуха, а некое вещество, сгустившееся из всех этих элементов, похожее на морское легкое (τό μέν οΰν τω πλεύμονι έοικός)»[142]. Трудно судить о таких заявлениях, когда мы знаем о них лишь в изложении недоброжелательных критиков.
На обратном пути из Британии Пифей будто бы «посетил всю береговую линию Европы от Гадеса до Танаиса»[143]. Историки географии справедливо указывают, что под Танаисом здесь надо понимать не Дон, а какую-то реку Северной Европы, скорее всего Эльбу. Эта интерпретация подтверждается одним местом из «Естественной истории» Плиния[144], который, по-видимому, был знаком с сочинением Пифея. Плиний разъясняет, что Пифей проплыл вдоль берегов, заселенных германскими племенами (хотя слово «германцы» еще не было известно Пифею), до устья большой реки, от которой на расстоянии дневного пути находился остров Абалус (может быть, Гельголанд), на берег которого морские волны выбрасывают весной янтарь.
В заключение заметим, что Пифей был первым греческим автором, описавшим приливы и отливы и заметившим их связь с положениями Луны.
Суммируя все сказанное о Пифее, можно констатировать, что его путешествия составили новую и важную главу в истории географических открытий.
* * *
Новая географическая информация, полученная за несколько десятилетий конца IV и начала III в., подлежала научному осмыслению и нанесению на карты. Первым географом, который попытался сделать это, был ученик Аристотеля, Дикеарх из Мессены. В древности Дикеарх был особенно знаменит своим трудом «Жизнь Эллады» (Βίος Ελλάδος), в котором, помимо истории образования греческих государств, были изложены их достижения в области литературы, музыки и других искусств. Кроме того, Дикеарх писал сочинения на политические и философские темы и выступал в качестве оратора.
Из географических сочинений Дикеарха древние источники называют «Описание Земли» (Γης περίοδος), от которого до нас дошли незначительные отрывки. В качестве приложения к нему была составлена географическая карта, на которой пределы ойкумены были существенно расширены по сравнению с картами предыдущей эпохи. Впервые на этой карте были изображены Британия, Ирландия (Иерне) и остров Фуле, а также дан абрис западного побережья Европы. При этом Дикеарх воспользовался следующим методическим приемом: он провел две пересекающиеся прямые, одна из которых шла с запада на восток, а другая с севера на юг. Эти прямые служили как бы фундаментальной широтой и фундаментальной долготой, по отношению к которым Дикеарх располагал все детали своей карты. Основные пункты, через которые проходила фундаментальная широта, были: Геракловы Столпы, Сицилия, о-в Родос, малоазийский Тавр, массив Эльбурса в Иране, хребты Гиндукуша и Гималаев и, наконец, гора Имаос, которая, по мнению Дикеарха, находилась на северной границе Индии у «восточного моря». Аналогичным образом фундаментальная долгота проходила через Лисимахию (на Геллеспонте), остров Родос, Александрию и Сиену. Остров Родос являлся, таким образом, как бы центром ойкумены.
На своей карте Дикеарх впервые попытался определить протяженность ойкумены с запада на восток. Окончательный полученный им результат нам неизвестен; Страбон приводит лишь цифры, указываемые Дикеархом для расстояний от Геракловых Столпов до Сицилийского пролива (7000 стадиев) и от Сицилийского пролива до Пелопоннеса (3000 стадиев)[145]. В целом длина ойкумены (с запада на восток) оказалась у Дикеарха в полтора раза превышающей ее ширину (с севера на юг). Имевшимися у него данными Дикеарх воспользовался для оценки размеров земного шара[146]. В качестве двух опорных точек им были выбраны Лисимахия и Сиена, расстояние между которыми Дикеарх оценил (не очень точно) в 20 000 стадиев. В определенный момент суток созвездиями, стоявшими в зените над этими двумя точками, оказались Дракон (в Лисимахии) и Рак (в Сиене). Поскольку расстояние между этими двумя созвездиями было примерно равным: 1/15 большого небесного круга, Дикеарх пришел к выводу, что окружность земного шара должна была быть равной: 20 000x15=300 000 стадиев, что эквивалентно (если принять, что Дикеарх пользовался аттическим стадием, равным 177,6 м) 53 280 км. Это — сильно завышенная величина, хотя и значительно более близкая к истине, чем аристотелевское (или эвдоксовское?) значение 400 000 стадиев. Надо, впрочем, заметить, что описанная методика была очень неточной. Во-первых, расстояние между Лисимахией и Сиеной (20 тыс. стадиев) было сильно преувеличенным (согласно позднейшим вычислениям Эратосфена, это расстояние было равно 13 100 стадиям[147]). Во-вторых, расстояние между двумя созвездиями на небесном своде есть величина очень неопределенная, особенно когда речь идет о таком большом созвездии, как созвездие Дракона. Вероятно, Дикеарх ориентировался на какие-то звезды в этих созвездиях, но об этом мы ничего не знаем. Во всяком случае, порядок величины окружности земного шара, полученной этим методом, был более или менее верным и это уже было большим достижением.
Наряду с этим Дикеарх занимался определением высот горных вершин, находившихся в различных местах Греции, пользуясь при этом геометрическими методами[148].
О Дикеархе мы еще знаем, что он пытался объяснить морские приливы, связывая их с ветрами, дующими с моря на материк. Это объяснение было, разумеется, совершенно неверным. По-видимому, он не мог допустить, что в этом деле какую-то роль играет Луна (о чем догадывался уже Пифей), считая это допущение совершенно иррациональным.
Интересовался географией и другой представитель перипатетической школы — Стратон, о котором уже шла речь во второй и третьей главах настоящей работы. Он высказал гипотезу, что Черное море было когда-то озером, а потом, соединившись со Средиземным морем, начало отдавать свои излишки Эгейскому морю (наличие течения в Дарданеллах было известным фактом, обсуждавшимся, в частности, Аристотелем; вспомним также рассказ Геродота о постройке мостов через этот пролив для войск Ксеркса[149]). Средиземное море, по мнению Стратона, также было ранее озером; когда оно прорвалось через узкий Гибралтарский пролив, уровень его снизился, обнажая побережье и оставляя ракушки и отложения солей. Эта гипотеза потом оживленно обсуждалась Эратосфеном, Гиппархом и Страбоном.
Эратосфен
О роли, которую играл Эратосфен в александрийской науке III в., и о его работах в области математики и хронологии было рассказано во второй главе. Здесь же речь пойдет о том вкладе, который был им внесен в античную географию.
Основной труд Эратосфена по географии назывался Γεωγραφικά[150] и состоял из трех книг. Хотя оригинальный текст этого труда утерян, о его содержании мы можем составить достаточно точное представление благодаря Страбону, который очень много ссылается на Эратосфена и еще больше с ним полемизирует. Основная задача, которую поставил перед собой Эратосфен, состояла не в детальном описании отдельных стран и народов, а п том, чтобы «исправить старую географическую карту» (διορϑώαι τόν άρχαΐον γεωγραφικόν πίνακα)[151]. Какую «старую карту» мог он иметь в виду? Вероятно, карту Дикеарха, которая была составлена почти за сто лет до этого (ни Аристотель, ни Эвдокс, ни другие ученые IV в. не изготавливали, насколько нам известно, детальных географических карт ойкумены). При этом Эратосфен во многом развивал и уточнял те идеи, которые ужо были намечены Дикеархом. И хотя фактические материалы, имевшиеся в распоряжении Эратосфена, ненамного превосходили то, чем располагал на рубеже IV и III столетий Дикеарх, в его методике замечается существенный прогресс, который позволил многим историкам географической науки называть именно Эратосфена подлинным создателем научной географии.
В первой книге своего труда Эратосфен дал исторический очерк развития географии в предшествующую эпоху. Надо сказать, что в то время утвердилась мода — в значительной степени под влиянием философов стоической школы — трактовать Гомера в качестве кладезя всевозможной мудрости и знатока в самых различных областях знания, в том числе и географии. Эратосфен подходит к этому вопросу с позиций трезвого ученого. Вообще, пишет он, «цель всякого поэта — доставлять наслаждение, а не поучать (Ποιητήν γάρ έφη πάντα στοχάζεσϑαι ψνγαγωνίας, ού διδασκαλίας)»[152]. Гомер, действительно, был хорошо знаком с Грецией и прилегающими к ней районами, но в отношении более отдаленных частей ойкумены у него были лишь очень смутные и порой фантастические представления. Страбон с явным неодобрением приводит остроту Эратосфена, что «Можно найти местность, где странствовал Одиссей, если найдешь кожевника, который сшил мешок для ветров» (…φησι τοτ' άν εύρεΐν τίνα, που, Όδιισσεος πεπλάνηται, όταν εΰρη τόν σκυτέα τόν συρράψαντα τόν των άνεμων ασκόν)[153].
Страбон приводит утверждение Эратосфена, что все те, кто впервые взял на себя смелость заняться географией, были в известном смысле философами. При этом называются имена Анаксимандра, Гекатея, Демокрита, Эвдокса, Дикеарха и Эфора[154]. Видимо, Эратосфен писал о достижениях каждого из этих ученых. К сожалению, никаких дальнейших подробностей об этой части «Географии» Эратосфена Страбон не сообщает.
Вторая книга «Географии» Эратосфена была посвящена проблемам изучения земного шара в целом. Вероятно, здесь он приводил аргументы, говорящие в пользу сферичности Земли, и притом не только те, которые указываются Аристотелем в трактате «О небе». При этом Эратосфен делает оговорку: сферичность Земли не следует понимать в строго математическом смысле, ибо Земля не есть шар, выточенный на токарном станке (ούχ ώς έκ τόρνοο δέ), а имеет на своей поверхности неровности. Конечно, Эратосфен не знал, что Земля представляет собой геоид, т. е. сферу, слегка сплющенную в направлении земной оси, но он имел в виду локальные отступления от правильной формы «в результате воздействия воды, огня, землетрясений, вулканических извержений и других причин подобного рода»[155].
Далее Эратосфен переходит к изложению своего метода измерения окружности земного шара. В «Географии» он, по-видимому, лишь кратко коснулся этого метода, так как он был обстоятельно описан им в отдельном сочинении. Во всяком случае, Страбон, вообще игнорировавший математические аспекты географической науки, полностью опускает изложение этого метода, ограничившись замечанием, что «…позднейшие писатели не согласны с ним по вопросу о величине Земли: так ли она велика, как он утверждает, и не одобряют его измерения Земли»[156]. Под «позднейшими писателями» имеется в виду, вероятно, в первую очередь Посидоний, К счастью, изложение методики, примененной Эратосфеном, содержится в дошедшем до нас сочинении астронома I в. н. э. Клеомеда[157].
Эта методика состояла, вкратце, в измерении длины тени, отбрасываемой гномоном в Александрии в тот самый момент, когда в Сиене (которая считалась лежащей точно на тропике) Солнце в день летнего солнцестояния стояло прямо над головой. Угол между вертикалью и направлением на Солнце оказался в Александрии равным 1/50 полного круга. Считая расстояние между Александрией и Сиеной равным 5 тыс. стадиев (около 8 тыс. км[158]), Эратосфен получил для окружности земного шара приближенное значение 250 тыс. стадиев. Дальнейшие уточненные вычисления Эратосфена (к сожалению, мы не знаем, в чем заключались эти уточнения) дали значение 252 тыс. стадиев, или 39 690 км, что всего лишь на 310 км отличается от истинной величины. Этот результат Эратосфена оставался непревзойденным вплоть до XVII в. н. э. В эратосфеновской процедуре измерения окружности Земли было несколько дефектов. Во-первых, Земля была не шаром, как он считал, а геоидом (об этом уже было сказано выше). Во-вторых, Сиена лежала не точно на тропике Рака, а на 59 км к югу от него. В-третьих, Александрия находилась не на том же меридиане, что Сиена, а на 3 градуса западнее нее. В-четвертых, наконец, принятое Эратосфеном расстояние между Сиеной и Александрией было вычислено весьма приблизительно. При наличии всех этих дефектов можно только удивляться тому, что Эратосфен получил для окружности Земли значение, столь мало отличающееся от истинного. В этом, несомненно, был элемент случайности. Это, однако, не умаляет заслуги Эратосфена как ученого, впервые попытавшегося строго научным способом определить размеры земного шара.
Вслед за этим Эратосфен попытался определить размеры известной в то время грекам ойкумены. В качестве ее северного предела он взял остров Фуле, о котором писал Пифей, а в качестве южного — самую удаленную вверх по течению Нила область — страну так называемых сембритов[159]. По мнению Эратосфена, эта страна находилась вблизи Океана, омывавшего Ливию с юга. Промежуточными вехами на этом меридиане (который примерно совпадал с фундаментальной долготой Дикеарха) служили города Мероэ, Александрия, Лисимахия и устье Борисфена (Днепра). Сложив предполагаемые расстояния между этими пунктами, Эратосфен получил величину, равную 38 000 стадиев.
Для определения длины ойкумены Эратосфен воспользовался широтой, близкой к фундаментальной широте Дикеарха. Однако она начиналась у него не от Геракловых Столпов, а несколько западнее — от так называемого Священного мыса (теперь мыс Сан Висенте в Португалии). Эта параллель проходила через Сицилийский пролив, южную оконечность Пелопоннеса и о-в Родос вплоть до залива Исс в северо-восточном углу Средиземного моря. Затем она шла через всю Азию, южнее горных цепей, которые Эратосфен объединил общим наименованием Тавра и которые, как и у Дикеарха, были вытянуты в прямую линию, проходившую с запада на восток. Оканчивалась она у восточного побережья Индии, несколько севернее предполагаемого впадения Ганга в Океан. Длину всей этой линии Эратосфен определил в 77 800 стадиев. Таким образом, длина ойкумены в два с лишним раза превосходила ее ширину. Это был огромный остров, вытянутый с запада на восток и омываемый со всех сторон Океаном.
То, что ойкумена вытянута с запада на восток, соответствует, по мнению Эратосфена, ее природе. И если бы не было огромного пространства Атлантического океана, то ойкумена образовывала бы полный круг, соединяющийся сам с собой. На самом деле ойкумена занимает всего лишь несколько более трети этого круга. Остальные две трети заняты морскими просторами. Эратосфен высказывает мысль о возможности лопасть из Иберии в Индию морем, плывя все время на запад. Таким образом, именно Эратосфеном была впервые сформулирована идея, которую впоследствии попытался реализовать Колумб. Страбон критикует эту идею, говоря, что в одном и том же умеренном поясе могут находиться две ойкумены и даже больше[160]. История подтвердила правоту Страбона: именно такой второй ойкумепой, лежащей между Иберией и Индией, оказалась Америка.
В третьей книге своей «Географии» Эратосфен дал описание карты ойкумены, согласно тем данным, которые были накоплены к его времени. При этом он воспользовался методическим приемом, который представлял собой не что иное, как первую попытку набросать сетку меридианов и параллелей, относительно которой можно было бы расположить отдельные части известного нам мира. Так, Эратосфен провел несколько широт, параллельных фундаментальной широте, о которой было сказано выше и которая естественным образом делила всю ойкумену на северную и южную части.
Самая южная широта у Эратосфена совпадала с линией, проходившей через страну сембритов, затем через Коричную страну, Эритрейское море и остров Тапробана (κ югу от Индии). Следующая широта, на которой находился город Мероэ, проходила через Южную Аравию, а затем шла вдоль южного побережья Индии и в конце концов пересекала юго-восточный выступ этой страны, на котором, по данным того времени, жил народ, называвшийся кониаками[161]. Широта, проходившая через Сиену и приблизительно совпадавшая с тропиком Рака, пересекала на востоке Персидский залив, Гедрозию и всю Индию. Широта, на которой лежала Александрия, шла на запад вдоль северного побережья Ливии, а на востоке пересекала среднее течение Тигра и Евфрата, Персию, Арахозию и центральные районы Индии. Затем шла основная широта, проходившая через о-в Родос и о которой уже было сказано выше. Через Массилию проходила широта, пересекавшая северные районы Эгейского моря, Пропонтиду, области, находившиеся в северной части малоазийского полуострова, южные районы Каспийского моря и Бактрию. Наконец, на последней, самой северной широте, имевшейся на карте Эратосфена, лежало устье Борисфена (Днепра).
Положение некоторых широт, например тех, которые проходили через Александрию и остров Родос, было определено достаточно точно с помощью астрономических наблюдений самим Эратосфеном. Широта Мероэ стала известна после экспедиции Филона. Точную широту Массилии вычислил в свое время Пифей. Зная длину окружности земного шара, можно было установить расстояния между этими широтами. Основным инструментом, которым греки пользовались для определения широты того или иного места, был гномон. Правда, число такого рода измерений было в общем очень ограниченным, и поэтому широты районов, лежавших где-нибудь на востоке — в Персии или Индии, определялись в основном путем очень приблизительной экстраполяции. И все же то, что сделал Эратосфен, было важным шагом на пути к созданию научной картографии.
Гораздо большие трудности были связаны с определением долгот. Здесь гномон был бессилен, а магнитного компаса греки еще не знали. В сущности, единственный меридиан, который был известен грекам, определялся
Нилом, нижнее течение которого (от Сиены до Александрии) примерно совпадало с направлением юг — север. Но дальше на север некоторые ученые (Геродот) проводили его через центральные районы Малой Азии и город Синопу, а большинство — через о-в Родос и Пропонтиду. Концом этого меридиана было принято считать устье Борисфена (а не устье Истра, как у Геродота). Именно этот меридиан послужил Дикеарху и Эратосфену при измерении окружности земного шара.
Согласно Страбону, Эратосфен считал лежащими на одном меридиане (έπί τ'αύτοδ μεσημβρινοΰ[162]) также Карфаген, Сицилийские проливы и Рим, за что Страбон резко раскритиковал его, утверждая, что «он обнаруживает крайнее незнание этих областей». Действительно, если Рим лежит на два с лишним градуса восточнее Карфагена, что в ту эпоху не могло считаться такой уж большой ошибкой, то Сицилийские проливы находятся на много восточнее и того и другого города, так что говорить об общем меридиане здесь никак не приходится.
Из-за отсутствия научного определения долгот Эратосфену пришлось определять расстояния в широтном направлении (т. е. с запада на восток) по старинке: в пределах Средиземного моря — на основании показаний мореходов, а в Азии — путем тщательного изучения записей, которые велись в течение восточного похода Александра «бематистами» (т. е. шагомерами). К полученным таким образом расстояниям Эратосфен присовокупил две добавки: на крайнем западе для учета иберийских территорий, находившихся западнее Геракловых Столпов, а на крайнем востоке — для включения в пределы ойкумены восточных частей Индии, куда войска Александра не доходили. В результате всех этих процедур была получена приведенная выше цифра для длины ойкумены.
Вероятно, для того, чтобы иметь некоторое подобие сетки параллелей и меридианов, которая облегчила бы нанесение на карту различных деталей, Эратосфен разбил всю ойкумену на ряд областей, или секций, разделяемых условными линиями, проведенными в вертикальном направлении (с севера на юг). Эти секции Эратосфен обозначил странным термином «сфрагиды» (в единственном числе слово ή σφραγίς означает, если его переводить буквально, печать или оттиск печати). Каждая такая сфрагида делится фундаментальной широтой, проходящей через Сре-
диземное море и Тавр, на две части — северную и южную. Согласно свидетельствам, которые мы находим у Страбона, первую такую сфрагиду образовывала Индия вместе с островом Тапробана (на юге) и совершенно незнакомыми грекам районами, лежащими к северу от Гималаев, которые носили условное наименование Скифии. О грандиозности размеров Азии в северном и северовосточном направлениях Эратосфен не имел никакого представления и полагал, что за Скифией находился северный Океан, который к востоку от Индии смыкался с южным. Саму Индию Эратосфен изображал в виде ромба, длинная ось которого проходила с северо-запада на юго-восток и кончалась мысом к востоку от Тапробаны. В центре второй сфрагиды находилась Ариана, к которой с юга примыкала Гедрозия (нынешний Белуджистан), а с севера — Бактрия и Согдиана.
По поводу третьей сфрагиды Страбон жалуется, что Эратосфен определил ее очень неясно[163]. Ее восточная граница проходила предположительно вдоль восточного побережья Гирканского (Каспийского) моря, затем шла через так называемые Каспийские Ворота (перевал в горной системе Эльбурс), а па юге выходила к восточной части Персидского залива (в районе Кармании). Каспийское море, по мнению Эратосфена, утвердившемуся в греческой пауке под влиянием Патрокла, было большим заливом, соединявшимся на севере с Океаном; с востока в него впадали реки Окс (Амударья) и Яксарт (Сыр-Дарья). В отношении Каспийского моря воззрения Эратосфена представляли собой шаг назад по сравнению с геродотовскими (у Геродота, прожившего долгое время в Ольвии, имелась, видимо, какая-то информация о замкнутости Каспийского моря, а также о лежащих к северу от него Уральских горах, которые он по традиции называл Рипейскими). О западной стороне третьей сфрагиды Страбон сообщает только то, что ею у Эратосфена была река Евфрат. На этом информация Страбона о сфрагидах кончается. Он только делает предположение, что четвертая сфрагида должна была бы включать так называемую Счастливую Аравию, Аравийский залив (Красное море), весь Египет и Эфиопию. Здесь изложение Страбона становится очень путаным. Он все время ссылается на Гиппарха, и создается впечатление, что последняя часть «Географии» Эратосфена вообще осталась ему неизвестной.
Гиппарх
Величайший ученый II в. Гиппарх был, разумеется, прежде всего астрономом. Но как астроном он интересовался и проблемами географии, — прежде всего теми, которые связаны с математическими методами построения географических карт. Свои взгляды в этой области Гиппарх изложил в полемическом трактате «Против Эрато-сфена» (Πρός τόν Ερατοσϑένη), который, по свидетельству Страбона, был единственным географическим сочинением Гиппарха. Трактат этот до нас не дошел, и о его содержании (так же, как и о содержании «Географии» Эратосфена) мы знаем в основном благодаря Страбону. Надо, однако, учесть, что, пересказывая взгляды Гиппарха, Страбон допускал, по-видимому, гораздо большие погрешности, чем при изложении труда Эратосфена, поскольку математический стиль мышления Гиппарха был Страбону, по-видимому, совершенно чужд. И все же из путаного и порой противоречивого текста Страбона мы можем вычленить основные идеи Гиппарха, которыми он руководствовался в своей критике Эратосфена.
Многие положения Эратосфена Гиппарх принимает. Вообще, критика Эратосфена Гиппархом была направлена не столько против принципиальных тенденций, гениально намеченных Эратосфеном, сколько против того, что эти тенденции не были им последовательно осуществлены. При этом Гиппарх сформулировал принципы строгой географической науки, которые, однако, в его время не могли быть претворены в жизнь. И не только в его время, но даже в эпоху Птолемея, жившего несколькими столетиями позже. В сущности, лишь в новое время была создана действительно научная география, которая отвечала идеалам Гиппарха.
Гиппарх принял («в качестве гипотезы», как говорит Страбон[164]) полученное Эратосфеном значение окружности земного шара — 252 тыс. стадиев. Эту окружность он считал состоящей из 360 частей, или градусов, так что длина каждого градуса на земной поверхности составляла 700 стадиев. Четверть земной окружности от экватора до полюса была равна 90 градусам, или 63 тыс. стадиев. Деление круга на градусы было нововведением Гиппарха, заимствованным, скорее всего, из вавилонской математики.
Взяв в качестве основного меридиана все тот же меридиан, проходивший через Мероэ, Александрию и остров Родос, Гиппарх разделил часть этого меридиана, пересекающую ойкумену с севера на юг, рядом широт, опрелявших климатические зоны (τα κλίματα). Мы видели выше, что Эратосфон выделил в пределах ойкумены 8 широт, проходивших через страну сембритов, Мероэ, Сиену, Александрию, остров Родос, Геллеспонт и устье Борисфена. Гиппарх добавил к этим широтам еще несколько, Главным образом в северной части ойкумены. Последняя из них проходила через остров Фуле, в существовании которого Гиппарх не сомневался, доверяя свидетельствам Пифея. В результате Гиппарх получил 11 или 12 климатических зон, не одинаковых по своей ширине, но точно определявшихся широтами, которые их ограничивали с севера и с юга. Число градусов, соответствовавших каждой широте, вычислялось астрономическими методами, а тем самым определялось и расстояние данной широты от экватора. Так, южная граница первой зоны, проходившая через страну сембритов и Коричную страну, соответствовала широте двенадцать с половиной градусов и находилась на расстоянии 8800 стадиев от экватора (у Эратосфена южная граница ойкумены отстояла от экватора на 8300 стадиев). Северная граница последней зоны, проходившая через остров Фуле, совпадала с Северным полярным кругом, находившимся, как было хорошо известно Гиппарху-астроному, на широте 66°. От экватора она отстояла на 46 200 стадиев. Вычитая из второй цифры первую, мы получаем примерную ширину ойкумены (в меридиональном направлении) — 38 400 стадиев.
В целом ойкумена была ограничена двумя широтами — с севера и с юга и двумя долготами — с востока и запада. Так как меридианы, долготы которых отсчитывались в обе стороны от основного меридиана, сходятся к Северному полюсу, ойкумена оказывалась подобной по своей форме не прямоугольнику, а, скорее, равнобедренной трапеции, или, пользуясь образным сравнением Страбона, расстеленной хламиде. Поперек эту хламиду пересекала основная широта, проходившая от Геркулесовых Столпов вдоль Средиземного моря, через о-в Родос к заливу Исса. Уточняя точки, лежащие на основной широте, Гиппарх исправил Эратосфена, указав, что эта широта проходит не череп Сицилийский пролив, а на 400 стадиев южнее Сиракуз. Вообще, своими измерениями в Западном Средиземноморье Гиппарх существенно улучшил карту этого региона.
Однако не всегда измерения Гиппарха оказывались одинаково точными. Так, определяя широту Византии с помощью гномона, он нашел, что этот город лежит на той же параллели, что и Массилия (Страбон пишет об этом дважды[165]). Это была грубая ошибка, так как Византия лежит много южнее Массилии. Возможно, что это ошибочное заключение было вызвало каким-либо случайным обстоятельством.
Еще хуже обстояло дело в Азии. Астрономические определения широт в глубине континента практически отсутствовали, и во многих случаях решающее значение здесь приобретала географическая интуиция. Но ее-то Гиппарху, по-видимому, не хватало. Так, вопреки мнению Дикеарха и Эратосфена Гиппарх пришел к выводу, что горные цепи так называемого Тавра (включая Эльбурс, Гиндукуш, Гималаи) идут не с запада на восток, вдоль основной широты, а поворачивают на северо-восток. Это позволило Гиппарху значительно увеличить размеры Индии в северном направлении. По этой же причине он сильно сдвинул Бактрию и Согдиану, поместив эти страны намного севернее устья Борисфена и Кельтики (Галлии). Источником этого заблуждения Гиппарха следует считать, по-видимому, высказывания Деимаха, бывшего, подобно Мегасфену, одним из греческих послов в Индии. Но если все свидетельства Мегасфена имели трезвый и правдоподобный характер, то Деимах написал об Индии, по-видимому, много нелепостей. В частности, он придал Индии размеры, совершенно не согласующиеся с истинным положением дела. Вероятно, этому же источнику был Гиппарх обязан другим своим заблуждением: реку Инд он считал текущей не на юг, а на юго-восток — примерно параллельно Гангу.
Вообще, в тех случаях, когда Гиппарх критикует эратосфеновскую карту Азии, мы вынуждены в большинстве случаев принять сторону Эратосфена. Надо признать, что здесь Гиппарх изменил своему собственному принципу: при определении положения того или иного места опираться прежде всего на астрономические наблюдепия. Когда он следует этому принципу, его критика Эратосфена (например, в отношении западной части Средиземного моря) оказывается уместной и справедливой. В заключение надо сделать еще следующее замечание. Говоря об астрономических наблюдениях как о единственном научном методе определения местоположения того или иного географического объекта, Гиппарх имел в виду нахождение широты и долготы этого объекта. Но в его эпоху практически реализуемым был лишь метод определения широты — то ли с помощью гномона, то ли путем сравнения длительности дня (от восхода до захода Солнца) в одно и то же время года. Сопоставление же долгот двух различных мест можно было провести лишь путем наблюдений солнечных и лунных затмений в обоих местах, производимых одновременно. При Гиппархе такие наблюдения еще никем не производились.
От Полибия к Страбону
Знаменитый историк Полибий был современником Гиппарха. Родился он в 204 г. в городе Мегалополисе (Аркадия) и, будучи сыном одного из видных деятелей Ахейской лиги, с ранних лет принял участие в политической и военной жизни этого союза. После Второй Македонской войны с Римом, завершившейся в 167 г. сокрушительным поражением объединенных греческих войск, которыми командовал царь Македонии Персей (последний представитель династии Антигонидов), Полибий оказался в числе заложников, направленных в Рим, где он завязал дружбу со Сципионом Африканским младшим и другими римскими деятелями этой эпохи. В течение семнадцати лет, которые Полибий прожил в Риме, пользуясь относительной свободой, он смог детально ознакомиться с политическим устройством, географией и историей Римской республики и стал ее горячим сторонником. Впоследствии, в ходе Третьей Пунической войны, закончившейся разрушением Карфагена (в 146 г.), Полибий сопровождал Сципиона и по поручению последнего возглавил экспедицию, имевшую целью исследовать северные берега Африки, в том числе и по ту сторону Геркулесовых Столпов. Помимо этого, Полибий совершил несколько длительных и не лишенных опасностей поездок в глубь Иберийского полуострова и Галлии, оказавшись, таким образом, первым образованным греком, получившим возможность ознакомиться не только с побережьем, но и внутренними районами этих стран. Умер Полибий в возрасте 82 лет (т. е. около 122 г.).
Разумеется, в памяти потомства Полибий остался не как географ, а как, прежде всего, автор 40-томной всемирной истории (Ίοτορίαι), охватывавшей период от начала Второй Пунической войны (221 г.) до взятия римлянами Коринфа (146 г.). Это был труд, беспрецедентный по своему объему, по богатству материала и по отличавшей его научной добросовестности. К сожалению, целиком до нас дошли только первые пять томов этого труда. К числу полностью утерянных книг относится тридцать четвертая, в которой был дан очерк известной тогда грекам ойкумены. Некоторое представление о ней мы можем составить по ссылкам, имеющимся в «Географии» Страбона. Кроме того, ряд географических сведений содержится и в дошедших до нас книгах Полибия.
В своем отношении к географии Полибий следовал традициям Геродота, и Эфора. Описания стран и народов представляли для него интерес в первую очередь как фон, на котором разыгрывались описываемые им исторические события. Теоретическими проблемами географии Полибий не интересовался, и глобальных концепций в духе Гиппарха и Эратосфена мы у пего не найдем. Вклад Полибия в географию состоял прежде всего в расширении кругозора греческой географической науки за счет включения в нее богатой информации о странах Западной Европы и Северной Африки.
Правда, о результатах его африканской экспедиции мы не знаем практически ничего. Странным образом Страбон ни разу не упоминает об этой экспедиции; некоторые сбивчивые сведения о ней мы находим лишь в пятой книге «Естественной истории» Плиния Старшего.
Полибий хорошо изучил Иберию (Испанию) и не только со стороны средиземноморского, но также со стороны западного (Атлантического) побережья. Согласно Страбону, он описал крупнейшие реки Иберии — Баэтис (Гвадалквивир), Анас (Гвадиана) и Тагос (Тахо), причем он даже оценил длину последней из этих рек от истоков до ее впадения в Океан («не принимая во внимание извивы реки, ибо это не относится к географии», как курьезно замечает Страбон[166]).
Сведения Полибия о Галлии были менее обширными; они ограничивались в основном районами, до которых доходили римские войска. О западном и северном побережье Галлии у него были очень смутные представления. То же относилось и к Британии, хотя Полибий знал о сyществовании этого острова. К сведениям об экспедиции Пифея Полибий относился крайне отрицательно, а самого Пифея называл лжецом и обманщиком, ни одному слову которого нельзя верить. Эта безусловно неверная точка зрения оказала влияние и на работы позднейших географов, в том числе Страбона.
Полибий был первым греческим географом, осознавшим значение Альп как самого высокого горного хребта Европы. Нет оснований полагать, что Полибий обладал сколько-нибудь детальной информацией о структуре этого хребта, но, во всяком случае, он называет три перевала, по которым можно перейти через Альпы: это, во-первых, был тот путь, по которому прошел в Италию со своим войском Ганнибал; во-вторых, это был перевал, называемый теперь Сен-Бернарским; и, в-третьих, восточный перевал, ведущий в нынешний Тироль. Полибий сопоставляет высоту Альп с величайшими горами Греции, такими, как Тайгет. Парнас, Олимп, Пелион и др. и говорит, что «хорошо тренированный человек может совершить восхождение на каждую из этих гор почти за один день и также за один день обойти ее вокруг, тогда как на Альпы нельзя совершить восхождение даже в 5 дней»[167].
Прожив семнадцать лет в Риме, Полибий прекрасно изучил географию Апеннинского полуострова, тем более что расстояния между отдельными пунктами были там очень точно измерены римлянами. Он сам проехал по дороге, построенной римлянами от берегов Адриатического моря до реки Гебр (нынешней Марицы), отмечая, что вдоль всей дороги установлены столбы, указывающие расстояния в римских милях. Далее Полибий посетил Византий — город, который к этому времени начал приобретать все большее значение в качестве порта, лежащего на пути из Понта в Эгейское море. Далее на восток он, по-видимому, не ездил, хотя и имел довольно точную информацию о находящихся там районах (в частности, он был первым греческим географом, давшим примерно правильную оценку величины Азовского моря по сравнению с Черным[168]).
У нас нет сведений о том, насколько хорошо была известна Полибию география Азии. Та часть его труда, в которой описывался поход Антиоха IV в Индию (в 206–205 гг.), до нас не дошла, хотя в ней, вероятно, содержалось немало сведений географического характера.
Что касается Африки, то Полибий не разделял традиционного мнения греческих ученых о том, что этот континент омывается с юга Океаном. Он допускал, что где-то вблизи экватора Эфиопия соединяется с Азией — странная точка зрения, которая, однако, была впоследствии принята Птолемеем. Аналогичные сомнения высказывались им (подобно Геродоту) и в отношении северных областей Европы.
* * *
Перейдем теперь к менее известным авторам II в., оставившим после себя географические сочинения, утеря которых представляется все же огорчительной. Мы дадим краткое перечисление этих сочинений, указав основные темы, которые в них обсуждались.
Деметрий из Скепсиса, современник Аристарха Византийского и Кратеса из Малла, написал большой трактат, посвященный анализу гомеровского «списка кораблей» и содержавший характеристику соответствующих стран и городов. Этот трактат неоднократно цитируется Страбоном, и из ссылок последнего можно заключить, что в нем содержалась значительная географическая информация. перемежавшаяся с отступлениями мифологического характера. В своей оценке географических познаний Гомера Деметрий присоединился к скептической позиции Эратосфена и Гиппарха, за что был сурово раскритикован Страбоном.
Александрийский грамматик II в. Аполлодор был по месту рождения афинянином. Он известен в первую очередь как автор историко-хронологической поэмы Χρονικά и прозаического изложения древних греческих мифов, дошедшего до нас под заглавием Βιβλιοϑήκη[169], Но, кроме того, он был автором стихотворного географического трактата Γης περίοδος, написанного, как и Χρονικά, ямбическими триметрами. Об этом трактате нам известно только то, что в нем содержались описания трех континентов, и давалась краткая характеристика расположенных на этих континентах стран.
Более интересной фигурой для историка географии был, несомненно, Агафархид Книдский — очень плодовитый автор, живший одно время в Александрии. Он написал 49 книг по истории Европы, 10 книг по истории Азии и отдельный трактат, посвященный описанию Красного моря и примыкающих к нему областей (Περί της έρυϑρας ϑαλάσαης). О содержании этого трактата мы знаем главным образом по его краткому изложению, данному знаменитым византийским автором IX в. н. э. Фотием в его «Библиотеке»[170]. Из этого изложения следует, что Агафархид детально описал страны Африки и Азии, прилегающие к Красному морю, перечисляя народы, населявшие эти страны, и характеризуя их образ жизни и обычаи, а также природу соответствующих мест. Что касается народов этих стран, то их этническую принадлежность нам теперь трудно установить; Агафархид различает их главным образом по тому, чем они питались (ихтиофаги, хелонофаги, ризофаги, гилофаги, сперматофаги и т. д.). В этом трактате называются также звери, населявшие тропические районы Африки и ранее бывшие грекам неизвестными: носороги, страусы, павианы, хохочущие гиены, гигантские змеи и др. По словам Агафархида, одна из таких змей была кем-то привезена в Александрию, и Агафархид утверждает, что сам видел ее. Интересно также, что именно Агафархид дал впервые описание нубийских рудников, использованное позднее Диодором[171].
Современником Агафархида, жившим, как и он, в самом конце II п., был Артемидор Эфесский, написавший объемистое сочинение по географии, содержавшее детальный перипл (объезд по морю) Средиземного и Черного морей. Там же Артемидор дал описание Атлантического побережья Иберии и Галлии (хотя из-за отсутствия оригинального текста мы не можем сказать, насколько новой была содержавшаяся там информация). В этом сочинении приводились также цифровые данные о расстояниях между отдельными частями ойкумены, в ряде случаев уточнявшие более ранние вычисления Эратосфена и Гиппарха. В заключение укажем, что сочинение Артемидора было одним на основных источников, которыми пользовался позднее Страбон.
К началу I в. относится небольшое стихотворное сочинение, обычно приписываемое некоему Скимну Хиосскому и содержавшее краткое описание известной в то время грекам ойкумены. Сочинение это примечательно только тем, что значительная его часть (свыше 400 строк) дошла до нашего времени.
В это же время жил Эвдокс из Кизика — энергичный и предприимчивый путешественник, о котором рассказывает Страбон со ссылкой на Посидония[172]. Этот Эвдокс предполагал совершить путешествие к верховьям Нила, но по заданию царя Птолемея Эвергета II (Фискона) был направлен морским путем в Индию, куда он благополучно прибыл и вернулся в Египет, привезя большое количества драгоценных камней и благовоний, которые были немедленно конфискованы царем. Позднее Эвдокс пытался совершить путешествие вокруг Африки, взяв в качестве исходного пункта Гадес, но потерпел неудачу, хотя и остался жив. Видимо, он не проплыл дальше побережья современной Мавритании. К сожалению, помимо рассказа Страбона, мы ничего не знаем о личности этого смелого и склонного к авантюризму мореплавателя.
* * *
Крупнейшей фигурой греческой науки начала I в. был, бесспорно, Посидоний. Родился он около 135 г. в Апамее (Сирия); получив широкое философское образование, примкнул к школе стоиков, главой которой он стал после смерти Панэтия. Центром стоической школы к этому времени сделался о-в Родос, где и прошла большая часть творческой жизни Посидония. Известно также, что Посидоний неоднократно ездил в Рим, где подружился с Цицероном и снискал благоволение Помпея. Умер он в возрасте 84 лет.
Посидоний был ученым-энциклопедистом, занимая в некотором смысле положение промежуточное между Аристотелем и Плинием Старшим. Этим мы хотим сказать, что, будучи, подобно Аристотелю, специалистом в самых различных науках, и прежде всего в философии, Посидоний воспринял от современной ему эпохи определенные упадочные черты, которые позднее пышным цветом расцвели у Плиния. К ним мы относим веру в мистику и в мистику чисел, убеждение в таинственной взаимосвязи всего существующего, любовь ко всему сверхъестественному и фантастическому и т. д. Возможно, однако, что именно благодаря этим особенностям сочинения Посидония пользовались громадной популярностью в поздней античности. Представляется поэтому удивительным, что ни одно из них не дошло до нашего времени в своем оригинальном виде, хотя ссылки на них (включая прямые цитаты) мы находим у таких различных авторов, как Цицерон, Сенека, Страбон, Диодор, Плутарх, Иосиф Флавий, Николай Дамаскин, Анниан и многие другие. Из всех сочинений Посидоний наибольшее отношение к географин имел трактат «Об океане» (Περί τοΰ ωκεανού), написанный на основе его собственных наблюдений в. г. Гадесе (Кадиксе), где он пробыл около месяца в ходе своей поездки в Галлию и Иберию. В этом трактате, помимо многих других вопросов, Посидоний установил связь приливов и отливов с положением Луны на небосклоне. Правда, в этом вопросе он не был пионером: первым ученым, заметившим такую связь, был астроном II в. Селевк из Селевкии. Впрочем, по мнению Посидония, влияние Луны на земные явления не ограничивается приливами: развивая стоическую концепцию о всеобщей взаимосвязи процессов природы, он утверждал, что Луна оказывает влияние также на многое другое, в том числе на рост деревьев, на развитие моллюсков, на кровообращение у человека и т. д. Исходя из этой же концепции, он объяснял климатические и прочие особенности разных стран; описывая эти страны, Посидоний охотно сообщал всякого рода фантастические небылицы. Но наряду с этим он уделял внимание изучению такого рода вопросов, как извержения вулканов, землетрясения, необычные метеорологические явления и т. д. Между прочим, Посидоний описал возникновение нового острова, появившегося в результате извержения в группе Липарских островов (вюжной части Тирренского моря)[173], — событие, имевшее место в 126 г., о котором свидетельствует также Плиний Старший[174]. Вероятно, в связи с этим Посидоний высказал мнение, что платоновский миф о гибели Атлантиды, исчезнувшей в бездне океана, мог быть не выдумкой, а отражением реальной катастрофы, случившейся в глубокой древности[175].
В отношении размеров и формы ойкумены Посидоний придерживался примерно тех же взглядов, что и Эратосфен. Вслед за Эрагосфеном он предпринял попытку измерить величину окружности земного шара, пользуясь при этом, однако, несколько отличной методикой, а именно: в качестве ориентира он взял яркую звезду, именуемую Канопусом (а Киля), относящуюся к звездам Южного полушария, а в районе Средиземноморья лишь ненамного подымающуюся над горизонтом. Посидоний рассуждал следующим образом. В то время как на острове Родос Канопус едва виден над горизонтом, в Александрии он находился на высоте 1/48 большого небесного круга, или, иначе говоря, на высоте семи с половиной градусов. Александрия и Родос считались лежащими на одном меридиане; следовательно, для определения длины земной окружности нужно помножить расстояние между Родосом и Александрией на 48. Согласно Эратосфену, расстояние между Родосом и Александрией было равно 3750 стадиям: следовательно, длина окружности земного шара оказалась равной 3 750x48=180 000 стадиев; Эта цифра оказалась сильно заниженной по сравнению с результатом, полученным Эратосфеном. Причина этого расхождения заключалась в том, что на самом деле разность между положением Канопуса на острове Родос и в Александрии равна не 1/48, а 1/60 большого небесного круга (т. е. пяти с четвертью градусам). Здесь сказалось неумение Посидония производить точные астрономические наблюдения. Тем не менее большинство ученых последующих веков, в том числе и Птолемей, приняли результат не Эратосфена, а Посидония, тем самым сильно занижая истинные размеры земного шара.
Страбон
Из того, что было сказано на предыдущих страницах, явствует, какая богатая литература географического содержания была создана в эпоху эллинизма. До наших дней эта литература не дошла. И если мы о ней все-таки кое-что знаем, то это объясняется в большой степени тем, что в наших руках имеется капитальный труд — «География» Страбона, написанная на рубеже нашей эры.
Страбон был величайшим географом поздней античности. Он не только собрал и изложил всю географическую информацию, накопленную за несколько последних веков до нашей эры, но и дал критический разбор сочинений своих предшественников, на которых он всякий раз добросовестно ссылается. Если бы не было «Географии» Страбона, мы не имели бы никакого (или почти никакого) представления о географических воззрениях таких авторов, как Эратосфен, Гиппарх, Полибий, Посидоний, Аполлодор Афинский, Артемидор Эфесский, Деметрий из Скепсиса, равно как и о путешествиях Пифеяиз Массилии или Эвдокса из Кизика.
Таким образом, «География» Страбона была подлинной географической энциклопедией, не только содержавшей свод сведений об известной тогда грекам ойкумене, но и бывшей в какой-то мере историей античной географии. Правда, историко-географическая информация Страбона может быть подвергнута критике за неполноту сведений и недостаточную объективность. В соответствии с традицией своего времени Страбон считал непогрешимым авторитет Гомера, называя его основоположником науки географии. С другой стороны, он явно недооценивал таких ученых V–IV вв., как Геродот и Дикеарх. Но не будем слишком придирчивы к Страбону и не станем требовать от него слишком многого. Он был сыном своей эпохи и, как любой ученый, обладал своими слабостями и пристрастиями. Лучше возблагодарим судьбу за то, что она не позволила его труду исчезнуть в реке времен, подобно тысячам других сочинений древних авторов.
Но, прежде чем перейти к рассказу о структуре и содержании «Географии» Страбона, напомним несколько фактов, относившихся к историческому фону, на котором создавался этот труд.
К числу таких фактов относились Галльские войны Юлия Цезаря и его экспедиции в Германию и Британию. В течение нескольких лет (с 58 по 50 г.) Цезарь подчинил своей власти почти все племена, обитавшие в обширном регионе, простиравшемся от Роны до Ла-Манша и от Пиренеев до Устья Рейна. Его «Записки о Галльской войне» содержат массу географической информации, благодаря которой этот регион перестал быть «неведомой землей» для людей того времени. Нет смысла останавливаться на отдельных эпизодах «Записок», поскольку они легко доступны читателю либо в оригинале, либо в любом из бесчисленных переводов.
Вслед за завоеванием Галлии последовало включение этой страны в состав Римской державы в качестве одной из ее провинций. Заметим, что, как и в других случаях, военное и административное подчинение Галлии сопровождалось строительством точно вымеренных дорог, облегчавших составление географических карт этого региона.
Вслед за завоеванием Галлии последовали войны Цезаря в Испании и Африке. А еще до этого — в 66–63 гг. — Гней Помпей разбил понтийского царя Митридата VI и подчинил господству Рима ряд восточных областей — Вифинию, Понт, Армению, Сирию и другие. За эти победы он удостоился прозвища Великого, а льстецы называли ого вторым Александром.
Следствием этих и последующих за ними событий было то, что, когда Гай Юлий Цезарь Октавиан одержал решающую победу над своим основным соперником Марком Антонием и в 27 г. принял титул принцепса («первого») и императора Августа, под его властью оказалась огромная территория, включавшая в себя все страны, окружавшие Средиземное море с севера, запада, юга и востока. Именно эту дату историки принимают за дату рождения Римской империи. В этом году Страбону было около 35 лет.
О жизни Страбона мы знаем в основном то, что он сам сообщил нам в своей «Географии». Он родился в понтийском городе Апамее[176], и еще в юности был послан в город Нису, где слушал лекции грамматика Аристодема[177]. Позднее Страбон довольно долго жил в Александрии, где, очевидно, использовал для своих дальнейших штудий богатства Библиотеки, а также ездил в Рим и, возможно, в другие страны. Своим учителем во время пребывания в Александрии он называет философа-перипатетика Ксенарха из Селевкии Киликийской. Вторую половину своей жизни Страбон посвятил написанию двух капитальных трудов — не дошедшей до нас «Истории», восполнявшей, по-видимому, аналогичный труд Полибия, и «Географии», которая составила ему славу в веках. Умер Страбон около 20 г. н. э. в царствование императора Тиберия.
«География» Страбона состоит из семнадцати книг. Первые две служат своего рода введением в описание отдельных частей ойкумены. В этих книгах дается нечто вроде исторического очерка географической науки. Большая часть первой книги посвящена проблеме Гомера. Не разделяя критической позиции, которую но отношению к Гомеру занимал Эратосфен, Страбон пытается обосновать тезис о том, что гомеровские описания странствий Менелая и Одиссея содержат много указаний на реальные географические объекты.
Называя среди первых географов Анаксимандра и Гекатея Милетского и даже не упоминая имени Геродота, Страбон сразу переходит к разбору географического труда Эратосфена. При этом в большинстве принципиальных вопросов он поддерживает точку зрения своего великого предшественника, вряде случаев защищая его от критики Гиппарха. Он безоговорочно принимает результаты Эратосфена, относящиеся к определению размеров земного шара, подчеркивая, однако, что изложение метода, кото-рым при этом пользовался Эратосфен, относится к компетенции математиков, а не географов. Как и Эратосфен, Страбон представлял себе ойкумену в виде огромного острова, вытянутого с запада на восток, оценивая ее длину 70 000 стадиев. Наоборот, ее ширину (с севера на юг) он считал равной всего лишь 30 000 стадиев — значительно меньшая цифра по сравнению с эратосфеновой. Это объяснялось тем, что Страбон, следуя в этом вопросе Полибию, отвергал свидетельства Пифея о странах Северной Европы, в том числе и о земле Фуле. Самой северной точкой ойкумены был, по его мнению, остров Иерне (Ирландия), лежащий не к западу, а к северу от Британии, которая, в свою очередь, имела форму треугольника, большая сторона которого прилегала к побережью Европы. Вообще, Западная Европа оказывалась у него как бы сплющенной и сдвинутой вниз по сравнению с ее реальными пропорциями; так, Массилия, по Страбону, лежала значительно южнее Византия, а северная граница ойкумены проходила всего лишь на 4 000 стадиев севернее устья Борисфена, т. е. соответствовала, согласно нашим обозначениям, примерно пятьдесят пятому градусу северной широты (что соответствует уровню Тулы и Витебска!). В согласии с Эратосфеном находятся также представления Страбона об «основной» параллели, которую он проводит от Геркулесовых Столпов через Сицилию и остров Родос. Дальше эта параллель идет у него вдоль горных цепей Тавра, Парапамисад (Гиндукуш) и гор, которые Эн называет Эмод и Имаос[178]. Эта параллель естественно делит ойкумену на северные и южные части. Астрономические определения широты и долготы Страбон также, по-видимому, считал делом математиков, а не географов и указывал на трудности, встающие перед теми, кто захотел бы нанести па плоскую карту сетку меридианов и параллелей[179].
Все эти вопросы, имеющее более или менее общий характер, излагаются Страбоном во второй книге «Географии». Начиная с третьей книги, Страбон переходит к систематическому описанию стран Европы, Азии и Африки. Третья книга посвящена целиком описанию Иберийского полуострова. Здесь Страбон пользовался данными Полибия, Артемидора и Посидония, а также более новыми сведениями, которые он мог получить от римлян. Он характеризует отдельные части полуострова, их природные условия и населяющие эти части народы. С нескрываемым восхищением описывает Страбон плодородные земли и богатства южной части полуострова, которую он называет Турдетанией и которая соответствует, по-видимому, нынешней Андалузии. Характерной ошибкой Страбона было то, что Пиренейские горы он считал идущими прямо с севера на юг (параллельно им он проводил также течение реки Эбро).
Четвертая книга «Географии» посвящена Галлии, Британии, и Альпам. При описании Галлии, которую он в соответствии с давней традицией называет Кельтикой, он допускает значительно больше погрешностей, чем при описании Иберии. Так Галлия, по его мнению, имеет форму прямоугольника, западную сторону которого образуют Пиренеи, южную — берег Средиземного моря, восточную — Альпы и Рейн, а северную — побережье Океана. Бретонский полуостров он, очевидно, считал выдумкой Пифея. В то же время он осведомлен о крупнейших реках этого района — Родане (Роне), Гарумне (Гаронне), Лигере (Луаре) и Секване (Сене). Перечисляя галльские племена, Страбон обнаруживает знакомство с «Записками» Цезаря, но в то же время он, очевидно, пользовался и какими-то более старыми источниками.
О том, какую форму Страбон придавал Британии, мы уже сказали выше. В числе продуктов, вывозившихся из Британии в Римскую империю, он называет золото, серебро и железо, но, странным образом, ни слова не говорит об олове.
В отношении альпийских гор Страбон обнаруживает значительно большую осведомленность по сравнению с Полибием. Довольно точно определяет он истоки Роны, Дуная и По.
Пятая и шестая книги «Географии» содержат детальное описание Италии, а также островов — Сицилии, Сардинии и Корсики. С этими местами Страбон был, естественно, хорошо знаком. При этом, однако, у него было неверное представление о расположении Апеннинского полуострова: по его представлению, он был вытянут почти точно с запада па восток.
В седьмой книге сравнительно кратко описываются страны Центральной и Восточной Европы, лежащие к востоку от Рейна вплоть до устья Танаиса. Из этого описания видно, насколько плохо были известны грекам (и, очевидно, римлянам) эти районы даже в первые годы нашей эры. Правда, Страбон уже осведомлен о больших реках, текущих, как и Рейн, с юга на север. Это Везер (Визургис) и Альбий (Эльба). Области, лежащие между Рейном и Эльбой, заселены германцами, о которых Страбон осведомлен не только из «Записок» Цезаря, но и на основе более поздней информации, полученной в ходе кампаний Друза и Германика. «Области же за Альбием близ океана нам совершенно неизвестны», — откровенно признается Страбон[180]. Так, он ни разу не упоминает Вислу, по-видимому вообще не зная о существовании этой реки.
Такое же неведение обнаруживает Страбон относительно областей Восточной Европы. Он пишет, что самым северным народом, обитающим на равнинах между Борис-феном и Танаисом (т. е. между Днепром и Доном), считаются роксоланы. «Обитает ли какое-нибудь племя за роксоланами (пишет он), мы не знаем»[181]. Информацию относительно скифов и сарматов, содержащуюся в сочинениях Геродота и Гиппократа, он, как и в других случаях, почему-то игнорирует, хотя и знает эти наименования (скифами, как и большинство авторов поздней античности, Страбон называет вообще все племена, обитавшие в Восточной Европе и Центральной Азии). Зато о северных берегах Понта Эвксинского, достаточно хорошо освоенных греками, он сообщает детальную и в общем правильную информацию. Крым, по его словам, является большим полуостровом, подобным Пелопоннесу по величине и форме (ή δε μεγάλη Χερρονήσος τη Πελοπόννησω προσέοίκε και τό σχήμα και τό μέγεϑος)[182].
Три книги Страбон посвятил описанию Греции и прилегающих к ней стран. Следует признать, что эти книги
относятся к наиболее слабым частям его «Географий». Сам Страбон по Греции не путешествовал (он упоминает только о том, что он посетил Коринф в то самое время, когда там побывал Август, возвращавшийся в 29 г. из Египта) и знал ее лишь по вторичным источникам. Но главная беда состояла не в этом, а в том, что, говоря о греческих городах, он все время отвлекается в мифологию и очень много рассуждает о гомеровском списке кораблей. В целом эти главы дают гораздо меньше для познания географии Греции, чем «Описание Эллады» Павсания, написанное примерно на сто лет позднее, хотя и Павсания интересовала в первую очередь археология и связанные с нею предания и мифы.
Начиная с одиннадцатой книги Страбон переходит к описанию стран и народов Азии. Здесь он, по-видимому, довольно точно следует соответствующей части труда Эратосфена, лишь в деталях дополняя его новой информацией. Отметим, что он разделял ошибку великого александрийского географа, полагая, что Каспийское море представляет собой большой залив Океана, отделенный от последнего сравнительно узким проливом. Он дает довольно точное описание Кавказского хребта, уже не путая его с горными массивами Средней Азии и давая последним общее наименование Тавра. В южной части Кавказа, как указывает Страбон, обитают три больших народа: это колхи, населявшие Колхиду, область у нижнего течения Фасиса; далее, иверы, жившие на территории нынешней Грузии; и албанцы, занимавшие область, находившуюся между Иверией и Каспийским морем[183].
Албанцы были кочевым народом, миролюбивый характер которого противопоставляется Страбоном дикому и воинственному нраву кавказских горцев. Страбон называет три большие реки, впадающие в Каспийское море с востока; кроме известных нам Яксарта и Окса, он называет еще реку Ох, которую, по-видимому, следует отождествить с Атреком, протекающим по территории нынешнего Ирана. Как мы уже сказали выше, все азиатские народы, живущие к северу от горных хребтов иранского
Тавра и Паронамисад, объединяются Страбоном общим наименованием «скифов»; среди них он выделяет воинственные племена массагетов и саков. Что касается Греко-Бактрийского царства, то оно к этому времени, по-видимому, уже прекратило свое существование; все, что о нем пишет Страбон, заимствовано, очевидно, из гораздо более ранних источников.
О Китае Страбон еще не имеет почти никакого представления. Правда, мельком он говорит о племенах серов и фринов, живших где-то за Индией, но никаких подробностей о них сообщить не может. Вообще говоря, это представляется странным, так как в эпоху Страбона Римская империя уже вела торговлю с Китаем, получая оттуда прежде всего шелковые ткани.
Описания стран, находившихся в пределах восточных границ Римской империи, в частности Армении и Мидии, даются Страбоном довольно точно.
В двенадцатой книге Страбон подробно описывает хорошо известные ему малоазийские страны — Каппадокию и Понт. Его описания долин, рек и населенных пунктов в этих странах отличаются точностью и полнотой и полностью подтверждаются данными современной географии и археологии. Любопытно, что Страбон специально останавливается на описании вулканической деятельности в этой части ойкумены, которая протекала, no-видимому, более бурно, чем в наше время.
В тринадцатой и в значительной части четырнадцатой книги «Географии» речь идет о западных частях Малой Азии и о прилегающих к ним островах. Все эти места были хорошо известны Страбону. И здесь он обильно уснащает свое изложение всевозможными мифологическими отступлениями.
Большая часть пятнадцатой книги посвящена Индии. Здесь Страбон пользовался не только свидетельствами современников похода Александра (такими, как Онесикрит, Аристобул и др.), но и сочинениями позднейших авторов, прежде всего Мегасфена. Страбон подчеркивает значение великих индийских рек Инда и Ганга, сравнивая их роль для Индии с ролью Нила для Египта. Зато о южных частях полуострова Индостан у Страбона еще не было почти никакой информации. То же следует отнести и к острову Тапробана (Цейлону), о форме и положении которого у Страбона были явно превратные представления.
Остальная часть пятнадцатой книги отведена описанию Персии и прилегающих к ней областей, когда-то входивших в состав великой Персидской державы. Любопытно, что наименованием Ариана Страбон пользуется в более широком смысле, чем прежние авторы, включая в него Персию, Мидию и Сузиану, Бактрию и другие области, жители которых говорят примерно на одном и том же языке (είσί γάρ πως κάι όμόγλωτταί παρά μικρόν[184]).
В шестнадцатой книге «Географии» речь идет о тех странах Азии, которые еще не были описаны в предыдущих лигах, — о Месопотамии, Сирии, Финикии и Палестине. Здесь Страбон широко пользуется не дошедшим до нас сочинением Посидония, посвященным ближневосточным войнам Помпея. В этой же книге дается достаточно детальное описание Аравии, в том числе ее внутренних областей, которые были очень слабо известны греческим географам предшествующих столетий.
В последней, семнадцатой книге своего труда Страбон пишет об Африке, причем две трети этой книги посвящены Египту. Страбон хорошо знал Египет по личным впечатлениям, и его описание этой страны интересно с точки зрения оценки тех изменений, которые произошли со времен первых Птолемеев. Указывая на роль Нила в экономике Египта, Страбон объясняет ежегодные разливы этой реки обильными дождями, которые выпадают каждое лето в верховьях Нила — в горах Эфиопии. Правда, он недоумевает по поводу того, почему подобные дожди совершенно отсутствуют на более северных широтах — в Фиваиде и в районе Сиены. Он пишет о торговле, которая велась в его эпоху с Индией по морю: десятки кораблей отправлялись ежегодно от Красного моря и берегов Эфиопии в Индию, привозя оттуда товары, считавшиеся в то время наиболее ценными. Вообще, описание Египта принадлежит к наиболее удачным частям «Географии» Страбона. Что же касается остальной части Африки — Ливии, то здесь Страбон не добавляет ничего существенного к тому, что было известно уже в эпоху Эратосфена.
Мы надеемся, что дали достаточное полное представление о содержании географического труда Страбона. О его достоинствах и недостатках уже было сказано выше. В целом «Географию» нельзя признать научным сочинением в строгом смысле слова. Это, скорее, книга для чтения, которая была предназначена для достаточно широкого круга читателей. В этот круг могли войти образованные греки весьма широкого профиля. Сам Страбон пишет, что его «книга должна быть полезной вообще — одинаково полезной и для государственного деятеля и для широкой публики»[185].
Насколько удачно выполнил Страбон поставленную им перед собой задачу? На этот вопрос трудно ответить однозначно. Дело в том, что появление «Географии» Страбона практически осталось незамеченным его современниками. Да и во втором веке ни Плиний Старший, ни Птолемей ни разу не упоминают имени Страбона. Чем это объяснить? Тем ли, что Страбон создавал свой труд у себя на родине — в Апамее, т. е. в глубокой провинции тогдашнего античного мира? А в силу трудностей, связанных с копированием столь большого сочинения, «География», возможно, долго оставалась неизвестной в большинстве культурных центров того времени? Во всяком случае, первым автором, который много и обильно на нее ссылался, был византийский географ VI в. Стефан. Именно с этого времени начинает расти посмертная слава Страбона, которая достигает своего максимума в XV–XVI вв. н. э., когда греческие рукописи Страбона попадают в Западную Европу и переводятся на латинский язык.
Птолемей
Мы можем спокойно оставить за пределами нашего рассмотрения полтора столетия, отделявшие Страбона от Птолемея. В течение этого периода накоплялись новые факты, более детально исследовались некоторые районы ойкумены, но не было сделано ничего значительного, что затрагивало бы принципиальные основы географической науки. Это, между прочим, относится и к географическим разделам «Естественной истории» Плиния Старшего, представлявшим собой некритическое собрание громадного материала, в большинстве своем имевшего лишь весьма сомнительную научную ценность.
Исключение надо сделать лишь для одного ученого, о котором, правда, мы почти ничего не знаем. Это был Марин Тирский, во многих отношениях оказавшийся непосредственным предшественником Птолемея и трудом которого Птолемей очень широко пользовался. Так как все сведения о Марине мы черпаем все из того же Птолемея, то нам нелегко выделить заслуги первого из них. Основное, что мы можем сказать о Марине, сводится к тому, что он был первым географом, составившим карту ойкумены на основе сетки меридианов и параллелей, в которую были включены новые, ранее неизвестные грекам районы, лежавшие в Экваториальной Африке и в восточной Азии. Все это было полностью использовано Птолемеем в его «Географии». Сделал ли Птолемей сколько-нибудь значительный шаг вперед по сравнению с Мариной, об этом будет сказано несколько ниже. Как среди астрономов, так и среди историков географии существуют ученые, относящиеся к Птолемею резко критически и считающие, что Птолемей был не более, чем плагиатор Марина. Мы воздержимся от каких-либо дискуссий по этому поводу. Книга Марина до нас не дошла, а книгой Птолемея каждый из нас может пользоваться[186].
«География» Птолемея (ее оригинальное заглавие Γεωγραφική ύφήγησις, т. е. «Руководство по географии») состоит из восьми книг, из которых первая представляет собой общее теоретическое введение. Начинается она с различения двух наук — географии и хорографии, причем под последней Птолемей, очевидно, понимает описательную географию в духе Страбона. Впрочем, начало это столь примечательно, что мы процитируем его дословно: «География есть линейное изображение всей ныне известной нам части Земли со всем тем, что на ней находится. Она отличается от хорографии тем, что последняя, беря отдельные местности, рассматривает каждую из них особо, приводя в своих описаниях даже такие мелочи, как, например, гавани, селения, округа, притоки главных рек и т. п. География изображает известную нам Землю единой и непрерывной, показывает ее природу и положение в виде самых общих очертаний, отмечая заливы, большие города, народы, реки и остальное, наиболее достопримечательное в каждом роде. Назначение хорографии можно сравнить со взглядом художника на отдельную часть головы, ухо или глаз, которую он собирается изобразить. Назначение географии сходно с рассматриванием всей головы для изображения ее очертаний полностью»[187].
Иначе говоря, задачу географии Птолемей видит в построении карты всей известной нам ойкумены. Основой географии является математический метод (в котором хорография не нуждается), ибо без его помощи географ не в состоянии определить положение тех или иных объектов на земной сфере, а затем нанести эти объекты накарту таким образом, чтобы плоское отображение сферической поверхности давало бы наименьшее искажение. Положение географического объекта на земной сфере задается указанием его широты и долготы. Отдавая в этом вопросе должное приоритету Гиппарха, Птолемей подчеркивает, что Гиппарх обладал очень малым количеством данных для определения широт и долгот. Поскольку последним по времени (перед Птолемеем) ученым, который занимался географией, был Марин Тирский, то разумно при построении географической карты взять за основу сочинение Марина, ибо он накопил больше данных, чем все его предшественники. При этом, однако, требовалось исправлять данные Марина в тех случаях, когда они казались Птолемею неточными или просто ошибочными. Эти исправления начинаются с размеров ойкумены. Прежде всего, надо сказать, что и Марин и Птолемей принимали окружность земного шара равной 180 тыс. стадиев, следуя в этом вопросе, по-видимому, Посидонию. Это была сильно заниженная величина по сравнению с результатом, полученным Эратосфеном (252 тыс. стадиев). Таким образом, длина одного градуса (по меридиану или по экватору) была у Марина и Птолемея равна 500 стадиям (у Эратосфена — 700 стадиям)[188].
Верхнюю границу ойкумены Марин (и вслед за ним Птолемей) проводил через остров Фуле, который, по его предположениям, лежал примерно на 63-м градусе северной широты. Нижнюю границу он отождествил с тропиком Козерога (приблизительно 24 градус южной широты). Тут Птолемей не соглашается с Мариной и переносит эту границу на 10 градусов севернее. Таким образом, вертикальная протяженность ойкумены оказывалась, по Марину, равной 87 градусам, или 435 тыс. стадиев, а по Птолемею — 77 градусам, или 385 тыс. стадиев. Впрочем, и тот и другой проводили нижнюю границу ойкумены, руководствуясь достаточно произвольными соображениями.
Что касается протяженности ойкумены с запада на восток, то Марин, согласно свидетельству Птолемея, принимал ее равной 15 часам (т. е. 5/8 окружности, проведенной вдоль параллели, примерно соответствующей «основной» параллели: Геркулесовы Столпы — Родос и т. д.). Птолемей считал эту величину также сильно преувеличенной, уменьшив ее до 12 часов (т. е. до половины указанной окружности), считая крайне западной точкой ойкумены Канарские острова, а крайне восточной — страну серов, т. е. нынешний Китай.
Итак, размеры ойкумены были им примерно определены. Каким же образом следовало теперь приступить к составлению карты, т. е. к нанесению образа ойкумены на плоскости? И здесь Птолемей делает существенный шаг вперед по сравнению с Мариной Тирским.
Самым правильным способом, пишет Птолемей, было бы нанесение карты на сферическую поверхность (т. е. на глобус), так как при этом сходство карты с формой Земли получается само собой. Однако при этом размеры карты оказываются ограниченными (ибо трудно построить очень большой глобус) и далеко не все интересующие нас детали могут быть на ней изображены. Кроме того, такой способ не позволяет окинуть взглядом сразу все очертания ойкумены и приходится что-нибудь одно перемещать около другого — либо глаз, либо сферу (глобус).
Если же изобразить карту на плоской поверхности, то указанные трудности отпадут, но при этом возникнут искажения, связанные с отображением сферы на плоскости.
Марин, по словам Птолемея, видел эти трудности, но сам пользовался наименее совершенным способом. Все окружности — и параллелей и меридианов — он заменил прямыми и вдобавок провел меридианы параллельно друг к другу, хотя известно, что они сходятся к полюсу. Такой способ пригоден для изображения на карте небольших участков ойкумены, где меридианы и параллели можно считать отрезками, пересекающимися друг с другом под прямыми углами. Но для ойкумены в целом такой способ дает слишком большие искажения, ибо ее северные районы оказываются на карте сильно преувеличенными, а районы к югу от параллели Геркулесовы Столпы — Родос (ибо именно эту параллель Марин положил в основу своей карты) — сильно преуменьшенными.
Вместо «цилиндрической» проекции Марина Птолемей предлагает две другие проекции, которые дают более правильное изображение ойкумены на плоскости. В первой из них меридианы проводятся в виде прямых линий, сходящихся в одной точке (в Северном полюсе). Два крайних меридиана соответствуют западной и восточной оконечностям ойкумены. Между этими двумя меридианами проводятся отрезки окружностей разных радиусов, но имеющих общий центр — Северный полюс. Максимальная из этих окружностей совпадает с экватором; к югу от нее меридианы снова начинают сходиться.
На второй проекции Птолемея не только параллели, но и меридианы оказываются изогнутыми. Наиболее изогнутыми являются два крайних меридиана: западный, проходящий через Канарские острова (на карте Птолемея он соответствует нулевому градусу долготы), и восточный, проходящий через Китай (соответствующий 180-му градусу долготы). По мере приближения к середине карты кривизна меридианов уменьшается, и центральный меридиан, соответствующий 90°, изображается в виде вертикальной прямой линии (которая у Птолемея проходит через Каспийское море и Персидский залив). Обычно в курсах истории географии птолемеевская карта ойкумены изображается с использованием этой второй проекции[189].
Дальнейшие книги «Географии» Птолемея не содержат ничего другого, кроме списков географических объектов — городов, устьев рек, горных вершин и т. д., сопровождаемых указанием соответствующих долгот и широт, приводимых с точностью до долей градуса. Эти списки, очевидно, представляли собой материал для построения всеобъемлющей географической карты ойкумены. В общей сложности они содержат около 8 тыс. названий. Не следует думать, что все или хотя бы большинство сообщаемых Птолемеем данных, получены им на основе точных астрономических наблюдений. Наоборот. Специалисты-географы полагают, что число пунктов, называемых Птолемеем, для которых широта была вычислена астрономическим путем (с помощью гномона), не превышает 350–400[190]. Что же касается долгот, то такие данные в эпоху Птолемея практически отсутствовали. В большинстве же случаев расположение тех или иных объектов вычислялось Птолемеем (а скорее всего, Мариной, у которого Птолемей, по-видимому, заимствовал свои данные) на основании сопоставления расстояний между ними, проводившихся в описаниях путешествий, периплах и т. д. Разумеется, и для этого требовалось провести громадную исследовательскую работу.
Хотя общая карта ойкумены, составленная Птолемеем, до нас не дошла (и вообще мы не знаем, была ли она им фактически изготовлена), перечни географических объектов, приводимые во второй — восьмой книгах его «Географии», содержат указания на карты отдельных районов мира. Обычно считается, что существовало 27 таких карт. При этом выясняется, что в эпоху Птолемея географические познания греческих ученых сделали существенный шаг вперед по сравнению с эпохой Страбона. Не вдаваясь в детали, отметим лишь основное, что прежде всего бросается в глаза.
Мы видели, насколько схематичными и несовершенными были представления Страбона о Галлии и Британии. На карте Птолемея Галлия приобрела уже знакомые нам очертания (включая Бретонский полуостров). То же относится и к Британии, только северная часть острова оказывается у Птолемея почему-то загнутой к западу наподобие гигантского клюва. Остров Иерне (Ирландия) находится на карте Птолемея уже не к северу, а к западу от Британии.
Птолемей еще не знает Скандинавского полуострова, но южное побережье Балтийского моря от Ютландского полуострова до Вислы (Вистулы) и даже дальше изображено у него достаточно точно. Он, наконец, отказывается от превратного мнения, будто Каспийское море является заливом Океана, и изображает его в виде замкнутого бассейна, слегка вытянутого с запада на восток. Из больших рек, впадающих в Каспийское море, у Птолемея появляется, наконец, Волга (Ра). Довольно точно представлено у пего течение Дона (Танаиса), включая излучину, которую эта река делает в том месте, где она ближе всего подходит к Волге. К северу от этих рек простираются обширные слабоисследованные области, которые Птолемей объединяет общим названием Сарматия. Вопрос о том, ограничены ли они с севера Океаном, остается у Птолемея открытым. В качестве самого северного народа, обитающего в этой части ойкумены, называются аланы.
Нет смысла задерживаться на описании областей Азии, лежащих к востоку от Сарматии и к северу от горных цепей Тавра, которые Птолемей в согласии со своими предшественниками проводит почти по прямой линии, идущей вдоль «основной» параллели с запада на восток. Здесь сведения Птолемея базируются на крайне ненадежных и даже просто фантастических данных. Существенно, однако, то, что он не ограничивает Азию Океаном ни с севера, ни с востока.
Новые сведения были к этому времени получены о странах Юго-Восточной Азии, лежащих к востоку от Индии. За Индией Птолемей помещает большой залив, в который впадает Ганг и за которым находится глубоко вдающийся в Океан полуостров, называемый Золотым полуостровом (очевидно, это нынешний Малайский полуостров). За ним следует еще один залив (Сиамский залив?), после чего Океан заканчивается берегом, на котором находится город Каттигара — самая восточная точка, которой когда-либо достигали мореплаватели западных стран. К северу от Каттигары живут сины, а еще севернее — серы. Под серами историки географии обычно понимают китайцев. Обо всех этих странах у Птолемея были очень смутные представления.
Но самое любопытное состояло в том, что Птолемей полагал, что берег, на котором находится Каттигара, южнее поворачивает к западу и в конце концов соединяется с Африкой. Таким образом, Индийский океан оказывается у Птолемея замкнутым морем. Правда, о южных берегах этого моря никто ничего сказать не может.
Что касается Африки, то здесь уместно воспроизвести представления Птолемея об истоках Нила. По его мнению, в верхнем своем течении Нил сливается из двух рек (это слияние имеет место значительно южнее слияния Белого и Голубого Нила), которые берут свое начало в так называемых Лунных горах, расположенных примерно на двенадцатом градусе южной широты, а затем протекают через большие озера. Во всем этом чувствуется отзвук реальной, хотя и сильно искаженной информации.
О размерах пустыни Сахары Птолемей, судя по всему, не имел надлежащего представления. На его карте та область, которую мы теперь называем Сахарой, оказывается изрезанной многочисленными реками.
Глава пятая Эллинистическая астрономия
Предварительные замечания
Из всех отраслей естествознания наибольших успехов в эпоху эллинизма достигла астрономия. Почему именно астрономия, а не физика, не химия, не механика наконец (разумеется, в трудах Архимеда механика сделала громадный скачок вперед, но этот скачок остался фактически без продолжения)? Этот примечательный факт очень существен для характеристики античного научного мышления и заслуживает того, чтобы мы на нем остановились несколько подробнее — тем более что начальные шаги греческой науки отнюдь не предвещали того бурного развития астрономии, которое она получила в IV–II вв. до н. э.
Греческие мыслители VI–V вв., занимавшиеся наукой «о природе», разрабатывали различные модели космоса. Эти модели создавались ими на основе чисто спекулятивных соображений, лишь в очень малой степени учитывавших данные астрономических наблюдений. Достаточно сказать, что даже такие ученые, как Анаксагор и Эмпедокл, имели, по-видимому, весьма слабое представление о числе планет и характере их движений. Несколько лучше обстояло дело в пифагорейской школе, где уже достаточно рано (и, возможно, не без влияния восточной астрологии) знали о существовании пяти планет. Но разобраться в их движениях пифагорейцы не были в состоянии; об этом свидетельствуют хотя бы дошедшие до нас сведения о космологической системе Филолая (конец V в.).
С другой стороны, уже в V в. греческая наблюдательная астрономия могла отметить свои первые успехи. До нас дошли имена Метона, Эвктемона, Эйнопида; более того, источники сообщают о том вкладе, который был внесен каждым из этих ученых в развитие астрономической науки.
Афинский астроном Метон, живший во второй половине V в. до н. э., предложил лунно-солнечный календарь, основанный на 19-летнем цикле, состоявшем из 235 лунных месяцев (так называемый метонов цикл). Создание этого календаря было возможно лишь при достаточно хорошем знании длительности как солнечного года, так и лунного месяца. Мы не знаем, был ли этот календарь заимствован у вавилонских звездочетов, или его следует считать оригинальным греческим изобретением. Во всяком случае, в Вавилоне он вошел в употребление позднее (согласно имеющимся данным, лишь в IV в.).
Современник и соотечественник Метона Эвктемон сделал замечательное открытие: он обнаружил неравенство четырех времен года. Если определять эти времена как промежутки между точками равноденствия и солнцестояния, то они, по Эвктемону, будут равны: 93 дням для: весны, 90 — для лета, 90 — для осени и 92 — для зимы. Значения эти еще не были точными (истинные значения составляли соответственно: 94,1; 92,2; 88,6; 90,4), но даже простая констатация факта таких различий была сама по себе большим достижением.
Наконец, Эйнопид Хиосский, живший примерно в то же время, установил и, возможно, измерил наклон эклиптики, т. е. круга, вдоль которого движутся Солнце, Луна и планеты, по отношению к небесному экватору. Мы не знаем, насколько точно определил сам Эйнопид величину этого наклона; известно только, что в IV в. до н. э. эта величина принималась равной 1/15 полного круга (т. е., по-нашему, 24°, что с большой точностью соответствует ее истинному значению).
Эти достижения позволяют предположить, что к концу V в. до н. э. греческие астрономы уже имели некоторое представление о нерегулярностях в движениях светил по небесному своду, — нерегулярностях, которые требовали теоретического осмысления. Ни одна из моделей космоса, предлагавшихся досократиками, не была пригодна для такого осмысления. Нужны были новые модели, модели геометрические, предпосылкой создания которых мог быть. лишь достаточно высокий уровень развития математической науки.
В начале IV в. такой уровень уже был достигнут греческой математикой, свидетельством чему могут служить следующие факты.
Величайшим математиком конца V в. был, бесспорно, Гиппократ Хиосский. Согласно свидетельству Аристотеля, в молодости Гиппократ занимался торговлей, но крайне неудачно; по-видимому, к этому делу у него не было никаких способностей. Оставив коммерцию, он поселился в Афинах, где вскоре приобрел славу замечательного геометра. Гиппократ написал сочинение, в котором было дано первое в истории человечества изложение основ геометрии, базирующееся на применении метода математической индукции. Текст этого сочинения до нас не дошел, но оно легло в основу первых четырех книг «Элементов» Эвклида, по которым мы можем судить о его содержании. Особенно интересны для нас третья и четвертая книга «Элементов», в которых рассматриваются свойства круга и правильных многоугольников. Из них мы можем заключить, что Гиппократу уже была известна связь между вписанными углами и дугами; он мог построить правильный га-угольник при n=3, 4, 5, 6, 10, а также описать круг около любого треугольника и равнобедренной трапеции. Он был хорошо знаком с понятием подобия и знал, что площади двух кругов относятся как квадраты их радиусов. Кроме того, до нас дошла в изложении Симпликия знаменитая «теорема о луночках» Гиппократа, не включенная в «Элементы» Эвклида[191]. Как сообщается, эта теорема была нужна Гиппократу для решения задачи о квадратуре круга. Наряду с задачами об удвоении куба и трисекции угла, это была одна из трех популярных задач, которые не могли быть решены средствами геометрии циркуля и линейки и над которыми ломали голову многие выдающиеся люди того времени. Так, задачей о квадратуре круга занимался, по преданию, в тюрьме Анаксагор; своеобразное решение ее, предвосхищающее «метод исчерпывания» Эвдокса, предложил софист Антифон; она упоминается даже в «Птицах» Аристофана[192]. Все это свидетельствует о том интересе, который был у греков к проблеме круга — даже в ее чисто математических аспектах. Этот интерес крайне показателен: о нем можно судить по ряду высказываний Платона, по философскому обоснованию особых свойств круга, которое дал впоследствии Аристотель, и он может объяснить многое в последующем развитии греческой астрономии.
Напротив, интерес к другим кривым, помимо окружности, пробуждался у греческих математиков гораздо медленнее. Первой из них была, по-видимому, кривая, изученная софистом Гиппием и получившая впоследствии название квадратрисы. Эта кривая была получена Гиппием в процессе работы над задачей о трисекции угла. Впоследствии математики открывали то ту, то другую кривую, причем в большинстве случаев их интересовали не столько свойства этих кривых самих по себе, сколько способы их построения. Лишь в гениальном труде Аполлония Пергского (III–II вв. до н. э.) была дана полная теория кривых второго порядка, но на античную астрономию эта теория, к сожалению, не оказала практически никакого влияния.
Несколько позже, чем планиметрия, начала развиваться геометрия объемных тел, т. е. стереометрия. Правда, уже ранние пифагорейцы знали по крайней мере три правильных многогранника — тетраэдр, куб и додекаэдр, причем последнему они приписывали особые, магические свойства. Но научная теория правильных многогранников была разработана лишь в первой трети IV в. до н. э. одним из величайших математиков того времени — Теэтетом. Теэтет указал способы построения всех пяти многогранников, выразил их ребра через радиус описанной сферы и доказал, что никаких других правильных выпуклых многогранников существовать не может. Результаты, полученные Теэтетом, составили содержание тринадцатой книги «Элементов» Эвклида. Напомним, что Платон вывел Теэтета в одноименном диалоге, воздвигнув тем самым бессмертный памятник своему другу, погибшему в 369 г. до н. э. в битве с фиванцами.
Таким образом, в работах Гиппократа Хиосского, Теэтета и других математиков того времени был создан математический аппарат, необходимый для построения геометрических моделей космоса.
Наряду с этими объективными предпосылками следует отметить некоторые особенности греческого мышления, наложившие отпечаток на развитие всей античной науки. Научное мышление греков было теоретическим мышлением, или, что в данном случае одно и то же, созерцательным мышлением (ϑεωρέω — рассматриваю, созерцаю). Не случайно идеалом жизни ученого для Аристотеля была созерцательная жизнь (βίος ϑεωρετικός). Основная деятельность ученого, согласно этому идеалу, состояла в созерцании (ϑεωρία) и в осмыслении созерцаемого. Понятие созерцания включало в себя как внешнее созерцание, наблюдение с помощью зрения, так и внутреннее созерцание, т. е. умозрение. Созерцание было, таким образом, пассивным актом, исключавшим или, во всяком случае, не предусматривавшим возможность активного воздействия на созерцаемый предмет. Этим, в частности, объясняется пропасть, отделявшая греческую науку от практической деятельности человека — от техники, от ремесла. Отдельные исключения (Архимед) лишь подтверждают в данном случае общую закономерность.
Но что же могло быть более достойным объектом созерцания, чем небесный свод с движущимися по нему светилами? Это прекрасно выразил Анаксагор в приписываемой ему знаменитой апофтегме. На вопрос, для чего человеку лучше родиться, чем не родиться, Анаксагор ответил: «…чтобы созерцать небо и устройство всего космоса» (ϑεωρήσαι τόν ούρανόν καί την περί τόν όλονκόσμον τάξιν)[193].
Греческая наука осталась верной этому завету Клазоменца. Эстетический момент играл очень большую роль в античной астрономии. Разумеется, наблюдения над небом производились греками и в чисто практических целях: для уточнения календаря, в интересах навигации и сельского хозяйства. Но, с точки зрения греческих ученых, не это составляло важнейшую задачу астрономии. Любопытно также, что в классической Греции мы не находим следов астрологии, издавна процветавшей на Востоке. Это не значит, что рядовые греки не боялись затмений, комет и других необычных явлений природы; этот страх они разделяли со всеми народами мира. Но уже первый греческий ученый — Фалес был, по-видимому, лишен каких-либо предрассудков подобного рода. Как только греческая наука обратила свои взоры к небу, она наряду со всегда присутствовавшим у греков моментом эстетического любования выдвинула на первый план момент чисто познавательный. И тут была поставлена задача, которая сразу же выделила греческую астрономию среди аналогичных изысканий, проводившихся в Вавилоне, Египте и других странах Востока. Надо было не только фиксировать видимые перемещения светил по небесному своду, да только предсказывать те или иные их сочетания (это давно уже делали вавилоняне, накопившие в этом деле громадный опыт); основная задача состояла в том, чтобы разобраться в смысле наблюдаемых явлений, включив их в общую схему мироздания.
Первые примитивные попытки такого рода были предприняты ранними милетцами — Анаксимандром и Анаксименом, но у них практически отсутствовали данные систематических наблюдений. Первыми в Греции начали наблюдать небо пифагорейцы (если но считать полумифической фигуры астронома VI в. до и. э. Клеострата); они знали о существовании пяти планет и пытались найти числовые закономерности, лежащие в основе небесного устройства. В «Тимее» Платона отражены, по-видимому, высшие достижения пифагорейской астрономии: из этого диалога мы узнаем, что к этому времени уже твердо укоренилось убеждение в шарообразной форме Земли и было также осознано, что Луна, Солнце и пять планет, участвуя в суточном движении небесного свода, совершают также перемещения вдоль плоскости эклиптики, происходящие, как правило, в противоположном направлении и имеющие различные скорости. Это было большим достижением, хотя для построения геометрической модели космоса, которая позволила бы объяснить все известные к тому времени факты, пифагорейских данных было еще явно недостаточно.
Задачи, стоявшие перед греческой астрономией, были четко сформулированы Платоном. Об этом Платон пишет в «Государстве», «Законах» и «Послезаконии»; кроме того, по этому вопросу имеется крайне важное сообщение Симпликия.
В седьмой книге «Государства» Сократ пространно рассуждает о том, какие научные дисциплины подобает изучать людям, стоящим во главе государства. Из этих дисциплин на первое место он ставит геометрию. «Не поместим ли мы после изучения геометрии изучение астрономии?» — спрашивает он своего собеседника Главкона. Главкон соглашается с этим, потому-что, говорит он, точное знание времен года, месяцев и лет полезно не только для земледелия и кораблевождения, оно входит также в обязанности правителей. Сократ не соглашается с подобным утилитарным толкованием проблемы и в ходе дальнейшей беседы развивает свои соображения о двух астрономиях. Одна из них ограничивается рассмотрением того, что мы воспринимаем с помощью зрения. Это сложные и разнообразные узоры (ποικιλματα), которые, правда, кажутся нам наиболее прекрасными и совершенными среди чувственно воспринимаемых вещей, но далеко уступают истинным движениям, совершающимся по истинным траекториям и с истинными скоростями. Эти истинные движения не могут быть восприняты нашими чувствами и постигаются только с помощью рассуждения и разума (λόγω καί δκανοία). Они-то и составляют предмет той астрономии, которую следует считать наукой (επιστήμη) в собственном смысле слова[194].
Две астрономии Платона — это астрономия наблюдательная и астрономия теоретическая. Не следует думать, что, отрицая за первой право называться наукой, Платон полностью отвергал ее. Он, конечно, понимал, что без изучения видимых движений светил невозможно постигнуть их истинные движения. Предпосылкой для уяснения идеальных форм и соотношений геометрических фигур служит чувственный опыт, где эти же формы и соотношения предстают в нечетком, запутанном и смешанном виде; точно так же и в астрономии познание неизменных и регулярных движений предполагает предварительную стадию изучения видимых движений, изменчивых и лишенных регулярности. Но эта предварительная стадия не может быть целью подлинной астрономии; эта цель состоит в раскрытии замысла Демиурга, установившего с помощью точных числовых соотношений простые и всегда неизменные пути и скорости движений небесных светил.
Эти мысли находят дальнейшее развитие в «Законах»[195] и «Послезаконии»[196]. Но в этих диалогах на первый план выступает идея божественности небесных светил. Луна, Солнце, планеты и все прочие звезды суть разумные и одушевленные существа, наделенные вечной жизнью. На основании чего Платон заключает это? На основании того, что лишь разумные существа могут совершать всегда одни и те же регулярные движения, а наличие разума предполагает душу. Современным людям эти соображения Платона представляются крайне странными: мы находим более естественным, что живые, одаренные разумом существа могут по собственной воле двигаться то так, то этак; наоборот, лишь бездушное тело может бесконечно вертеться по одной и той же орбите. Но у Платона дело обстояло иначе: регулярность и неизменность присущи разуму; все же неразумное, бездушное, неживое движется беспорядочно и нерегулярно. Что же касается воли, то греческое мышление эпохи Платона вообще еще не знало такого понятия.
Платоновское разделение астрономии на наблюдательную и теоретическую («истинную») явилось мощным стимулирующим фактором для развития астрономии в целом (заметим, что вавилонская астрономия так и осталась на уровне чисто наблюдательной дисциплины). Но Платон не только поставил задачу нахождения «истинных» движений небесных светил, он также предположил, какими должны быть эти движения. Правда, в диалогах Платона прямых указаний по этому поводу мы не находим. Но вот что пишет, как всегда хорошо информированный, Симпликий в своих комментариях к аристотелевскому трактату «О небе»:
«Приняв принципиальное допущение, что небесные тела движутся круговым, равномерным и неизменно постоянным движением, он поставил перед математиками следующую задачу: Какие из равномерных, круговых и упорядоченных движений должны быть положены в основу [теории], чтобы можно было объяснить явления, связанные с „блуждающими“ светилами?» (Τίνων ΰποτεϑέντων δι' όμαλων και εγκυκλίων και τεταγμένων κινήσεων δυνήαεται διασωϑηναν τα περί τούς πλανωμένους φαινόμενα;)[197].
Почему Платон ограничил эту задачу круговыми движениями? Да потому, что в его эпоху круг был единственной криволинейной фигурой, о которой могла идти речь в данном случае. К исследованию конических сечений греческая математика в то время еще не приступила. Неподвижные звезды совершают свое суточное движение по окружностям — в этом не могло быть никаких сомнений. Согласно общепринятым представлениям того времени, окружность считалась совершенной кривой, а сфера — совершенным телом (Аристотель позднее подробно обоснует эту точку зрения), и Платон, конечно, разделял эти представления. А поскольку, по мнению Платона, небесные светила имели божественную природу, то им подобало двигаться только по совершенным кривым. На основании всего этого можно заключить, что платоновская постановка задачи была не только естественной, но — для того времени — единственно возможной. Другое дело, что в позднейшую эпоху приверженность к круговым движениям вступила в противоречие с данными наблюдений и стала в конце концов тормозом для дальнейшего развития теоретической астрономии.
Теория гомоцентрических сфер Эвдокса
Первое решение задачи, сформулированной Платоном, было дано великим математиком середины IV в. Эвдоксом. О Эвдоксе надо сказать несколько слов, поскольку он, бесспорно, был ведущей фигурой в греческой науке того времени. Он был исключительно разносторонним ученым, оставившим после себя труды по философии, географии, музыке, медицине, но нам он известен прежде всего как математик и астроном, причем самые большие его достижения относятся, по-видимому, к математике. Его «метод исчерпываниям заложил основы теории пределов и подготовил почву для позднейшего развития математического анализа, а глубина его теории отношений, базировавшейся на новом определении понятия величины, была по-настоящему оценена лишь во второй половине XIX в., когда трудами Дедекинда и других математиков была создана теория вещественпых чисел. К сожалению, ни одно его сочинение до нас не дошло, и сведения о его достижениях известны нам исключительно из вторичных источников.
О жизни Эвдокса позднейшие авторы сообщают следующие сведения[198]. Родился он в Книде около 400 г. до н. э. В молодости он изучал математику у Архита в Таренте и медицину у Филистиона в Сицилии. В возрасте двадцати трех лет он прибыл в Афины и, будучи очень бедным, поселился в гавани Пирея, откуда ежедневно ходил пешком в платоновскую Академию и обратно. Позднее при содействии друзей он совершил путешествие в Египет, где набирался астрономических знаний у жрецов Гелиополя. Вернувшись в Грецию, он основал собственную школу в Кизике (на южном берегу Мраморного моря). Получив широкую известность, Эвдокс еще раз побывал в Афинах, где беседовал с Платоном на философские темы. Умер он пятидесяти трех лет от роду на своей родине, в Книде.
Мы не знаем, создал ли Эвдокс свою астрономическую теорию по непосредственному поручению Платона, или пришел к ней самостоятельным путем. Геометрическая модель космоса, разработанная Эвдоксом, получила наименование модели гомоцентрических сфер. Она была изложена в сочинении Эвдокса «О скоростях» (Περί ταχών), ее существо известно нам из двенадцатой книги «Метафизики» Аристотеля и более детально — от Симпликия.
Следуя своему обыкновению, Аристотель не вдается в детали теории Эвдокса, ограничиваясь всего лишь несколькими, правда важными и точными, указаниями. Он говорит также о тех видоизменениях, которые были внесены в модель Эвдокса Каллиппом, а затем излагает свою собственную модель, в некоторых существенных пунктах отличавшуюся от модели Каллиппа[199].
Дошедшие до нас комментарии к «Метафизике» не дают никакой новой информации о модели Эвдокса по сравнению с той, которая содержится в тексте самого Аристотеля. Это относится как к комментариям Александра Афродисийского, так и к тому изложению «Метафизики», которое принадлежало Фемистию и дошло до нас в переводах на сирийский, арабский и еврейский языки.
Иное дело — Симпликий. В комментариях к трактату «О небе» (где, кстати сказать, о моделях космоса ничего не говорится) Симпликий приводит пространные выдержки из сочинения перипатетика II в. н. э. Сосигена «О круговращениях» (Περί των άνελιττουσων), относящиеся к теориям Эвдокса и Каллиппа[200]. В свою очередь, Сосиген имел своим источником «Историю астрономии» (Αστρολογική ΐοτορία) ученика Аристотеля Эвдема, а тот уже пользовался оригинальными текстами астрономов, о которых он писал. Работы Эвдема и Сосигена также утеряны, поэтому, комментарии Симпликия наряду с «Метафизикой» остаются основным источником сведений о модели гомоцентрических сфер Эвдокса.
Поскольку изложение Симпликия (или Сосигена) не отличается особой четкостью и лишено пояснительных чертежей, оно требует тщательного изучения. Эта работа была выполнена историками астрономии XIX в. н. э.; среди них особо надо отметить выдающегося итальянского астронома Скиапарелли, который дал исчерпывающую, хотя и не во всех деталях одинаково убедительную реконструкцию модели Эвдокса[201]. Во всяком случае, основные идеи теории Эвдокса представляются нам теперь достаточно ясными.
В основе всех гомоцентрических моделей лежит представление о том, что космос состоит из ряда сфер или оболочек, обладающих общим центром, который совпадает с центром земного шара. Снаружи космос ограничен сферой неподвижных звезд, совершающей оборот вокруг мировой оси в течение суток. Движение каждого из семи небесных тел — Луны, Солнца и пяти планет — описывается независимой системой взаимосвязанных сфер, каждая из которых вращается равномерно вокруг своей оси; однако направление этой оси и скорость вращения могут быть различными для различных сфер. Соответствующее небесное тело прикреплено к экватору самой внутренней из сфер данной системы; ось этой сферы жестко связана с двумя точками следующей по порядку сферы и т. д. Таким образом, любая сфера участвует в движении всех внешних по отношению к ней сфер и в то же время увлекает своим движением ближайшую к ней внутреннюю сферу. Самая внешняя сфера совершает суточное круговращение, совершенно аналогичное вращению сферы неподвижных звезд. Следующая за ней сфера вращается в противоположном направлении, вокруг оси, перпендикулярной к плоскости эклиптики. Число прочих сфер и характер их движения выбираются таким образом, чтобы результирующее движение связанного с ними небесного тела (точнее говоря — проекция этого движения на сферу неподвижных звезд) максимально точно отображало видимое движение данного тела по небесному своду.
Теперь посмотрим, каким образом эти общие принципы применялись Эвдоксом к каждому из семи небесных тел, движение которых он хотел воспроизвести с помощью своей модели.
Для Луны Эвдокс предположил существование трех сфер. Внешняя из них совершает один оборот вокруг мировой оси в течение суток, двигаясь с востока на запад. Полюса второй сферы жестко связаны с двумя точками первой сферы таким образом, что эта сфера, участвуя в движении первой сферы, в то же время вращается вокруг оси, перпендикулярной к кругу зодиака (т. е. к плоскости эклиптики) и проходящей через центр этого круга. Вращение второй сферы противоположно по направлению вращению первой сферы, т. е. направлено с запада на восток. Ось третьей сферы, к экватору которой прикреплена Луна, имеет небольшой наклон по отношению к оси второй сферы; при этом третья сфера медленно вращается с востока на запад (т. е. в том же направлении, что и первая сфера). Симпликий разъясняет, что функция третьей сферы состоит в том, чтобы объяснить, почему Луна не всегда находится в плоскости эклиптики, а отклоняется от нее то к северу, то к югу, причем точки максимального отклонения не всегда находятся в одних и тех же знаках зодиака, а медленно перемещаются с востока на запад. Угол наклона третьей сферы, говорит Симпликии, определяется максимальным отклонением Луны от плоскости эклиптики. Мы знаем, что это отклонение составляет примерно 5°; оно, по-видимому, было хорошо известно греческим астрономам эпохи Эвдокса.
Симпликий ничего не говорит о периодах вращения второй и третьей сфер. Для второй сферы этот период был, очевидно, ранен лунному месяцу, но какому месяцу — синодическому, сидерическому или драконическому? И было ли в то время известно различие между этими тремя месяцами? Естественно также предположить, что период вращения третьей сферы у Эвдокса соответствовал полному периоду регрессии лунных узлов, длительность которого приблизительно равна 18 с половиной годам. При таком допущении, однако, получится, что в течение девяти с лишним лет Луна находится к северу от эклиптики, а потом в течение такого же промежутка времени — к югу от нее. Это ни в какой мере не соответствует наблюдаемому движению Луны. Мог ли Эвдокс совершить подобную ошибку?
Учитывая это обстоятельство, Скиапарелли в своей реконструкции теории Эвдокса предположил, что изложение Симпликия (а тем самым и Сосигена) содержит серьезные неточности. Движение Луны будет описываться гораздо правильнее, если мы предположим, что вторая сфера движется (как и первая) с востока на запад с периодом вращения, равным 18 с половиной годам, при сохранении, однако, предположения, что эта сфера вращается вокруг оси, перпендикулярной к плоскости эклиптики. Что касается третьей сферы, то она, согласно Скиапарелли, вращается с запада на восток с периодом, равным одному драконическому месяцу, причем ее ось составляет с осью второй сферы угол, равный 5°. В этой реконструкции вторая лунная сфера оказывается ответственной за регрессию лунных узлов, а третья — за месячное перемещение Луны по поясу зодиака.
Реконструкция Скиапарелли была принята большинством историков науки, в том числе Дюэмом, Хитом, Дрейером[202]. Действительно, она представляет собой оптимальный вариант, при котором система из трех гомоцентрических сфер наилучшим образом описывает видимые движения Луны. Но соответствует ли эта реконструкция модели самого Эвдокса? Некоторые авторы, например Дикс, высказывали по этому поводу серьезные сомнения[203]. Дело не только в том, что, приняв реконструкцию Скиапарелли, необходимо будет признать, что Симпликий (и Сосиген, а может быть, и Эвдем) допустил грубую ошибку в изложении теории Эвдокса. В этой же ошибке придется заподозрить и Аристотеля, который в «Метафизике» называет вторую сферу, совершающую движение по эклиптике, «общей для всех» (κοινήν άπασων εΐναι)[204].
Вряд ли выражение «общая для всех (светил)» можно понимать иначе, чем в том смысле, что она для всех светил движется в том же направлении (ведь время обращения второй сферы в каждом случае различно). А ведь Аристотель, принявший непосредственное участие в развитии теории гомоцентрических сфер, несомненно, тщательно изучил соответствующее сочинение Эвдокса. Не правильнее ли будет допустить, что в эпоху Эвдокса многие детали движения Луны (в том числе регрессия лунных узлов) были еще очень плохо известны? Не имея текстов самого Эвдокса (или на худой конец Эвдема), мы не можем дать окончательный ответ на все эти вопросы.
Движение Солнца Эвдокс также описывал с помощью трех сфер. Внешняя сфера, как и в случае Луны, дублирует суточное движение небесной сферы. Следующая за ней вторая сфера воспроизводит движение Солнца по эклиптике с запада на восток; период вращения этой сферы вокруг своей оси равен, очевидно, одному солнечному году. Недоумение вызывает третья сфера: из разъяснений Симпликия следует, что она должна объяснить отклонения Солнца от эклиптики к северу или к югу и в этом смысле аналогична третьей лунной сфере. По-видимому, Эвдокс ошибочно полагал, что раз Луна и планеты отклоняются от эклиптики, то такие же отклонения должны иметь место и для Солнца. Симпликий указывает, что третья сфера необходима для объяснения того, что «Солнце в дни летних и зимних солнцестояний не всегда восходит в одной и той же точке». Это совершенно ошибочное наблюдение, имевшее своей причиной, по-видимому, несовершенство тогдашней измерительной техники. По поводу третьей сферы сообщается также, что ее ось составляет с осью второй сферы значительно меньший угол, чем это имеет место для второй и третьей лунных сфер, и что она вращается в том же направлении, что и вторая сфера, но только значительно медленнее.
Следует отметить, что, хотя астрономы вскоре осознали ошибочность позиции Эвдокса в вопросе об отклонении Солнца от эклиптики, некоторые позднейшие авторы, в том числе Плиний и Александр Афродисийский, продолжали верить в то, что такое отклонение существует, а Теон Смирнский даже указал его величину (около 0,5°)[205]. Любопытно, что, вводя третью сферу Солнца для объяснения этого мнимого явления, Эвдокс в то же время игнорирует хорошо известный со времен Эвктемона факт неравенства времен года (объясняющийся, как мы теперь знаем, неравномерностью движения Земли по эллиптической орбите). В модели Эвдокса четыре времени года имеют одинаковую длительность.
Реконструируя теорию Эвдокса, Скиапарелли пришел к выводу, что и в случае Солнца Симпликий допустил ошибку, перепутав вторую и третью сферы, и что, следовательно, периоды вращения этих сфер и направления их движения должны быть взаимно переставлены. В противном случае, аргументировал Скиапарелли, Солнце слишком долго будет находиться к северу от эклиптики и слишком долго к югу от нее, что противоречит наблюдениям. Этот аргумент, однако, не выдерживает никакой критики; любое утверждение, что Солнце может отклониться от эклиптики в ту или другую сторону, противоречит наблюдениям. Дело было, по-видимому, не в этом, а в том, что Скиапарелли ощущал потребность (и вполне справедливо) в установлении аналогичной последовательности как лунных, так и солнечных сфер.
При моделировании движения планет Эвдокс столкнулся с новыми трудностями. Двигаясь вдоль пояса зодиака, планеты не только отклоняются к северу или к югу от эклиптики, но, кроме того, описывают на небе своеобразные петли, обусловленные, как мы. знаем, движением Земли по се орбите, на которое накладывается движение соответствующей планеты. В наиболее типичных случаях имеет место следующая картина: в течение какого-то времени планета движется вдоль эклиптики с запада па восток (прямое движение), потом это движение замедляется и некоторое время планета кажется стоящей на месте. Вслед за этим планета начинает двигаться в другую сторону — с востока на запад (попятное движение), после чего наступает новая остановка, а затем планета снова возобновляет прямое движение. В результате планета как бы колеблется около некоторой воображаемой точки, именуемой в астрономии средним положением планеты. Эта средняя точка перемещается с запада на восток более или менее равномерно; время, за которое она обойдет весь круг зодиака и вернется в исходное положение, называется сидерическим периодом планеты. Укажем также, что время, требуемое планете для прохождения одной петли вокруг ее средней точки и определяемое промежутком между двумя последовательными соединениями (или противостояниями) планеты с Солнцем, называется синодическим периодом планеты.
Движение каждой планеты Эвдокс смоделировал с помощью четырех гомоцентрических сфер. Внешняя сфера, как и в других случаях, ответственна за суточное обращение планеты вокруг Земли вместе со всем небесным сводом. Вторая сфера воспроизводит движение среднего положения планеты вдоль пояса зодиака. Если бы мы ограничились только этими двумя сферами, все планеты двигались бы в плоскости эклиптики с запада на восток. Эвдоксу надлежало выбрать третью и четвертую сферы так; чтобы сумма их вращений приводила к петлеобразному движению планеты вокруг ее среднего положения. Он сделал это с помощью гениально простого построения, причем реконструкция его теории в этом важном пункте представляет собой бесспорную заслугу Скиапарелли.
Третья сфера была расположена Эвдоксом таким образом, что ее полюса находились в двух противоположных точках эклиптики (т. е. на экваторе второй сферы). Ее собственное движение состояло во вращении вокруг своей оси с периодом, равным синодическому периоду данной планеты (т. е. промежутку времени между двумя последовательными противостояниями или соединениями этой планеты с Солнцем). Полюса третьей сферы были различны для различных планет, но у Меркурия и Венеры они совпадали. Направления вращения третьей сферы Симпликий не указал, но в данном случае это не имело существенного значения.
Полюса четвертой сферы прикреплены к поверхности третьей сферы таким образом, что ось четвертой сферы составляет постоянный угол с осью третьей сферы. Четвертая сфера вращается вокруг своей оси с периодом, равным периоду третьей сферы, но в противоположном направлении. К экватору четвертой сферы прикреплена планета, движение которой слагается, таким образом, из суммы равномерных вращений четырех сфер.
Если отвлечься от движения первой и второй сфер, т. е. считать среднее положение планеты неподвижным, то тогда окажется, что сумма вращений третьей и четвертой сфер дает траекторию, имеющую форму замкнутой симметричной кривой, похожей на восьмерку (рис. 1). Одной из осей симметрии этой восьмерки будет эклиптика, а точка соединения обеих ее частей окажется совпадающей со средним положением планеты. Эту кривую Эвдокс назвал гиппопедой (ίππου πέδη — лошадиные путы); в математике нового времени она получила наименование лемнискаты. Движение планеты взад и вперед по гиппопеде совместно с перемещением всей этой кривой вдоль эклиптики (вследствие вращения второй сферы) должно было, по замыслу Эвдокса, отобразить видимое движение данной планеты по небесному своду.
Рис. 1. «Гиппопеда» Эвдокса
В какой мере это отображение можно считать адекватным? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, не рассматривая движение каждой планеты в отдельности. А для этого надо знать, во-первых, значения синодических периодов планет, которыми пользовался Эвдокс, а во-вторых, углы, образуемые между собой осями третьей и четвертой сфер. Значения синодических (а также сидерических) периодов, принимавшиеся Эвдоксом, известны нам благодаря Симпликию. Они были известны Эвдоксу достаточно хорошо для всех планет, за исключением Марса, для которого значение Эвдокса оказывается заниженным почти в три раза[206].
К сожалению, никаких данных об углах, образуемых осями третьей и четвертой сфер, Симпликий не сообщает.
Скиапарелли, назвавший этот угол «наклонением» соответствующей планеты, детально проанализировал результаты, к которым приводит модель Эвдокса при надлежащем выборе наклонения. В частности, он показал, что для Сатурна и Юпитера эти результаты хорошо согласуются с данными наблюдений, если принять наклонения этих планет равными соответственно 6° и 13°. Однако для Марса такого согласия ужо не получается. При правильном значении синодического периода (780 дней) модель Эвдокса вообще не работает, так как ни при каком наклонении большем 90° гиппопеда не может образоваться. Если же принять эвдоксово значение синодического периода (240 дней) и положить наклонение Марса равным 34°, то тогда можно получить гиппопеду, примерно соответствующую истинной; однако при этом возникают другие несообразности[207]. Еще хуже обстоит дело с Венерой: движение этой планеты вообще нельзя объяснить с помощью модели Эвдокса. Что же касается Меркурия, то из-за близости этой планеты к Солнцу сравнение теоретических подсчетов с данными наблюдений было в эпоху Эвдокса практически неосуществимым.
Осознавал ли сам Эвдокс дефекты своей системы? Возможно (как это полагает, например, Дикс), что он вообще не вдавался в детальное рассмотрение движения каждой планеты в отдельности, а только показал принципиальную возможность объяснения петлеобразного движения планет путем допущения третьей и четвертой сфер. При таком предположении становится ясным, почему Симпликий не привел значения наклонений для отдельных планет: эти значения отсутствовали в сочинении самого Эвдокса. Существенную роль, вероятно, сыграло также то обстоятельство, что наблюдательный материал, относящийся к движению планет, имелся к тому времени в Греции еще в очень недостаточном количестве.
Действительно, астрономы V в. Метон, Эвктемон, Эйнопид, по-видимому, еще не дошли до детального изучения движений пяти планет. Следует полагать, что именно Эвдокс стал основоположником планетной наблюдательной астрономии в Греции. Возможно, что его поездка в Египет послужила для него стимулом для организации систематических наблюдений подобного рода. Источники сообщают, что по возвращении из Египта Эвдокс основал обсерваторию при своей школе в Кизике, где он проводил наблюдения совместно с учениками. Итогом его наблюдений явились два не дошедших до нас сочинения; «Явления» (Φαινόμενα) и «Зеркало» ('Ενοπτρον), о содержании которых мы имеем некоторое представление по цитатам, приводимым Гиппархом в его комментариях к известной поэме Арата[208]. Значительная часть этих комментариев представляет собой критику Эвдокса — в особенности по поводу тех неточностей, которые тот допускал в определении местоположения тропиков, эклиптики и других кругов небесной сферы. Наличие подобных неточностей было вполне естественным и даже неизбежным, поскольку Эвдокс еще не располагал точным методом фиксации точек небесного свода, а пользовался приближенными описаниями, основанными на наглядных образах созвездий.
В качестве примера, иллюстрирующего этот метод, приведем отрывок из поэмы Арата, в котором описывается прохождение летнего круга (тропика Рака) через созвездия Северного полушария (перевод А. Россиуса):
Обе главы Близнецов по этому кругу несутся,
Рядом колени на нем Возничего, ставшего прочно,
Левое также плечо и левая голень Персея;
Следом за ними сей круг Андромеды десницу над локтем
Пересекает, причем ладонь остается над кругом,
Ближе к Борею, а локоть ее наклоняется к югу…
[Арат. Явления. 481–486]Понятно, что при таком грубо описательном методе трудно было отмечать тонкие детали в движении Луны и планет. Тем не менее основанная Эвдоксом школа астрономов-наблюдателей достигла существенных успехов и в этой области. Это привело к тому, что вскоре выявились дефекты эвдоксовой модели гомоцентрических сфер и была предпринята попытка усовершенствовать эту модель, правда при сохранении ее основных принципов. Эта усовершенствованная модель была создана около 330 г. до н. э. Каллиппом из Кизика.
Каллипп и Аристотель
Как сообщает Симпликий[209], Каллипп был учеником своего соотечественника астронома Полемарха, работавшего под руководством Эвдокса во время пребывания последнего в Кизике. Вместе с Полемархом Каллипп прибыл в Афины и там встретился с Аристотелем, который, по-видимому, и побудил его предпринять переработку модели Эвдокса. Каллипп изложил свою теорию в книге, которая, по-видимому, не имела широкого распространения и была довольно рано утеряна; во всяком случае, Симпликий о ней ничего не знает и в своем рассказе о модели Каллиппа ссылается на «Историю астрономии» Эвдема. Некоторые сведения о модели Каллиппа сообщает также Аристотель в «Метафизике»[210].
Из этих источников мы узнаем, что усовершенствованная модель Каллиппа отличалась от модели Эвдокса добавлением нескольких дополнительных сфер. В отношении Сатурна и Юпитера Каллипп не счел нужным менять что-либо в теории Эвдокса: как мы видели выше, движение каждой из этих планет достаточно хорошо описывалось четырьмя сферами. Для Марса, Венеры и Меркурия Каллипп добавил по одной сфере, кроме того, он присовокупил две дополнительные сферы для Луны и столько же для Солнца. Таким образом, общее число сфер у Каллиппа (вместе со сферой неподвижных звезд) стало равным тридцати четырем.
К сожалению, мы очень плохо информированы о функциях дополнительных сфер Каллиппа. В качестве единственного мотива для введения этих сфер Симпликий указывает на неодинаковую длительность времен года, установленную уже Эвктемоном. Но это может относиться только к сферам Солнца. Из найденного в Египте папируса, относящегося ориентировочно к III–II вв. до н. э. и содержащего популярный астрономический текст некоего Лептина[211], мы узнаем, что длительности времен года (начиная с летнего солнцестояния) принимались Каллиппом равными 92, 89, 90 и 94 дням, что, во всяком случае, представляло собой значительное улучшение по сравнению с цифрами Эвктемона. Две дополнительные сферы для Солнца нужны были Каллиппу, очевидно, для объяснения этого факта. Можно предположить, что эти сферы работали у Каллиппа примерно так же, как третья и четвертая планетные сферы в исходной модели Эвдокса, т. е. они давали некую вырожденную гиппопеду, уже не имевшую формы восьмерки, но выражавшуюся в замедлении движения Солнца в одних местах орбиты и в его ускорении в других. Действительно, при надлежащем выборе четвертой и пятой солнечных сфер можно было достичь достаточно точного воспроизведения движения Солнца по эклиптике.
По аналогии можно предположить, что четвертая и пятая сферы в системе сфер Луны потребовались Каллиппу для того, чтобы учесть неравномерность движения Луны вдоль эклиптики (заметим, что эта неравномерность выражена у Луны гораздо более отчетливо, чем у Солнца). К сожалению, мы не знаем, остались ли неизменными в модели Каллиппа функции второй и третьей лунных сфер Эвдокса. Выше было сказано о тех неясностях, которые имеются в этом вопросе, и об «ошибке», допущенной, по мнению Скиапарелли, Симпликием (или Сосигеном) в изложении теории Эвдокса. В течение тридцати лет, отделявших Эвдокса от Каллиппа, в изучении движения Луны был несомненно достигнут существенный прогресс, однако, в какой мере этот прогресс отразился на развитии теории гомоцентрических сфер, мы сказать не можем.
Неясна также роль пятой сферы в системе сфер Марса, Венеры и Меркурия. О том, что для Марса и Венеры исходная теория Эвдокса оказалась несостоятельной, мы уже говорили. Скиапарелли показал, каким образом можно было бы выбрать пятую сферу так, чтобы для этих планет получались попятные движения, соответствующие их синодическим периодам. Разумеется, реконструкцию Скиапарелли нужно рассматривать только лишь как гипотезу: она говорит не о том, какой была модель Каллиппа, а о том, какой она могла бы быть.
Следующим этапом в развитии теории гомоцентрических сфер была модель, предложенная Аристотелем[212]. Здесь, однако, надо отметить существенное различие в подходе к решению проблемы Эвдокса и Каллиппа, с одной стороны, и Аристотеля — с другой. Первые два поступали как математики: они решали задачу о представлении видимого движения небесных тел в виде суммы круговых движений, т. е. вращений нескольких гомоцентрических сфер, не задаваясь вопросом о том, обладают ли эти сферы сами по себе какой-либо физической реальностью. С этим была связана и вторая особенность этих теорий: для каждого небесного тела указанная задача решалась Эвдоксом и Каллиппом независимо от движения прочих тел; это приводило к тому, что система сфер данного тела была замкнутой в себе системой, не влиявшей на движения других систем и не зависевшей от них. В отличие от этого у Аристотеля совокупность гомоцентрических сфер образовывала единый физический космос, причем каждая сфера была вполне реальным предметом, состоявшим из реального, хотя и особого вещества (эфира) и взаимодействовавшим с примыкавшими к ней сферами. Это взаимодействие передавалось последовательно от внешней сферы неподвижных звезд через все промежуточные сферы вплоть до самой внутренней, к которой была прикреплена Луна. Осуществлялось оно таким образом: каждая сфера увлекала в своем движении непосредственно следующую за ней внутреннюю сферу, в свою очередь будучи увлекаема движением непосредственно предшествовавшей ей внешней сферы.
При этом, однако, возникала следующая трудность. Если все небесные сферы жестким образом взаимосвязаны, причем каждая сфера передает свое движение непосредственно за ней следующей сфере, тогда необходимо будет принять, что внутренняя сфера каждой данной планеты, например Сатурна, передает свое движение, представляющее собой сумму движений всех четырех сфер Сатурна, первой (внешней) сфере следующей планеты, т. е. в данном случае Юпитера. Таким образом, получается, что любая планета, помимо своих собственных движений, повторяет движения всех внешних по отношению к ней планет.
Это же относится и к движениям Солнца и Луны. Разумеется, ничего похожего в действительности не наблюдается. У всех светил имеется лишь одно общее движение, совпадающее с суточным движением небесного свода в целом; все же остальные движения у них происходят независимо от движений прочих светил.
Чтобы устранить эту трудность, Аристотель предположил, что между последней сферой данной планеты (причисляя, для краткости, к планетам также Солнце и Луну) и первой сферой непосредственно за ней следующей планеты имеется несколько сфер, из которых каждая движется в противоположном направлении по отношению к соответствующей сфере данной планеты, как бы нейтрализуя ее движение. Число этих «нейтрализующих» (άνελίττουσαι) сфер оказывается на единицу меньше общего числа сфер данной планеты (ведь движение первой сферы, совпадающее с движением сферы неподвижных звезд, не должно нейтрализоваться). Таким образом, если в модели Каллиппа мы имели по четыре сферы для Сатурна и Юпитера, to в модели Аристотеля к ним нужно прибавить по три нейтрализующих сферы. Для всех прочих планет (за исключением Луны) нужно будет прибавлять по четыре нейтрализующих сферы. У Луны нейтрализующих сфер вообще нет: поскольку Луна последнее по порядку небесное тело, ближе всех находящееся к Земле, она уже никому не может передать своего движения. Общее число нейтрализующих сфер в модели Аристотеля равно, таким образом, 3 x 2+ 4 x 4 = 22. Прибавляя это число к числу сфер в модели Каллиппа, мы получим всего 56 сфер, а если не считать сферу неподвижных звезд — 55.
Изложение своей теории гомоцентрических сфер Аристотель завершает следующей странной фразой: «А если для Луны и для Солнца не прибавлять тех движений, которые мл указали, тогда всех сфер будет сорок семь» (εί δέ τη οβλήνη τε καί τώ ήλίω μη προστιϑείη τις άςεΐπομεν κινήσεις, αί πασαι σφαϊραι εσονται επτά τε και τεσσαράκοντα)[213].
Эта фраза приводила в недоумение еще древних авторов. В частности, Сосиген предположил, что в текст вкралась опечатка и вместо επτά надо читать εννέα, а под сферами, которые можно не прибавлять, Аристотель имел в виду по две сферы для Луны и Солнца, введенные Каллиппом, плюс две нейтрализующие сферы для Солнца, оказавшиеся в этом случае излишними[214]. Предположение Сосигена позволяет свести концы с концами; остается только неясным, почему Аристотель считал возможным отказаться от дополнительных сфер Каллиппа для Луны и Солнца, которые, по-видимому, были действительно нужны для объяснения некоторых особенностей движения этих светил (вполне излишней можно было счесть разве только третью эвдоксову сферу для Солнца, воспроизводившую несуществующие отклонения Солнца от эклиптики, но у Аристотеля речь идет явно не о ней). Надо, впрочем, признать, что интерпретации приведенной фразы, предлагавшиеся исследователями нашего времени, оказывались, как правило, еще менее убедительными. Нельзя также считать исключенным, что дело не ограничивается заменой одного слова и что весь текст этого места дошел до нас в сильно искаженном виде.
Между тем Аристотель действительно мог сократить число своих сфер на семь единиц. Ведь у каждой планеты имеется внешняя, первая сфера, движение которой абсолютно тождественно движению сферы неподвижных звезд. В моделях Эвдокса и Каллиппа эта первая сфера действительно была необходима: ведь там движение каждой планеты считалось не зависящим от движения других светил и рассматривалось отдельно. У Аристотеля же все сферы взаимосвязаны и суточное движение сферы неподвижных звезд, у которой нет нейтрализующей ее сферы, передается последовательно всем семи светилам. В этом случае общее число сфер (вместе со сферой неподвижных звезд) оказывается, действительно, равным сорока девяти.
Модель, разработанная Аристотелем, оказалась последней по времени моделью, основанной на принципе гомоцентричности небесных сфер. Прекращение дальнейшей разработки гомоцентрических моделей объясняется общими дефектами, присущими этим моделям, и прежде всего тем обстоятельством, что все эти модели игнорировали фундаментальный факт изменения яркости планет при их движении по небесному своду. Во всех гомоцентрических системах мира расстояние от любой планеты до Земли (вернее, до центра Земли) остается всегда неизменным, а это означает, что и яркость каждой планеты должна быть примерно одинаковой. В действительности, однако, дело обстоит по-другому. Яркость любой планеты со временем то увеличивается, то уменьшается, причем особенно резким колебаниям подвержена яркость Венеры и Марса. Греческим астрономам IV в. до н. э. все это было хорошо известно, и представляется вполне естественным, что рано или поздно должны были возникнуть «негомоцентрические» системы, в которых факт изменения яркости планет мог бы найти то или иное объяснение,
Античный гелиоцентризм (Гераклид Понтийский и Аристарх Самосский)
И действительно, такие системы вскоре возникают, причем их творцы не только отказываются от принципа гомоцентричности, но выдвигают и другие, по тому времени очень смелые и новаторские идеи, которые в то время еще не могли получить всеобщего признания и вскоре были практически забыты; они были возрождены лишь много столетий спустя создателями астрономии нового времени. И прежде всего мы должны назвать имена двух гениальных ученых античности — Гераклида Понтийского и Аристарха Самосского.
О жизни Гераклида мы знаем мало. Диоген Лаэртий[215]сообщает о нем много анекдотических сведений и почти никаких фактов. Во всяком случае, известно, что Гераклид родился в первой половине TV в. до н. э. в Гераклее — греческой колонии на малоазийском побережье Черного моря (Понта), потом прибыл в Афины, где примкнул к Академии, став учеником Спевсиппа, преемника Платона по школе. Неизвестно, застал ли он в живых самого Платона; хронологические соображения этому, во всяком случае, нe противоречат. Одновременно с учебой в Академии он, по-видимому, общался с пифагорейцами, а впоследствии слушал также Аристотеля. Судя по свидетельствам позднейших авторов (Цицерона), как философ он оставался платоником, в ряде пунктов, однако, существенно отклоняясь отортодоксального платонизма. В частности, мы находим сообщения о том, что Гераклид считал космос бесконечным, планетам же приписывал земную природу и утверждал, что они, как и Земля, окружены воздухом. Кометы трактовались им как освещенные облака, находящиеся на очень большой высоте. Даже эти отрывочные сведения свидетельствуют об оригинальности и самостоятельности естественнонаучных воззрений Гераклида.
От Гераклида до нас не дошло ни одной строчки, хотя, судя по косвенным сведениям, он был талантливым писателем. Некоторые его сочинения были написаны в форме диалогов и оказали впоследствии влияние на философскую прозу Цицерона. Приводимый Диогеном Лаэртием большой список трудов Гераклида содержит этические, физические, грамматические и эстетические сочинения, причем по одиним их заглавиям трудно установить, в каком именно Гераклид изложил свои астрономические теории.
В комментариях к аристотелевскому трактату «О небе» Симпликий неоднократно упоминает Гераклида как ученого. впервые объяснившего видимое суточное вращение небесного свода вращением Земли вокруг своей оси[216](сообщения о том, что еще раньше эта же идея выдвигалась пифагорейцами Гикетом и Экфантом, слишком неясны и потому сомнительны). Некоторые исследователи полагают, что теория Гераклида была развитием намека на вращение Земли, содержавшегося в «Тимее» Платона. Возможно, что это в какой-то степени соответствовало истине, однако у Платона это был всего лишь намек, у Гераклида же — отчетливо сформулированная концепция. Во всяком случае, нет никаких указаний на то, что доктрина о вращении Земли вокруг своей оси подвергалась когда-либо серезьному обсуждению в Академии или Ликее.
О другой важной идее Гераклида сообщает Халкидий в своих латинских комментариях к «Тимею» (TV в. н. э.?)[217]. А именно, Гераклид будто бы предположил, что Венера движется не вокруг Земли, а вокруг Солнца и потому оказывается то ближе к нам, чем Солнце, то дальше. Хотя Меркурий и не упоминается Халкидием в данном контексте, однако разумно предположить, что гипотеза Гераклида относилась в равной степени к обеим этим планетам. То, что Меркурий и Венера не удаляются далеко от Солнца, было уже давно известно греческим астрономам; разногласия существовали лишь по поводу того, находятся ли они между Луной и Солнцем, или же Солнце следует считать вторым небесным телом по степени удаленности от Земли, за которым уже следует Меркурий[218]. Гипотеза Гераклида разрешала этот спор и давала естественное объяснение особенностям движения этих двух планет.
Любопытно, что эта гипотеза находила сторонников и в позднейшие времена; так, ее обсуждает известный математик IV в. Теон в своей «Астрономии», где она, правда, связывается с теорией эпициклов, о которой Гераклид, конечно, еще не имел представления[219]. Упоминается она также в книгах таких далеких от подлинной науки авторов V в., как Марциан Капелла[220] и Макробий[221], причем последний приписывает эту гипотезу египтянам. Имя Гераклида никто из этих авторов не называет, и, вообще говоря, не исключено, что гипотеза о вращении Меркурия и Венеры вокруг Солнца могла в дальнейшем выдвигаться независимо от него. Но приоритет в этом вопросе должен быть приписан, бесспорно, Гераклиду.
Существует еще одно любопытное свидетельство, относящееся к Гераклиду и приводимое Симпликием со ссылкой на комментарии Гемина к «Метеорологии» Посидония. Обсуждая вопрос о соотношении между физикой и астрономией, Гемин указывает, что астроном имеет право выдвинуть гипотезу, объясняющую те или иные явления, не заботясь о том, верна ли эта гипотеза с точки зрения физики или пет. При этом в качестве примера приводится заявление Гераклида, что аномалии в движении Солнца могут быть объяснены при предположении, что Земля каким-то образом движется, а Солнце каким-то покоится (ότι κινούμενη πως της γης, τοϋ δε ήλιου μένοντος πως)[222]. Вряд ли и этом заявлении Гераклида (скорее всего, устном) можно видеть указание на гелиоцентрическую гипотезу. Судя по всему, Гераклид всегда оставался убежденным геоцентристом. Скорее всего, речь шла здесь о неравномерности движения Солнца по орбите, следствием которой был уже упоминавшийся выше факт неравенства четырех времен года, причем Гераклид предложил объяснить эту кажущуюся неравномерность тем, что Земля не покоится неподвижно, а совершает вокруг центра мира какие-то колебания. Судя по характеру приведенной фразы, Гераклид никак не развивал своей идеи, а только выдвинул ее в качестве возможной гипотезы.
Оценивая образ Гераклида-ученого в целом, следует признать, что он был, действительно, скорее генератором идей, чем специалистом, доводившим эти идеи до математически оформленной теории. В этом отношении он, конечно, отличался и от Эвдокса, и от Аристарха (о котором речь пойдет ниже). Его идеи, однако, были настолько смелы и плодотворны, что он бесспорно заслуживает занять почетное место в истории античной науки.
В заключение заметим, что Аристотель ни разу не упоминает имени Гераклида Понтийского. Это можно объяснить только тем обстоятельством, что научные труды Гераклида были по тем или иным причинам неизвестны Стагириту. Возможно, что в основной своей части они были написаны уже после смерти великого основателя перипатетической школы.
Создателем первой в истории человечества гелиоцентрической системы мира был, как известно, Аристарх Самосский, деятельность которого падает на первую половину III в. до н. э. и потому уже прямо относится к эпохе эллинизма. Как сообщают позднейшие источники, он был учеником Стратона, преемника Феофраста по руководству Ликеем[223]. О его жизни нет никаких сведений — за исключением того, что примерно в 288–277 гг. до н. э. он занимался астрономическими наблюдениями в Александрии (как указывает Птолемей в «Альмагесте», в 280 г. до н. э. Аристарх наблюдал летнее солнцестояние, находясь в этом городе[224]). Основное сочинение Аристарха, в котором была изложена его система мира, до нас не дошло; о его содержании коротко сообщает Архимед в «Псаммите»[225]. Сохранился текст лишь очень небольшого, но крайне интересного трактата Аристарха «О размерах и расстояниях Солнца и Луны»[226]. Трактат Аристарха написан по образцу математических сочинений того времени: он состоит из ряда выводимых друг из друга теорем, которым предшествуют шесть фундаментальных положений, или «гипотез», взятых в основном из данных наблюдений, полученных при прохождении Луны через тень Земли во время лунных затмений. Из этих данных Аристарх заключает: 1) что расстояние от Земли до Солнца составляет приблизительно 18–20 расстояний от Земли до Луны; 2) что диаметры Солнца и Луны находятся в том же отношении друг к другу, как и их расстояния до Земли; 3) что отношение диаметра Солнца к диаметру Земли должно лежать в пределах между 19/3 и 43/6. Отсюда Аристарх вывел, что объем Солнца должен быть: 19/33, или приблизительно в 250 раз больше объема Земли.
Рис. 2. Метод определения отношения расстояний Земля — Луна и Земля — Солнце по Аристарху
Каким образом получил Аристарх эти значения, вообще говоря очень сильно отличающиеся от действительных? В качестве примера рассмотрим первое из приведенных соотношений — соотношение между расстояниями от Земли до Солнца и от Земли до Луны. Аристарх фиксирует тот момент времени, когда Луна находится строго в первой (или последней) четверти, т. е. когда мы видим освещенной половину лунного диска. Очевидно, что прямые, соединяющие Луну с Землей и Луну с Солнцем, образуют при этом прямой угол. Затем Аристарх определяет угол а, образованный в этот же момент прямыми, соединяющими
Луну с Землей и Землю с Солнцем (рис. 2). Этот угол, согласно его наблюдениям, оказывается равным двадцати девяти тридцатым прямого угла, т. е. в наших обозначениях α=87°. Задача состоит в том, чтобы определить, во сколько раз расстояние от Земли до Солнца (З.—С.) превосходит расстояние от Земли до Луны (З.—Л.), или, если пользоваться тригонометрическими терминами, в определении sin α. С помощью соответствующих геометрических построений Аристарх находит неравенства, заключающие отношение З.—С./З.—Л. в достаточно узкие границы. А именно, он получает:
18<(З.—С.)/(З.—Л.)<20
Математические рассуждения Аристарха безупречны. Почему же найденное им приближенное значение отношения З.—С./З.—Л. оказалось очень далеким от истинного? Потому, что принятое им значение угла α было получено путем очень неточных измерений (на самом деле α = =89°50′). С помощью тех измерительных средств, которые имелись в распоряжении Аристарха, точно определить тот момент, когда освещена ровно половина лунного диска, было практически невозможно. Дефектными были не математические приемы Аристарха, а его наблюдательная техника.
Зная отношение 3.—С./3.—Л. и учитывая тот факт, что видимые поперечники Солнца и Луны примерно равны, мы сразу же находим, что диаметр Солнца должен быть в 19 раз больше диаметра Луны.
Несколько сложнее обстоит дело с определением отношения диаметра Солнца к диаметру Земли. При выводе этого соотношения Аристарх использует одну из шести «гипотез», сформулированных им в начале трактата, а именно, что поперечник тени Земли, падающей на Луну при лунном затмении, принимается равным удвоенному диаметру Луны. С помощью этой гипотезы и найденного выше соотношения между расстоянием от Земли до Луны и от Земли до Солнца, Аристарх находит искомое отношение (19/3).
В числе шести «гипотез» Аристарха фигурирует и такое утверждение: «Диаметр Луны равен одной пятнадцатой части зодиака», т. о. 2°. Это грубая ошибка, на которую часто ссылаются как на свидетельство несовершенства наблюдательных средств Аристарха (на самом деле видимый поперечник Луны равен половине градуса). Правда, Архимед в «Псаммите» сообщает, что диаметр видимого диска Солнца (а значит, и Луны?) составляет, по Аристарху, одну семьсот двадцатую часть круга, что в общем соответствует действительности. Откуда же возникла указанная ошибка? Может быть, она явилась следствием небрежности переписчика? Независимо от решения этого частного вопроса, можно считать несомненным, что Аристарх не придавал большого значения точности наблюдательных данных, которыми он пользовался. Он подходил к решению астрономических задач скорее как математик, чем астроном, для которого точность наблюдений имеет первостепенное значение (заметим, кстати, что Аристарх был одним из первых ученых, начавших пользоваться — пусть еще в неявном виде — тригонометрическими функциями).
Имеются все основания думать, что гелиоцентрическая модель космоса рассматривалась Аристархом как естественное следствие полученных им результатов о сравнительных размерах Солнца и Земли. Хотя Аристотель и признал, что Земля «не велика по сравнению с величиной других небесных светил»[227] но полученное Аристархом соотношение объемов Солнца и Земли (250: 1) — хотя и оно на самом деле было сильно занижено — все же превосходило все то, что по этому поводу могли думать астрономы предшествующих поколений. Уже этот один факт мог вызвать сомнения в правильности традиционной геоцентрической картины мира. Если Солнце было так велико, то не лучше ли было именно его принять за центр Вселенной? Тем более что это допущение приводило к радикальному упрощению устройства космоса и естественным образом разрешало трудность с колебаниями яркости некоторых планет. А эта трудность, как мы видели, была наиболее слабым пунктом в гомоцентрических моделях мира, создававшихся учеными IV в.
Вероятно, таким — или сходным — образом Аристарх обосновывал свою гелиоцентрическую концепцию. Естественное возражение, что в случае движения Земли вокруг Солнца должны были бы меняться видимые конфигурации неподвижных звезд, Аристарх отводил указанием на огромность сферы неподвижных звезд. По вопросу о том, какие размеры Аристарх приписывал Вселенной (понимая под ней сферу неподвижных звезд), интересные сведения сообщает Архимед в «Псаммите». Ввиду важности этого места мы процитируем ого дословно.
«Но Аристарх Самосский выпустил в свет книгу о некоторых гипотезах, из которых следует, что мир гораздо больше, чем понимают обычно. Действительно, он предполагает, что неподвижные звезды и Солнце находятся в покое, а Земля обращается вокруг Солнца по окружности круга, расположенной посередине между Солнцем и неподвижными звездами, а сфера неподвижных звезд имеет тот же центр, что и у Солнца, и так велика, что круг, по которому, как он предположил, обращается Земля, так же относится к расстоянию неподвижных звезд, как центр сферы к ее поверхности. Но хорошо известно, что это невозможно, так как центр сферы не имеет никакой величины, то нельзя предполагать, чтобы он имел какое-нибудь отношение к поверхности сферы. Надо поэтому думать, что Аристарх подразумевал следующее: поскольку мы предполагаем, что Земля является как бы центром мира, то Земля к тому, что мы назвали миром, будет иметь то же отношение, какое сфера, по которой, как думает Аристарх, обращается Земля, имеет к сфере неподвижных звезд…»[228]
Любопытно, что Архимед критикует Аристарха не за то, что тот поместил Солнце в центр мира и заставил кружиться вокруг него Землю, и не за его представления об огромности Вселенной, а только за математически неточное сравнение: «относится… как центр сферы к ее поверхности». По сути дела, это место из «Псаммита» остается единственным источником наших сведений о гелиоцентрической системе Аристарха, и мы можем только горевать по поводу того, что книга Аристарха, в которой излагалась эта система, не дошла до нашего времени.
Кроме «Псаммита» о системе Аристарха содержатся упоминания только у двух авторов. Один из участников диалога Плутарха «О лике, видимом на диске Луны», которого привлекают к ответственности за то, что он перевернул мир кверху ногами, говорит, что он доволен, что его хотя бы не обвиняют в нечестивости, «подобно тому, как Клеанф считал необходимым обвинить Аристарха Самосского в нечестивости, как человека, который заставил двигаться очаг мира (ώς κίνοϋντα τοϋ κόσμου τήν έοτίαν), потому-что, он попытался объяснить явления (φαινόμενα σώςειν… έπειρατο), предположив, что Небо покоится, а Земля движется по косой орбите, одновременно вращаясь вокруг своей оси»[229].
Основные идеи системы Аристарха изложены Плутархом, как мы видим, правильно. Клеанф, о котором идет речь в приведенном отрывке, был руководителем стоической школы в 264 г., из чего некоторые исследователи заключают, что сочинение Аристарха было опубликовано уже после 264 г. Другим автором, у которого мы находим ссылку на систему Аристарха, был Аэтий. В главе о причинах солнечных затмений Аэтий пишет: «Аристарх помещает Солнце среди неподвижных звезд, в то же время заставляя Землю двигаться по солнечной орбите, и он говорит, что оно (т. е. Солнце) затеняется при соответствующем наклоне орбиты»[230].
Столь малое число ссылок на гелиоцентрическую систему Аристарха свидетельствует о том, что эта система отнюдь не пользовалась популярностью. Несколько чаще имя Аристарха встречается в связи с идеей движения Земли вокруг оси. Среди астрономов того времени единственным сторонником Аристарха оказался Селевк из Селевкии (на реке Тигр), весьма оригинальный мыслитель, живший во II в. Любопытно, что Селевк был первым ученым, установившим зависимость приливов и отливов от положения Луны. Селевк отстаивал также тезис о бесконечности Вселенной, следуя в этом отношении атомистам и, возможно, Гераклиду Понтийскому.
Чем объяснить тот факт, что, несмотря на все, с нашей точки зрения, крайне убедительные аргументы в пользу гелиоцентрической гипотезы, эта гипотеза все же не нашла отклика среди астрономов античной эпохи? Здесь действовал ряд причин, из которых мы назовем несколько наиболее важных. Во-первых, гелиоцентризм в любой его форме расходился с традиционными воззрениями на центральное положение «очага мира» — Гестии, т. е. Земли. Во-вторых, все авторитеты древности, включая Платона и Аристотеля, были убеждены в том, что центр Земли совпадает с центром мира, и обосновывали этот тезис с помощью доводов, которые людям того времени казались вполне убедительными (пифагорейская система Филолая была в этом смысле курьезным исключением, которое, по-видимому, никем всерьез не принималось). В-третьих, и со стороны астрономов гипотеза о движении Земли встречала весьма веские возражения. Так, например, Птолемей рассуждал, что если бы Земля двигалась так быстро, как это следовало из предположения о ее вращении вокруг оси, то все, что находится на ее поверхности и не связано с ней жестким образом (например, облака), должно было бы отставать от ее движения и казаться улетающим впротивоположную сторону[231] (тот же аргумент можно былобы выставить и против гелиоцентрической гипотезы). C позиций аристотелевской динамики, не знавшей закона инерции, этому аргументу ничего нельзя было противопоставить. Другое возможное возражение против гипотезы Аристарха имело уже чисто астрономический характер. По Аристарху, все планеты, включая Землю сЛуной, движутся равномерно по круговым орбитам вокруг Солнца. При таком предположении четыре времени года должны были бы иметь одинаковую длительность. Между тем, как было рассказано выше, уже афинские астрономы V в. Метон и Эвктемон знали, что длительность времен года различна — так, как если бы Солнце двигалось по своей орбите то быстрее, то медленнее. По-видимому, именно для объяснения этого факта Каллипп ввел четвертую и пятую сферы для Солнца в своей модели мира. Вообще, геоцентрическая система мира обладала тем преимуществом, что любые нерегулярности в движении небесных светил могли быть объяснены в ней путем введения дополнительных круговых движений. У системы Аристарха такого преимущества не было.
Эпициклы и эксцентры
По этим причинам дальнейшее развитие греческой астрономии пошло не по линии перехода к гелиоцентризму (хотя этот переход и наметился было в эпоху Гераклида Понтийского и Аристарха), а по линии усовершенствования геоцентрических систем таким образом, чтобы при сохранении геоцентрического принципа из них можно было бы устранить бросавшиеся в глаза дефекты модели гомоцентрических сфер. Но для этого требовалось обогатить геоцентрическую картину мира новыми идеями. Вскоре такие идеи были найдены: это были идеи эксцентра и эпициклов. Разработка этих идей и их применение к объяснению видимых движений небесных тел обычно связывается с именами трех великих ученых древности — Аполлония Пергского, Гиппарха и Птолемея. Правда, согласно Симпликию[232] неопифагореец Никомах и неоплатоник Ямвлих приписывали открытие этих идей пифагорейцам эпохи Аристотеля, но эти сообщения следует отнести к числу других позднейших легенд подобного рода. Нет никаких оснований предполагать, что эти идеи возникли ранее III в. до н. э.
У нас нет сведений о сочинениях Аполлония на астрономические темы. Мы даже не знаем, писал ли он вообще такие сочинения. Однако Птолемей в «Альмагесте» дважды упоминает его имя в связи с теориями эпициклов и экс-центров[233], и на основании этих упоминаний мы можем со значительной долей вероятности представить себе, что именно было сделано Аполлонием (хотя, возможно, и но им одним) в области теоретической астрономии.
Греческие астрономы различали два рода нерегулярностей, или «аномалий» (άνομαλία), в движении небесных светил. Первая аномалия состояла в том, что светило, двигаясь в одном и том же направлении вдоль эклиптики, совершало это движение с неодинаковой скоростью. Такого рода аномалия была присуща движению Солнца и Луны; именно ею объясняется неодинаковая длительность времен года — факт, который не мог найти объяснения ни в модели гомоцентрических сфер Эвдокса, ни в гелиоцентрической модели Аристарха. Вторая аномалия присуща движению пяти планет: она характеризуется чередованием прямых и попятных движений, о чем мы также говорили выше.
Заслуга Аполлония Пергского состояла, по-видимому, в том, что он показал принципиальную возможность моделирования как первой, так и второй аномалии с помощью двух теорий — теории эпициклов и теории эксцентров. Так, например, Птолемей приводит геометрическое построение Аполлония, которое показывает, каким образом планета, движущаяся по малому кругу (эпициклу) вокруг центра, который, в свою очередь, движется по большому кругу (деференту) вокруг Земли, кажется стоящей на месте или совершающей попятное движение. Далее. Птолемей (уже без ссылки на Аполлония) доказывает возможность получения той же картины с помощью теории движущегося эксцентра. Чисто геометрическая разработка этих вопросов была, видимо, проведена уже в эпоху Аполлония, хотя ни Аполлоний, ни кто другой из его современников не пытались применить полученные результаты к движениям реальных небесных светил. Последнее было сделано величайшим астрономом эпохи эллинизма. — Гиппархом,
Гиппарх
О жизни Гиппарха мы знаем очень мало — за исключением того, что он был родом из Никои (в Вифинии, на северо-западе Малой Азии) и что его деятельность относилась примерно к середине II в. до н. э. (между 160 и 120 гг.). Он проводил астрономические наблюдения в разных местах, в том числе и в Александрии, но его основным местопребыванием был остров Родос. От многочисленных сочинений Гиппарха до нас дошли лишь «Комментарии к Арату»[234], но, к счастью, об его астрономических достижениях достаточно подробные сведения сообщает Птолемей в «Альмагесте».
Прежде всего, Гиппарх детально разработал теорию движения Солнца. При этом он исходил из следующей теоремы, автором которой также считается Аполлоний. Если период движения небесного тела по эпициклу равен периоду движения центра эпицикла, движущегося вокруг Земли в противоположном направлении, то в этом случае результирующее движение тела будет происходить по круговой орбите, центр которой уже не совпадает с центром Земли, а отстоит от него на расстоянии, равном радиусу эпицикла (рис. 3). Это, собственно, и есть теорема об эквивалентности гипотезы эпициклов и гипотезы экс-центра для первой аномалии. Гиппарх предположил, что Солнце движется именно по такого рода эксцентру и что этим следует объяснить неодинаковость времен года. Задача построения теории движения Солнца состояла в том, чтобы уточнить характер этой эксцентрической орбиты, т. е. выяснить направление максимального и минимального удаления Солнца от Земли (апогея и перигея) и определить величину эксцентриситета, т. е. величину смещения центра солнечной орбиты по отношению к центру Земли,
Здесь необходимо небольшое отступление. Греческие астрономы имели дело лишь с видимыми движениями небесных светил, иначе говоря — с проекциями их истинных движений на небесную сферу. Размеры самой небесной сферы приэтом оставались неизвестными: она могла быть бесконечно большой или совпадать со сферой неподвижных звезд или иметь какой-либо иной радиус: для теории этот вопрос оставался несущественным, поскольку абсолютные расстояния между светилами ни в каком виде не входили в теорию, ставившую перед собой за дачу «спасения явлений» (σώζειντα φαινόμενα). В этой теории речь могла идти лишь об изменениях во времени угловых величин, характеризующих положения светил на небесной сфере, т. е. их долгот и широт, но отнюдь не о линейных расстояниях между ними. Разумеется, античные ученые, начиная с Аристарха, интересовались и фактическим удалением от Земли прежде всего таких светил, как Луна и Солнце, но вопрос этот рассматривался самостоятельно и не относился к теории движения этих светил и прочих планет. Сказанное относится и к определению величины эксцентриситета. Гиппарх мог определить не абсолютное значение расстояния центра Земли от центра эксцентра, по которому движется Солнце, но лишь отношение этого расстояния к какому-либо из линейных элементов солнечной орбиты, например к ее радиусу. Для объяснения «первой аномалии», т. е. для построения теории движения Солнца, этого было достаточно. При этом нужно было использовать данные наблюдений, относящиеся к «первой аномалии», т. е. к видимому движению Солнца по орбите. К этому времени таких данных накопилось уже достаточное количество.
Рис. 3. Эпициклы и эксцентр
Гиппарх выбрал три наблюдаемые величины, послужившие ему основой для проведения необходимых вычислений. Первой из них была общая длительность тропического года, т. е. промежуток времени между двумя последовательными положениями Солнца в точке весеннего равноденствия. Гиппарх определил, что «тропический год равен 365 дням и одной четверти и меньше приблизительно на 1/300 дня». Это значение сообщает нам Птолемей; в переводе на привычные нам единицы длительность тропического года, по Гиппарху, оказывается равной:
365 1/4 — 1/300 = 365,24667 дня = 365 дней 5 час. 55 мин. 12 сек.
Как указывают историки астрономии, это значение превышало истинное на 6 мин. 13 сек.: в эпоху Гиппарха длительность тропического года составляла 365 дней 5 час. 48 мин. 59 сек. Учитывая, однако, сравнительно примитивные средства наблюдений, которыми пользовались греческие астрономы, такую ошибку можно считать вполне извинительной. Установление моментов равноденствия представляло в то время немалые трудности, и даже Птолемей писал, что здесь могут встречаться ошибки «больше одной четверти дня»[235]. Длина тропического года, принятая Гиппархом, была средним статистическим значением, выведенным из множества наблюдений, производившихся как греческими, так и вавилонскими астрономами.
В качестве двух других величин, которые были ему нужны, Гиппарх принял промежуток времени между весенним равноденствием и летним солнцестоянием (астрономическая весна) и промежуток между летним солнцестоянием и осенним равноденствием (астрономическое лето). Эти промежутки, согласно его данным, были соответственно равны девяносто четырем с половиной и девяносто двум с половиной дням.
На этих трех величинах Гиппарх строит всю теорию Солнца. Долгота апогея Солнца (если долготу точки весеннего равноденствия принять за 0°) оказалась, согласно его теории, равной 65°30", а эксцентриситет (т. е. отношение расстояния между центрами Земли и Солнца к радиусу эксцентра Солнца) составил величину е=1/24=0,04166. Кроме того, теория Гиппарха давала возможность определить видимую долготу Солнца в любой момент времени. Отметим, кстати, что в теории Гиппарха Солнце движется точно по эклиптике, откуда следует, что он понимал ошибочность мнения Эвдокса о широтных колебаниях положения Солнца (о чем было сказано выше в связи с теорией гомоцентрических сфер). Между тем это ошибочное мнение оказалось очень живучим: в том или ином виде оно повторялось позднейшими компиляторами, например Плинием, Теоном и Марцианом Капеллой. В чем заключалась причина этой живучести? Может быть, в том, что с помощью такого предположения некоторые астрономы (еще до Гиппарха) пытались объяснить расхождение между длительностью тропического и сидерического года?
Такое расхождение действительно существовало, но его следовало объяснить не широтными колебаниями Солнца, а явлением предварения равноденствий (прецессии), которое принадлежит к числу наиболее блестящих открытий античной астрономии и тоже связано с именем Гиппарха. А именно, сравнивая свои наблюдения с наблюдениями александрийских астрономов начала III в. Аристилла и Тимохариса, Гиппарх обнаружил, что за протекшие с тех пор полтораста лет точки весенного и осеннего равноденствий переместились вдоль эклиптики с востока на запад примерно на 2°. Это значение довольно точно соответствует истинному (согласно измерениям недавнего времени прецессия составляет около 50,3" в год). Небесная механика нашего времени объясняет явление прецессии характерным для любого волчка медленным движением оси вращения по круговому конусу. Этого Гиппарх, разумеется, знать не мог, но о том, что он сознавал важность своего открытия, свидетельствует написанный им по этому поводу и упоминаемый Птолемеем в «Альмагесте» специальный трактат, имевший заглавие «Об изменениях точек солнцестояния и равноденствия»[236].
Помимо этого трактата, Птолемей называет еще два сочинения Гиппарха: «О длине года» и «Об интеркаляции месяцев и дней»[237]; в последнем из них излагался уточненный лунно-солнечный календарь, составленный с учетом длин тропического года и лунного месяца, вычисленных Гиппархом. В основе этого календаря лежал цикл, который точно делился на 304 года и 3760 лунных месяцев. Календарь этот имел чисто теоретическое значение и никем никогда не использовался.
Большое внимание уделил Гиппарх также теории движения Луны, хотя мы не знаем, было ли у него специальное сочинение на эту тему. Здесь он встретился со значительно большими трудностями, чем при построении теории движения Солнца. Судя по изложению Птолемея, эти трудности так и не были до конца им преодолены, хотя в его распоряжении имелся богатый материал, накопленный халдейскими астрономами, на протяжении ряда столетий наблюдавшими лунные затмения. Эти данные Гиппарх мог сравнить с результатами, полученными александрийскими наблюдателями, а также со своими собственными наблюдениями: известно, что в промежутке между 146 и 135 гг. до и. о. Гиппарх наблюдал несколько лунных затмений. Он определил периоды обращения Луны, получив для них следующие значения: синодический период: 29 дней 12 час. 44 мин. 3,3 сек. сидерический период: 27 дней 7 час. 43 мин. 13,1 сек. Оба этих значения с точностью до одной секунды совпадают с истинными значениями и практически не отличаются от значений, записанных в вавилонских таблицах.
Разрабатывая теорию движения Луны, Гиппарх мог воспользоваться как моделью подвижного эксцентра, так и моделью эпициклов. Птолемей в «Альмагесте» подчеркивает эквивалентность обеих моделей, однако для детального изложения теории Гиппарха предпочитает гипотезу эпициклов, резервируя эксцентры для объяснения того, что Гиппарх обозначил в качестве «второй аномалии» Луны. Итак, в изложении Птолемея теория движения Луны Гиппарха выглядит следующим образом.
Движение Луны происходит по эпициклу, центр которого перемещается по кругу (деференту), не лежащему в плоскости эклиптики (как это имеет место в случае Солнца), а наклоненному по отношению к этой плоскости под углом 5°. Сам деферент медленно вращается вокруг оси эклиптики так, что узлы (точки пересечения деферента с эклиптикой) совершают полный оборот в течение 18 2/3 лет. Центр эпицикла перемещается по деференту в прямом направлении (т. е. с запада на восток), в то время как Луна движется по эпициклу в обратном направлении. Периоды обращения Луны по деференту и эпициклу принимаются слегка различными, а именно в течение одного года движение по эпициклу отстает от (среднего) движения по деференту на 3°. Отношение радиуса эпицикла к радиусу деферента в теории Гиппарха оказалось равным 5 1/4: 60=0,0875.
Мы ограничимся перечислением этих основных положений теории Гиппарха, поскольку более детальное ее изложение потребовало бы сложных геометрических построений, приводимых Птолемеем в «Альмагесте». Читателя, который пожелал бы разобраться в этих построениях, мы отсылаем к соответствующим курсам истории астрономии.
Теория Луны Гиппарха была, бесспорно, замечательным достижением эллинистической науки. Но насколько точно решалась этой теорией проблема «спасения явлений», т. е. проблема объяснения видимых движений Луны по небесному своду? Она давала возможность достаточно хорошо предвычислять положения Луны в моменты полнолуния и новолуния. Гиппарх пробовал проверить ее также для тех моментов, когда Луна находится в первой или последней четверти. Он обнаружил, что в этих случаях видимые положения Луны иногда совпадают с вычисленными, иногда же более или менее значительно отличаются от них. Он предположил, что здесь мы встречаемся еще с одной аномалией, которую он и назвал «второй аномалией» Луны. Исследование природы этой аномалии он оставил астрономам последующих поколений. Эта задача, как мы увидим ниже, была решена Птолемеем в «Альмагесте».
Что касается пяти остальных планет, то здесь Гиппарху не удалось создать теорию, которая могла бы его удовлетворить. Причины этой неудачи анализируются Птолемеем в «Альмагесте». Перечислив трудности, с которыми сталкивается наблюдатель, изучающий прямые и попятные движения планет, Птолемей продолжает: «Я полагаю, что Гиппарх, для которого истина была дороже всего на свете, именно по указанным причинам, а особенно потому, что он не получил от своих предшественников такого количества точных наблюдений, которые он оставил нам, ограничился разработкой гипотез, относящихся к Солнцу и Луне, доказав, что их движение может быть сведено к комбинациям круговых и равномерных движений; что же касается пяти планет, то, по крайней мере в дошедших до нас его сочинениях, он даже не приступил к решению аналогичной задачи, ограничившись систематизацией имевшихся в его распоряжении наблюдений и показав, что эти наблюдения не согласуются с гипотезами математиков того времени. Ибо он, по-видимому, считал, что ему не только удалось показать, что каждая планета обладает двумя аномалиями или что у каждой из них обнаруживаются попятные движения различной длины, в то время, как другие математики проводили свои геометрические доказательства, исходя из предположения о наличии всего лишь одной аномалии, характеризующейся одной дугой попятного движения; он, кроме того, полагал, что эти явления не могут быть представлены с помощью эксцентрических или концентрических по отношению к эклиптике кругов или с помощью эпициклов, вращающихся на этих кругах, или даже путем комбинации обоих методов…»[238].
Для того чтобы сделать изложение заслуг Гиппарха более полным, следует сказать еще несколько слов. В своих вычислениях Гиппарх широко пользовался тригонометрическими соотношениями, правда без тех обозначений, которые получили хождение в математике нового времени. Вместо таблиц синусов и тангенсов он составил таблицу хорд, в которой относительные длины хорд были даны в зависимости от стягиваемых ими углов. Предполагается, что эта таблица содержалась в написанной им книге «О теории прямых в круге»[239]. К сожалению, ни эта книга, ни таблица хорд до нас не дошли, поэтому мы не можем сказать, каким способом Гиппарх вычислял значения хорд, включенные в таблицу. Следует при этом отметить, что Гиппарх уже широко пользовался вавилонской системой деления круга на 360° и затем на минуты и секунды; с тех пор эта система вошла во всеобщее употребление.
Немалый вклад был внесен Гиппархом и в звездную астрономию. Он составил каталог неподвижных звезд, содержавший, как предполагают, около 850 звезд, места которых на небесном своде определялись их эклиптическими координатами (долготой и широтой относительно эклиптики). Впоследствии Плиний писал, что работа по составлению каталога была предпринята Гиппархом после того, как на небе вспыхнула новая звезда. Мы не знаем, так ли это было на самом деле. Что касается приборов, которыми пользовался Гиппарх при своих наблюдениях, то в основном это была, по-видимому, диоптра, описанная впоследствии Проклом и состоявшая из двух пластин с вырезами, укрепленных на длинном (около четырех футов) бруске, вдоль которого был вырезан узкий желобок.
От Гиппарха до Птолемея
Гиппарх был последним великим астрономом «золотого века» эллинистической науки. В отличие от, скажем, Эвдокса, мы ничего не знаем о школе Гиппарха. О том, были ли у него преемники или ученики, источники хранят полное молчание. Вероятнее всего такие ученики существовали, но ни один из них не прославил себя сколько-нибудь значительными открытиями и не оставил потомству никаких сочинений. Это были, по-видимому, скромные наблюдатели, незаметно продолжавшие дело их учителя и накапливавшие данные, совокупность которых позволила позднее Птолемею завершить величественное здание геоцентрической системы мира, основы которого были заложены Гиппархом.
Наряду с этим необходимо отметить следующее кардинальной важности обстоятельство. Именно в это время происходит изменение характера или, если угодно, стиля эллинистической науки. Вместо ученого-исследователя, какими были Аристарх, Аполлоний Пергский, Гиппарх и труды которых были нужны и понятны лишь узкому кругу профессионалов-специалистов, на первый план выступает энциклопедист-популяризатор — по сути дела, не ученый, а псевдоученый. Потребность в научных энциклопедиях, содержащих популярное изложение не столько даже достижений той или иной науки, сколько мнений ученых предшествующих эпох, достигла, как мы увидим ниже, своего расцвета в эпоху римского господства. Но уже в рассматриваемую нами эпоху II–I вв. до н. э. эта потребность стала настоятельно ощущаться прежде всего благодаря тому, что наукой начали интересоваться достаточно широкие и разумеется, профессионально неподготовленные круги тогдашней общественной элиты. Этот интерес надлежало удовлетворить.
Ключевой фигурой этого переломного периода была фигура знаменитого стоика-эклектика Посидония. Мы знаем заглавия ряда трактатов Посидония: «Физические рассуждения», «О метеорах», «Об океане», «О величине Солнца» и т. д. Большой популярностью пользовался также его комментарий к «Тимею» Платона. Ни одна из этих книг до нас не дошла, но об их содержании мы можем составить представление по сочинениям позднейших авторов, находившихся под его влиянием. Хотя сам Посидоний и не писал энциклопедий в духе Варрона или Плиния Старшего, тем не менее именно от него исходили мощные импульсы для возникновения такого рода литературы. Если охарактеризовать облик Посидония-ученого одним словом, то это был не столько естествоиспытатель, сколько натурфилософ — и не в том смысле, в каком это слово зачастую употребляется применительно к досократикам, а, скорее, в смысле натурфилософии нового времени, для которой естествознание использовалось в качестве иллюстрации или обоснования некоей общефилософской концепции. В основе концепции Посидония лежала идея всеобщей гармонии и взаимосвязи всех природных процессов. Здесь, однако, мы не будем вдаваться в характеристику философских воззрений Посидония, а ограничимся кратким рассмотрением тех его работ, которые имели прямое или косвенное отношение к астрономической науке.
Хотя основная деятельность Посидония протекала на острове Родос — там, где примерно за полвека до него жил и работал Гиппарх, упоминания о теории эпициклов и эксцентров мы в ссылках на Посидония не находим. Вероятно, он не обладал достаточной математической подготовкой, для того чтобы суметь разобраться в геометрических построениях, с помощью которых Гиппарх «спасал явления». Посидония занимала другая проблематика — форма и размеры Земли, величина Солнца, расстояния от Земли до небесных светил, порядок расположения планет и т. д. Все эти вопросы нашли отражение в сочинениях популяризаторов последующей эпохи — Клеомеда, Гемина и других авторов, находившихся под большим влиянием Посидония.
Что касается формы Земли, то этот вопрос со времени Платона уже не вызывал сомнения у серьезных ученых (исключение составляла, пожалуй, лишь школа Эпикура, во многом сохранявшая архаичные воззрения на устройство мира). Убедительные аргументы в пользу шарообразности Земли приводятся в трактате «О небе» Аристотеля[240]. Эти аргументы, однако, оставались достоянием лишь небольшого числа ученых, и их еще следовало внедрить в сознание широких кругов античного общества. Имея в виду именно эту цель, Посидоний подробно разбирает различные гипотезы о форме Земли, предлагавшиеся ранними мыслителями, и показывает их несостоятельность. Обсуждение проблемы шарообразности Земли является одной из основных тем позднейших популярных сочинений по астрономии, писавшихся под влиянием Посидония. О том, каким образом в период эллинизма астрономы определяли размеры земного шара, уже было сказано в четвертой главе.
Следующей проблемой, которая их интересовала, была проблема расстояния от Земли до других небесных тел. Решение этой проблемы лежало за пределами возможностей геоцентрической модели, основанной на представлениях об эпициклах и эксцентрах, поскольку (как уже было отмечено выше) эта модель оперировала лишь с проекциями движений небесных светил на небесную сферу, о размерах которой не делалось никаких предположений.
Прежде всего нужно было решить вопрос о порядке расположения небесных светил. Еще в пифагорейской астрономии было принято считать, что ближе всего к Земле находится Луна, вслед за которой идет Солнце, а уже за ним расположены пять планет, начиная от Меркурия и кончая Сатурном. Пифагорейцы полагали, что относительные расстояния между орбитами этих светил соответствуют интервалам музыкальной гаммы (соответствующие цифры приводятся многими позднейшими авторами, причем их данные сильно расходятся, так что реконструкция исходной пифагорейской схемы представляет значительные трудности). Согласно Платону (в «Тимее»), разности планетных орбит пропорциональны числам 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27[241]; приняв эту последовательность, Платон, очевидно, следовал какой-то пифагорейской традиции, хотя последняя из цифр этого ряда не может соответствовать ни одной из музыкальных нот. Пифагорейское учение о небесной гармонии было раскритиковано Аристотелем о трактате «О небе»[242], хотя никакой альтернативной гипотезы в отношении расстояния между орбитами небесных светил Аристотель не предлагает; что же касается порядка расположения планет, то в этом вопросе он следует установившейся традиции. Эта традиция была нарушена в эллинистическую эпоху, когда Меркурий и Венера были помещены между Луной и Солнцем; мы не знаем, кем был установлен этот новый порядок; во всяком случае, решающую роль в этом изменении сыграли более точные данные о движении обеих внутренних планет. Что же касается учения о небесной гармонии, то, несмотря на критику Аристотеля, оно продолжало сохранять популярность не только в течение всей поздней античности, но и в средние века.
Начиная с Эвдокса, греческие астрономы неоднократно пытались оценить как абсолютные расстояния от Земли до Луны и Солнца, так и истинные размеры этих небесных светил (мы оставляем без рассмотрения псевдонаучные спекуляции на эту тему Анаксимандра, пифагорейцев и других ранних мыслителей). Имеются сообщения, что ученик Платона Филипп Опунтский (которого некоторые исследователи считают автором «Послезакония», обычно включаемого в собрание сочинений Платона) написал трактат о расстояниях от Земли до Луны и Солнца, о размерах этих небесных тел, а также о лунных затмениях и о планетах. Однако ничего более точного о содержании этого трактата мы не знаем. Первая оценка относительных размеров Луны и Солнца принадлежала, по-видимому, Эвдоксу: он полагал, что диаметр Солнца в девять раз превышает диаметр Луны, а так как видимые размеры этих небесных тел примерно одинаковы, то отсюда он заключал, что расстояние от Земли до Солнца в девять раз больше расстояния от Земли до Луны. Архимед, сообщающий эти сведения, присовокупляет, что Фидий, его отец, принимал указанное отношение равным 12: 1, Аристарх пытался доказать, что оно равно примерно 19: 1, сам же Архимед идет дальше своих предшественников и считает, что «диаметр Солнца приблизительно в тридцать раз больше диаметра Луны, но не больше»[243]. Архимед не уточняет, каким образом обосновывалось каждое из этих отношений; мы знаем это только в отношении Аристарха, от которого дошел трактат на эту тему, о чем более подробно было рассказано нами выше.
Методика Аристарха была усовершенствована Гиппархом, о чем достаточно детальные сведения мы находим в пятой книге «Альмагеста». Результаты, полученные Гиппархом, сообщаются в популярных сочинениях Клеомеда и Теона из Смирны, живших уже в начале нашей эры. Для удобства мы объединим эти результаты (вместе с цифрами, принятыми Птолемеем) в виде следующей таблицы, причем за единицу в ней принимается средний радиус Земли (по теперешним данным=6371 км).
Из этой таблицы видно, что в отношении размеров Луны и расстояния от Земли до Луны значения, полученные Гиппархом, оказались поразительно точными. Гораздо хуже дело обстояло с Солнцем: здесь Гиппарх ошибался по крайней мере на порядок величины. Это объясняется тем, что измерение параллакса Солнца было задачей, превышавшей возможности античной наблюдательной техники, что, кстати сказать, сознавал и сам Гиппарх; по этой причине значения, полученные Гиппархом в отношении Солнца, были не более как весьма приблизительными прикидками. Любопытно, что в этом вопросе Птолемей допускал еще более грубые ошибки. Более или менее точное определение параллакса Солнца оказалось возможным лишь после изобретения телескопа.
Курьезная попытка определения абсолютных размеров Солнца была предпринята Посидонием. У Эратосфена где-то содержалось утверждение, что, когда Солнце находится в созвездии Рака, в Сиене (лежащей как раз на тропике Рака) предметы не отбрасывают тени в пределах площади, диаметр которой равен 300 стадиям. Это означает, что на всей этой площади солнечные лучи падают вертикально на поверхность Земли. Отсюда Посидоний заключил, что если построить конус, вершина которого совпадает с центром Земли, а его основанием является находящийся в зените диск Солнца, то тогда боковая поверхность конуса пройдет через границу указанной безтеневой области. Далее Посидоний предположил, что орбита Солнца в 10 тыс. раз превышает окружность земного шара, откуда непосредственно следовало, что диаметр Солнца должен иметь величину 10 тыс. х 300 стадиев, или, по порядку величины, около 500 тыс. км. Как это ни странно, эта цифра оказалась гораздо ближе к истинному значению диаметра Солнца (немного менее 1,4 млн км), чем результаты, полученные Гиппархом на основе предположений о параллаксе Солнца. С помощью этого же построения Посидоний сделал дальнейшие заключения о размерах земного шара. Так, радиус земного шара у него получился равным 50 тыс. стадиев (что намного превышает истинное значение), а его окружность — 300 тыс. стадиев, т. е. ровно в тысячу раз больше диаметра той области, на которой предметы не отбрасывают тени.
Из этих данных можно заключить, что Посидоний не утруждал себя точными вычислениями, а оперировал в основном круглыми цифрами (этим, вероятно, следует объяснить и совершенно произвольную цифру 10 тыс., положенную в основу его расчетов). Все это было настолько далеко от научной астрономии, что Птолемей даже не упоминает имени Посидония в связи со всей этой проблематикой. Бросается в глаза также значительное расхождение между приведенными цифрами относительно размеров земного шара и данными, полученными тем же Посидонием в результате наблюдений над звездой Канопус, о чем мы говорили выше. Популярность Посидония была, однако, настолько велика, что находившиеся под его влиянием авторы (например, Клеомед) приводили и те и другие результаты, даже не пытаясь их как-нибудь согласовать.
Как уже было отмечено на предыдущих страницах, после Гиппарха, а точнее, начиная с Посидония, наступает период, когда у нас отсутствуют сведения о серьезных астрономических исследованиях, но когда пишется целый ряд популярных астрономических сочинений, имевших, по-видимому, достаточно широкий круг читателей. На некоторых авторах этих сочинений не мешает вкратце остановиться.
Прежде всего, это Клеомед, несколько раз уже упоминавшийся на предыдущих страницах. О нем самом мы ровно ничего не знаем. Зато мы располагаем текстом его трактата по астрономии, озаглавленного достаточно серьезно: «Теория круговых движений небесных тел» (Κυκλική ϑεωρία μετεώρων). На самом же деле, это популярное сочинение, написанное, скорее всего, в I в. н. э. и носящее на себе явную печать воззрений Посидония, на которого, впрочем, сам автор неоднократно ссылается.
Трактат Клеомеда открывается несколькими аксиомами общекосмологического характера. Перечислим основные из этих аксиом:
1. «Вселенная ограничена и за пределами окружающей ее поверхности простирается безграничная пустота». Обосновывая эту аксиому, Клеомед полемизирует с перипатетической физикой; основные аргументы его полемики заимствованы у стоиков, и прежде всего, конечно, у Посидония.
2. «Земля, имеющая шарообразную форму, со всех сторон окружена Небом». Доказательство шарообразности Земли проводится Клеомедом по методу исключения: он показывает, что Земля не может быть ни плоской, ни выгнутой, ни кубической, ни пирамидальной; следовательно, она должна иметь форму шара! Наиболее убедительных аргументов в пользу этой аксиомы, таких, например, которые содержатся в аристотелевском трактате «О небе», Клеомед не приводит, ограничиваясь лишь несколькими тривиальными соображениями.
От сферичности Земли Клеомед переходит к тезису о сферичности мира в целом, заключая свои рассуждения утверждением, что сфера — наиболее совершенная из всех геометрических фигур.
3. «Земля находится в центре Вселенной».
4. «По сравнению с размерами Вселенной Земля представляется не более как точкой»[244].
Вслед за этими аксиомами Клеомед переходит к чисто астрономическим проблемам. Несмотря на ничтожную малость Земли, он не сомневается, что она неподвижна и что Небо со всеми находящимися на нем звездами совершает вокруг нее полный оборот в течение суток. Затем Клеомед подчеркивает необходимость различать неподвижные звезды и семь небесных светил, обладающих собственным движением. Он сообщает уже приводившиеся нами сведения о размерах Луны и Солнца и о расстояниях от Земли до этих светил. Много из того, что он пишет о Гиппархе и других ученых, представляет бесспорный интерес для историка науки, поскольку оригинальные сочинения соответствующих авторов до нас не дошли. В то же время Клеомед нигде не углубляется в математические тонкости движения небесных светил, ограничиваясь таким уровнем изложения, который был бы доступен для широкого читателя, на которого, очевидно, было рассчитано его сочинение.
Другим автором примерно той же эпохи был Гемин, живший на о-ве Родос во второй половине I в. до н. э. Правда, он обладал более широким кругом интересов, чем Клеомед, и в некоторых вопросах проявлял большую самостоятельность мышления. Он написал почти полностью утерянное сочинение по математике (Περί της τών μαϑημάτων τάξεως), а также составил комментарий к трактату Посидония «О метеорах». Возможно, что дошедший до нас текст «Введение в явления» (Εισαγωγή εις τα φαινόμενα)[245] представлял собой краткое изложение указанного комментария, составленное самим Гемином. В отличие от трактата Клеомеда этот текст не содержит общефизических (или, лучше сказать, космологических) аксиом и целиком посвящен чисто астрономическим вопросам.
Из оригинальных мыслей Гемина следует отметить утверждение, что неподвижные звезды могут находиться на различных расстояниях от Земли.
В отличие от Клеомеда и Гемина Адраст Афродисийский примыкал не к стоикам, а к перипатетикам. Он жил в I в. н. э. и в соответствии с общей тенденцией перипатетической школы этого времени написал ряд комментариев к трудам Аристотеля, в том числе и к трактату «О небе». Об астрономических воззрениях Адраста мы знаем по цитатам из его сочинений, приводимым Теоном из Смирны. Адраст был знаком с теорией Гиппарха и пытался согласовать ее с аристотелевскими представлениями о вращающихся эфирных сферах.
Все эти авторы оказали влияние на римских энциклопедистов эпохи империи, прежде всего на Плиния Старшего. Но о них мы будем говорить в специальной главе, посвященной римской науке.
Птолемей
В конце I в. н. э. начинается возрождение научной астрономии, развитие которой по каким-то не очень для нас понятным причинам приостановилось после смерти Гиппарха. Выдающимся астрономом этой эпохи (и, следовательно, первым крупным астрономом нашей эры) был Менелай Александрийский, который, правда, более известен как математик. Но его математика была, по-видимому, тесно связана с его астрономическими изысканиями. Менелай заложил основы новой науки — сферической тригонометрии. Основное его сочинение по этому вопросу — «Сферика» — дошло до нас в арабском переводе. Оно состоит из трех книг; в двух первых книгах доказываются различные теоремы о сферических треугольниках; а и третьей доказывается знаменитая «теорема о трансверсалях», нашедшая затем применение у Птолемея. Вся эта область математики разрабатывалась в качестве математического аппарата для астрономии. Но Менелай был не только теоретиком, но и астрономом-наблюдателем. Как сообщает Птолемей в «Альмагесте», во время своего пребывания в Риме Менелай занимался изучением покрытия звезд Луной[246]. Аналогичные наблюдения производил примерно в это же время некий Агриппа в Вифинии[247]. Эти наблюдения были использованы Птолемеем, который, сравнивая их с наблюдениями, произведенными в свое время Тимохарисом и позже Гиппархом, а также со своими собственными данными, вычислил на их основании величину смещения равноденствия (прецессии).
Следует отметить, что к этому времени происходит окончательное усвоение достижений вавилонской астрономии. Это выражается не только в использовании данных вавилонских наблюдений, не только в усвоении шестидесятиричной системы счисления, но и в том, что в греческую науку проникают вычислительные методы вавилонян, основанные на операциях с линейными числовыми разностями. Будучи значительно более примитивными по сравнению с геометрическими методами греков, эти числовые методы сосуществуют рядом с ними, с течением времени находя все более широкое применение.
Влияние Вавилона выражается еще и в том, что к этому времени в античную науку проникает астрология, которая не была известна грекам классической эпохи, но которая издавна процветала в Междуречье. Особый успех астрология имеет у римлян, отличавшихся склонностью ко всякого рода суевериям и предрассудкам. При этом астрология в греко-римском мире приобретает существенно иные функции по сравнению с той ролью, какую она играла в странах Древнего Востока. Там наблюдения за такими небесными явлениями, как затмения, появления комет, необычные сочетания планет, имели целью предугадать счастливые или, чаще, пагубные события, предвестием которых эти явления считались. Такими событиями могли быть победа или поражение в войне, голод, наводнение, засуха и т. д. Теперь же динжение небесных светил стало связываться с индивидуальными судьбами людей. Основной и, в сущности, единственной задачей астрологии становится составление гороскопов, причем этим делом вынуждены заниматься самые крупные ученые. Более того, можно предполагать, что именно интерес к астрологии был важнейшим фактором, обусловившим новый подъем астрономической науки.
И вот теперь мы переходим к Клавдию Птолемею, основной труд которого «Великая математическая система астрономии» (Μεγάλη μαϑηματική σύνταξις της αστρονομίας)[248], получивший впоследствии известность под арабизирован-ным названием «Альмагест», явился высшей точкой развития античной астрономии и одновременно ее последним крупным достижением. В этом сочинении Птолемей до конца осуществил программу Гиппарха, состоявшую в создании геоцентрической системы мира, в которой видимые движения Солнца, Луны и Пяти планет объяснялись бы с помощью эксцентрических кругов и эпициклов;
О жизни величайшего астронома поздней античности мы почти ничего не знаем — за исключением того, что первое наблюдение, включенное им в «Альмагест», было произведено в 125 г. до н. э., а последнее — в 151 г. Все это время он жил и работал в Александрии, там же он, по-видимому, и умер (около 170 г.). Из астрономических сочинений Птолемея, кроме «Альмагеста», нам известны два: небольшой трактат в двух книгах «О планетах», в котором птолемеевская теория движения планет излагается в сокращенном виде, и книга о положениях звезд, содержащая таблицы восхода и захода звезд для пяти точек, находящихся на разных широтах от Черного моря до Сиены (Ассуана).
Птолемей был энциклопедически образованным ученым: помимо астрономии, он занимался математической географией («География», которую лучше было бы назвать «Картографией»), следуя и в этом отношении Гиппарху, далее — физикой («Оптика» в пяти книгах, из которых первая до нас не дошла)[249] и чистой математикой (трактат о параллельных линиях, о содержании которого мы, к сожалению, не имеем сведений). О его астрологическом сочинении «Тетрабиблос» мы здесь говорить не будем, поскольку к истории науки оно, строго говоря, отношения не имеет.
В «Альмагесте», состоящем из тринадцати книг, первые две книги содержат общие положения, относящиеся к движению небесных светил, после чего автор последовательно излагает теории движений Солнца, Луны и пяти планет. Что касается теории Солнца, то тут Птолемей просто заимствовал результаты Гиппарха, не пытаясь их как-либо уточнить или улучшить (сообщения некоторых древних источников, что исходным пунктом для Гиппарха служила гипотеза эпициклов, в то время как Птолемей сразу использовал гипотезу эксцентра, ничего не меняют в сути дела). В частности, Птолемей принял без проверки вычисленную Гиппархом величину тропического года (365 1/4—1: 300 дней), хотя эта величина, как мы указывали выше, уже в эпоху Гиппарха превышала истинное значение на 6 с лишним минут, а через три столетия эта разница должна была стать еще более значительной.
Вторая ошибка Птолемея состояла в допущении, что долгота апогея Солнца сохраняет всегда одно и то же значение (по Гиппарху, 65°30′). На самом деле это не так: долгота апогея увеличивается на 1°42′ в столетие. Впервые этот факт был обнаружен арабскими астрономами в X в., но он мог быть обнаружен и Птолемеем. И дело здесь не только в том, что Птолемей просто поверил на слово Гиппарху; нет, он сам производил наблюдения и, согласно его утверждениям, получил то же значение, что и Гиппарх. А это означает, что «Птолемей вступил здесь на путь очень свободного обращения с наблюдениями, чтобы извлечь из них то, что он наперед считал нужным получить»[250]. Любопытно, что значение долготы апогея Солнца, полученное Гиппархом, было для его эпохи довольно точным (порядка 1/2°), для эпохи же Птолемея то же самое значение содержало ошибку, доходившую до 5°. Таким образом, теория Солнца отнюдь не принадлежала к числу достижений Птолемея.
Перейдем теперь к теории движений планет, приоритет в создании которой бесспорно принадлежит Птолемею. Эта теория изложена в седьмой — тринадцатой книгах «Альмагеста», обычно печатающихся в качестве второго тома этого монументального сочинения.
Для построения этой теории Птолемей должен был решить две задачи: 1. Определить движение центра эпицикла по эксцентрическому кругу (деференту). 2. Определить движения планеты по эпициклу. Для решения первой задачи нужно было наблюдать планету в те моменты времени, когда она лежит на прямой, соединяющей центр эпицикла с Землей. Согласно основному принципу гипотезы эпициклов, радиус эпицикла, на конце которого находится планета, всегда направлен в ту же сторону, что и радиус солнечной орбиты, на конце которого находится Солнце. Сложность задачи состояла в том, что Солнце предполагалось движущимся по круговой орбите не вокруг Земли, а вокруг эксцентра (рис. 4); поэтому момент, когда планета оказывалась как раз против центра эпицикла, не совпадал с моментом, когда она находилась в противостоянии с Солнцем. Все это требовало проведения очень большого числа наблюдений, которые Птолемей выполнил с помощью инструмента с градуированными кругами, названного им «астролябон» и описанного в пятой книге «Альмагеста».
Рис. 4. Соотношение движения Солнца и планеты по Птолемею:
С — Солнце, 3 — Земля, Пл. — планета, О — центр деферанта, О' — центр солнечной орбиты, О" — центр эпицикла
Рис. 5. Движение центра эпицикла О' кажется равномерным, если наблюдать его не из центра деферента О, а из экванта Э
Для того чтобы его теория планет объясняла наблюдаемые явления, Птолемей применил исключительно остроумный прием, получивший впоследствии наименование «биссекция эксцентриситета». В чем состоял этот прием? Мы уже знаем, что центр эпицикла планеты должен описывать круговую орбиту, центр которой находится вне Земли. Этого, однако, оказалось недостаточно. Выяснилось, что движение центра эпицикла должно выглядеть равномерным не из центра его орбиты, а из другой точки, лежащей как раз посередине между центром этой орбиты и Землей (рис. 5). Сам Птолемей никак не называет эту точку; в средние века она получила наименование «эквант» (aequans), а соответствующий ей круг — «круг экванта» (circulus aequans, что буквально означает «выравнивающий круг»). Это означало, что фактически центр эпицикла движется по своей орбите неравномерно: в перигее, т. е. вдали от экванта, он движется быстрее, а в апогее (вблизи экванта) — медленнее. Тем самым был нарушен сформулированный еще Платоном кардинальный принцип античной теоретической астрономии, согласно которому нужно было свести видимое движение небесных светил к равномерным круговым движениям.
Путем введения экванта Птолемею удалось более или менее удовлетворительно объяснить движение Венеры и трех внешних планет. Что касается Меркурия, представлявшего для древних астрономов особые трудности ввиду большого эксцентриситета его орбиты, то там пришлось ввести дополнительные допущения, на которых мы здесь останавливаться не будем.
К этому надо добавить, что наряду с движением планет по долготе Птолемей попытался объяснить также их широтные движения, т. е. их отклонения от плоскости эклиптики, — проблема, представлявшаяся античным астрономам весьма трудной (Гиппарх дал решение этой задачи только для Луны). Для этого ему пришлось допустить, что эксцентрические круги (деференты) пяти планет образуют с плоскостью эклиптики некий угол, причем для трех внешних планет — Марса, Юпитера и Сатурна — этот угол можно было считать постоянным, а для Меркурия и Венеры потребовалось, чтобы он претерпевал периодические изменения. Но и этого оказалось недостаточным: выяснилось, что плоскости эпициклов этих двух планет также совершают колебания относительно плоскости деферента. Эти «качания» делали картину движения планет совсем запутанной.
Мы ничего не сказали о теории Луны, изложенной в пятой — шестой книгах «Альмагеста». Выше при изложении теории Луны Гиппарха было отмечено, что она оставалась не полной, не давая объяснения полумесячным колебаниям в движении Луны, которые Гиппарх назвал «второй аномалией» Луны. С помощью понятия экванта и некоторых других предположений Птолемею удалось объяснить и эту аномалию и дать достаточно точную теорию Луны. Как показала впоследствии небесная механика, основанная на законе тяготения Ньютона, теория Птолемея сумела неявным образом учесть даже возмущающее действие Солнца на движение Луны вокруг Земли (так называемая эвекция). Эта теория была едва ли не самым выдающимся достижением Птолемея.
Таково, в самых общих чертах, грандиозное здание геоцентрической системы мира, нашедшее свое завершение в трудах Птолемея. Более подробное изложение деталей этой системы заняло бы слишком много места; поэтому читателей, интересующихся этим вопросом, мы отсылаем к специальным работам по истории астрономии, в частности к прекрасной книге Н. И. Идельсона «Этюды по истории небесной механики», в которой теория Птолемея изложена в весьма простой форме (хотя и требующей от читателя известных математических навыков). Мы надеемся также, что в ближайшее время наш читатель сможет ознакомиться с русским изданием «Альмагеста», который до сих пор был ему доступен лишь в переводах на западноевропейские языки.
Система Птолемея максимальным образом использовала возможности «спасения явлений» (т. е. объяснения движения небесных светил) с позиций геоцентрического принципа. По этой причине в течение ряда последующих столетий она считалась высшей ступенью, до которой вообще способна дойти теоретическая астрономия. Ее сложность вытекала из того, что геоцентризм был принципиально неверной точкой зрения, являвшейся, по сути дела, выражением антропоцентризма, естественного для примитивного сознания, но требующего своего преодоления на определенной стадии развития науки. Коперник переменил точку зрения, сделав Землю всего лишь одной из планет, вращающихся вокруг Солнца. Это был громадный шаг вперед. Однако, в своей критике системы Птолемея Коперник еще придерживался античной догмы круговых движений, которая, по его мнению, была во многих пунктах нарушена Птолемеем. Именно поэтому он считал неприемлемым допущение биссекции эксцентриситета и экванта, сохранив в то же время понятие эпицикла. Авторы книг по истории науки часто переоценивают противоположность систем Птолемея и Коперника, не учитывая того, насколько вторая еще зависела от первой. Следующий принципиальный шаг в направлении преодоления этой зависимости был сделан Кеплером, отказавшимся от догмы круговых движений и выяснившим истинный характер движения планет по эллиптическим орбитам (знаменитые три закона Кеплера). Сказанное, разумеется, отнюдь не имеет целью преуменьшитьзначение того мировоззренческого перелома, который был вызван переходом от геоцентрической к гелиоцентричесской точке зрения.
Сам Птолемей, по-видимому, чувствовал принципиальную неудовлетворительность столь сложной теории. Не случайно, переходя в тринадцатой книге «Альмагеста» к рассмотрению движения планет по широте, он вставляет следующее примечательное рассуждение: «Пусть никто, имея в виду несовершенство наших ухищрений, не сочтет предложенные здесь гипотезы слишком искусственными. Ибо какое право имеем мы сравнивать человеческое с божественным и какими примерами можно было бы отобразить вещи столь различные? Действительно, может ли быть что-либо более несходное, чем [сущности] вечные и неизменные, сопоставляемые с такими, которые никогда не ведут себя подобным образом? И что общее имеется у [существ], которым все на свете становится помехой, с теми, которые даже сами себя не могут изменить? Разумеется, к небесным движениям следует применять, по мере возможности, наиболее простые гипотезы, если же это не удается, нужно обращаться к другим. И если все небесные явления достаточно объясняются с помощью принятых допущений, то следует ли удивляться тому, что движения небесных тел оказываются столь сложно взаимосвязанными? Ведь им не присуще никакое присуждение, но каждое из них упорядоченно движется в соответствии со своей природой, даже если эти движения совершаются порой в противоположных направлениях… К этому надо добавить, что о простоте небесных [явлений] нельзя судить по тому, что кажется простым у нас, тем более, что и на Земле не все представляется одинаково простым для всех [людей]. Таким образом [земным], наблюдателям не все происходящее на небе может показаться простым, включая даже неизменность первого [суточного] круговращения, поскольку именно это [движение], в течение всей вечности остающееся абсолютно тождественным, у нас не только с трудом, но вообще неосуществимо. Таким образом, постоянство природы небесных тел и неизменность их движений следует принять в качестве исходного [постулата]; лишь в этом случае все они покажутся нам простыми, и притом в большей степени, чем все, что считается простым на Земле, и тогда невозможно будет помыслить, что круговращения этих [тел] происходят с трудом и с усилием»[251].
Глава шестая Наука и техника в античности
Вступительные замечания
Одно из коренных отличий античной науки от науки нового времени состояло в принципиально различном взаимоотношении между наукой и техникой. В наше время считается само собой разумеющимся, что технический прогресс существенным образом определяется достижениями в области соответствующих научных дисциплин. Электротехника и радиотехника не могли бы развиться, если бы им не предшествовало возникновение науки об электромагнитных явлениях. Теплотехника предполагает в качестве своей научной базы учение о теплоте — термодинамику. Современная машиностроительная техника немыслима без знания законов механики, без науки о свойствах материалов (металловедения), некоторых специальных разделов физической химии. Кроме того, во всех этих областях проектирование и создание промышленных установок требует сложнейших математических расчетов, немыслимых без знания высшей математики.
Но такая ситуация возникла лишь в эпоху промышленного производства, точнее, лишь в XIX столетии. История материальной культуры показывает, что в форме ремесленного производства техника представляет собой значительно более древнюю сферу человеческой деятельности, чем наука. Первая великая техническая революция произошла задолго до появления любых наук. Говоря об этой революции, мы имеем в виду ту эпоху в истории человеческой цивилизации, когда совершился переход к оседлому образу жизни, стало развиваться земледелие, появились первые поселения городского типа. Именно к этой эпохе относится возникновение ремесел, игравших в дальнейшем (и почти до нашего времени) первостепенную роль в жизни человека: гончарного дела, кузнечного дела, ткацкого производства, металлургии, изготовления ювелирных изделий. Развитие ремесленного производства было обусловлено рядом замечательных технических открытий: был открыт принцип колеса, изобретены гончарный круг и ткацкий станок, освоена горячая обработка металлов. Авторов этих открытий мы не знаем; их имена затерялись во мраке веков; возможно также, что к каждому из этих открытий люди, жившие в различных ареалах земного шара, подходили независимо друг от друга и практически одновременно. Таким образом, первая техническая революция не знала проблемы приоритета не только в отношении отдельных лиц, но даже в отношении целых народов, хотя и тогда, как и впоследствии, первооткрыватели проявляли подчас величайшую пытливость ума, исключительную смекалку, умение учиться на своих ошибках и использовать опыт своих отцов и дедов. Среди них были, бесспорно, гениальные изобретатели, достижения которых заслуживают тем большего восхищения, что они искали и находили, руководствуясь не научными соображениями, а исключительно лишь имевшимся у них опытом и интуицией — той интуицией, которая лежит в основе всякого творчества. Ибо наук, а тем более технических наук, в то время еще не было.
Достижения эпохи первой великой технической революции определили общий характер ремесленного производства, а тем самым и образ жизни трудовой части человечества всех последующих веков вплоть до возникновения промышленности, основанной на использовании пара и электричества. Дальнейшее техническое развитие было связано с классовым расслоением общества. Разложение родового строя и появление крупных государственных образований предъявило новые требования к технике. Для поддержания авторитета и удовлетворения личного честолюбия правителей, а также для придания большего престижа узаконенным формам религии возникла потребность в строительстве роскошных дворцов и величественных храмов, украшенных произведениями скульпторов и художников. Непрерывные войны, которые велись правителями со своими соседями, приводили к постепенному усовершенствованию военной техники; в приморских странах стало развиваться кораблестроение. Для выполнения тяжелых работ, не требовавших особой квалификации, начал широко использоваться труд рабов. Именно к этому периоду истории человеческого общества относится расцвет великих цивилизаций средиземноморского ареала и Ближнего Востока. Не первое, хотя отнюдь и не последнее место среди них занимала крито-микенская цивилизация, созданная племенами, из которых впоследствии сложился греческий этнос.
Закончив это несколько затянувшееся введение, мы перейдем к Греции VI в. до н. э. — того века, который по справедливости считается временем зарождения греческой теоретической науки.
Античная техника
Несмотря на раздробленность греческих городов-государств и различия в их экономике и политическом устройстве, в целом греческие ремесла и такие инженерные дисциплины, как строительное дело, кораблестроение и другие, находились на уровне высших достижений той эпохи. Здесь действовали традиции, отчасти заимствованные у народов Востока, отчасти же унаследованные со времен крито-микенской цивилизации. В большой степени развитие ремесел стимулировалось потребностями греческого экспорта. Продукты гончарного производства (знаменитые «греческие вазы»), текстильные товары (которыми особенно славился Милет), всевозможные металлические изделия, украшения из золота и серебра и т. д. направлялись в колонии, а также в другие страны, находившиеся с греческими городами в торговых взаимоотношениях. И хотя ремесло никогда не принадлежало в Греции к числу наиболее уважаемых профессий, тем не менее прослойка ремесленников становилась все более многочисленной и приобретала в наиболее развитых полисах (например, в Афинах), по мере их демократизации, значительное влияние на политическую и общественную жизнь.
Высокий уровень ремесла способствовал развитию эстетических вкусов, но он также требовал определенных интеллектуальных качеств: наблюдательности, сообразительности, мастерства, приобретаемого обучением и опытом. Все эти качества объединялись греческим термином τέχνη, который служил обозначением как ремесла, так и искусства. И действительно, в классической Греции грань между тем и другим была все еще неопределенной. Греческие вазы производят зачастую впечатление творений высокого искусства; не случайно создававшие их мастера имели обыкновение ставить на них свои имена, подобно тому как в наше время художники подписывают свои картины. Эти подписи были не только указанием на авторство, но и своего рода «знаком качества». С другой стороны, имена Фидия, Поликлета, Праксителя известны в наше время любому образованному человеку как имена величайших скульпторов, создавших недосягаемые по своему совершенству произведения искусства; между тем в Древней Греции их общественный статус немногим отличался от статуса гончара или ювелира.
Профессией, сочетавшей в себе черты ремесла и искусства, была также архитектура. Разумеется, создатели греческих храмов сами не обтесывали и не клали камни: они, очевидно, составляли детальный проект здания и руководили работами по его строительству. Эта профессия требовала не только чисто инженерного мастерства и высокоразвитого чувства прекрасного, но также немалой математической подготовки. Величайшим в мире созданием строительного искусства Геродот считал храм Геры на острове Самос, воздвигнутый в период правления тирана Поликрата (вторая половина VI в. до н. э.)[252]. Археологические раскопки нашего времени показали, что этот храм был построен на основе строгих математических пропорций[253]. Отсюда следует, что уже в то время, совпадавшее со временем первых шагов ранней греческой науки, греческие архитекторы обладали соответствующими математическими знаниями и применяли их в строительной практике.
Другим интереснейшим инженерным сооружением на острове Самос, о котором пишет Геродот[254], был водопровод, созданный по проекту Эвпалина и проходивший по туннелю, который был прорыт сквозь гору и имел длину около одного километра. Долгое время историки относились к этому сообщению Геродота с недоверием, но в конце XIX в. немецкая археологическая экспедиция действительно обнаружила этот туннель[255]. Самое интересное было то, что в целях ускорения работы туннель рыли одновременно с обеих сторон горы. Впоследствии Герон, живший в начале нашей эры, привел в сочинении «Диоптра» геометрическое построение, которое должно было быть осуществлено для того, чтобы рабочие, прорывавшие туннель, встретились в середине горы[256]. Это была совсем не простая задача, требовавшая не только определенных знаний в области геометрии, но и большой точности в проведении геодезических измерений[257].
В качестве третьего замечательного сооружения самосцев Геродот называет дамбу, окружавшую гавань и имевшую длину около 400 м[258].
Вообще, мастерство инженеров с острова Самос пользовалось в то время, по-видимому, весьма широкой известностью. Во время похода персидского царя Дария на скифов (в 514 г. до н. э.) самосец Мандрокл построил понтонный мост через Босфор, по которому персидское войско перешло из Азии в Европу. Геродот пишет, что Дарий был очень доволен постройкой моста и щедро одарил Мандрокла. Часть полученной награды Мандрокл пожертвовал на создание фрески в упомянутом выше храме Геры, на которой был изображен царь Дарий, сидящий на берегу пролива на троне и наблюдающий, как его войско переходит по мосту[259]. Через двадцать с лишним лет аналогичная задача стояла перед сыном Дария Ксерксом, направлявшимся со своим огромным войском в Грецию. По сообщению Геродота, два первоначальных моста, из которых один был построен финикиянами, а другой египтянами, были снесены течением Геллеспонта, после чего царь приказал высечь море ударами бичей, а надзирателям за сооружением моста отрубить головы[260]. Новые, более прочные мосты были сооружены под руководством греческого инженера Гарпала, оказавшего тем самым плохую услугу своим соотечественникам. Геродот имени Гарпала не называет; оно дошло до нас благодаря случайно сохранившемуся обрывку папируса, содержавшему перечисление знаменитейших инженеров древности[261].
Из приведенных примеров следует, что греческие инженеры пользовались в своей работе математическими расчетами — иногда, по-видимому, достаточно сложными. Но это не была теоретическая математика в том смысле, в каком эта наука развилась впоследствии. Математические знания греческих инженеров и строителей сводились к использованию традиционных рецептов и приемов, причем никаких попыток логически обосновать эти рецепты и приемы не делалось. К сожалению, об этой прикладной математике, которую в древности именовали логистикой, до нас дошло очень мало сведений.
Зарождение теоретической математики следует отнести ко времени первых, еще, вероятно, не очень строгих попыток Фалеса доказать геометрические теоремы о том, что круг долится диаметром на две равные части, что угли при основании равнобедренного треугольника равны и т. д. Сами по себе эти положения уже в то время казались, вероятно, достаточно тривиальными. Новым было то, что Фалес впервые попытался логически их обосновать. Тем самым он положил начало дедуктивной математике — той математике, которая впоследствии была превращена в стройную и строгую систему трудами Гиппократа Хиосского, Архита, Эвдокса, Эвклида, Аполлония Пергского и других великих ученых эпохи расцвета греческой культуры. Но эта дедуктивная математика, явившаяся образцом и примером для математиков нового времени, не оказала практически никакого влияния на развитие античной техники. Греческие, а позднее римские инженеры по-прежнему пользовались традиционными методами и рецептами, лишь иногда на основе собственного опыта улучшая их и усовершенствуя. Этим объясняется, что наряду с очень бурным развитием таких теоретических наук, как дедуктивная геометрия и астрономия, античная техника за тысячу с лишним лет своего существования претерпела лишь очень незначительные изменения.
Но все же некоторые перемены происходили. В наибольшей степени они, пожалуй, затронули две области техники: кораблестроение[262] и военные орудия. Поэтому имеет смысл вкратце остановиться на том и на другом.
Греческое кораблестроение
Жизнь и благосостояние греческих городов-государств в очень большой мере определялись морем. Море сопровождало греков на каждом шагу. Мифы о Тесее, об аргонавтах, о Троянской войне и многие другие связаны так или иначе с мором. В условиях множества островов Архипелага и крайней изрезанности береговой линии Балканского полуострова морские пути сообщения были наиболее удобным, а в ряде случаев единственным средством связи между греческими государствами. Морем шла торговля с другими странами, и прежде всего с колониальными полисами. Политическое могущество большинства государств в значительной степени зависело от господства на море. Этим объясняется, почему с давних пор греки стали хорошими мореплавателями и кораблестроителями. Поэмы Гомера показывают, что это было справедливо уже для крито-микенской эпохи: вспомним знаменитый «список кораблей» во второй песне «Илиады»[263], а также детальное описание того, каким образом Одиссей, собравшийся покинуть остров нимфы Калипсо, строил свой полуплот, полукорабль[264]. Эти для современного читателя подчас утомительные перечисления и описания воспринимались древними слушателями и читателями Гомера, видимо, с самым живым интересом[265].
Правда, темное время XI–IX вв. до н. э. ознаменовалось временным упадком также и в этой сфере греческой жизни, но уже в VIII в. жители полисов малоазийской Ионии, Коринфа, а позднее и Афин возвращают себе славу мореплавателей, уступая в этом отношении одним лишь финикиянам. По изображениям, дошедшим до нас на некоторых греческих вазах, мы можем составить представление по крайней мере о внешнем виде кораблей того времени.
Прежде всего, греческие корабли резко различались в зависимости от своего назначения — были ли они военными или торговыми (грузовыми) судами. Из них первые имели длинную и узкую форму и обладали крепкими, заостренными носами, приспособленными для тарана. Паруса служили для них лишь вспомогательным средством; основной же двигательной силой были гребцы, приводившие в движение весла, расположенные одним или несколькими рядами вдоль обоих бортов корабля. Управление осуществлялось, как правило, двумя рулевыми веслами, прикрепленными к приподнятой корме судна. Поскольку важнейшим приемом, применявшимся в бою, был таран, первостепенную роль играли скорость корабля и его маневренность.
Суда гомеровской эпохи имели всего лишь один ряд весел и были сравнительно невелики. Общее число гребцов такого судна не превышало 25 человек с каждой стороны. В дальнейшем, однако, появляются суда с двумя и большим числом рядов; из них наибольшее распространение получают трехрядные суда — триеры, или триремы[266]. К сожалению, до нас не дошли остатки античных трирем (подобно тому как сохранились обломки кораблей северных викингов), поэтому многие детали их устройства остаются поясными. В частности, существуют различные мнения по поводу расположения гребцов на триреме. Наиболее вероятным представляется, что верхний ряд был расположен на уровне приподнятой палубы, второй — на уровне внешнего борта, а весла третьего, нижнего, ряда высовывались через отверстия, проделанные в борту судна. По отношению друг к другу гребцы различных рядов располагались в шахматном порядке. Естественно, что весла каждого ряда различались по длине, и их наклон по отношению к поверхности воды был также неодинаков. Наиболее трудной считалась работа гребцов верхнего ряда (ϑρανϊται), поэтому они оплачивались выше остальных; затем шли гребцы среднего ряда (ζύγιοι), а ниже всех по рангу стояли гребцы нижнего ряда (ϑαλαμΐται) их положение было наименее приятным и наиболее опасным: во время волнения их обливало водой через весельные отверстия, а при потоплении судна или захвате его врагами у них было меньше шансов остаться в живых. Согласно подсчетам, производившимся историками военно-морского дела, число гребцов каждого ряда составляло соответственно 54, 54 и 62 человека, а вместе с капитаном (κελευστής), рулевым и матросами численность экипажа триремы составляла примерно 200 человек.
Такая трирема могла развивать скорость до 11,5 узла — достаточно большую даже по стандартам нового времени. Зрелище флота состоящего из многих трирем, рассекающих волны при такой скорости, было, несомненно, впечатляющим и впутавшим страх командам вражеских кораблей.
В эллинистическую эпоху получили распространение корабли с большим числом рядов гребцов — квадриремы, или тетреры (τετρήρες), квинквиремы, или понтеры (πεντηρες), и т. д. Прибавление каждого ряда создавало трудности с размещением гребцов, и, строго говоря, мы не знаем, как эти трудности преодолевались. Совершенно фантастически звучит сообщение о сорокарядном судне, якобы построенном в Египте Птолемеем IV (конец III в. до н. э.). Этот корабль был описан Калликсеном Родосским, жившим в следующем веке, а до нас некоторые детали этого описания дошли благодаря Плутарху и Афинею[267]. Если верить этим авторам, длина этого корабля составляла в переводе на метрические единицы 130,5 м, высота (от воды до площадки рулевого) — 24,5 м. Четыре рулевых весла имели длину по 13,8 м каждое, а длина гребного весла верхнего ряда была равна 17,5 м. Общая команда судна составляла 7250 человек, из которых более 4 тыс. были гребцами.
Совершенно иной характер имели корабли, служившие для перевозки грузов. Они обладали значительно более округлой формой (отношение длины к максимальной ширине такого судна было равно 4:1) и, как правило, обходились без гребцов. Первоначально у этих кораблей был всего лишь один парус, укрепленный на реях единственной мачты, возвышавшейся в центре судна. Позднее к нему стали добавляться вспомогательные паруса — как квадратные, так и треугольные, однако в целом их парусная оснастка была значительно более примитивной, чем у парусников нового времени. Разумеется, эти корабли очень зависели от наличия или отсутствия благоприятного ветра. Но и при попутном ветре они оставались тихоходами; так, путешествие из Южной Италии в Александрию в сезон, когда в Средиземном море постоянно дует северо-западный ветер, занимало обычно 18–20 дней, что составляет среднюю скорость корабля в 2 узла. Впрочем, Плиний Старший указывает, что небольшие парусные суда могли преодолевать это же расстояние за 9 дней[268]. Интересное описание морского путешествия из Александрии в Рим, сопровождавшегося различными приключениями, содержится в диалоге Лукиана «Корабль, или Человеческие желания»[269]. Несмотря на сатирический жанр диалога, Лукиан сообщает в нем обстоятельные и очень правдоподобные детали как относительно корабля, на котором совершалось это путешествие, так и относительно плавания в целом.
И в области грузового судостроения эллинистическая эпоха не обошлась без гигантомании. Самое большое из известных нам торговых судов того времени было построено в Сиракузах в царствование царя Гиерона II (265–215 гг. до н. э.). Этот корабль, называвшийся «Сиракузия», строился, согласно преданию, под наблюдением самого Архимеда; его описание известно нам благодаря тому же Афинею[270]. Его грузоподъемность достигала 1800 т; он имел команду в 200 человек и был хорошо вооружен (вероятно, для защиты от пиратов). Этот корабль совершил плавание в Александрию (единственную гавань, в которой он мог безопасно пришвартоваться), где его осматривал Птолемей III — отец Птолемея IV, построившего «плавучую крепость», о которой шла речь выше. Дальнейшая судьба «Сиракузии» осталась нам неизвестной.
В среднем же торговые корабли имели, конечно, значительно меньшие размеры и их грузоподъемность редко превышала 400–500 т.
В эпоху Римской империи мы вообще уже не наблюдаем стремления к созданию кораблей-гигантов, причем это относилось в равной мере как к торговому, так и к военному флоту.
Античная артиллерия
Особенно разителен был прогресс, достигнутый греками в области военной техники[271]. Исходным пунктом этого развития был обычный лук. Будучи весьма эффективным оружием, лук обладал существенными ограничениями, которые были обусловлены пределами физических возможностей человека. Во-первых, нельзя было безгранично увеличивать упругость лука, так как при очень большой упругости пользоваться им становилось уже трудно. Вспомним лук Одиссея, натянуть который не был в состоянии ни один из женихов, сватавшихся к Пенелопе. Вторым фактором, ограничивавшим эффективность лука, была длина рук стрелка. Стремлением преодолеть эти ограничения было продиктовано изобретение катапульт. Наиболее ранней моделью катапульты следует считать устройство, описанное Героном под названием гастрафета (γαστραφέτης)[272]. Оно представляло собой лук больших размеров, тетива которого натягивалась не рукой стрелка, а с помощью специального механизма, позволявшего закреплять тетиву в натянутом положении. При натягивании тетивы надо было передним концом упереть гастрафет в землю, а на задний конец навалиться животом, используя весь вес человеческого тела (отсюда и его название, буквально означающее «стрелок животом»). После этого стрела помещалась в специальный желобок, бывший прототипом ружейного ствола, и после наведения на цель тетива освобождалась с помощью несложного спускового устройства. Дальность полета стрелы, пущенной гастрафетом, значительно превышала дальность полета стрелы от обычного лука.
Следующий шаг состоял в усовершенствовании механизма натягивания тетивы. Это было сделано путем включения в механизм гастрафета небольшого приспособления, основанного на принципе ворота или лебедки. Тем самым достигалась значительная экономия физической силы стрелка, хотя и несколько замедлялся процесс перезаряжения. В дальнейшем вместо стрел стали использоваться камни, что потребовало дополнительных видоизменений (в частности, замены тонкой тетивы широкой лентой). Такая разновидность катапульты получила наименование баллисты.
Мы не знаем точно, где и когда стали впервые применяться эти орудия. Можно с уверенностью утверждать, что во время Пелопоннесской войны греки еще не знали гастрафета. Ссылаясь на свидетельство Диодора, историки обычно связывают его изобретение с царствованием Дионисия-старшего в Сиракузах (начало IV в.). В следующем, III в. катапульты и баллисты уже широко применялись в ходе военных действий. Для того чтобы дать представление о размерах этих орудий, можно сослаться на данные, сообщаемые военным инженером Битоном относительно баллисты, спроектированной неким Исидором из Абидоса (точное время жизни которого нам неизвестно)[273]. В переводе на метрическую систему мер эти данные таковы: длина лука 4,6 м; его толщина 30 см; диаметр ядра 23 см, а его вес около 40 фунтов, т. е. 18 кг. То, что эти данные не были преувеличены, показывают археологические находки. В конце XIX в. при раскопках Пергама немецкой археологической экспедицией был обнаружен оружейный склад, содержавший более 250 каменных ядер примерно такого веса[274].
Появление военных метательных орудий коренным образом изменило характер войны. До этого хорошо укрепленный город мог считаться практически неприступным и его способность к сопротивлению ограничивалась только наличием воды и продовольствия. Греки десять лет осаждали Трою и смогли ее взять лишь с помощью военной хитрости. Теперь же ни одна крепость не могла считать себя в безопасности перед лицом вражеской артиллерии; в этой связи следует особо отметить осаду Родоса Деметрием, сыном Антигона, получившим после нее прозвище Полиоркета (т. е. «осаждающего города»). И лишь при осаде Сиракуз римским полководцем Марцеллом (3 г. до н. э.) техника осаждающих встретилась сеще более мощной техникой осажденных; дело в том, что обороной города руководил Архимед. Для большей наглядности приведем небольшой отрывок из двадцать четвертой книги истории Тита Ливия:
«После этого началась осада Сиракуз и с суши — от Гексапил — и с моря — от Ахрадины, стены которой омываются морем. При этом римляне, взявшие Леонтины с первого же натиска, под действием только ужаса, были вполне уверены, что в каком-нибудь месте они прорвутся в обширный и разбросанный по большому пространству город, и придвинули к стенам всю наличность осадных машин. И начатое с такой силой предприятие увенчалось бы успехом, если бы в то время не было одного человека. Этим человеком был Архимед, единственный в своем роде созерцатель неба и светил, но еще более удивительный изобретатель и конструктор военных машин и сооружений, при помощи которых он с очень небольшим усилием (parvo momento) мог делать тщетными все попытки врагов, даже если эти попытки стоили колоссальных усилий. Стена города проходила по неровной и холмистой местности; многие части ее были очень высокими и труднодоступными, но в некоторых местах она была низкой и пологие стены делали возможным восхождение. Поэтому Архимед поставил на стене в качестве защиты различного рода метательные орудия, сообразуя их с природой местности. На стену же Ахрадины, которая, как сказано было выше, омывалась морем, Марцелл вел наступление с шестнадцатью пентерами. Находившиеся же на других судах лучники, пращники и легковооруженные велиты[275], метательные орудия которых очень трудно отражать для неопытных воинов, не позволяли никому безнаказанно оставаться на стенах. Так как для метательных орудии требуется некоторое расстояние, то эти корабли стояли вдали от стен. Другие пентеры были соединены попарно бок к боку, причем внутренние весла были сняты и оба корабля, как один, приводились в движение лишь внешними веслами; на них стояли многоэтажные башни и другие приспособления для разрушения стен. Против всего этого морского вооружения Архимед расположил по стенам метательные орудия различной величины. В далекие корабли он метал громадного веса камни, а близкие осыпал более легкими, а вследствие этого и в большем количестве, метательными снарядами…»[276]. В дальнейшем, помимо катапульт и баллист классического типа, были разработаны другие разновидности метательных орудий. Не вдаваясь в технические подробности, назовем некоторые из этих разновидностей, указав принцип действия каждой из них.
1. Эвтитон (или палинтон). Это — видоизменение катапульты, у которой лук был заменен двумя скрученными пучками упругих жил. Эти пучки помещались в двух рамах, справа и слева от боевого желоба. В каждый пучок вставлялся прочный деревянный рычаг, причем оба рычага были соединены сплетенной из жил тетивой, которая оттягивалась с помощью ворота и удерживалась в напряженном состоянии примерно так же, как и в катапульте. Различие между эвтитором и палинтоном соответствовало различию между катапультой и баллистой.
2. Полибол. Это — катапульта многократного действия, представлявшая собой прообраз нынешнего пулемета. Особенностью конструкции полибойа было соединение ворота с замкнутой на себя цепью. Непрерывное вращение ворота, сопровождавшееся движением цепи, приводило к натягиванию тетивы, к срабатыванию спускового устройства (после чего в боевой желоб падала из находившегося сверху магазина очередная стрела) и к новому натягиванию тетивы. Это орудие обладало значительной точностью попадания и было поэтому весьма эффективным.
3. Монанкон (т. е. «одноплечее», у римлян — онагр). Это была большая метательная машина, перемещавшаяся на колесах. Основной ее частью был длинный рычаг, вставлявшийся в пучок упругих жил. При отведении (с помощью ворота) рычага в одну из сторон жилы сильно напрягались, и и таком напряженном состоянии рычаг удерживался специальным засовом. К верхнему концу рычага была прикреплено своего рода праща с каменным ядром. При отодвигании засова рычаг с силой возвращался в прежнее положение, а ядро вылетало из пращи, описывая крутую траекторию. В античной артиллерии это орудие было аналогом современной тяжелой гаубицы. Александрийский механик Филон рассказывает еще о нескольких типах метательных машин, свидетельствующих об активности изобретательской мысли древних инженеров. В одной из них, которую он называет «халкотон» (χαλκότονον), для натягивания лука использовалась кованая бронзовая пружина. В другой — в «аэротоне» (άηρότονον) — рычаги катапульты приводились в движение воздухом, сжимаемым в цилиндрах. Немотря на кажущуюся прогрессивность этих нововведений, они не получили распространения: натянутый пучок сухожилий оказался в условиях античной техники значительно более эффективным.
Такова была греческая военная техника эллинистической эпохи. Она свидетельствует о двух вещах, которые небесполезно подчеркнуть в контексте нашего изложения. Во-первых, о том, что важнейшим стимулом технического прогресса всегда был социальный заказ. В случае военной техники такой заказ имел место. Но он отсутствовал в других сферах жизни античного общества, не связанных с военным делом. В частности, древние были почти не заинтересованы в использовании таких источников энергии, которые могли бы заменить мышечную силу рабов и домашних животных. Именно поэтому в античности не было никаких условий для развития машинного производства, хотя инженерный опыт, техническая сноровка и острая изобретательская мысль были там налицо. Другой момент, на который мы хотим обратить внимание, состоял в почти полном отрыве инженерной деятельности от теоретической науки того времени. Этот отрыв был обусловлен не какими-либо внешними причинами, а принципиальной установкой греков в отношении задач и характера научной деятельности. Наука в представлении греческих философов и ученых была синонимом бескорыстного искания истины — времяпрепровождением свободных людей, не претендовавшим ни на какую практическую пользу и имевшим своей целью исключительно удовлетворение собственной любознательности. Первоначально, как это было, например, у Фалеса, это было просто хобби — занятие в часы досуга. Вероятно, именно по этой причине Геродот, неоднократно и с большим уважением отзывающийся о Фалесе, даже не упоминает о его математических занятиях. Первым человеком, который целиком и полностью посвятил свою жизнь науке, был, по-видимому, Анаксагор. Его примеру последовал Демокрит, а в дальнейшем и другие философы и ученые. Но никто из них не пытался поставить свою мудрость и свои знания на службу практическим целям. Более того, наука считалась делом достойным всяческого уважения, но притом делом принципиально бесполезным. Человеку нашего времени это может показаться странным, но для греков бесполезность науки была не столько недостатком, сколько неоспоримым достоинством. Напомним фразу из самого начала «Метафизики» Аристотеля: «по мере открытия большего числа искусств (τεχνών), с одной стороны, для удовлетворения необходимых потребностей (προς τάναγκαΐα), с другой — для препровождения времени (προς διαγωγήν) изобретатели второй группы всегда признавались более мудрыми, нежели изобретатели первой, так как их науки были предназначены не для практического применения (δια τομή προς χρήσιν είναι τάς έπιστήμας αύτων)» [пер. А. В. Кубицкого][277].
Это не было мнение одного Аристотеля — это было господствующее мнение на протяжении всей античности. В связи с этим будет небезынтересно проследить те тенденции в греческой научной литературе, которые были направлены на установление связи между теоретической наукой и техникой, рассмотреть работы греческих ученых, в которых, худо ли хорошо ли, делались попытки осмыслить действие тех или иных орудий и механизмов. Заметим, кстати, что в классическую эпоху такие попытки не предпринимались; все работы, о которых может в данном случае идти речь, относятся к эпохе эллинизма.
«Механические проблемы»
Трактат под таким названием по традиции включается в основной корпус сочинений Аристотеля[278]. В настоящее время, однако, господствует мнение, что автором трактата был не Аристотель, а кто-то из более поздних представителей перипатетической школы. Некоторые детали позволяют предположить, что этот автор в течение более или менее длительного времени жил в Египте; поэтому нельзя считать исключенным, что им был Стратон, до 287 г. воспитывавший в Александрии наследника престола — будущего Птолемея II. В этом случае время написания трактата может быть отнесено примерно к восьмидесятым годам III в. до н. э. Существуют, впрочем, и другие точки зрения.
Особый интерес для нас представляет теоретическое введение к трактату, в котором формулируется интересующая автора общая проблема.
Перипатетический, вернее, просто аристотелевский дух трактата обнаруживается уже в первых его фразах. Автор говорит об удивлении, которое вызывают в нас как естественные события, совершающиеся в соответствии с природой, но причины которых нам неизвестны, так и события, противоречащие природе и производимые искусством (техникой) в интересах нашей пользы. При этом невольно вспоминается вторая глава первой книги «Метафизики», где подчеркивается роль удивления как важнейшего стимула, побуждающего человека стремиться к познанию («Ибо и теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать, причем вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало недоумение, а затем, мало-помалу продвигаясь таким образом далее, они задавались вопросами о более значительном…»[279]) Совершенно в том же смысле, что и там, употребляется термин τέχνη, оказывающийся равнозначным искусству, ремеслу и вообще мастерству в самом широком смысле. Вполне в духе Аристотеля рассуждения о событиях, совершающихся в соответствии с природой и вопреки природе. Новым по сравнению с традиционным представлением об Аристотеле-философе является, пожалуй, обращение к механическим проблемам, т. е. к технике, но в конце концов почему Аристотель не мог заняться теоретическим осмыслением также и этой сферы человеческой деятельности?
Вслед за этим автор «Механических проблем» формулирует основную проблему своего трактата — проблему рычага. Действия рычага относятся, по его мнению, именно к таким явлениям, которые вызывают удивление,
Кажется поистине чудесным, что сравнительно небольшая сила может с помощью рычага двигать или поднимать намного превосходящие ее большие тяжести. Конечную причину этого действия автор усматривает в свойствах круга, которые, если подумать, представляются еще более чудесными, ибо все они образуют удивительное единство взаимно исключающих друг друга качеств.
Прежде всего, круг представляет собой единство покоя и движения. Действительно, при вращении круга вокруг центра каждая точка его окружности движется, в то время так его центр остается неподвижным. А ведь покой и движение — противоположные по своему смыслу понятия.
Окружность, ограничивающая круг, также заключает в себе две противоположности, будучи одновременно и выпуклой и вогнутой (это зависит от того, с какой стороны на нее посмотреть).
Вращающийся круг движется одновременно в двух противоположных направлениях: если все точки, находящиеся справа от центра круга, движутся вверх, то все точки, лежащие слева от центра, будут двигаться вниз. То же происходит и с радиусами круга, причем каждый радиус, начиная двигаться из своего исходного положения, в конце концов придет в него же.
Из того, что вращающийся круг движется одновременно в двух противоположных направлениях, вытекает следующая своеобразная особенность кругов, последовательно соприкасающихся друг с другом: каждый следующий круг будет двигаться противоположным образом по отношению к предыдущему. Как указывает автор «Механических проблем», этой особенностью широко пользуются механики, конструирующие на ее основе удивительные механизмы и устройства.
Учитывая все эти странности, можно не удивляться тому, что именно круг лежит в основе чудесных (на первый взгляд) свойств рычагов, весов и других механических приспособлений. При этом в ходе дальнейшего изложения автор трактата на первое место ставит обсуждение свойств весов, из которых затем выводятся свойства рычага, а уже из них свойства всех остальных инструментов и орудий. Поскольку, говоря о весах, автор имеет в виду рычажные весы, такой порядок представляется неверным: ведь свойства рычажных весов целиком определяются законом рычага, поэтому именно рычаг следовало бы поставить на первое место. Но теории рычага автор «Механических проблем» еще не знал (эта теория, базирующаяся на понятиях центра тяжести и момента силы, была впервые сформулирована Архимедом), и принятый им порядок показывает, насколько он был еще далек от понимания существа рассматриваемых им явлений.
Итак, ставится следующий вопрос: почему более длинные весы (т. е. весы с более длинными плечами) оказываются точнее более коротких? Этот вопрос связывается одним из замечательных свойств круга, выражающимся в том, что более длинный радиус вращающегося круга описывает за одно и то же время большую дугу, чем более короткий радиус (иначе говоря, что более длинный радиус проходит одно и то же расстояние за меньшее время, чем более короткий). При обсуждении этого свойства автор вдается в довольно путаные рассуждения, сопровождаемые геометрическими построениями, разбором которых мы заниматься не будем. В этих рассуждениях, однако, обращают на себя внимание два пункта, представляющие интерес с точки зрения истории механики.
Именно здесь мы впервые находим формулировку правила параллелограмма для сложения двух взаимно перпендикулярных перемещений (и эквивалентного ему правила разложения движения на две взаимно перпендикулярные составляющие). Это правило применяется к рассмотрению движения точки по окружности, которое разлагается на две составляющих — тангенциальную и радиальную. При этом тангенциальная составляющая (движение вдоль касательной к окружности) рассматривается в качестве естественной компоненты движения, а составляющая, направленная к центру круга, трактуется как насильственное движение. Такая трактовка не совпадает с традиционным аристотелевским пониманием естественного и насильственного движений и служит одним из аргументов против приписывания авторства «Механических проблем» Аристотелю; с другой стороны, она в какой-то мере предвосхищает позднейшие представления об инерциальном движении вдоль касательной к окружности и радиальном ускорении под действием центростремительной силы.
По мнению автора трактата, уподобление плеча весов радиусу вращающегося круга позволяет понять, почему при одном и том же грузе смещение длинного плеча оказывается более значительным и, следовательно, более заметным, чем смещение малого плеча.
В ходе дальнейших рассуждений автор объясняет действие рычага, трактуя его как особого рода неравно-плечные весы, которые не подвешены на шнуре, а поворачиваются вокруг твердой точки опоры. Под действием одного и того же веса более длинное плечо передвигается быстрее, чем короткое, причем его скорость (как это и следует из свойств круга) будет пропорциональна длине плеча. Отсюда делается вывод, что отношение веса, приводимого в движение (на коротком конце рычага), к весу, приводящему в движение (на длинном конце), находится в обратной пропорции к отношению длин соответствующих плеч. Чем дальше человек, приводящий в движение рычаг, находится от точки опоры, тем больший вес ему удастся поднять. Этот вывод бесспорно верен: он является обобщением многовековой человеческой практики и лишь искусственно притянут автором к чудесным свойствам круга. Мы видим, что теоретическая часть «Механических проблем» еще не поднялась до уровня научной механики и представляет собой смесь правильных наблюдений и метафизических спекуляций.
Затем следует рассмотрение свыше 30 конкретных проблем, в большей своей части относящихся к действию различного рода механических устройств и инструментов. В каждом случае задается вопрос: почему происходит то-то и то-то? Причем ответ на этот вопрос в большинстве случаев сводится к объяснению действия данного устройства с помощью принципа рычага. В ряде случаев такое объяснение оказывается вполне оправданным: это имеет место, например, когда речь идет о работе рулевого или гребного весла, разного рода щипцов (как зубоврачебных, так и употребляемых для раскалывания орехов), колодезного журавля. Впрочем, и здесь некоторые соображения автора не могут вызвать у нас ничего кроме улыбки; чего стоит, например, следующее детское рассуждение, долженствующее пояснить, почему рулевое весло прикрепляется к кормовой части судна:
«Оно помещается на конце, а не в середине, потому что движимое легче двинуть, если его двигают с конца. Ибо передняя часть перемещается быстрее всего, потому что в перемещаемых [предметах] перемещение прекращается у предела (έπι τέλει); таким образом и у непрерывных тел перемещение оказывается наиболее слабым вблизи предела (έπί τέλους). Если же оно самое слабое, его легко отклонить в сторону»[280].
Пусть кто хочет ищет в этом рассуждении какой-либо смысл. И таких мест в «Механических проблемах» немало, особенно в тех случаях, когда автор пытается объяснить на основе принципа рычага явления совсем другого рода. Это относится, например, к объяснению действия клина, который трактуется как совмещение двух рычагов. Неверно излагается также механизм действия блока и комбинации блоков. Вообще автор «Механических проблем» неизменно терпит неудачу, когда он пытается решить задачи, выходящие за пределы чисто статических закономерностей. И это, конечно, не случайно. Впрочем, он сам чувствует свою беспомощность в объяснении динамических процессов, что, в частности, видно из следующих двух отрывков.
«Почему так получается, что если приложить к полену большой топор, а на него положить большую тяжесть, полено не рассечется сколько-нибудь заметным образом; если же, подняв топор, ударить по полену, оно расколется, хотя ударивший [топор] имел намного меньший вес, чем тот, который лежал на полене и давил на него? Не потому ли, что все [в данном случае] производится движением и тяжесть получает от своего веса больше движения, когда она движется, чем когда покоится? Итак, когда [топор] лежит в покое, он не движется движением своего веса, будучи влеком как им, так и тем, которое сообщается ударяющим»[281].
«Движение своего веса» (ή τοϋ βάρους κίνησις) — это попытка обозначить динамическую величину, для которой автор «Механических проблем» еще не имел названия. Второй отрывок относится к движению брошенного тела, т. е. к тому случаю, который явился камнем преткновения для Аристотеля: «Почему же получается, что брошенное [тело] перестает двигаться? Из-за того ли, что истощается бросившая его сила (ή ισχύς), или из-за противодействия (τό άντισπασϑαι), или из-за стремления (τήν ροπήν), когда оно преодолевает бросившую силу? Или, может быть, не имеет смысла пытаться решить вопрос, начало которого нам неизвестно»[282].
Действительно, «начало» в смысле закона, которому подчиняется полет брошенного тела, было неизвестно автору «Механических проблем» и осталось неизвестным всей последующей античной науке. Постановка задачи в приведенном отрывке существенно отличается от аристотелевской. Любопытно, однако, что в следующем абзаце та же самая задача формулируется прямо противоположным образом: почему тело продолжает лететь, когда толкнувший его агент уже перестал на него действовать? Здесь на помощь привлекается промежуточная среда — вполне в духе аристотелевской физики.
В заключение отметим, что в «Механических проблемах» впервые появляется термин «трение» (ή πρόσκοψις), которого мы не находим ни в каком другом трактате аристотелевского свода. В частности, задавая вопрос: почему тяжелый груз легче передвигать на катках, чем на телегах с большими колесами? — автор отвечает: «потому что на катках он не имеет никакого трения, на телегах же есть ось, о которую [он] вызывает трение»[283].
В целом «Механические проблемы» представляют собой весьма примечательный документ, имеющий очень большое значение для историка античной науки, и прежде всего для историка механики. До этих пор теоретическая мысль греков ориентировалась главным образом на математику и астрономию; заметим, что эта ориентация сохранится в качестве основной и в последующее время. В сфере интересов Аристотеля и Феофраста оказался огромный мир органической природы, до этого находившийся на периферии греческой науки «О природе». И вот в «Механических проблемах» мы встречаемся с первой попыткой теоретического осмысления широкой области явлений, входивших в сферу повседневного человеческого опыта, но которые ранее не привлекали к себе внимания адептов греческой теоретической науки. Почему не привлекали? Во-первых, потому, что, как показывает история науки, пытливый ум человека останавливается прежде всего на явлениях необычных, загадочных и вызывающих изумление; то же, с чем мы встречаемся в нашем быту, кажется понятным и не заслуживающим внимания уже по своей привычности. Во-вторых, как хорошо известно, в обыденном и повседневном труднее всего обнаружить общие закономерности, отыскание которых составляет основную задачу всякой науки, заслуживающей этого наименования.
Аристотель был первым греческим мыслителем, обратившим внимание на обыденные и, по видимости, не представляющие интереса объекты. Вспомним его знаменитое место из трактата «О частях животных», где он призывает не пренебрегать изучением незначительных и даже неприятных для чувств животных[284]. В четвертой книге «Метеорологики» он дает объяснение с позиций своей качественной физики широкому спектру фактов, взятых из повседневного человеческого опыта и относящихся, согласно нашей номенклатуре, к области физико-химических процессов. В этом плане «Механические проблемы» соответствовали принципиальной установке Аристотеля — изучать причины любых, как природных, так и противоприродных, явлений. Правда, целый ряд деталей (на некоторое из них было указано в ходе предшествующего изложения) заставляют нас думать, что автором «Механических проблем» был все же не сам Стагирит, а кто-то из более молодых представителей его школы. Но независимо от вопроса об их авторстве «Механические проблемы» открыли для науки новую область — область механических явлений. Теперь можно было ожидать, что в дальнейшем появится ученый, который подвергнет эти явления строгому анализу, учитывающему достижения точных наук того времени. И такой ученый не замедлил появиться — им оказался великий механик древности Архимед[285].
Архимед
Архимед занимает уникальное положение в античной науке. Это положение определяется как характерными чертами его личности, так и направлением его научной деятельности, но прежде всего тем, что из всех античных мыслителей он по складу своего мышления, по своим интересам и устремлениям ближе всего подошел к типу ученого нового времени. Архимед объединил в своем лице, с одной стороны, гениального математика, наметившего принципиально новые пути развития этой науки, с другой же — замечательного инженера, превосходившего в отношении технического мастерства всех своих предшественников и современников. Самым существенным в этом объединении было то, что его теоретические занятия и его инженерная деятельность отнюдь не представляли собой две раздельные, непересекающиеся сферы интересов; напротив, его научные работы в значительной степени стимулировались технической практикой того времени; с другой стороны, его механические конструкции (по крайней мере в некоторой своей части) были подчинены задачам решения или иллюстрации занимавших его теоретических проблем. Что касается единства теории и практики, то в этом отношении Архимед имел, пожалуй, всего лишь одного предшественника — Фалеса Милетского, но то, что у Фалеса находилось еще в самом зачаточном состоянии, приобрело у Архимеда черты зрелого и полнокровного расцвета. При всем том Архимед не мог выйти за рамки античного образа мира, и, несмотря на всю его широту, ему была присуща известная ограниченность, коренившаяся в мироощущении того времени. В чем она состояла, покажет дальнейшее изложение.
Архимед, сын астронома Фидия, родился в Сиракузах в 287 г. до н. э. Указанная выше особенность его научного дарования проявилась, по-видимому, достаточно рано: получив блестящую по тому времени математическую подготовку, он в то же время с самого начала испытывал живой интерес к различного рода техническим проблемам. Уже в своих первых научных работах он подходит к решению этих проблем с позиций точной (математической) науки.
Не все удавалось ему сразу. В «Механике» Герона, дошедшей до нас на арабском языке, имеется пространная выписка из сочинения Архимеда, озаглавленного «Книга опор» и бывшего, по-видимому, его первой научной работой[286]. В этом сочинении Архимед решает задачу о распределении давления балки, лежащей на нескольких опорах. Вес многоопорной балки для каждого пролета он считает распределенным поровну между ограничивающими этот пролет опорами. Так, например, в случае трех опор, подпирающих балку АС в точках А, В и С, Архимед принимает, что на опору А давит вес, равный половине веса АВ, на опору С давит вес, равный половине веса ВС, а на среднюю опору давит половина веса АВ плюс половина веса ВС. Таким образом, получается, что на среднюю опору, где бы она ни находилась, давит половина общего веса балки. Вывод совершенно неправильный.
Эта и другие ошибки Архимеда в этом сочинении (если, конечно, предположить, что эти ошибки принадлежали самому Архимеду, а не пересказывавшему ого текст Герону) объяснялись, очевидно, тем, что в то время он еще не уяснил понятия центра тяжести и не понимал, что вес тела можно считать сосредоточенным в одной точке. С другой стороны, практическая проверка выводов Архимеда представляла для древних значительные трудности.
Рассмотрение многоопорной балки приводит Архимеда к случаю стержня, опирающегося на одну точку, т. е: к рычагу. Мы знаем, что в том или ином виде рычаг был древнейшим средством, служившим для поднятия и передвижения тяжестей. Люди пользовались рычагом с незапамятных времен, но пользовались им чисто эмпирически, не задавая вопроса, в чем же заключена причина эффективности этого несложного орудия. Выше мы видели, что попытка теоретического осмысления действия рычага содержалась в псевдоаристотелевских «Механических проблемах». Но это была именно попытка, еще далекая от подлинно научной теории. Такая теория была впервые создана Архимедом.
К сожалению, до нас не дошла работа Архимеда, в которой он впервые изложил теорию рычага. Возможно, что именно этой работой было называемое Паппом сочинение «О рычагах» (Περί ζυγών)[287]. Возможно также, что ему предшествовало другое сочинение — «О центрах тяжести» (Κεντροβάρικα), о котором упоминает Симпликий в своих комментариях к аристотелевскому трактату «О небе»[288]. Не исключено также, что оба этих заглавия относятся к одному и тому же сочинению. Так или иначе, созданию теории рычага у Архимеда предшествовало уяснение понятия центра тяжести. Этого понятия не знали ученые предшествовавшей эпохи; мы не находим его ни у Аристотеля, ни в «Механических проблемах». Правда, в «Механике» Герона имеется следующая загадочная фраза: «Стоик Посидоний дал центру тяжести, или момента, физическое объяснение, сказавши, что центр тяжести, или момента, есть такая точка, что если за последнюю подвесить данный груз, то он будет в ней разделен на две равные части. Поэтому Архимед и его последователи в механике более подробно рассмотрели это положение и установили разницу между точкой подвеса и центром тяжести»[289].
Эта фраза дала повод некоторым ученым (в Англии — Т. Л. Хиту, у нас — С. Я. Лурье) утверждать, что в своем первоначальном виде понятие центра тяжести было сформулировано неким стоиком начала III в. до н. э. Посидонием, которого, однако, не следует путать со знаменитым Посидонием Родосским, жившим в I в. до н. э. Однако о таком стоике мы больше ниоткуда ничего не знаем. Единственным стоиком начала III в. до п. э., имя которого нам известно, был основатель стоической школы Зенон из Китиона. Гораздо разумнее будет предположить, что в тексте Герона мы имеем дело с обычной для авторов поздней античности путаницей в порядке изложения, из-за которой создается впечатление, что Посидоний жил раньше Архимеда.
Точное определение центра тяжести приводится Паппом. Можно не сомневаться, что это определение принадлежит самому Архимеду (хотя Папп этого прямо и не указывает).
«Центром тяжести некоторого тела является некоторая расположенная внутри него точка, обладающая тем свойством, что если за нее мысленно подвесить тяжелое тело, то оно остается в покое и сохраняет первоначальное положение»[290].
Имея это определение, Архимед мог сформулировать понятие момента силы, установить условия равновесия рычага и на этой основе дать теорию рычажных весов. Каким образом это было у него первоначально сделано и пользовался ли он при этом аксиоматическим методом, применявшимся им в позднейших его работах, мы не знаем. Наиболее ранняя из целиком дошедших до нас работ Архимеда — «О квадратуре параболы» — предполагает теорию рычага уже известной.
Важное значение для Архимеда имела поездка в Александрию, оказавшая, вне всякого сомнения, стимулирующее влияние на его дальнейшее творчество. Мы считаем совершенно неубедительным предположение И. Н. Веселовского, что эта поездка была совершена, когда Архимеду было уже под пятьдесят лет, и что лишь после этого он занялся проблемами чистой математики[291]. Ничто не мешает нам допустить, что пребывание Архимеда в Александрии совпало со временем первой Пунической войны (264–241 гг. до н. э.), в которой Сиракузы не участвовали, занимая выгодную нейтральную позицию. В столице Египта Архимед познакомился с выдающимся ученым александрийской школы Кононом, занимавшим положение придворного астронома при царе Птолемее III Эвергете. Конон был лет на двадцать старше Архимеда; будучи прекрасным геометром, он ввел молодого сиракузца в круг проблем, находившихся в центре внимания александрийских математиков. По возвращении в Сиракузы Архимед продолжал поддерживать связь с Кононом, сообщая ему в письмах о результатах своих научных исследований. К сожалению, ни работы Архимеда александрийского периода, ни его письма к Конону до нас не дошли. Когда Конон умер (около 240 г. до н. э.), Архимед стал переписываться с учеником Конона Досифеем. Сохранились четыре письма Архимеда к Досифею («Квадратура параболы», «О шаре и цилиндре», «О коноидах и сфероидах» и «О спиралях»), которые можно причислить к числу важнейших математических работ Архимеда зрелого периода: в них величайший ученый древности предвосхищает идеи интегрального и дифференциального исчисления нового времени.
Другим александрийским ученым, с которым Архимед продолжал сохранять контакт по возвращении на родину, был знаменитый Эратосфен из Кирены, впоследствии (с 234 г. до н. э.) ставший руководителем александрийской Библиотеки. О дошедшем до нас письме Архимеда к Эратосфену (так называемый «Эфод») будет сказано несколько ниже.
Следует отметить, что, находясь в Александрии, Архимед не прекратил и своей инженерной деятельности. Об этом свидетельствует изобретенная Архимедом машина для поливки египетских полей: это так называемый архимедов винт или «улитка», получившая в дальнейшем широкое распространение в античном земледелии.
Сейчас мы обратимся к тем работам Архимеда, в которых он устанавливает связь между математикой и механикой, доказывая чисто математические положения с помощью механических методов. Это была процедура, ранее неведомая греческой математике и впервые изобретенная Архимедом: она стала возможной на основе работ Архимеда по статике и, прежде всего, по теории рычага, в которых эта область механики была превращена в точную математическую науку. Прежде всего рассмотрим одно из наиболее ранних среди дошедших до нас сочинений Архимеда (хотя по времени написания оно было далеко не ранним), а именно «Квадратуру параболы». Как уже указывалось выше, сочинение это было написано в форме письма к Досифею, ученику Конона. Вот его начало: «Архимед Досифею желает благоденствия! Узнавши о смерти Конона, делавшего все для нас из дружбы, и о том, что ты был близок к Конону и сведущ в геометрии, мы очень опечалились о покойном и как о друге, и как о выдающемся математике. Поэтому мы решили написать тебе, подобно тому как обычно писали Конону, и послать некоторые геометрические теоремы, остававшиеся ранее неизвестными, а теперь полученные нами; они были сначала обнаружены нами при помощи механических методов, а затем — доказаны также и геометрически… Предварительно излагаются основные свойства конических сечений, необходимые для доказательства»[292].
Теоремы теории параболы, которыми пользуется Архимед в этом сочинении, были, по-видимому, доказаны Эвклидом или другим, менее известным математиком того же времени— Аристеем. Оба они написали не дошедшие до нас сочинения о свойствах конических сечений; позднее полученные ими результаты вошли в знаменитый труд-Аполлония Пергского (Κωνικά). Мы видим, что Архимед был прекрасно знаком с математическими работами своих предшественников.
Далее решается задача нахождения площади сегмента, ограниченного параболой и прямой. Как явствует из приведенной выше цитаты, Архимед решает эту задачу двумя методами, причем лишь второй, геометрический, метод он считает удовлетворяющим требованиям строгой математики. Но нас, в первую очередь, интересует первый, по сути дела эвристический, метод, который сам Архимед назвал механическим, ибо он действительно показывает характерную для мышления Архимеда органическую связь математики и механики. Будучи инженером, Архимед сделал механику точной математической наукой, в то же время, будучи математиком, он мыслил с помощью образов и понятий, взятых из сферы механики.
Не повторяя буквально Архимеда, проследим основные стадии вывода формулы для площади параболического сегмента с помощью механического метода.
Рассмотрим параболический сегмент, ограниченный куском параболы αβγ и отрезком αγ (рис. 6). Ставится задача: выразить площадь этого сегмента через площадь вписанного в него треугольника αβγ.
Рис. 6. Определение площади параболы механическим методом
Имеем:
δβ — ось параболы
γζ — касательная к параболе в точке γ
αζ — прямая, параллельная оси параболы, проходящая через точку α.
γϑ — прямая, проходящая через точку γ и вершину параболы β, причем γκ=κϑ,
ξν — прямая, параллельная оси параболы, проходящая через произвольную точку ξ, лежащую на отрезке αγ.
Одно из свойств параболы, доказываемых в теории конических сечений, состоит в том, что:
ξο/ον = αξ/ξγ или ξο/ξν = αξ/αγ
откуда, между прочим, следует:
δβ = βε
(следовательно, γκ — медиана треугольника αγζ). Далее:
ξο/ξν = αξ/αγ = κμ/κγ = κμ/κϑ
Т. е.:
ξο/ξν = κμ/κϑ
До сих пор идет чистая геометрия, но с этого момента начинается механика. Архимед предлагает представить параболический сегмент αβγ и треугольник αζγ как две материальные пластинки, наложенные одна на другую и веса которых определяются их площадями. Отрезок ξ0 будем рассматривать как бесконечно тонкую полоску сегмента, а ξν как такую же полоску треугольника. Веса этих полосок будут определяться их длинами. Перенесем полоску ξ0 в точку ϑ таким образом, чтобы она приняла положение τη, а ее середина (и, следовательно, ее центр тяжести) совпала бы с точкой ϑ. Тогда уравнение (1) можно будет трактовать как условие равновесия рычага, плечи которого равны κϑ и κμ и к концам которого подвешены грузы τη и ξν.
Это же справедливо и для всех прочих, накладывающихся друг на друга полосок сегмента αβγ и треугольника αςγ. Перенеся все полоски, из которых состоит сегмент, в точку ϑ, мы можем заключить, что общий вес параболического сегмента будет уравновешен весом треугольника, если считать, что центр тяжести последнего совпадает с концом правого плеча нашего рычага. В своих предыдущих работах Архимед показал, что центр тяжести треугольника совпадает с точкой пересечения его медиан. Пусть этой точкой будет κ. Тогда условие равновесия сегмента и треугольника можно будет записать следующим образом:
вес сегм. 2βγ/вес треуг. αζγ = площадь сегм. αβγ/площадь треуг. αζγ = κχ/κϑ
Из геометрии мы знаем, что κχ = 1/3 κγ. Отсюда·: площадь сегм. αβγ/площадь треуг. αζγ = κγ/ζκϑ = 1/3
Площадь треугольника αζγ = 1/2 * αζ * αγ,
Из чертежа, однако, явствует, что αζ = 2δε = 4δβ. В результате приходим к окончательному ответу:
площадь сегм. αβγ = 4/3 (1/2 * δβ * αγ) = 4/3 площ. треуг. αβγ
Несмотря на недостаточную строгость механического метода, полученное соотношение оказывается абсолютно точным. Тем не менее во второй части трактата Архимед дает второе (геометрическое) доказательство, где тот же результат получается с помощью метода исчерпывания Эвдокса (рис. 7). При этом Архимед указывает, что в ходе доказательства он пользуется следующим предположением:
«Если имеются две неравные площади, то, постоянно прибавляя к самому себе избыток, на который большая площадь превосходит меньшую, можно получить площадь, которая была бы больше любой заданной ограниченной площади»[293].
Рис. 7. Определение площади параболы методом «исчерпывания»
Архимед сообщает, что «этой леммой пользовались также и жившие ранее геометры». Он имеет в виду, по-видимому, Эвдокса и Эвклида. Эвдокс, впервые и в самом общем виде (для любых величин, а не только для площадей) сформулировавший это положение, использовал его для разработки своей теории отношений, изложенной в пятой книге «Элементов» Эвклида; в свою очередь, Эвклид доказал с его помощью теоремы о площади круга и об объемах шара, пирамиды и конуса (двенадцатая книга «Элементов»). Таким образом, автором этого положения был фактически Эвдокс, хотя в позднейшей математической литературе оно получило наименование «аксиомы Архимеда».
Основная идея геометрического доказательства для той же задачи состоит в следующем. Снова рассматривается параболический сегмент, в который вписан треугольник αβγ. Площадь этого треугольника обозначим буквой A и, положим K=4/3 A. Площадь сегмента может быть либо равна K, либо не равна K. В последнем случае она может быть либо больше K, либо меньше K. Архимед
показывает, что оба этих предположения приводят к абсурду. Делается это следующим образом.
Разделив основание сегмента на четыре равные части (рис. 2), проведем вертикальные отрезки εζ || δβ || ηϑ и построим на сторонах αβ и βγ треугольники αζβ и γβϑ. Нетрудно показать (и Архимед это делает), что суммарная площадь этих двух треугольников будет в четыре раза меньше A. Аналогичным образом, разделив αγ на восемь равных частей, построим на отрезках αζ, ζβ, βϑ и ϑγ четыре треугольника, суммарная площадь которых будет равна одной шестнадцатой A. Продолжая эту процедуру nраз, мы найдем, что площадь вписанного в сегмент многоугольника, ограниченного снизу основанием αγ, а сверху — ломаной линией, состоящей из 2n+1 отрезков, будет выражаться суммой членов геометрической прогрессии
A + A/4 + A/42 +… +A/4n
Мы сразу видим, что при n — > ∞ эта сумма будет иметь своим пределом выражение:
A/(1–1/4) =4/3 A =K
Однако в эпоху Архимеда с бесконечными рядами еще не умели оперировать, поэтому Архимед ограничивается рассмотрением ряда с конечным числом членов и показывает, что разность между Kи суммой этого ряда будет равна одной трети последнего члена ряда (т. е. в наших обозначениях 1/3 * A/4n). Ясно, что, увеличивая число членов ряда, мы можем эту разность сделать меньше любой наперед заданной величины. С другой стороны, эта разность представляет собой площадь остающихся мелких сегментов, на которую площадь параболического сегмента αζβϑγ превосходит площадь вписанного в этот сегмент многоугольника, построенного указанным выше образом из последовательно уменьшающихся треугольников. Отсюда следует, что площадь параболического сегмента αζβϑγ не может превосходить Kна конечную величину, ибо тогда получилось бы, что площадь вписанного многоугольника, выражающаяся суммой (3), могла бы стать больше K, что, как мы видели, не может иметь еста. Очевидно, что и Kне может превосходить площадь параболического сегмента αζβϑγ на конечную величину, ибо тогда площадь вписанного многоугольника сможет стать больше площади αζβϑγ, что также абсурдно. Следовательно, площадь параболического сегмента αζβϑγ равна K = 4/3 A.
Мы специально задержались на рассмотрении трактата «Квадратура параболы», чтобы показать различие между механическим и геометрическим методами доказательства, которыми пользовался Архимед. В последующих письмах к Досифею (два письма «О шаре и цилиндре», затем «О коноидах и сфероидах» и «О спиралях») мы уже не находим механического метода, зато геометрический метод подвергается им значительному усовершенствованию. А именно, в отличие от метода исчерпывания Эвдокса (примером которого может служить процедура, примененная Архимедом в «Квадратуре параболы») усовершенствованный метод Архимеда состоял в том, что подлежащая определению величина заключалась между двумя интегральными суммами, разность которых могла быть сделана меньше любой наперед заданной величины. Искомая величина находилась при этом как общий предел обеих сумм при безграничном увеличении числа слагаемых, что было эквивалентно задаче о вычислении определенного интеграла. При определении поверхности шара, при нахождении объема сегментов параболоида и гиперболоида, а также эллипсоида вращения Архимед, по сути дела, вычислял интегралы:
Этим же методом Архимед решал и более трудные задачи — определения длин дуг и площадей ряда кривых поверхностей.
Трудно сказать, осознавал ли Архимед, что в каждой из рассмотренных им задач речь шла об одном и том же математическом понятии — понятии определенного интеграла. Во всяком случае, у него еще не было средств, чтобы дать общее определение интеграла.
Наряду с методами вычисления площадей и объемов Архимед разработал метод определения касательной к кривой, который можно считать предвосхищением дифференциального исчисления, поскольку он фактически сводится к нахождению производной. По каким-то причинам этот метод фигурирует только в письме «О спиралях», где он применяется для определения касательной к спирали ρ = αφ (так называемая Архимедова спираль), однако рассуждения Архимеда имеют общий характер и применимы к любой дифференцируемой кривой. Тем же методом Архимед пользуется для нахождения экстремальных значений алгебраических выражений, которые могут быть выражены в виде геометрических кривых. В частности, пользуясь современной терминологией, можно сказать, что он провел полное исследование существования положительных корней кубического уравнения определенного вида. Проблема определения экстремальных значений сводится Архимедом к проблеме нахождения касательной к соответствующей кривой.
Математические методы Архимеда оказали громадное влияние на развитие математики нового времени. Упомянем работы таких математиков XVII столетия, как Лука Валерио («Три книги о центре тяжести», 1604), Григорий Сен-Венсан («Геометрический труд о квадратуре круга и конических сечений», опубликован в 1647 г.), Пауль Гульдин (четыре книги «О центре тяжести», 1635–1641), Бонавентура Кавальери («Геометрия, развитая новым способом при помощи неделимых непрерывного», 1635; а также продолжение этого труда — «Шесть геометрических этюдов», 1647), Эванджелиста Торричелли («Геометрические труды», 1644) и другие. Во всех этих работах использовались и развивались процедуры, применявшиеся для решения аналогичных задач Архимедом, и тем самым подготавливалась великая революция в математике, выразившаяся в создании анализа бесконечно малых в трудах Ньютона и Лейбница. Можно только согласиться с И. Н. Веселовским, назвавшим Архимеда «ведущим математиком XVII в.»[294].
Переход к чисто геометрическим доказательствам не означал, что Архимед перестал признавать эвристическую ценность метода, основанного на механических аналогиях. Это ясно следует из его позднего, сравнительно недавно найденного сочинения, получившего наименование «Эфод»[295] (его полное греческое заглавие таково: Περί τών μηχανικών ϑεορημα τών προς Έρατοσϑένην ίφοδος). Рукопись этого сочинения была обнаружена в одном из иерусалимских монастырей приват-доцентом Петербургского университета, греком по национальности, Пападопуло Керамевсом, который увидел, что под текстов какого-то духовного содержания на пергаменте заметен другой, значительно более старый текст. Этот палимпсест был тщательно изучен в 1906–1908 гг. известным датским филологом И. Л. Хейбергом, установившим, что первоначальный текст содержит значительную часть трактата «О плавающих телах», а также «Эфод», ранее известный лишь по отдельным цитатам в «Метрике» Герона. Обнаружение и прочтение столь замечательного пергамента принадлежит, бесспорно, к числу значительнейших открытий классической филологии нашего века.
«Эфод» написан в форме письма Архимеда к Эратосфену. В нем Архимед приводит целую серию теорем, доказательства которых были им найдены сперва механическим методом (среди них содержится, между прочим, и теорема о квадратуре параболы). Во вступительной части письма Архимед пишет по этому поводу следующее: «Зная, что ты являешься… ученым человеком и по праву занимаешь выдающееся место в философии, а также при случае можешь оценить и математическую теорию, я счел нужным… изложить тебе некоторый особый метод, при помощи которого ты получишь возможность при помощи механики находить некоторые математические теоремы. Я уверен, что этот метод будет тебе ничуть не менее полезен и для доказательства самих теорем. Действительно, кое-что из того, что ранее было мною усмотрено при помощи механики, позднее было доказано также и геометрически, так как рассмотрение при помощи этого метода еще не является доказательством, однако получить при помощи этого метода некоторое предварительное представление об исследуемом, а затем найти и само доказательство гораздо удобнее, чем производить изыскания ничего не зная. Поэтому и относительно тех теорем о конусе и пирамиде, для которых Эвдокс первый нашел доказательство, а именно что всякий конус составляет третью часть цилиндра, а пирамида — третью часть призмы с тем же основанием и равной высотой, немалую долю заслуги я уделю и Демокриту, который первый высказал это положение относительно упомянутых фигур, хотя и без доказательства. И нам довелось найти публикуемые теперь теоремы тем же самым методом, как и предыдущие; поэтому я и решил написать об этом методе и обнародовать его, с одной стороны, для того, чтобы не оставались пустым звуком прежние мои упоминания о нем, а с другой — поскольку я убежден, что он может принести математике немалую пользу; я предполагаю, что некоторые современные нам или будущие математики смогут при помощи указанного метода найти и другие теоремы, которые нам еще не приходили в голову»[296].
Непосредственное отношение к теоретической механике имеет трактат Архимеда «О равновесии плоских фигур» (Περί επιπέδων ισορροπιών). Он состоит из двух частей. В первой части Архимед дает строго аксиоматический вывод закона равновесия рычага и определяет центры тяжести параллелограмма, треугольника и трапеции. Во второй части вычисляются центры тяжести параболического сегмента и параболической трапеции.
По поводу времени написания этого сочинения существуют различные мнения. Английский историк математики Т. Л. Хит, а у нас С. Я. Лурье считали, что первая часть трактата «О равновесии плоских фигур» относится к раннему периоду творчества Архимеда, когда он был занят проблемами центра тяжести и равновесия рычага[297]. Вторую часть трактата Хит относит к более позднему времени, когда уже была написана «Квадратура параболы». И. Н. Веселовский выражал свое несогласие с таким разделением трактата на два различных по времени создания сочинения и приводил по этому поводу ряд соображений, которые нам представляются достаточно вескими[298]. Вкратце эти соображения сводятся к следующему.
Как первая, так и вторая часть трактата резко отличаются по своему стилю от работ Архимеда раннего периода. Так, например, в «Квадратуре параболы» еще очень заметна механическая основа, на которой строится первое доказательство: говорится о рычагах, о подвешенных грузах, о равновесии, которое предполагается практически осуществимым, т. е. устойчивым, и т. д. Ничего этого нет в трактате «О равновесии плоских фигур». Он начинается с формулировки семи аксиом, из которых с помощью чистой дедукции выводится закон рычага. Вот эти аксиомы:
«1. Равные тяжести на равных длинах уравновешиваются, на неравных же длинах не уравновешиваются, но перевешивают тяжести па большей длине.
2. Если при равновесии тяжестей на каких-нибудь длинах к одной из тяжестей будет что-нибудь прибавлено, то они не будут уравновешиваться, но перевесит та тяжесть, к которой было прибавлено.
3. Точно так же если от одной из тяжестей будет отнято что-нибудь, то они не будут уравновешиваться, но перевесит та тяжесть, от которой не было отнято.
4. При совмещении друг с другом равных и подобных плоских фигур совместятся друг с другом и их центры тяжести.
5. У неравных же, но подобных фигур центры тяжести будут подобно же расположены. (Под подобным расположением точек в подобных фигурах мы подразумеваем такое, в котором прямые, проведенные из этих точек к вершинам равных углов, образуют равные углы с соответственными сторонами.)
6. Если величины уравновешиваются на каких-нибудь длинах, то на тех же самых длинах будут уравновешиваться и равные им.
7. Во всякой фигуре, периметр которой везде выпукл в одну и ту же сторону, центр тяжести должен находиться внутри фигуры»[299].
Мы видим, что эти аксиомы отчетливо распадаются на две группы. К первой группе относятся первая, вторая, третья и шестая аксиомы, лежащие в основе теории рычага. В аксиомах четвертой, пятой и седьмой говорится о центрах тяжести плоских фигур, причем само понятие центра тяжести считается хорошо известным. Связь между обеими группами аксиом становится очевидной в ходе последующих доказательств, причем эти доказательства имеют крайне формальный характер: место физического рычага занимают простые геометрические линии, и само равновесие становится каким-то неопределенным, отвлеченно-математическим; теоремы доказываются большей частью от противного, причем это относится в равной мере как к первой, так и ко второй части трактата. Материал первой книги подготавливает все необходимое для доказательства теорем второй книги, причем между предложениями обеих частей имеется тесная логическая связь.
Таким образом, следует принять тезис о достаточно позднем времени написания трактата «О равновесии плоских фигур». В этом сочинении Архимед решил придать строгую математическую форму результатам, которые были получены им значительно раньше.
Заметим, что Э. Мах, относившийся с недоверием ко всякому применению формально-дедуктивных методов к механике, полагал, что логическая строгость архимедовской теории рычага является мнимой. По его мнению, теоремы шестая и седьмая трактата, гласящие, что как соизмеримые, так и несоизмеримые величины уравновешиваются на длинах, обратно пропорциональных тяжестям, не могут быть выведены из приведенных выше семи аксиом без привлечения опытных данных. Вот что он писал по этому поводу в «Механике».
«Хотя результаты, полученные Архимедом и последующими исследователями, с первого взгляда и кажутся чрезвычайно поразительными, тем не менее у нас возникают при более точном рассмотрении сомнения в правильности их. Из одного допущения равновесия равных грузов на равных расстояниях выводится обратная пропорциональность между грузом и плечом рычага! Как же это возможно?. Раз уже одну голую зависимость равновесия от груза и расстояния вообще невозможно было измыслить из себя, а необходимо было заимствовать из опыта, то тем менее нам удастся найти спекулятивным путем форму этой зависимости, пропорциональность»[300].
Точка зрения Маха вызвала оживленную дискуссию среди историков науки. Мы не имеем возможности останавливаться на этой дискуссии, так как это заняло бы слишком много места; ограничимся ссылкой на И. Н. Веселовского, который утверждал, что доказательства Архимеда оказываются совершенно безупречными, если разобраться в смысле шестой аксиомы, которая на первый взгляд кажется чистой тавтологией (именно так, по-видимому, воспринимал ее Мах). Этот смысл состоит в следующем: «Действие груза, приложенного в данной точке, определяется только его величиной, т. е. совершенно не зависит от его формы или ориентации».
Понимаемая таким образом шестая аксиома позволяет заменить несколько масс одной, помещенной в центре их тяжести; в этом смысле она и употребляется Архимедом при доказательстве теорем шестой и седьмой первой книги (а также теоремы первой второй книги). Доказательство закона рычага приобретает теперь вполне строгую логическую форму[301].
Так или иначе, трактат Архимеда «О равновесии плоских фигур» считался на протяжении ряда веков образцом математической строгости. Наряду с письмами к Досифею он тщательнейшим образом изучался математиками XVII в., среди которых, помимо перечисленных выше ученых, были такие гиганты, как Галилей и Гюйгенс.
Особое положение в научном наследии Архимеда занимает трактат «О плавающих телах» (Περί των όχουμένων), состоящий из двух книг. Это, по-видимому, одно из последних, если не самое последнее сочинение великого сиракузца. В пользу этого предположения говорит явная незаконченность конца второй книги. Тем не менее этот трактат можно считать едва ли не высшим достижением Архимеда, свидетельствующим о том, что до конца своих дней (прерванных, как известно, злосчастным ударом меча римского воина) Архимед находился в расцвете своих творческих потенций.
Интересна позднейшая история этого трактата. В XIII столетии один из немногих в то время знатоков греческого языка — Вильгельм Мербеке (ум. 1282 г.) выполнил по просьбе Фомы Аквинского перевод ряда сочинений Архимеда (а также других греческих ученых) на латынь. Среди переведенных сочинений был и трактат «О плавающих телах». Вскоре после этого греческая рукопись трактата была каким-то образом утеряна. В течение нескольких столетий трактат оставался известен лишь в переводе Меркебе. И лишь в начале XX в. Хейберг обнаружил около трех четвертей оригинального текста трактата на том самом палимпсесте, на котором был записан и «Эфод».
Первая часть трактата «О плавающих телах» начинается с предположения, которое можно было бы назвать физической аксиомой, если бы оно не заключало в себе целую физическую концепцию:
«Предположим, что жидкость имеет такую природу, что из ее частиц, расположенных на одинаковом уровне и прилежащих друг к другу, менее сдавленные выталкиваются более сдавленными и что каждая из ее частиц сдавливается жидкостью, находящейся над ней по отвесу, если только жидкость не заключена в каком-либо сосуде и не сдавливается еще чем-нибудь другим»[302].
Рассмотрение жидкости как среды, которую можно рассматривать как совокупность бесчисленного множества прилегающих друг к другу частиц, стало в дальнейшем общепринятым приемом физики сплошных сред и не имеет никакого отношения к анатомистике. У Архимеда мы встречаемся с этим приемом впервые.
Предположение, которое мы процитировали, используется Архимедом для вывода целого ряда важных теорем. Первые две из них устанавливают следующее свойство жидкости: «Поверхность всякой жидкости, установившейся неподвижно, будет иметь форму шара, центр которого совпадает с центром Земли»[303]. Мы теперь знаем, что это свойство (сформулированное, кстати сказать, еще Аристотелем в трактате «О небе»[304]) имеет приблизительный характер и не соблюдается у жидкостей, заключенных в узкие сосуды. Но для жидкостей, находящихся в больших бассейнах, для озер, морей и океанов, доказанная Архимедом теорема безусловно справедлива.
Отметим, что эта теорема не получила немедленного признания среди ученых того времени, хотя она, казалось бы, была логическим следствием положения о шарообразности Земли. С ней не был согласен даже друг Архимеда Эратосфен — тот самый Эратосфен, который впервые получил точные данных о размерах земного шара. В первой книге «Географии» Страбона мы находим следующее свидетельство: «Разве не смешно теперь видеть, как математик Эратосфен отказывается признать установленный Архимедом в сочинении «О плавающих телах» принцип, что поверхность всякой покоящейся жидкости принимает форму шара, центр которого совпадает с центром Земли, а ведь это принцип, который теперь принимается всяким мало-мальски знающим математику»[305].
Далее в трактате Архимеда следуют пять теорем, которые мы также процитируем дословно: «III. Тела, равнотяжелые с жидкостью, будучи опущены в эту жидкость, погружаются так, что никакая их часть не выступает над поверхностью жидкости и не будет двигаться вниз… <…> IV. Тело, более легкое, чем жидкость, будучи опущено в эту жидкость, не погружается целиком, но некоторая часть его остается над поверхностью жидкости… <…> V. Тело, более легкое, чем жидкость, будучи опущено в эту жидкость, погружается настолько, чтобы объем жидкости, соответствующий погруженной (части тела), имел вес, равный весу всего тела… <…> VI. Тела, более легкие, чем жидкость, опущенные в эту жидкость насильственно, будут выталкиваться вверх с силой, равной тому весу, на который жидкость, имеющая равный объем с телом, будет тяжелее этого тела… <….> VII. Тела, более тяжелые, чем жидкость, опущенные в эту жидкость, будут погружаться, пока не дойдут до самого низа, и в жидкости станут легче на величину веса жидкости в объеме, равном объему погруженного тела…»[306]
Эти теоремы образуют фундамент новой науки, созданной Архимедом и получившей впоследствии наименование гидростатики. Доказав эти теоремы, Архимед навеки обессмертил свое имя, ибо содержащийся в них физический закон известен в настоящее время каждому школьнику как закон Архимеда.
Дальнейшая часть трактата представляет собой приложение закона Архимеда к некоторым частным случаям, В конце первой книги Архимед рассматривает условия равновесия сегмента шара, опущенного в жидкость и имеющего плотность меньшую плотности жидкости (по формулировке Архимеда — «более легкого, чем жидкость»),
Вторая часть трактата начинается со следующей теоремы:
«Если какое-нибудь тело более легкое, чем жидкость, опустить в эту жидкость, то оно по тяжести будет находиться в том же отношении с жидкостью, какое погрузившийся ниже уровня жидкости объем имеет ко всему объему»[307].
Эта теорема является непосредственным следствием закона Архимеда и в настоящее время носит наименование «принципа ареометра»[308]. Вслед за этим Архимед детально рассматривает условия равновесия погруженного в жидкость прямоугольного коноида (под прямоугольным коноидом он понимает сегмент параболоида вращения, отсеченного плоскостью перпендикулярной к оси). При этом Архимед рассматривает различные случаи: когда основание сегмента не касается жидкости, когда оно касается жидкости в одной точке, когда оно целиком погружено в жидкость и т. д. Это рассмотрение в дошедшем до нас тексте оказывается не совсем полным, что и заставляет нас предположить, что трактат «О плавающих телах» не был закончен Архимедом. В приложении к сочинениям Архимеда И. Н. Веселовский показывает, что могло бы стоять в ненаписанной части трактата и дает полную формулировку результатов исследования Архимеда[309].
Мы не можем здесь входить в детали метода, используемого Архимедом при рассмотрении отдельных случаев равновесия плавающего параболоида. Математическая сторона этого метода поражает простотой и изяществом; что же касается его физической основы, то она состоит в следующем. Архимед находит положение равновесия, определяя, будет ли параболоид, отклоненный от этого положения, возвращаться в него или нет. Если будет, то найденное положение соответствует положению устойчивого равновесия. В принципе этот метод лишь в деталях отличается от метода, разработанного во второй половине XIX в. французским математиком Ш. Дюпеном и профессором Московского университета А. Ю. Давыдовым, для которых задача о равновесии плавающих тел имела сугубо практическое значение в связи с теорией устойчивости корабля. Для Архимеда эта задача была чисто теоретической и о ее возможных практических приложениях он, по-видимому, не задумывался. Это замечание относится и к другим результатам, которые Архимед получал в своих математических работах. Неслучаен тот факт, что из всех этих результатов Архимед особенно гордился доказанной им теоремой о том, что объем шара равен 2/3 объема описанного около него цилиндра, вследствие чего на его могиле был поставлен надгробный памятник, изображавший шар, вписанный в цилиндр. Эти открытия представляли, с точки зрения Архимеда, самостоятельную ценность, ни в какой мере не зависевшую от их возможной практической полезности. В этом отношении Архимед целиком находился в плену традиций античной науки, утверждавшей примат теоретического умозрения над любого рода практической деятельностью. То, что он был при этом гениальным инженером, ни в какой мере не меняло его общетеоретических установок.
А между тем предпринятое Архимедом исследование закономерностей, которым подчиняются тела, погруженные в жидкости, было, по-видимому, стимулировано практическими задачами. Утверждая это, мы имеем в виду отнюдь не общеизвестную легенду, о которой сообщается в трактате Витрувия. Метод, который, согласно Витрувию, был применен Архимедом для определения примеси серебра в золотом венце царя Гиерона, крайне неточен и не имеет никакого отношения к закону Архимеда о плавающих телах[310]. В более поздних источниках излагается другой метод, основанный на законе Архимеда и бесспорно более точный[311]. Но какова достоверность этих сообщений, и не представляли ли они позднейшую реконструкцию опыта Архимеда? Мы не знаем этого.
Более важным в данном контексте представляется сообщение историка Полибия[312] (повторенное затем Титом Ливией и Плутархом), по которому во время обороны Сиракуз Архимед подымал и опрокидывал римские корабли с помощью специально сконструированной железной «лапы». Если это сообщение соответствовало действительности, то при расчетах, которые надо было произвести для построения такого механизма, должен был учитываться закон Архимеда.
Что касается прочих инженерных изобретений Архимеда, то к ним, помимо уже упоминавшейся выше «улитки» для полива полей и не считая описанного самим Архимедом в «Псаммите» прибора для определения видимого диаметра Солнца (этот прибор можно считать первой известной нам из литературы научно-измерительной установкой), относятся следующие, упоминаемые древними авторами, устройства: 1. «Небесная сфера», или планетарий, описанный позднее Цицероном. После гибели Архимеда он был вывезен римским полководцем Марцеллом в Рим, где в течение нескольких столетий служил предметом всеобщего восхищения. Последнее упоминание об этом планетарии содержится в эпиграмме римского поэта Клавдиана (ок. 400 г.), из которой мы, в частности, узнаем, что этот планетарий приводился в движение каким-то пневматическим механизмом[313]. Наличие такого механизма существенно отличало планетарий Архимеда от более примитивных «небесных сфер», создававшихся греческими астрономами, начиная с Эвдокса, для моделирования движений небесных тел.
2. Гидравлический орган, упоминаемый Тертуллианом в качестве одного из чудес техники[314]. Надо, однако, отметить, что более древние источники называют в качестве изобретателя такого органа александрийского инженера Ктесибия[315], о котором у нас речь пойдет ниже.
Архимед, по-видимому, лишь усовершенствовал орган, изобретенный Ктесибием.
3. Многочисленные военные орудия, нашедшие применение при обороне Сиракуз. Особый интерес (и, скажем прямо, наибольшие сомнения) среди них вызывает уже упоминавшаяся нами «лапа», захватывавшая и переворачивавшая римские суда. Остальные орудия, по-видимому, отличались от аналогичных устройств, применявшихся в войнах того времени, лишь меткостью попадания, которую подчеркивают все историки, писавшие об осаде Сиракуз римлянами.
Из всего изложенного следует, что в целом технические достижения Архимеда лежали в русле развития античной техники того времени. Принципиальное отличие Архимеда от современных ему инженеров типа Ктесибия и Филона состояло в том, что, будучи величайшим ученым эпохи эллинизма, он сумел осмыслить действие ряда элементарных механизмов, с которыми человек издавна имел дело в своей повседневной практике, и положить тем самым начало развитию теоретической механики — науки, которую древность до этого не знала, но которая стала решающим фактором прогресса материального производства в новое время.
Пневматики
Примерно в ту же эпоху в Александрии возникла новая своеобразная отрасль античной техники, которая, может быть, не оказала существенного влияния на развитие производства или военного дела, однако подготовила почву для будущего развития физики газов и жидкостей. Эта отрасль, получившая наименование пневматики (от греческого πνεΰμα — ветер, пар, дух, дыхание), была основана на использовании сжатого воздуха в ряде механических устройств.
О том, что воздух есть материальное тело, обладающее упругостью, которая увеличивается при его сжатии, люди знали уже давно. Об этом свидетельствовали практика работы с кузнечными мехами, свойства надутых пузырей и т. д. Способность воздуха поддерживать во взвешенном состоянии плоские тела учитывалась в космологических построениях Анаксимена, Анаксагора и др. Тот же Анаксагор и Эмпедокл производили опыты с надутыми мехами и клепсидрами[316]. Однако систематическое использование свойств сжатого воздуха для создания ряда механизмов было впервые предпринято Ктесибием — александрийским инженером-изобретателем III в. до н. э.
О жизни и деятельности Ктесибия имеются противоречивые сведения. Эти противоречия побудили некоторых ученых выдвинуть гипотезу о том, что существовали два Ктесибия, занимавшихся пневматическими устройствами, причем один из них жил в начале III в. до н. э., а второй во второй половине II в. до н. э. Датский ученый А. Г. Драхман показал несостоятельность этой гипотезы[317] придя к выводу, что был всего лишь один Ктесибий, живший примерно в 300–230 гг. до н. э. Он был сыном александрийского парикмахера и в начале своей карьеры также, по-видимому, работал парикмахером. Вскоре, однако, проявился его замечательный талант инженера-самоучки, побудивший его посвятить свою жизнь созданию различных механических устройств.
О своих изобретениях Ктесибий написал книгу, которая была хорошо известна в древности, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на нее у Витрувия, Филона, Герона, Плиния Старшего, Афинея, Прокла и других авторов. На основании этих ссылок мы можем составить довольно отчетливое представление о технических достижениях Ктесибия. Наиболее полный их перечень сообщается у Витрувия[318].
Это, прежде всего, двухцилиндровый насос, служивший для подъема воды. Основной частью насоса были два вертикально поставленных бронзовых цилиндра, внутри которых двигались поршни. При подъеме поршня в основании соответствующего цилиндра открывался клапан, через который в цилиндр всасывалась вода. Когда поршень шел вниз, клапан закрывался и вода выталкивалась через отверстие в нижней части стенки цилиндра (также снабженное клапаном), поднимаясь затем по трубке в резервуар, который надлежало наполнить. Поршень соединялся штоком с рычагом, приводившимся в движение рукой, подобно тому как это делается и теперь в водяных колонках. Принцип действия этого насоса, подробно описанного Витрувием и Героном, абсолютно ясен; менее ясна технология изготовления его деталей, знание которой было бы крайне существенно для оценки технического мастерства античных механиков. Бесспорно, однако, что создание такого насоса (первого в античности механического устройства, использовавшего цилиндр с поршнем) было колоссальным шагом вперед в развитии техники.
Нам неизвестно, были ли в этом деле у Ктесибия какие-либо предшественники. Интересно указание Филона, что насос Ктесибия представлял собой практическое применение принципа, сформулированного Аристотелем: «вдыхание есть притягивание, выдыхание — толкание»[319]. Так или иначе, созданию насоса, несомненно, предшествовали длительные размышления Ктесибия и многочисленные пробные опыты. В дальнейшем подобные насосы нашли широкое применение, в частности, в противопожарном деле. Известно письмо Плиния Младшего к императору Траяну, в котором он жалуется, что во время огромного пожара в Никомедии (главном городе провинции Вифиния, где Плиний находился в качестве наместника) в городе не оказалось ни одного насоса[320].
Другим прославившим Ктесибия (и вполне оригинальным) изобретением был водяной орган. Как пишет Витрувий, «благодаря наблюдению, что от воздуха и выдавливания его струи получаются звуки и голоса, Ктесибий первый пришел к устройству на этом основании водяных органов». Действие такого органа было основано на том, что воздух, поступавший в звучащие трубки (доступ в которые регулировался клапанами, соединенными с клавиатурой), предварительно сжимался с помощью водяного насоса. Детали устройства водяного органа во многом остаются неясными, так как дошедшие до нас описания Филона и Герона, по-видимому, неполны и порой маловразумительны. По этому поводу в конце XIX в. происходила дискуссия, приведшая тем не менее в выводу, что создание такого органа в условиях античной техники было вполне реальным делом. Надо иметь в виду, что более простые духовые инструменты — флейты, сиринги — были в древности широко распространены; с другой стороны, ко времени Ктесибия в Египте уже появились музыкальные автоматы, использовавшиеся в храмах во время богослужений. При всем том водяной орган Ктесибия был, безусловно, замечательным достижением. Жена Ктесибия Таис (которую не следует путать со знаменитой гетерой, носившей такое же имя) научилась играть на этом инструменте, явившись, таким образом, первым в истории человечества органистом.
Заметим, что впоследствии водяные органы были вытеснены аналогичными инструментами, в которых воздух сжимался и приводился в движение мехами; это обстоятельство, однако, нисколько не умаляет заслуги Ктесибия как первооткрывателя органа.
В источниках говорится также о сконструированных Ктесибием водяных часах. Особенность этих часов состояла в том, что к поплавку, находившемуся на уровне воды, была прикреплена фигурка человечка, указывавшего время на вращающейся цилиндрической шкале. Эта не столь уже хитрая выдумка очень забавляла современников Ктесибия.
Витрувий пишет, что «показывают еще многие и разнообразные приборы, приписываемые Ктесибию, действие которых взято им у природы и которые работают посредством давления на воду и сжимания воздуха; сюда относятся: поющие дрозды, акробаты, поющие и движущиеся фигурки и прочие забавы, услаждающие чувства зрения и слуха». Не считая нужным детально описывать все эти игрушки, «служащие не необходимости, а забавам и прихотям», Витрувий указывает, что «любопытные до его [Ктесибия] хитростей могут прочесть о них в сочинениях самого Ктесибия»[321].
В заключение добавим, что военная техника также находилась в сфере внимания Ктесибия, хотя в этой области его изобретения оказались не очень эффективными. Именно он предложил конструкции метательных машин, описанных Филоном под наименованием «халкотон» и «аэротон», о которых мы рассказывали выше. Ясно, однако, что и тут его изобретательская мысль стремилась нащупывать новые пути и способы решения.
Ктесибий не был «первым физиком-экспериментатором», как его иногда называют, ибо он не ставил опытов для решения физических задач. Но он был несомненно гениальным механиком-самоучкой, которого можно поставить в один ряд с такими изобретателями нового времени, как Джеймс Уатт или Эдисон.
О жизни Филона Византийского — второго значительного представителя александрийской школы механиков — мы знаем еще меньше, чем о Ктесибий. Он именуется Византийским, потому что в большинстве источников в качестве его родины указывается Византии, и только Афиней называет его афинянином, вероятно спутав его с другим Филоном — известным афинским архитектором конца IV в. до н. э. Филон-механик, о котором идет речь в этой главе, жил во второй половине III в. до н. э. (исследователи относят его ακμή примерно к 225 г. до н. э.). В Египет он прибыл, вероятно, уже после смерти Ктесибия, с тем чтобы познакомиться с достижениями александрийских механиков. Позднее он обосновывается на о-ве Родос, где пишет свою знаменитую энциклопедию (Μηχανική σύνταξις), в которой был обобщен опыт передовой техники того времени. Из девяти книг этого объемистого труда по-гречески до нас дошли — и то не полностью— только три. Это — книга о метательных орудиях (Βηλοποίικα), а также части книг об осаде крепостей (Πολιορκητικά) и технических проблемах обороны (Παρασκευαστικά). На арабском языке сохранился перевод «Пневматики» (Πνευματικά) — трактата, посвященного свойствам воздуха и воды и многочисленным устройствам и механизмам, основанным на использовании этих свойств. Мы располагаем также латинскими фрагментами текста «Пневматики», однако их изучение показывает, что они, по всей видимости, представляют собой вторичный перевод с арабского. Оставляя в стороне книги, связанные с военной проблематикой, которой Филон уделил очень много места в своей энциклопедии, остановимся более подробно на содержании «Пневматики».
Первые главы этой книги образуют своего рода теоретическое введение. Со ссылкой на опыты с узкогорлым сосудом, погруженным в воду, Филон показывает, что воздух есть материальное тело, заполняющее все это пространство, которое нам кажется пустым. Где находится воздух, туда не может войти вода. С другой стороны, и заполняющая сосуд, не сможет вылиться, пока в него не начал входить воздух. Филон коротко касается учения «некоторых мудрецов», утверждавших, что воздух состоит из мельчайших, не видимых глазом частиц. Особо оговаривается мнение, согласно которому пустота присуща самим частицам воздуха и другим «мягким» (сжимаемым?) веществам. Видимо, речь здесь идет о Стратоне, ученике Феофраста, физическое учение которого представляло собой своеобразный синтез аристотелевской физики и демокритовской атомистики. Филон не формулирует своего отношения к этим доктринам, заявляя, что об этом он достаточно высказался в своей книге об автоматах (которая до нас, к сожалению, не дошла).
Затем Филон переходит к рассмотрению явления, имеющего фундаментальное значение для дальнейшего изложения. Речь идет о том, что жидкость может подниматься вверх, если находящийся над ней воздух будет каким-нибудь образом удален. В качестве примера рассматривается широко известный способ дегустации вина: в вино опускается конец трубки, а через другой конец ртом из трубки высасывается воздух: вслед за воздухом по трубке поднимется и вино. На первый взгляд это кажется противоестественным: ведь вино, как и любая другая тяжелая жидкость, имеют тенденцию падать вниз. Филон объясняет это явление тем, что любая влажная субстанция, в том числе вода и вино, обладает способностью как бы приклеиваться к воздуху (или другому, находящемуся над ней элементу). Поднятие уровня, жидкости в данном случае трактуется таким образом, что удаляющийся воздух как бы тянет за собой находящуюся под ним жидкость. О существовании атмосферного давления, о котором, кстати сказать, смутно догадывался еще Эмпедокл, Филон не имеет ни малейшего представления.
Таковы теоретические представления Филона в области пневматики. Они не подымались над общим уровнем того времени и были, как мы видим, довольно ограниченными. Но они были достаточны для интерпретации (верной или неверной — это другой вопрос) действия тех приборов и устройств, которые описываются в последующих главах «Пневматики». Что это за приборы?
Это прежде всего всевозможные сифоны и прочие устройства, действие которых основано на принципе сифона. Это, например, открытый кувшин с постоянным уровнем воды, лампа с постоянным уровнем масла, сосуд с четырьмя или шестью жидкостями, которые можно выливать отдельно, по желанию. Далее идут еще более сложные и диковинные аппараты, которым посвящена большая часть книги.
Имеется мнение, что ряд глав был добавлен в книгу Филона арабским переводчиком — речь идет, в частности, о некоторых главах, которые отсутствуют в латинском тексте «Пневматики». Но этот вопрос мы оставим в стороне; да он и не столь существен, ибо в принципе все описанные в книге приборы могли быть созданы в эпоху Филона. Книга кончается описанием водяных колес и различного рода насосов.
Когда Филон пишет о том или ином конкретном приборе, его изложение отличается ясностью и последовательностью. О стиле его книг можно судить по греческим цитатам, которые в большом числе приводятся в сочинениях Герона. Текст «Пневматики» (как и других книг Филона) сопровождался иллюстрациями; в своем оригинальном виде эти иллюстрации до нас, разумеется не дошли, но мы можем составить о них представление по рисункам, сохранившимся в арабской рукописи. Математика у Филона полностью отсутствует; объясняя действие какого-либо устройства, он рассчитывает прежде всего на здравый смысл и интуицию читателя.
Читая «Пневматику» Филона, видишь, что эта книга отнюдь не литературная компиляция, а вполне оригинальное сочинение, в основу которого положен собственный богатый опыт автора. С точки зрения истории науки большое значение имеет то обстоятельство, что Филон все время экспериментирует со своими приборами. Порой его эксперименты имеют целью просто развлечь или позабавить читателя, но у нас не возникает сомнения в то, что это реальные эксперименты, на самом деле производившиеся автором. Конечно, эксперимент Филона это не эксперимент в смысле физики нового времени, ибо он не ставит своей целью подтверждение или опровержение какой-либо теоретической концепции; его задача более скромная: продемонстрировать возможности, заложенные в устройствах, действие которых основано на элементарных свойствах воды и воздуха.
Герон
Из механиков поздней античности наибольшей известностью в истории науки пользуется Герон Александрийский — вероятно потому, что большинство его сочинений дошло до нашего времени либо в оригинале, либо в арабских переводах (последнее обстоятельство указывает на большую популярность Герона на средневековом Востоке). И тем не менее сам Герон представляет собой фигуру в высшей степени загадочную. Никакими данными биографического характера о нем мы не располагаем, и долгое время ученые спорили, к какому веку следует отнести деятельность этого человека. С одной стороны, в его трудах приводятся цитаты из Архимеда и обнаруживается знакомство с псевдоаристотелевскими «Механическими проблемами» и опытами Филона; по этим причинам трактаты Герона не могли быть написаны ранее самого конца III в. С другой стороны, анализ языка и стиля этих трактатов указывает на их сравнительно позднее происхождение. В настоящее время «проблему Герона» можно считать практически решенной благодаря исследованиям О. Нейгебауэра, внимание которого было привлечено к одному месту в героновском трактате «О диоптре», где автор рассказывает о произведенном им измерении расстояния между Римом и Александрией. Широты обоих этих мест были уже давно хорошо известны, а разницу долгот между ними Герои определил путем одновременного наблюдения в этих городах полного лунного затмения. Вопрос — сводился, следовательно, к определению даты этого затмения. Нейгебауэр показал, что затмение, о котором писал Герои, имело место в 62 г. н. э., откуда следует, что трактат «О диоптре» был написан не раньше этого времени. Следовательно, время деятельности Герона надо отнести ко второй половине I в. н. э.[322] В настоящее время большинство ученых присоединились к мнению Нейгебауэра. В отличие от Ктесибия и Филона Герон был не только инженером, но и выдающимся математиком, о чем мы уже писали во второй главе. Сохранился арабский перевод его «Метрики», известны также комментарии Герона к первым восьми книгам «Элементов» Эвклида. Но центр тяжести интересов Герона лежал, по-видимому, в области механики. Мы знаем следующие трактаты Герона, относящиеся к различным разделам этой науки: «Механика» (дошедшая до нас в арабском переводе сирийца Косты ибн Луки, жившего в конце IX — начале X в. н. э.; рукопись этого трактата была обнаружена в Константинополе в 1896 г.). «Пневматика» (Πνευματική), примыкающая по своей тематике к аналогичным работам Ктесибия и Филона. «Об автоматах» (Περί αυτομάτων); в этом сочинении излагаются различные механические конструкции, приводимые в движение водой или воздухом. «Белопойика» (Βελοποιϊκά), посвященная описаниям различных метательных устройств, применяемых в военном деле. Помимо этих работ, мы назовем уже упомянутый трактат «О диоптре», а также «Катоптрику», о которой речь пойдет и конце главы в связи с исследованиями александрийских ученых в области оптики. В настоящее время мы располагаем пятитомным научным собранием сочинений Герона, в котором арабские и греческие тексты сопровождаются переводами на немецкий язык[323].
Здесь мы вкратце рассмотрим два сочинения Герона, представляющие наибольший интерес с точки зрения истории механики, Это «Механика» (точнее, «О поднимании тяжелых предметов») и «Пневматика».
«Механика» состоит из трех книг. Из введения, предпосланного этим книгам, следует, что «Механика» была написана в качестве учебного пособия для слушателей инженерной школы. Первая книга начинается с описания механизмов, состоящих из сцепленных между собой зубчатых колес. Далее рассматривается сложение движений по правилу параллелограмма, даются методы построения подобных фигур (в частности, графически решается задача об удвоении куба), описываются винтовые нарезки. При рассмотрении этих вопросов чувствуется сильное влияние псевдоаристотелевских «Механических проблем». Как и там, утверждается, что с помощью механических приборов тяжелые грузы могут передвигаться с помощью небольших сил. Причем в случае движения по горизонтальной плоскости единственным препятствием к передвижению тяжелого предмета является сила трения; если бы ее не было, предмет мог бы двигаться под воздействием сколь угодно малой силы. Наоборот, при поднятии груза вверх (например, с помощью веревки, перекинутой через блок) нужно уравновесить этот груз равным ему другим грузом, после чего сколь угодно малая нагрузка, добавляемая ко второму грузу, приведет в движение первый груз.
Далее рассматриваются понятия центра тяжести, момента силы и принцип действия рычага. Здесь Герон следует Архимеду и приводит большие выдержки из не дошедших до нас архимедовских сочинений — «Книги опор» и «О рычагах».
Вторая книга «Механики» Герона посвящена описанию действия пяти машин: ворота, рычага, полиспаста, клина и винта. Следуя «Механическим проблемам» псевдо-Аристотеля, Герон сводит действие рычага к рассмотрению дуг, описываемых его длинным и коротким плечом. На этом же принципе основано и действие ворота. Говоря об этой машине, Герон формулирует то, что древние назвали «золотым правилом механики»; чем слабее сила, поднимающая груз, том больше времени требуется для его поднятия. «Отношение силы к силе обратно отношению времени ко времени». С помощью этого правила Герон объясняет также действие трех остальных машин.
В конце второй книги Герон разбирает задачи на определение центра тяжести, уже решенные ранее Архимедом.
Третья книга «Механики» Герона дает описание ряда машин, употреблявшихся в его время, в том числе различного рода прессов. С точки зрения развития теоретической механики эта книга не представляет значительного интереса.
«Пневматика» Герона состоит из двух книг, которым предпослано введение. Это введение развивает примерно те же идеи, что и введение в «Пневматику» Филона. Следуя Филону (а в конечном счете, по-видимому, Стратону), Герон принимает, что воздух есть тело, обладающее упругостью и состоящее из мелких частиц, окруженных пустотой. Эти зазоры невелики, но они объясняют способность воздуха сжиматься и расширяться. Герон подчеркивает, что сжатый воздух равномерно давит на стенки сосуда, в котором он находится. Однако никаких количественных закономерностей он при этом не формулирует (и это несмотря на то, что он, как мы видели, был неплохим математиком). Что касается пустоты, то в природе, по мнению Герона, она может существовать только в виде упомянутых небольших зазоров между частицами. Значительные пустые объемы могут быть созданы лишь с помощью искусства.
После этого Герон переходит к рассмотрению ряда приборов, многие из которых уже были описаны Ктесибием и Филоном. Несомненно, что при составлении своего труда, Герон широко пользовался достижениями своих предшественников, что, однако, не означает, что он просто переписывал чужие работы, не вникая в их содержание, как писала, в частности, И. Хаммер-Иенсен[324]. Разумеется, Герон не был великим ученым, подобно Архимеду, но он находился на уровне современной ему техники. В его «Пневматике» имеются описания устройств, которых мы у других античных авторов не находим. К ним, в частности, относится «Эолипил» — прообраз паровой турбины. О возможности практического использования этого прибора
Герои, по-видимому, не догадывался: для него это была просто забавная игрушка — не более того. И это объясняется не только тем, что античность не нуждалась в машинах, заменяющих физический труд человека. Как писал Я. Г. Дорфман, «для оценки практического значения физических явлений, наблюдаемых первоначально в малых масштабах, требуется смелое воображение, способность экстраполировать к очень большим масштабам. Но история физики неоднократно обнаруживала отсутствие этой способности у отдельных ученых»[325].
Оптика
В заключение следует немного сказать об оптике — разделе науки, который уже в древности с самого начала оказался (прямо или косвенно) связан с практическими нуждами и в разработке которого приняли участием все те же ученые — Эвклид, Архимед, Герон и Птолемей. Во избежание недоразумений надо оговориться, что греки придавали термину «оптика» более узкое значение, чем мы: для них это была наука о природе света и зрения, т. е. то, что мы теперь называем физической и физиологической оптикой. Так вот, в отношении природы света греческая наука осталась на уровне натурфилософских спекуляций досократиков и Аристотеля, если оставить в стороне догадки стоиков о роли пневмы в распространении света, в каком-то смысле предвосхитившие будущие волновые теории света. То, чем занимались александрийские математики от Эвклида до Птолемея, относилось к области геометрической оптики или, если пользоваться терминологией греков, к катоптрике (науке об отражении лучей от зеркальных поверхностей) и к скенографии (учению о перспективе). Вопроса о природе света они не ставили, формально придерживаясь старых пифагорейских представлений о зрительных лучах, прямолинейно распространяющихся из глаза и как бы ощупывающих видимый предмет. Эти представления были достаточны для вывода основных положений геометрической оптики и теории перспективы.
Автором первых греческих работ по оптике был Эвклид. До нас дошла его «Оптика», являющаяся, по сути дела, трактатом по теории перспективы. Законы перспективы выводятся им из четырнадцати исходных положений, установленных на основе оптических наблюдений. На закон отражения Эвклид ссылается, как на нечто уже известное: он говорит, что этот закон доказывается в его катоптрике.
«Катоптрика» Эвклида не сохранилась; приписывавшийся этому автору текст под таким заглавием был, по-видимому, позднейшей компиляцией. Надо думать, что уже в древности это сочинение было оттеснено на второй план более объемистой «Катоптрикой» Архимеда (теперь также утерянной), содержавшей строгое изложение всех достижений греческой геометрической оптики. Сам Архимед был не только теоретиком оптики, но и мастером оптических наблюдений, о чем свидетельствует описанная им в «Псаммите» методика видимого диаметра Солнца. Эта методика свидетельствует о большом экспериментальном мастерстве Архимеда (любопытно, что в своих расчетах он даже учитывает размеры человеческого зрачка). Полученное им значение определяется верхним и нижним пределами (в современных обозначениях 32'55" и 27'), причем верхний предел оказывается очень близким к истинному значению.
В эпоху поздней античности оптическими исследованиями занимались и Герон и Птолемей. Трактат Герона «Катоптрика», ранее принимавшийся за сочинение Птолемея, содержит ряд новых моментов по сравнению с одноименными работами Эвклида и Архимеда. В этом трактате Герон обосновывает прямолинейность световых лучей бесконечно большой скоростью их распространения. Далее, он приводит доказательство закона отражения, основанное на предположении, что путь, проходимый светом, должен быть наименьшим из всех возможных. Это — частный случай принципа, обычно связываемого с именем Ферма (позднее, в VI в. н. э., Олимпиодор будет обосновывать этот принцип путем следующего рассуждения: природа не допускает никаких излишеств, а это имело бы место, если бы для прохождения света она выбирала не самый короткий путь). Вслед за законом отражения Герон рассматривает различные типы зеркал; особое внимание он уделяет цилиндрическим зеркалам и вызываемым ими искажениям изображений. В заключение в трактате приводятся примеры применения зеркал, в том числе для театральных представлений.
С точки зрения развития измерительной техники интересен другой трактат Герона — «О диоптре». Диоптрой Герон назвал универсальный визирный инструмент, сочетавший функции позднейших теодолита и секстанта. Наводка диоптры осуществлялась путем вращения вокруг двух осей — вертикальной и горизонтальной; для более точной установки служил микрометрический винт, впервые описанный именно в этом сочинении.
Явление преломления еще не рассматривалось Героном, хотя было известно грекам еще с давних времен. Систематическое изучение этого явления впервые было проведено Птолемеем. В своей «Оптике» Птолемей описывает опыт по измерению углов преломления света при переходе лучей из одной прозрачной среды в другую и приводит полученные им значения, которые для того времени можно считать весьма точными. Птолемей обнаружил также явление полного внутреннего отражения. Однако нет никаких намеков на то, что он пытался как-либо сформулировать закон преломления.
В вопросах отражения света и природы зрения Птолемей не пошел дальше своих предшественников. Его оптика все еще была построена на гипотезе зрительных лучей, испускаемых глазом! Пересмотр этой гипотезы и дальнейшие существенные шаги в области изучения оптических явлений были сделаны средневековыми арабскими учеными, и прежде всего Альгазоном (Ибн-аль-Хайсамом, 965-1038/39 гг.).
Глава седьмая Римская наука
Предварительные замечания
Прежде всего требует уточнения вопрос: что такое римская наука и существовала ли она вообще? Разумеется, под римской наукой можно понимать всю ту науку, которая развивалась, процветала или приходила в упадок на территории Римского государства, пока это государство оставалось мировой державой, включавшей в себя и Афины, и Александрию, и Пергам, и все прочие культурные центры тогдашнего Средиземноморья. В этом случае не имеет значения, были ли ученые, которых мы считаем представителями римской науки, греками, сирийцами, иудеями или собственно римлянами; неважно также, на каком- языке они писали свои работы. Определяемая таким образом, римская наука должна рассматриваться в качестве одного из этапов античной науки в целом, а именно в качестве последнего, заключительного ее этапа, поскольку время римского владычества над странами средиземноморского региона хронологически почти совпадает с эпохой Римской империи, распад которой ознаменовал собой крах всей античной цивилизации. При такой трактовке понятие «римская наука» практически эквивалентно понятию «наука эпохи Римской империи». Величайшими представителями этой науки окажутся Птолемей, Гален, Диофант — люди, по своему происхождению отнюдь не бывшие римлянами и писавшие не на латинском, а на греческом языке. Среди корифеев этой поздней античной науки собственно римлян мы не найдем.
И все же в данной главе речь пойдет не об античной науке эпохи Римской империи, а лишь о том вкладе, который внесли в эту науку собственно римляне. Кто же такие эти собственно римляне? Этим наименованием мы обозначаем этнос, образовавшийся на Апеннинском полуострове в результате сплава многочисленных и разнородных племен — латинов, умбров, осков, самнитов и ряда других[326]. В этом котле племен переплавились в конечном счете и этруски — народ, имевший достаточно самобытную культуру и свой особый язык и в VII–V вв. распространявший свою гегемонию на значительную часть Апеннинского полуострова. Объединяющим признаком римского этноса явился латинский язык, поглотивший все прочие наречия италийских племен (включая язык этрусков); поэтому понятия «римская наука» и «римская литература» можно считать эквивалентными понятиям «латиноязычная наука» и «латиноязычная литература».
Уже в республиканскую эпоху выявились характерные черты культуры римского этноса. С одной стороны, эти черты указывали на значительное влияние греческой культуры. Это влияние было обусловлено тем историческим фактом, что начиная с III в. Римская республика находилась в постоянном соприкосновении с греческими городами юга Италии, прежде всего с Тарентом. В конце концов эти города были завоеваны римлянами и вошли в состав римского государства, причем многие аспекты более высокой культуры покоренных греческих городов были восприняты римлянами. Греческое влияние явственно ощущается в самых различных областях римской материальной и духовной культуры. Римская архитектура при сохранении некоторых этруско-италийских черт уже в III в. начинает ориентироваться на греческие образцы. Постепенно происходит эллинизация традиционной римской религии: римляне принимают скульптурные изображения греческих богов, устанавливая соответствие между своими божествами и персонажами олимпийского пантеона (Юпитер — Зевс, Юнона — Гера, Минерва — Афина, Марс— Арес и т. д.). Получают признание и чисто греческие культы Геракла и Асклепия. Первые дошедшие до нас поэтические произведения латиноязычных авторов еще написаны свободным сатурническим стихом, заимствованным из устной народной поэзии, но очень скоро римские поэты заметили, что греческие метрические схемы, основанные на чередовании долгих и коротких гласных, могут быть прекрасно применены и к латинским стихам. Трудно представить себе, что получилось бы из латинской поэзии, если бы она не стала следовать (и притом совершенно сознательно) греческим канонам: это в равной степени относится и к эпосу, и к драме, и к лирике; пожалуй, только лишь сатиру можно назвать л качестве вполне оригинального жанра римской поэзии, которому нельзя подыскать аналога в греческой. литературе. Укажем, наконец, на ораторское искусство и на историографию: замечательные достижения римских ораторов и историков были в большой степени обусловлены глубоким усвоением соответствующих греческих образцов.
Все это так. Но, с другой стороны, будучи усердными учениками греков, римляне отнюдь не стали эпигонами. Даже в тех случаях, где, по видимости, имело место чистое подражательство, римляне сумели вдохнуть новую жизнь в старые греческие формы. Вергилий в «Энеиде» бесспорно подражает Гомеру и нисколько не скрывает этого; в ряде случаев он просто дает латинский перевод отдельных гомеровских строк, сравнений, образов. Но разве мы не признаем, что уже самый тембр латинской речи придал гомеровскому гекзаметру новые своеобразные качества? Катулл переводил на латинский стихи Сапфо, но разве это просто переводы, а не гениальное сотворчество? Разве лирика того же Катулла, оды Горация, «Послания» и «Тристии» Овидия, элегии Тибулла и Проперция не содержат в себе принципиально новых черт, позволивших этим произведениям оказать несравненно большее влияние на поэзию нового времени по сравнению с творениями более удаленных от нас (и не только в хронологическом смысле) греческих лириков VII–V вв.? Мы не будем вдаваться здесь в вопрос — в чем состояли эти черты, но ясно, что дело заключалось не только в большей распространенности латинского языка. Возьмем, например, скульптуру. Разумеется, создания резца таких мастеров, как Поликлет, Скопас, Лисипп, были для римских ваятелей высочайшими образцами, но разве римская портретная скульптура с ее глубоким реализмом и тонкой индивидуализацией лиц не сказала новое и притом очень важное слово в мировом искусстве?
Короче говоря, римская культура отнюдь не была эпигонским ответвлением греческой: ее следует рассматривать в качестве младшей, но, в сущности, равноправной ветви на едином древе общеантичной культуры.
Но вот мы переходим к науке, и тут нас охватывает недоумение, как если бы мы неожиданно оказались перед пустой дырой. Из предыдущих глав мы знаем, что в IV–II вв. греки достигли величайших высот в развитии математики (Эвдокс, Эвклид, Архимед, Аполлоний Пергский), астрономии (Эвдокс, Аристарх, Гиппарх), механики (Архимед); не будет преувеличением сказать, что все три названные дисциплины были созданы именно в это время и именно греками. Казалось бы, что и здесь, начав с подражания своим учителям, римляне могли создать нечто новое и своеобычное. Ничего подобного, однако, не произошло. Римляне просто прошли мимо этих областей культуры (ведь наука тоже является частью культуры), как бы. не заметив их или, вернее, но заинтересовавшись ими. Мы не можем назвать ни одного римлянина, который внес какой-либо, хотя бы самый незначительный вклад в развитие указанных точных наук.
Нечто сходное имело место и в сфере философии. Правда, мы не можем сказать, что римляне были в такой же степени равнодушны к философии, как к математике, но философия, которая их привлекала, была практической философией, философией человеческого поведения, зачастую сводившейся к чистому морализированию (Сенека, Марк Аврелий). Но теоретическая философия, давшая в Греции таких великих мыслителей, как Парменид, Демокрит, Платон, Аристотель, была чужда римлянам. Единственным универсально образованным римским философом был Цицерон, но оригинальным мыслителем мы никак не можем его назвать; основная заслуга Цицерона состояла в том, что он, как прекрасно сказал А. Блок, «собрал жалкие остатки меда с благоуханных цветов великого греческого мышления, с цветов, беспощадно раздавленных грубым колесом римской телеги»[327].
Своеобразным исключением из сказанного может показаться знаменитая поэма Лукреция «О природе вещей». Но не следует ли отнести славу этой поэмы прежде всего на счет ее литературных достоинств? Как поэтическое произведение она действительно стоит выше философских поэм Парменида и Эмпедокла. Ее автор был, бесспорно, вдумчивым и образованным человеком, прекрасно знавшим греческую философию. Но по существу своего содержания поэма Лукреция была всего лишь талантливым изложением воззрений Эпикура, к которым сам Лукреций не добавил ничего принципиально нового. В ходе дальнейшего изложения мы еще будем говорить об этой поэме и покажем, что она была вполне адекватна специфике римского мышления.
Сделаем вывод. Рим дал миру великолепных поэтов, глубоких моралистов, замечательных историков, блестящих ораторов. Но в области теоретического мышления — будь то математика, астрономия или отвлеченные проблемы философской онтологии или гносеологии — мы не найдем ни одного представителя римского этноса. Римляне были бесспорно одаренным народом, но их одаренность была проникнута духом практицизма, чуждого греческому гению.
Этот практицизм позволил им создать сильнейшую в мире армию, образовать прекрасно действующую администрацию для величайшей в мире империи, заложить основы строгой правовой науки. Но в силу того же практицизма они не доказали ни одной математической теоремы, ибо в такого рода деятельности они не усматривали для себя ни малейшей нужды.
Игнорируя теоретическую науку, римляне с большим вниманием и интересом относились к прикладным сферам знания, таким, как сельское хозяйство, военное дело или строительная техника. В каждую из этих чисто практических дисциплин они внесли свой вклад — порой достаточно весомый. Поэтому, говоря о римской науке, мы должны иметь в виду, в частности, эти практические дисциплины. Отказав им в праве называться наукой, мы должны будем признать, что римской науки вообще не существовало. В данном случае мы такого категорического вывода делать не будем и на последующих страницах данной главы попытаемся дать характеристику той литературной продукции римлян, которая имела если не прямое, то хотя бы косвенное отношение к тому, что мы обычно называем наукой.
Катон Старший и его эпоха
Если Фалеса Милетского мы считаем основоположником греческой науки и философии, то в Риме, четырьмя столетиями позже, аналогичную роль сыграл Марк Порции Катон Старший (234–149 гг. до н. э.). Катон Старший был настолько яркой и притом типично римской фигурой, что о нем следует сказать поподробнее.
Происходя из незнатного рода, Катон провел свою молодость частью и занятиях сельским хозяйством, частью же в военных походах, в которых проявил себя бесстрашным воином. Напомним, что это было время второй пунической войны (219–201 гг.), от исхода которой зависело будущее римской республики. Плутарх, написавший биографию Катона, сообщает, что уже в возрасте семнадцати лет он имел множество ран, полученных в боях с карфагенянами[328]. По окончании войны Катон начал быстро продвигаться по административной лестнице, занимая последовательно должности эдила, претора и, наконец, консула (в 195 г.). В период своего консульства Катон сурово подавил восстание в Испании (где римляне утвердились начиная с 206 г.), за что по возвращении в Рим был награжден триумфом. В дальнейшем он принимал активное участие в общественно-политической жизни Рима, многократно выступая в судах, на народных собраниях и в сенате. Будучи сенатором, Катон проявил себя бескомпромиссным защитником древних римских добродетелей и непримиримым врагом всякого иноземного, в особенности же греческого, влияния, в котором он усматривал основную причину порчи нравов римского общества.
Но Катон был не только воином, оратором и выдающимся государственным деятелем. На склоне своих лет он занялся литературным трудом и снискал себе славу основоположника латинской научной прозы. Помимо не дошедших до нас речей (в эпоху Цицерона были известны тексты около 150 речей Катона), Катон написал первое на латинском языке историческое сочинение, носившее название «Начала» (Origines), в котором он изложил имевшиеся у него сведения об основании и ранней истории ряда италийских городов, а кроме того, явился создателем первой римской энциклопедии. Эта энциклопедия была составлена в форме наставлений к сыну (Praecepta ad filium) и состояла из нескольких частей, посвященных сельскому хозяйству, медицине, военному делу, оратор-жому искусству и праву. До нас дошла только часть, относящаяся к сельскому хозяйству (De agri cultura), но она дает достаточное представление о стиле и особенностях прозы Катона, послужившей образцом для многих римских прозаиков последующих поколений[329].
Это — сжатая, лаконичная проза, лишенная каких-либо длиннот, отступлений и рассуждений. Почти каждая фраза содержит прямое предписание, бывшее квинтэссенцией опыта как самого Катона, так, вероятно, и многих других сельских хозяев его эпохи. Лаконизм Катона не лишен известной суровой прелести. Говоря о том, что сельский хозяин должен заботиться прежде всего о хорошей обработке земли, он пишет: «Что значит хорошо возделывать поле? — Хорошо пахать. — Что, во-вторых? — Пахать. — Что, в-третьих? — Унавоживать»[330].
Земледелие, по мнению Катона, наиболее достойное римлянина занятие; во всяком случае, оно предпочтительнее, чем торговля и тем более ростовщичество. «Когда предки хвалили доброго мужа», пишет он, «они хвалили его как хорошего земледельца». «Из земледельцев выходят и храбрые мужи и самые предприимчивые воины, а земледелие есть занятие наиболее благочестивое и устойчивое, людям же, которые ему предаются, всего менее свойственен дурной образ мыслей»[331]. Мы видим, что и здесь Катон выступает в качестве ревнителя традиционных добродетелей, которые он связывает с сословием земледельцев.
Но под земледельцем Катон понимал отнюдь не крестьянина, своим трудом обрабатывающего принадлежащий ему клочок земли (как это было у Гесиода). Земледелец Катона — это помещик, применяющий рабский труд и связанный с рынком, куда он сбывает продукты своего хозяйства. Правда, количество рабов, которое Катон считает оптимальным, сравнительно невелико (на оливковой плантации — 13, на винограднике — 16); его хозяйство еще не похоже на огромные латифундии, получившие развитие в более позднюю эпоху. Но рекомендуемые им отношения между хозяином и рабами менее всего можно назвать патриархальными. Рабы для Катона равносильны рабочему скоту; их силу нужно использовать максимальным образом; у рабов нет выходных дней, и они никогда не должны сидеть без дела. От болезненного или одряхлевшего раба следует избавиться, как от лишней помехи в хозяйстве. При этом хозяин не должен сам командовать рабами: для этого существует управитель («вилик»), выбираемый из числа рабов и во всем отчитывающийся перед хозяином.
Мы не будем вдаваться в чисто агрономические детали книги Катона. Достаточно будет сказать, что наряду с правилами посева, прополки, сбора, хранения и сбыта урожая Катон рассматривает множество других вопросов, могущих иметь значение для земледельца, вплоть до молитв, к которым следует прибегать в тех или иных случаях. Анализ всех этих вопросов выходит за пределы задач настоящей работы.
Выше было сказано о резко враждебном отношении Катона к греческой культуре, которая как раз при его жизни начала оказывать все большее влияние на высшее римское общество. Войны первой половины II в. до н. э. привели к политическому подчинению Риму сначала Македонии, а затем и всей Греции. И здесь оказалось справедливым общее правило: менее культурные победители подверглись мощному воздействию более высокой культуры побежденного народа. В самом Риме появилась многочисленная эллинофильская партия, во главе которой стояла семья Сципионов — влиятельнейших государственных деятелей того времени. Эта партия считала усвоение достижений греческой культуры римлянами нужным и полезным делом, причем усвоение это осуществлялось различными способами.
Во многих знатных римских семьях стали появляться греческие учителя — большей частью из числа греческих пленников или заложников, увезенных в Рим. Так, после решительной победы, одержанной римским полководцем Эмилием Павлом над последним королем Македонии Персеем (в 168 г.), которому помогал так называемый Ахейский союз греческих городов, тысяча ахейских граждан были отправлены в Рим в качестве заложников. Среди них находился знаменитый историк Полибий. По прибытии в Рим он был сразу же приглашен Эмилием Павлом в качестве наставника его детей (среди которых был будущий покоритель Карфагена Сципион Африканский Младший). Характерно также, что Эмилий Павел вывез в Рим и разместил у себя в доме большую библиотеку царя Персея. Этим было положено начало ограблению Греции римскими полководцами: не только (и не столько) библиотеки, но главным образом произведения искусства, прежде всего бесчисленные статуи, вывозятся в Рим и используются для украшения богатых римских домов и вилл.
Надо, однако, отметить, что римляне отнюдь не рассматривались греками в качестве чистых варваров. В это время Греция находилась в состоянии глубокого политического упадка, и на образованных греков не могли не производить впечатления победы римских легионов, прекрасно организованных, дисциплинированных, возглавлявшихся полководцами твердыми и порой суровыми, воевавшими не ради интересов каких-то случайных деспотов, а во имя республики, многими своими чертами импонировавшей греческим интеллигентам.
В результате многие выдающиеся греки появляются в Риме. Знаменитый грамматик и руководитель пергамской библиотеки Кратес приезжает в Рим около 168 г. в качестве посла царя Пергама Эвмена П. В 155 г., когда афиняне оказались в немилости у римского сената, они послали в Рим представительную делегацию (о деятельности ее уже шла речь в этой книге). В состав этой делегации вошли глава тогдашней Академии Карнеад, перипатетик Критолай и стоик Диоген. Греческие философы использовали свободное время для публичных докладов, привлекавших большое количество слушателей, особенно из числа молодежи. Этот факт вызвал ярость семидесятидевятилетнего Катона, который в сенате потребовал срочной высылки греческих философов из Рима.
Но ход истории нельзя было обратить вспять, и эллинизация римлян происходила все более быстрыми темпами. Сципион Африканский Младший организовал кружок для изучения греческой литературы и философии. К участию в этом кружке были привлечены уже упомянутый Полибий и выдающийся философ-стоик Панэтий, впоследствии ставший учителем Цицерона. Вслед за этим преподавание греческой литературы, риторики, грамматики и даже философии (разумеется, в довольно примитивной форме) проникает в римские школы. В результате типичный римский интеллигент I в. до н. э. уже ничем не походил на катоновский идеал старорежимного земледельца и воина.
Какую роль в процессе эллинизации римлян сыграла греческая наука? У римлян, отнюдь не страдавших отсутствием любознательности, достижения греческой науки вызывали несомненный интерес, но этот интерес был, мягко выражаясь, весьма односторонним. Римлянам даже не приходила в голову мысль о возможности самим заняться теоретическими изысканиями в области математики или астрономии, чтобы продолжить работу, так блестяще начатую гениями эллинистической науки. В частности, к математике римляне были абсолютно равнодушны (или неспособны?), поэтому всякое математическое знание казалось им чем-то заумным и потому вряд ли заслуживающим внимания. Математики, о которых с таким уважением писал Аристотель (включавший в их число также и теоретиков — астрономов), казались римлянам чудаками, занимавшимися если не бессмысленным, то, во всяком случае, бесполезным делом. Математические знания самих римлян ограничивались архаичными приемами счета на абаке и приближенными вычислениями площадей и объемов. О строгой дедуктивной математике они не имели и не желали иметь никакого понятия.
Для иллюстрации сказанного приведем два примера, взятых из области географических наук. Основателем точной картографии по справедливости считается Гиппарх, впервые введший в употребление сетку меридианов и параллелей в качестве основы для построения географических карт. Из Страбона мы знаем, что Гиппарх резко критиковал «Географию» Эратосфена за использование ненаучных методов локализации географических объектов (об этом мы уже говорили в четвертой главе). Впоследствии традиции Гиппарха были развиты Птолемеем в его «Географии», хотя при составлении своей карты мира Птолемей не чуждался использовать и менее точные данные, взятые из описаний, составленных путешественниками.
B течение II–I вв. Римская республика, до этого не выходившая за пределы Апеннинского полуострова, превратилась в мировую державу. Этот факт уже сам по себе способствовал усилению интереса римлян к географии, так как и административные и военно-стратегические интересы правителей Рима требовали создания достаточно точных географических карт. Уже Юлий Цезарь замыслил проект составления карты всего подвластного римлянам мира, но свое осуществление этот проект нашел лишь в эпоху правления Октавиана Августа (вторая половина Τ в. до н. э.). Выполнение этой задачи Август поручил одному из наиболее высокопоставленных чиновников — Марку Агриппе. Агриппа подошел к делу с чисто римской деловитостью. Он учредил широко разветвленную службу картографирования, в задачу которой входило определение размеров и границ всех римских провинций. На выполнение этой работы потребовалось около 20 лет. Характерно, что Агриппа совершенно игнорировал методы локализации географических объектов, разработанные Гиппархом. Основной способ определения расстояния между двумя точками состоял у него в счете камней, устанавливаемых римскими легионами при прохождении примерно равных отрезков пути. Расстояние между камнями определялось, с нашей точки зрения, довольно приближенно на основании числа шагов, которые делал солдат, проходя от одного камня к другому. В итоге всей работы Агриппа составил карту, удовлетворявшую потребностям римских администраторов и военачальников; эта карта была прикреплена к стене одного из портиков Рима и служила образцом для снятия множества копий.
Другой факт относится к биографии Цицерона, бывшего, как известно, одним из образованнейших людей своего времени. Из переписки Цицерона с его другом Аттиком, находившимся в течение некоторого времени в Африке, мы знаем, что у Цицерона имелось намерение написать сочинение по географии. Для облегчения труда Цицерона Аттик прислал ему трактат, написанный греческим географом Серапионом, принадлежавшим, по-видимому, к школе Гиппарха. В своем ответе Аттику[332] Цицерон пишет, что он в состоянии понять едва ли одну тысячную часть трактата Серапиона. В другом письме[333]он выражает недоумение по поводу критики, которой Серапион (следуя Гиппарху) подвергает «Географию» Эратосфена, казавшуюся Цицерону наиболее авторитетным сочинением в области географической науки. Еще в одном письме к Аттику[334] Цицерон упоминает о своем проекте, но в дальнейшем он от него, по-видимому, окончательно отказался. География, надо думать, показалась ему трудным и скучным предметом — и притом таким предметом (и это, вероятно, было основное), который не давал возможности развернуться Цицерону-стилисту. Подход Цицерона к написанию географического трактата был чисто римским подходом: он хотел изложить по-латыни вещи, уже известные греческим географам, придав своему изложению безупречную литературную форму. Это был подход не ученого, а дилетантствующего литератора.
Подобного рода дилетантизм был характерной чертой всей римской науки. В целом у римлян сложилось следующее представление об ученом: ученым называется человек, бывший в курсе всевозможных мнений, высказывавшихся прежними авторами по каждому данному вопросу, и умевший изложить эти мнения в удобочитаемой и литературно обработанной форме. Свыше этого к ученому не предъявлялось никаких требований. Таким образом, по римским представлениям, ученым был вовсе не творческий исследователь (на самостоятельное научное творчество римляне не претендовали, предоставляя это дело грекам), но писатель-энциклопедист, впитавший в себя максимальное количество знаний. В свое время Тераклит резко осудил «многознание» (πολυμαϑίη), утверждая, что оно «уму не научает»[335]. С точки зрения римлян, именно многознание было высшей добродетелью ученого.
Варрон и римский энциклопедизм
И вот в смутное время последних десятилетий Римской республики в Риме появился человек, который всем последующим поколениям римлян представлялся воплощением величайшей учености, ставши, таким образом, римским идеалом ученого. Этим человеком был Марк Теренций Варрон (116—27 гг. до н. э.). Варрон был родом из сабинского города Реата (теперь — Риети, к северо-востоку от Рима). Уже в раннем возрасте у него проявился интерес к наукам (прежде всего к истории и литературе); в результате он отправился учиться к первому римскому грамматику Луцию Элию Стилону, который был учителем также и Цицерона, а затем поехал в Афины, где прошел курс обучения под руководством платоника Антиоха Аскалонского, впоследствии руководителя Академии. Это было время так называемой Новой Академии, основной особенностью которой был эклектизм, выражавшийся в стремлении объединить платонизм с другими философскими учениями того времени. Правда, Антиох отказался от скептицизма, к которому тяготел Карнеад и другие академики предшествующей эпохи, но в то же время он весьма симпатизировал учению стоиков. Антиох считал, что платонизм и стоицизм (а также учение Аристотеля) отличаются друг от друга только на словах, в основном же они учат одному и тому же.
Мы не знаем, что именно вынес Варрон из школы Антиоха; во всяком случае, он вернулся в Рим человеком, достигшим, по понятиям того времени, высших степеней образованности. Однако заниматься наукой он начал далеко не сразу. Наука с точки зрения римской иерархии ценностей была делом вполне второстепенным: на первом Месте для римлянина стояли государственные обязанности, военное дело, а в часы досуга по преимуществу сельское хозяйство. Административная карьера Варрона была достаточно успешной: будучи сравнительно молодым человеком, он стал трибуном, а затем в соответствии с установленным в Риме порядком прохождения служебной карьеры занимал должности эдила и претора. Менее удачной была военная деятельность Варрона: хотя в 67 г. до н. э. он отличился в войне с пиратами, зато в период борьбы Цезаря и Помпея он крайне неудачно командовал войсками Помпея в Испании. После битвы при Фарсале (48 г. до н. э.), закончившейся окончательным поражением Помпея, Варрон вернулся в Рим и был не только амнистирован Цезарем, но получил от него задание по организации большой публичной библиотеки. По-видимому, именно к этому времени относятся интенсивные изыскания Варрона в области истории, главным образом истории Рима; он пишет большую работу (Antiquitatum rerum divinarum et humanarum libri XLI) «Древности божественные и человеческие», вторая часть которой посвящается Цезарю. Этим, однако, жизненные треволнения Варрона не заканчиваются: его личным врагом становится Марк Антоний, и после образования второго триумвирата Варрон попадает в проскрипционные списки и лишь чудом спасает свою жизнь. Окончательная победа Октавиана Августа дает возможность Варрону, к этому времени уже достигшему восьмидесятилетнего возраста, спокойно прожить свои последние годы. Представляется удивительным, откуда у человека стакой бурной биографией могли взяться время и досуг для научной и литературной деятельности. Между тем Варрон был исключительно плодовитым автором, написавшим множество сочинений, число, объем и разнообразие которых вызывали изумление потомков. Как сказал о нем позднее Блаженный Августин, «он читал так много, что удивительно, когда оставалось ему время для писания, а написал он так много, что вряд ли найдется человек, который смог бы все это прочесть»[336]. Каталог сочинений Варрона содержит свыше 70 наименований общим объемом около 600 книг. Эти сочинения делятся па несколько основных групп:
1. «Менипповы сатиры» в 150 книгах, написанные в духе кинического философа и писателя III в. до н. э. Мениппа. По форме это — гротескно-сатирические сцены или новеллы, в которых прозаические пассажи чередовались со стихотворными. До нас дошли лишь отдельные фрагменты этих сатир, цитируемые позднейшими авторами. Интерес к этому жанру литературы резко возрос после опубликования известных работ Μ. Μ. Бахтина[337].
2. «Портреты» (Imagines) — 15 книг, содержавших биографии 700 знаменитых греков и римлян. К каждой биографии было приложено изображение данного деятеля, сопровождавшееся его стихотворным восхвалением.
3. «Древности» (41 книга), о которых уже шла речь выше и которые послужили одним из важнейших источников для позднейших римских историков, а также для Плутарха. Вот что писал Цицерон об этом сочинении, обращаясь непосредственно к Варрону: «…в нашем [собственном] городе мы были заблудившимися странниками наподобие чужеземцев; твои книги словно привели нас домой, чтобы мы смогли наконец узнать, кто мы и где мы находимся. Ты уведомил нас о древности нашей родины, указал даты, рассказал о правилах священнослужения, о жрецах, об обычаях мирного и военного времени, о расположении областей и отдельных мест, открыл нам имена, роды, свойства и причины всех божественных и человеческих дел…»[338]
4. Энциклопедия в девяти книгах (Disciplinarun libri. IX). Эти книги были посвящены соответственно грамматике, диалектике, риторике, геометрии, арифметике, астрономии, музыке, медицине и архитектуре. В отличие от Катона Старшего, писавшего свои наставления к сыну на основе собственного практического опыта и опыта своих соотечественников, Варрон использовал для своей энциклопедии множество греческих сочинений, в большинстве случаев, по-видимому, научно-популярных компиляций. Остается неясным вопрос, был ли он знаком с сочинениями Посидония; в принципе это нельзя считать исключенным, так как Посидоний был на девятнадцать лет старше Варрона, а последний писал свою энциклопедию уже и сравнительно преклонном возрасте. Энциклопедия Варрона послужила образцом и источником для многих последующих сочинений аналогичного жанра — с той лишь разницей, что позднейшие авторы (например, Марциан Капелла) отбрасывали медицину и архитектуру, сохраняя семь перечисленных выше наук, из которых в дальнейшем образовались два цикла — тривиум и квадривиум, легшие в основу средневекового образования.
Мы не будем задерживать внимание читателя на прочих сочинениях Варрона, относившихся к жанрам литературно-критической, грамматической, философско-этической и даже географической литературы, — тем более что и от них до нас дошли лишь самые скудные фрагменты. Имеет, однако, смысл остановиться на единственном сочинении великого римского энциклопедиста, текст которого дошел до нас полностью. Это — трактат о сельском хозяйстве (Rerum rnsticarum libri tres)[339], который нам интересен не столько сам по себе, сколько в сравнении с соответствующим сочинением Катона Старшего, о котором шла речь выше.
В отличие от Катона Варрон не был специалистом в области сельского хозяйства, и сам, по-видимому, никогда не занимался земледелием. Трактат на эту тему был написан им (как сообщает сам автор во вступлении к первой книге) на восьмидесятом году его жизни, когда он наконец обрел покой и отдых в принадлежавшем ему имении. Как было принято в то время, автор трактата адресуется к определенному лицу — в данном случае к жене Варрона Фундании. Три книги трактата посвящены, соответственно, полевому хозяйству, скотоводству и приусадебному хозяйству (к которому, в частности, относились птицеводство и пчеловодство). Все книги написаны в диалогической форме, причем живые сценки, в которых принимают участие по нескольку собеседников, чередуются с обстоятельным изложением отдельных вопросов. Характерно, что в начале первой книги Варрон перечисляет около пятидесяти имен авторов, писавших о сельском хозяйстве; в основном это греки (среди них называются Демокрит, Аристотель и Феофраст), однако особо отмечается сочинение карфагенянина Малона, переведенное на латинский язык по специальному распоряжению римского сената. Римских авторов в этом списке нет совсем, однако в ходе дальнейшего изложения, помимо Катона Старшего, неоднократно упоминается (чаще всего в критическом плане) Сазерна. Об этом человеке мы ровно ничего не знаем, но, судя по всему, это был опытный земледелец-практик, книга которого. пользовалась популярностью в I в. до н. э. Что же касается Варрона, то он был в этой области не столько специалистом, сколько начитанным дилетантом, восполнявшим недостаточность собственного опыта ссылками на авторитеты и на мнения «сведущих людей». То обстоятельство, что. из многочисленных его сочинений до нас дошел только трактат по сельскому хозяйству, следует объяснить не только исторической случайностью, но также тем успехом, который литература этого рода имела в Древнем Риме.
Позднее о сельском хозяйстве писали Гигин, Цельс, Колумелла и Плиний Старший[340]. Наиболее компетентным из всей этой литературы было, по-видимому, сочинение Колумеллы, состоявшее из двенадцати книг, к которым был приложен небольшой трактат «О деревьях» (De arboribus). К литературе этого же рода следует отнести и поэму Вергилия «Георгики» (заметим, что десятая книга Колумеллы была также написана гекзаметрами).
Вернемся, однако, к литературе энциклопедического жанра. Следующим после Варрона выдающимся энциклопедистом был Авл Корнелий Цельс, живший в середине I в. н. э. (точные даты его рождения и смерти, а также подробности его биографии нам неизвестны). Цельс написал большую энциклопедию («Artes»), состоявшую из шести частей, посвященных соответственно сельскому хозяйству, военному делу, медицине, ораторскому искусству, философии и праву. Уже из этого перечня видно, что сочинение Цельса имело явно выраженную практическую направленность и в этом отношении было ближе к «Наставлениям» Катона, чем к энциклопедии Варрона. К пяти дисциплинам Катона Цельс добавил только философию, очевидно уступив требованиям времени: после Цицерона философия (хотя бы только в смысле науки о человеческом поведении — этики) стала неотъемлемой частью римской образованности.
К сожалению, от энциклопедии Цельса сохранилась только медицинская часть. Это тем более обидно, что научная проза Цельса считалась стилистически безупречной: это была настоящая «золотая» латынь, почти не уступавшая цицероновой. В восьми книгах по медицине мы находим сжатое, но достаточно полное изложение основных разделов врачебной науки того времени — диагностики, терапевтики, диететики, хирургии. Источники, которыми пользовался Цельс, нам неизвестны, но можно с большой степенью вероятности утверждать, что это были греческие медицинские руководства, составлявшиеся представителями соперничавших друг с другом различных врачебных школ, подвизавшихся в то время на территории Римской империи. Не примыкая ни к одной из этих школ, Цельс умело скомпилировал и перевел на латинский язык некую выжимку из прочитанных им сочинений. Литературные достоинства работы Цельса обеспечили ей широкую популярность и долговечность. О содержании некоторых других частей его энциклопедии (например, части, посвященной военному делу) мы можем составить представление по ссылкам, встречающимся в сочинениях позднейших авторов.
Тит Лукреций Кар
Рассказывая об энциклопедии Цельса, мы несколько нарушили хронологическое изложение предмета. Сейчас надо будет снова вернуться к первому веку до н. э. — веку М. Т. Варрона и М. Т. Цицерона — и задержать внимание на самом замечательном (и, бесспорно, на самом популярном) памятнике римской науки, а именно на поэме Тита Лукреция Кара «О природе вещей» (De rerum natura)[341].
О жизни Лукреция мы почти ничего не знаем; нам неизвестно также, написал ли он что-нибудь еще, кроме своей поэмы, которая, во всяком случае, была основным и важнейшим его творением. На основании сведений, сообщаемых позднейшими источниками, можно заключить, что Лукреций родился около 99–95 гг. до н. э. и умер еще сравнительно молодым человеком, будучи сорока четырех лет от роду. Первое дошедшее до нас высказывание о поэме Лукреция принадлежит Цицерону. В феврале 65 г. до н. э. великий римский оратор писал своему брату Квинту: «Поэма Лукреция такова, какой ты ее характеризуешь в своем письме: в ней много проблесков природного дарования, но вместе с том и искусства»[342]. Из авторов позднейшего времени высоко оценивали поэму Овидий, Вергилий и Тацит. Поэтические достоинства поэмы были, бесспорно, важнейшим фактором, способствовавшим ее широкой популярности. Мы еще будем говорить о том, в какой мере эти поэтические достоинства помогли автору поэмы максимально ясно и наглядно изложить ее научно-философское содержание.
Историко-философская ценность поэмы Лукреция состоит в том, что она представляет собой самое полное и систематическое изложение эпикурейской философии, каким мы вообще располагаем. Напомним, что от основоположника эпикурейской школы до нас дошли три письма (к Геродоту, Пифоклу и Менекею), приведенные в биографии Эпикура Диогеном Лаэртием и представляющие собой краткие извлечения из основных, не дошедших до нас его сочинений; далее, собрание этических максим, озаглавленное «Главные мысли» (Κύριοι δόξαι); и ряд фрагментов, тоже в основном этического содержания[343]. Без поэмы Лукреция наше знание эпикурейской философии и, в особенности, эпикурейской физики представлялось бы значительно более скудным.
Поэма «О природе вещей» состоит из шести книг. Кратко изложим содержание этих книг. Для тех, кто знаком с поэмой, это изложение покажется, возможно, излишним, но тому, кто ее не читал, оно даст представление о широте и многообразии ее содержания и может послужить стимулом к ее прочтению. Берем на себя смелость утверждать, что чтение поэмы Лукреция — даже в переводе — явится источником неиссякаемых наслаждений для каждого любознательного и восприимчивого читателя. А для многих, читавших ее в оригинале, она стала любимой книгой на всю жизнь. Напомним, что один из героев романа Анатоля Франса «Боги жаждут» не расставался с поэмой вплоть до последних минут перед казнью на гильотине[344].
Первая книга поэмы открывается обращением к богине Венере, согласно римскому преданию, родоначальнице племени латинян. Современник трагических и кровавых событий римской истории, Лукреций обращается к Венере с характерным для него призывом:
Даруй поэтому ты словам моим вечную прелесть, Сделав тем временем так, чтобы жестокие распри и войны И на земле и в морях повсюду замолкли и стихли (I, 28–30)[345]После этого Лукреций предлагает римскому деятелю Меммию, которому посвящена эта поэма[346], напрячь свой слух и ум, чтобы постичь смысл «истинного учения» (verum rationem), о которой пойдет речь в поэме. Тут же вводится понятие материи, которая отождествляется с «семенами вещей» (semina rerum) или «первичными телами» (corpora prima), т. е., иначе говоря, с атомами.
Следующий пассаж интересен своей антирелигиозной направленностью. Поэт напоминает о тех временах, когда жизнь людей влачилась под тягостным гнетом религии. Восхваляется Эпикур, выступивший против религии и рассеявший мрак невежества, застилавший до тех пор умы людей. Возможное обвинение в нечестивости отвергается указанием на то, что именно религия рождала множество нечестивых и преступных дел. У людей существует страх перед явлениями природы, порождаемый незнанием причин этих явлений и убеждением в том, что они происходят по воле богов. На самом же деле по божественной воле ничто не творится; все происходящее происходит естественным образом, причем «ничто не способно возникнуть из ничего» (nil posse creari de nilo). Это положение обосновывается с помощью ряда убедительных аргументов и непосредственно связывается с законом сохранения материи (nihil ad nihilum interire). Аргументация Лукреция заимствована, очевидно, у Эпикура (см., например, письмо к Геродоту), хотя не исключено, что в поэме она подверглась известному развитию.
Приступая к изложению основ атомистики, Лукреций доказывает, что первочастицы, из которых состоят вещи, или, как он говорит, «начала вещей» (primordia rerum), недоступны для зрения в силу своей исключительной малости. Но не все заполнено этими частицами; между ними существует пустота. Без пустоты не могло бы быть движения, тела не могли бы сжиматься и не обладали бы различным весом при одном и том же объеме. Разнообразные аргументы, приводимые Лукрецием по этому вопросу, принадлежат, разумеется, не ему и даже не Эпикуру, а восходят в конечном счете к Левкиппу и Демокриту. То же относится, очевидно, и к характеристике атомов как абсолютно плотных, вечных, неразрушимых и неизменных тел.
Далее следует историко-философское отступление. Суровой критике подвергаются воззрения некоторых философов-досократиков, прежде всего Гераклита, Эмпедокла и Анаксагора. К имеющимся сведениям об этих философах Лукреций не добавляет фактически ничего нового, а в некоторых случаях (например, при изложении понятия анаксагоровской гомеомории) допускает явные неточности.
Конец первой книги посвящен обоснованию положений о бесконечности пространства и бесчисленности атомов. С точки зрения этих положений критикуется концепция, признающая наличие у Вселенной центра, постулирующая разделение элементов на легкие и тяжелые и допускающая возможность существования антиподов. Здесь полемические стрелы Лукреция (вернее, Эпикура) направлены, очевидно, против Аристотеля, хотя последний в поэме нигде по имени не называется. Надо, впрочем учесть, что некоторые положения аристотелевской космологии разделялись также и стоиками, с которыми школа Эпикура вела длительную и ожесточенную полемику.
Вторая книга поэмы также начинается со вступления, в котором Лукреций излагает основные положения эпикурейской этики. Он воздает похвалу мудрости, призывает ι к умеренности и спокойствию духа и выступает против ложных страстей, излишеств и тщетных страхов.
Вслед за этим Лукреций переходит к разработке принципов эпикурейской атомистики. Много места уделяется анализу движения атомов, которое трактуется как их вечное и неотъемлемое свойство. Именно здесь мы находим пассажи, до сих пор вызывающие изумление физиков и позволяющие говорить о предвосхищении таких вещей, как молекулярная теория агрегатных состояний вещества (II, 95—111), броуновское движение (II, 125–141) и т. д. Любопытные соображения высказываются Лукрецием об огромной скорости атомов в пустоте, намного превышающей даже скорость света. Мы-то теперь знаем, что скорость, с которой движутся материальные тела, никогда не может превысить скорость света, но, как писал акад. С. И. Вавилов, «едва ли следует заниматься таким школьным экзаменом двухтысячелетнего патриарха атомизма»[347].
Можем ли мы приписать эти прозрения проницательности самого Лукреция? Разумеется, нет. Можно не сомневаться, что он заимствовал их у своего учителя Эпикура, а тот во многом повторял соображения, высказывавшиеся основателями атомистики — Левкиппом и Демокритом.
А в конечном счете поражающие нас догадки античных атомистов следует отнести на счет исключительной продуктивности самой атомистической гипотезы. Логическое развитие принципов атомистики даже в такой архаичной форме, какую мы находим у Демокрита и Эпикура, позволяло приходить к выводам, на тысячелетия опережавшим то время, когда они были впервые сформулированы.
Следующий раздел второй книги посвящен специфическим постулатам эпикурейской физики: о том, что все атомы стремятся падать с постоянной скоростью вниз (причем верх и низ считаются, вопреки Платону и Аристотелю, абсолютными направлениями, никак не зависящими от нашей точки зрения) и что при своем падении они незаметно и совершенно произвольно отклоняются от вертикального направления движения. Конечно, можно и в этой идее усмотреть предвосхищение современных физических теорий (принципа неопределенности Гейзенберга)[348], но надо учесть, что из основных положений атомистики она никак не вытекала. Постулат о произвольном отклонении атомов от прямолинейного падения (clinamen — у Лукреция, παρέγκλισις у Эпикура) понадобился Эпикуру для обоснования тезиса о свободе воли, которому не оказалось места в строго детерминистской физике Демокрита.
К числу характерных черт эпикурейской атомистики относится также предположение о том, что каждый атом состоит из нескольких «наименьших частей» (minimае partes или Cacumina; у Эпикура они именуются соответственно τα ελάχιστα или τα άκρα[349]); о них, впрочем, Лукреций упоминает уже в первой книге (I, 599–634). Поскольку размеры атомов строго ограничены (это также одно из отличий атомистики Эпикура от атомистики Демокрита), каждый атом состоит из нескольких неразрывно слитых друг с другом «наименьших». Отсюда делается вывод, что атомы не могут быть бесконечно разнообразными по своим формам. Самостоятельно, отдельно от атомов «неделимые» существовать не могут; если продолжить проведение параллелей с современной микрофизикой, то их можно уподобить, скорее всего, кваркам.
Затем Лукреций переходит к тому, что мы назвали бы проблемой первичных и вторичных качеств. Атомы различаются только своими фигурами или формами; что же касается таких свойств, как цвета, звуки, запахи, теплота, мягкость, гибкость, рыхлость и т. д., то все они присущи лишь «смертным» предметам, состоящим из большого числа атомов.
Конец книги посвящен обоснованию концепции множественности миров. Миры, как и все прочие вещи, рождаются и гибнут; погибнет и мир, в котором мы живем, ибо, согласно неизбывному закону природы:
…все дряхлеет и мало-помалу Жизни далеким путем истомленное, сходит в могилу (II, 2173–2174).О следующих книгах поэмы Лукреция можно будет рассказать более кратко. Третья книга открывается восторженным восхвалением Эпикура, после чего Лукреций переходит к рассмотрению природы души (anima) и духа, или ума (animus или соответственно mens). Их природа, по сути дела, одна и та же: и тот и другая состоят из тончайших, мельчайших и очень подвижных атомов; но если местопребыванием духа (ума) является середина груди, то душа рассеяна по всему телу. Душа занимает подчиненное положение по отношению к духу: без духа она не может остаться в членах организма и немедленно рассеивается.
Вопреки мнению Демокрита, полагавшего, что атомы души и тела численно равны и чередуются друг с другом (подобно ионам кристаллической решетки, сказали бы мы), Лукреций утверждает, что атомы души не столь многочисленны и распределены но телу реже. Расстояние между двумя соседними атомами души соответствует минимальной величине предмета, прикосновение которого еще ощущается нашим телом.
Важнейший тезис эпикуреизма, доказываемый Лукрецием с помощью ряда аргументов, состоит в том, что дух и душа смертны; составляющие их атомы разлетаются в пространстве одновременно с гибелью тела. Сказки о бессмертии души и о существовании загробного мира внушают людям страх перед смертью. Смерти бояться не следует, ибо смерть — чистое небытие, ожидающее каждого из нас. Не все ли равно, когда она наступит — сейчас или позже? Нет смысла цепляться за жизнь и молить о ее продлении, ибо беспредельная длительность смерти одинакова для всех.
Сколько угодно прожить поколений поэтому можешь, Все таки вечная смерть непременно тебя ожидает. В небытии пребывать суждено одинаково долго Тем, кто конец положил своей жизни сегодня, и также Тем, кто скончался ужо па месяцы раньше и годы (III, 1090–1094).Этими строками, исполненными спокойной резиньяции, заканчивается третья книга поэмы Лукреция.
Четвертая книга посвящена в основном проблеме чувственных восприятий. После краткого вступления Лукреций излагает знаменитую теорию образов или призраков (imagines или simulacra по-латыни, είδωλα или τύποι у Эпикура). Сама по себе теория эта не была оригинальным изобретением Эпикура; как свидетельствуют все древние авторитеты, она была целиком заимствована у Левкиппа и Демокрита. Но у Лукреция в качестве вывода из этой теории мы находим чисто эпикурейскую идею о безошибочности чувств. Чувства не могут давать ложных свидетельств об окружающем нас мир; во всех ошибках и заблуждениях повинны не чувства, а разум. Наряду со зрением рассматриваются другие источники ощущений — слух, вкус, обоняние. Дается объяснение сновидениям.
Завершается четвертая книга поразительным по своей эмоциональности рассуждением о чувстве любви. Любовь для Лукреция — «безумье и тяжкое горе»; он пишет о ней с неприкрытой ненавистью. Этот пассаж поэмы был, видимо, продиктован глубоко личными и не очень счастливыми переживаниями автора.
Пятая книга представляет для нас особый интерес, поскольку в ней речь идет о различных аспектах атомистической космогонии. Тезис о смертности нашего мира и всего, что в нем содержится, формулируется в строках, исполненных торжественного величия:
Прежде всего, посмотри на моря, на земли и небо; Все эти три естества, три тела отдельные, Меммий, Три столь различные формы и три основные сплетенья Сгинут в какой-нибудь день, и стоявшая долгие годы Рухнет громада тогда, и погибнет строение мира (V, 92–96).А поскольку мир и все ого части смертны, то они не могут обладать божественной природой. Обожествление Земли, Солнца, Луны и прочих небесных светил относится, по мнению Лукреция, к числу нелепейших предрассудков. Все светила возникли естественным путем и когда-нибудь погибнут. Далее излагается космогоническая концепция Эпикура, основные положения которой восходят к Левкиппу и Демокриту. Однако в некоторых деталях она отходит от учения основоположников атомистики. Более того, у Эпикура, который подчеркивал, что «при познании небесных явлений… нет никакой другой цели, кроме безмятежности (αταραξία)»[350], имеются утверждения, повторяемые Лукрецием, которые даже древним философам должны были показаться архаичными и антинаучными. Так, например, Эпикур (а вслед за ним Лукреций) полагал, что размеры Солнца и Луны не могут существенно отличаться от тех, какими они нам кажутся (из досократиков разве только один Гераклит высказывал подобные взгляды)[351]. Как писал по этому поводу Цицерон, «Демокрит, как человек образованный и знаток геометрии, считает Солнце имеющим большую величину, а Эпикуру оно кажется, может быть, с фут величиною, потому что он думает, что оно таково, каким кажется, и разве только немногим больше или меньше»[352]. Эта несуразная точка зрения находилась в противоречии со всеми данными тогдашней астрономии, однако она соответствовала принципиальной установке Эпикура о том, что чувственные восприятия не могут нас обманывать. Землю Эпикур и его последователи считали чем-то вроде плоской лепешки, находящейся в центре сферы, объемлющей наш мир (напомним, что, согласно учению атомистов, таких миров может быть бесконечное множество). В этом вопросе их воззрения не отличались от взглядов Левкинпа и Демокрита. Но уже в эпоху Эпикура эти взгляды были безнадежно устаревшими. Со времени Платона и Аристотеля в греческой науке окончательно утвердилось представление о сферической форме Земли, а в III в. до н. э., т. е. почти за два столетия до Лукреция, Эраросфен с большой точностью определил длину окружности земного шара. Но эти результаты просто игнорировались эпикурейской школой.
По отношению к небесным явлениям Эпикур придерживался своеобразной плюралистической позиции. Он полагал, что каждое из этих явлений может объясняться различным образом, причем все эти объяснения в принципе равноправны, ибо истинной причины нам знать не дано. В письме к Пифоклу он обосновывает эту позицию тем, что только она дает нам подлинную безмятежность; в связи с этим он призывает не бояться «рабских хитросплетений астрономов»[353].
Эта точка зрения принимается и Лукрецием. Так, например, для объяснения фаз Луны Лукреций считает одинаково допустимыми следующие гипотезы: 1. Луна заимствует свой свет от Солнца, и в зависимости от ее положения по отношению к Солнцу и к нам мы видим освещенными различные части лунного диска.
2. Луна обладает собственным светом. При таком допущении возможно: а) что вместе с ней вращается темное, не видимое нами тело, которое заслоняет то одну, то другую часть лунного диска; б) что светится только одна половина Луны, но Луна поворачивается к нам то той, то другой стороной.
3. Каждый день рождается новая Луна, имеющая различную форму.
Мы знаем, что только первая из этих гипотез верна. Знали это и греческие астрономы, современники Эпикура и Лукреция. Но Эпикур и его последователи обладали удивительной способностью не замечать достижений современной им науки. Частично это можно объяснить полным невежеством эпикурейцев в области математических дисциплин. Так или иначе, эта установка эпикурейцев явилась одной из причин, по которой эпикурейская философия находила мало сторонников среди наиболее образованных кругов эллинистического и римского общества (см. приведенное выше замечание Цицерона), а в дальнейшем вообще потеряла всякое влияние. Поэму Лукреция охотно читали и даже восхищались ею, но это отнюдь не означало согласия с принципиальными установками ее автора.
Аналогичным «плюралистическим» образом Лукреций объясняет и такие факты, как смена дня и ночи, неодинаковая длительность дней и ночей в различные времена года, солнечные и лунные затмения и т. д. Мы не будем более подробно останавливаться на всех этих объяснениях: во многих из них можно заметить отзвуки донаучных, наивных представлений, но историко-научного значения они, по сути дела, не имеют.
Но наряду с этим в той же пятой книге мы можем найти любопытные соображения и проницательные догадки, относящиеся, однако, не к космологии, а к проблемам, которым посвящена вторая часть книги: к возникновению животных и человека, к истории человеческого общества и к развитию культуры. Степень зависимости Лукреция от Эпикура в этих вопросах неясна, ибо мы не знаем сочинений Эпикура, в которых нашли бы отражение эти проблемы. Описание возникновения животных и человека обнаруживает знакомство Лукреция со взглядами ряда досократиков — Анаксимандра, Эмпедокла, Архелая, Демокрита, а также, возможно, с трактатами Гиппократова свода. Что же касается истории человеческого общества, то тут мы вообще не знаем предшественников Лукреция. Любопытно, что в этой части Лукреций не прибегает к «плюралистическим» объяснениям, а прямо и недвусмысленно высказывает мнения, которые он считает правильными. Отвергая легенду о золотом веке и другие мифологические фантазии, Лукреций с присущей ему образностью рисует первобытное состояние человека, когда люди еще не знали ни одежды, ни жилищ и вели жалкое существование, питаясь желудями и ягодами и охотясь на диких зверей. Описываются перемены, происходившие в жизни человека, когда он стал одеваться в шкуры, строить хижины, общаться с помощью языка, добывать огонь. Анализируются причины возникновения религиозных верований. Пассаж, посвященный открытию металлов, привлек к себе впоследствии внимание М. В. Ломоносова, который перевел его на русский язык[354]. Последующие этапы развития человечества были, согласно Лукрецию, связаны с приручением животных (лошадей и домашнего скота), с возникновением сельского хозяйства и ремесел, с изобретением искусств. Затем человек научился строить корабли, прокладывать дороги, воздвигать города. Короче говоря, Лукреций дает широкую (и в основных своих чертах правильную) картину эволюции человечества, нарисованную яркими мазками большого и мыслящего художника.
Шестая — последняя — книга поэмы посвящена в основном метеорологическим и геологическим явлениям. Источниками для этой книги могли послужить, помимо Эпикура (письмо к Пифоклу лишь частично покрывает содержание шестой книги), сочинения Посидония, а также греческие научно-популярные компиляции, составлявшиеся на основе соответствующих сочинении Аристотеля, Феофраста и других авторов. Во второй части книги развивается «метеорологическая» теория происхождения болезней, восходящая, как полагают, к последователю Эпикура знаменитому врачу Асклепиаду из Вифинии, жившему в Риме в эпоху Лукреция. Книга завершается яркой картиной эпидемии, имевшей место в Афинах в 430 г. до н. э. и описанной Фукидидом в «Истории пелопоннесской войны»[355]. После этого поэма внезапно обрывается. Возможно, что она осталась не вполне законченной.
Такова эта удивительная поэма, не имеющая себе аналогов в истории мировой литературы. Множество ученых исследовали ее с самых различных сторон — филологической, литературоведческой, эстетической, историко-философской и др. Оставляя в стороне все эти аспекты, мы подчеркнем только два момента, наиболее существенные, как нам кажется, для историка науки.
1. Хотя поэма «О природе вещей» посвящена изложению греческой научно-философской доктрины и написана на основе исключительно греческих источников, в целом ее следует считать крайне характерным памятником римской науки. И дело здесь не только в том, что она написана по-латыни. Как и в сочинениях других римских ученых — будь то Варрон или Цицерон, Цельс или Сенека, в поэме Лукреция мы находим мало оригинальных мыслей, собственных идей (исключение составляет, может быть, лишь вторая часть пятой книги, и это не случайно: история всегда была ближе и понятнее римскому складу мышления, чем теоретическое естествознание), но зато для изложения чужих идей Лукреций находит подлинно художественную форму. Для римских авторов — будь то ученые, историки или эссеисты — литературная форма всегда имела громадное значение. Все названные выше писатели были блестящими стилистами, в то время как такие великие греки, как Аристотель и Феофраст, заботились прежде всего о точности изложения своих мыслей, а отнюдь не о стиле своей прозы. Что касается Лукреция, то его мало назвать стилистом (мы вообще не знаем его прозы), он был «просто» высокоталантливым поэтом. Богатое поэтическое воображение позволяло ему даже наиболее отвлеченные идеи атомистической доктрины представлять в наглядно-образной форме. Приведем знаменитое место, где Лукреций объясняет, почему в макроскопических (по современной терминологии) телах мы не замечаем движения атомов:
…Ибо лежит далеко за пределами нашего чувства Вся природа начал. Поэтому, раз недоступны Нашему зренью они, то от нас и движенья их скрыты. Даже и то ведь, что мы способны увидеть, скрывает Часто движенья свои на далеком от нас расстояньи: Часто по склону холма густорунные овцы пасутся, Медленно идя туда, где их на пастбище тучном Свежая манит трава, сверкая алмазной росою; Сытые прыгают там и резвятся, бодаясь, ягнята. Все это издали нам представляется слившимся вместе; Будто бы белым пятном неподвижным на склоне зеленом. Также, когда, побежав, легионы могучие быстро Всюду по полю снуют, представляя примерную битву, Блеск от оружия их возносится к небу, и всюду Медью сверкает земля, и от поступи тяжкой пехоты Гул раздается кругом. Потрясенные криками, горы Вторят им громко, и шум несется к небесным созвездиям; Всадники скачут вокруг и в натиске быстром внезапно Пересекают поля, потрясая их топотом громким. Но на высоких горах непременно есть место, откуда Кажется это пятном, неподвижно сверкающим в поле (II, 312–332).О Лукреции надо судить не как об ученом, излагавшем свои идеи в стихах (такими были Парменид и Эмпедокл), но как о замечательном поэте, единственной темой которого оказалось философское учение Эпикура. Этим объясняются и достоинства и недостатки его поэмы. Как жаль, что в наше время нет поэта, который смог бы столь же талантливо изложить в стихах основы теории относительности Эйнштейна или квантовомеханическую теорию атома! 2. Громадной заслугой Лукреция перед римской и вообще перед европейской наукой было создание латинской научно-философской терминологии (эту заслугу, правда, он разделяет с Варроном и Цицероном). Лукреций сам прекрасно осознавал важность этой задачи, о чем он, например, пишет в следующих строках своей поэмы:
Не сомневаюсь я в том, что учения темные греков Ясно в латинских стихах изложить затруднительно будет: Главное, к новым словам прибегать мне нередко придется При нищете языка и наличии новых понятий… (I, 138–139).При изложении содержания поэмы мы приводили примеры, когда Лукреций удачно отыскивал латинские эквиваленты греческих терминов. Это удавалось ему не всегда, и порой он прибегал к латинской транскрипции греческих слов. Так, например, пытаясь разъяснить анаксагоровское понятие гомеомерии, Лукреций пишет:
Анаксагора теперь мы рассмотрим «гомеомерию», Как ее греки зовут, а нам передать это слово Не позволяет язык и наречия нашого скудость… (I, 830–832).Во времена Лукреция греческий язык еще прочно оставался международным научным языком, и он продолжал в основном сохранять свои позиции вплоть до падения Римской империи. Но с течением времени положение стало меняться. По крайней мере, на территории Западной Европы латинский язык начал завоевывать доминирующие позиции — сначала в таких областях, как право, история, богословие (последнему способствовал тот факт, что латинский язык со времени Августина Блаженного стал официальным языком западноевропейской христианской церкви, позднее получившей наименование католической). А в средние века латынь стала единственным языком, на котором изъяснялись наука и философия. Одним из пионеров римской науки, исподволь подготавливавших гегемонию латинского языка, был, несомненно, поэт и философ I в. до н. э. Тит Лукреций Кар.
Римское естествознание I в. н. э
В первом веке Римской империи интерес к естествознанию у римлян достиг своего апогея. В этой связи мы должны прежде всего назвать имена Сенеки и Плиния Старшего. Луций Анней Сенека (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — политический деятель, оратор, поэт и драматург, но прежде всего философ-моралист — меньше всего может считаться ученым естествоиспытателем. Тем не менее, его трактат «Естественнонаучные вопросы» (Naturales quaestiones) в семи книгах стал в дальнейшем одним из наиболее популярных римских трудов в области естественных наук. Этот трактат не был всеобъемлющей энциклопедией в духе Варрона: его тематика ограничивалась проблемами физической географии, метеорологии и отчасти геологии (землетрясения), т. е. в основном теми проблемами, которые составляют содержание аристотелевской «Метеорологики». Действительно, Сенека цитирует Аристотеля чаще, чем какого-либо другого автора. Несмотря на это, среди ученых преобладает мнение, что главным авторитетом для Сенеки был не Аристотель, а Посидоний, хотя по количеству цитат и ссылок последний стоит у него на втором месте. Кроме них, Сенека неоднократно ссылается на трактат по метеорологии Асклепиодота, ученика Посидония, а также на Феофраста. Лукреций упоминается Сенекой только один раз, что следует объяснить скорее всего антипатией, которую философ-стоик питал к поэту-эпикурейцу (ибо, как мы видели выше, шестая книга поэмы. «О природе вещей» была посвящена примерно тем же вопросам, о которых писал в своем трактате Сенека).
В целом трактат Сенеки представляет собой довольно бесформенную компиляцию, написанную, однако, не без некоторого изящества. Изложение естественнонаучных проблем перемежается моралистическими отступлениями, порой мало связанными с основным текстом, хотя и занимающими по нескольку страниц каждое. Именно этот морализм в сочетании с известностью имени автора способствовал, вероятно, тому, что трактат Сенеки широко читался на протяжении всей поздней античности не только язычниками, но и христианами. Его популярность не поблекла и в средние века: наряду с «Естественной историей» Плиния Старшего «Естественнонаучные вопросы» Сенеки были важнейшим источником, откуда средневековый читатель черпал сведения о природных явлениях, наивно полагая при этом, что он читает книгу, написанную христианским автором.
Разумеется, сравнительно небольшой трактат Сенеки меркнет при сопоставлении с грандиозной научной энциклопедией, какой была «Естественная история» (Historia naturalis) Плиния. К анализу этого замечательного памятника латиноязычной учености мы в дальнейшем и перейдем. Но предварительно нелишне будет сказать несколько слов об авторе этого труда, ибо он представлял собой личность столь же примечательную, сколь и характерную для римской науки.
Гай Плиний Секунд Старший (23–79 гг. н. э.) был по профессии военным. При императоре Клавдии он служил офицером конницы в Германии, при Нероне одно время занимался адвокатурой, а после прихода к власти Веспасиана сделался видным государственным деятелем, снискавшим личную дружбу императора. В этот период он занимал ряд высших должностей, командовал военной флотилией, стоявшей в Мизенском порту (около Неаполя).
Однако его неизменной и постоянной страстью было чтение научных книг. Как рассказывает в одном из своих писем его племянник, Гай Плиний Младший (Epist., III, 5)[356], Плиний был исключительно трудолюбивым читателем. Любую свободную минуту он использовал для того, чтобы читать и делать записи, порой отнимая время на чтение у сна. Он читал даже плохие книги, ибо полагал, что нет такой книги, из которой нельзя было бы извлечь какой-нибудь пользы. В результате на протяжении многих лет у него накопился громадный материал, который послужил ему для написания ряда сочинений, и в первую очередь, конечно, «Естественной истории».
Но дело не ограничивалось одним только чтением. О. том, что Плиний был, кроме того, активным наблюдателем природных явлений, говорит его трагический и славный конец. Будучи адмиралом в Мизене, Плиний оказался свидетелем грандиозного извержения Везувия, похоронившего под пеплом и лавой города Помпею и Геркуланум. Желая наблюдать эту катастрофу вблизи и своими глазами, Плиний пренебрег собственной безопасностью, отравился ядовитыми газами и погиб. Последние часы его жизни описаны в письме Плиния Младшего, адресованном историку Тациту (Epist., VT, 16)[357]. В истории Рима это был, пожалуй, единственный пример героической смерти ради интересов науки.
Список сочинений Плиния также приводится его племянником. Среди них, помимо «Естественной истории», значатся: трактат «О метании копья с лошади»; биография его друга Помпония Секунда; ряд книг по риторике и грамматике; история Рима, излагающая события с того момента, на котором закончил свой труд историк Ауфидий Басс[358]; наконец, история войн с германцами. Все эти сочинения оказались впоследствии утерянными, и только тридцать семь книг «Естественной истории» дошли до нас целиком и полностью[359].
Написанию этого величайшего из сохранившихся научных сочинений эпохи античности предшествовала колоссальная подготовительная работа. Как сообщает сам автор в предисловии (Praef. 13), он прочел около 2 тыс. сочинений, из которых сделал около 20 тыс. выписок. К прочитанному Плиний добавил множество данных, которые не были известны его предшественникам. Уже после смерти Плиния в состав первой книги, помимо предисловия, было включено подробное оглавление последующих 36 книг, а также приложен список авторов, на которые делаются ссылки. Этот список содержит 327 греческих и 146 римских имен. Все сочинение посвящено и передано в 77 г. императору Титу.
Уже сам характер научной работы Плиния, описанный его племянником, указывает на основные особенности его сочинения. Повседневно и непрерывно занятый сбором самой разнородной информации, Плиний, по-видимому, не мог уделить ни минуты на осмысление этой информации, на ее критическую переработку — короче говоря, на размышления. В результате его «Естественная история» оказалась пестрой коллекцией бесчисленного количества данных, кое-как распределенных по разделам знания, но, вообще говоря, очень слабо связанных между собой и уж тем более не приведенных ни в какую логическую систему.
Имеет смысл несколько более подробно изложить содержание второй книги «Естественной истории», ибо эта книга в большей степени, чем все последующие, демонстрирует, как преломлялись достижения греческой науки в сознании рядового (пусть умного, пусть любознательного) человека эпохи Римской империи. Основными источниками для этой книги (как это признается всеми исследователями) были Варрон и Посидоний, может быть, Посидоний через Варрона. Информация, полученная у этих авторов, перемежается у Плиния с данными собственных наблюдений и с традиционными народными представлениями, граничащими порой с прямыми суевериями.
Книга начинается с установившихся к этому времени воззрений на мир (космос, по-латыни — mundus), рассматриваемый как единое целое. Мир конечен, единствен, имеет шарообразную форму и вечен; он вращается вокруг своей оси с периодом, равным 24 часам. Он состоит из четырех элементов, которые расположены концентрическими слоями: у периферии мира огонь, ниже — воздух, в центре — земля с водой. Земля недвижна; Вселенная вращается вокруг нее с запада на восток, в то время как планеты (включая Луну и Солнце) движутся независимо друг от друга с востока на запад. Из планет Сатурн отстоит дальше всего от центра мира; по этой причине время, за которое он проходит весь пояс зодиака, оказывается у него наибольшим (30 лет). Орбита Юпитера расположена значительно ниже (период обращения — 12 лет), а орбита Марса — еще ниже (2 года). Различия в окраске этих трех планет Плиний объясняет различными температурными условиями, в которых они находятся: на Сатурне царствует страшный холод; Юпитер обладает мягким, умеренным климатом; багрово-красный Марс раскален по причине его близости к Солнцу. Солнце, превосходящее по величине все остальные планеты, совершает свой оборот вокруг центра мира за 365 1/4 дня. Солнце — душа и разум мира; Солнцем регулируются все природные процессы, в первую очередь, конечно, времена года и все, что с ними связано. За Солнцем идет Венера (период обращения — 348 дней); она в своем движении то опережает Солнце и тогда называется Люцифером (Lucifer — светоносный), то отстает от него и в этом случае именуется Веспером (Vesper — вечер). При своем появлении над горизонтом Венера испускает плодоносную росу, стимулирующую зарождение животных и растений. Далее следует Меркурий, не удаляющийся от Солнца более чем на 22°, а ниже всех светил находится Луна, совершающая свой путь вдоль пояса зодиака за 27 1/3 дня. О Луне Плиний сообщает много фантастических сведений, заимствованных из арсенала народных верований, а частично, может быть, вычитанных у Посидония и его последователей.
Рассуждая о причинах солнечных и лунных затмений, Плиний наряду с верными соображениями высказывает и совершенно абсурдные идеи: так, например, он считает, что Земля не может быть по своим размерам больше Луны, так как в противном случае Луна не могла бы полностью затмевать собой Солнце. Наоборот, лунные затмения свидетельствуют о больших размерах Солнца.
Плиний даже не упоминает о теориях планетных движений, развивавшихся греческими астрономами. Экс-центры и эпициклы были для него, видимо, слишком заумной материей. Вместо этого все изменения в движении планет он объясняет действием солнечных лучей, которые ударяются о планету и при определенных углах заставляют ее либо останавливаться, либо двигаться в обратном направлении. Плиний утверждает, что эта теория в применении к трем внешним планетам была взята им из какого-то старого сочинения. Что касается внутренних планет, то до него, как он признается, никто не пытался объяснить их движения. Но его собственные рассуждения по этому поводу оказываются совершенно невразумительными.
Для характеристики «научного» метода Плиния очень показательна главка, посвященная проблеме расстояний от Земли до небесных светил. Все, что Плиний может сказать но этому поводу, сводится к ссылке на «весьма проницательного мужа», Пифагора, по мнению которого расстояние от Земли до Луны было равно 126 тыс. стадиев (около 33 тыс. километров), расстояние от Луны до Солнца было вдвое больше, а расстояние от Солнца до сферы неподвижных звезд втрое больше. Как добавляет Плиний, с этими Цифрами был согласен также Сульпиций Галл (римский астроном эпохи республики). И это писалось через два с лишним века после Гиппарха, который имел очень точное представление о расстоянии от Земли до Луны! Правда, одна из последующих глав называется «Данные Гиппарха о звездах», но в ней говорится только о том, что после появления новой звезды Гиппарх составил каталог неподвижных звезд.
Покончив с астрономией, Плиний переходит к метеорологии, а затем к физической географии. Метеорологический раздел второй книги Плиния содержит много общего (и в то же время много различий) с рассуждениями на эту же тему, которые мы находим в поэме Лукреция и в «Естественнонаучных вопросах» Сенеки. Обычно принимается, что основным источником в этой области для всех трех авторов служила «Метеорология» Посидония (возможно, в передаче Варрона). Что касается Плиния, то его тут привлекают прежде всего необычные и удивительные явления. То же относится и к физико-географическому разделу, в котором говорится о форме и положении Земли, об антиподах, об Океане, о климатических поясах, о длительности дня и ночи в различных районах земного шара и т. д. Ряд глав посвящен такому захватывающему (с точки зрения Плиния) сюжету, как землетрясения. Всевозможные занимательные сведения сообщаются о морях, реках и водных источниках. Отдельные главы так и именуются: «Чудеса земли», «Чудеса моря», «Чудеса огня».
В заключении Плиний сообщает имена авторов, труды которых были использованы при написании второй книги «Естественной истории». Среди них мы находим 17 римских имен и 27 греческих.
Каково содержание последующих книг «Естественной истории»? О них мы расскажем очень коротко, в самых общих чертах.
Третья — четвертая книги посвящены географии известного Плинию мира. В них приводятся всевозможные сведения географического и этнографического характера, включающие описания стран, морей, островов, гор, рек, городов, портов, а также народов, как современных Плинию, так и живших в прежние времена.
Седьмая книга — это своего рода Плиниева антропология. Она содержит всевозможные сведения о человеке, начиная с чисто физиологических проблем и кончая характеристикой ряда наук, искусств и ремесел.
Восьмая — одиннадцатая книги относятся к зоологии. Мир животных делится Плинием на четыре большие группы: наземные животные, водные животные, птицы и насекомые. Каждой из этих групп посвящена отдельная книга.
Самый большой раздел «Естественной истории» отведен миру растений. К нему надо отнести шестнадцать книг, с двенадцатой по двадцать седьмую, большая часть которых, помимо чисто ботанических описаний, трактует различные вопросы сельского хозяйства и медицины. Здесь Плиний широко пользуется трудами своих предшественников — Катона, Варрона, Гигина, Колумеллы, Цельса и других авторов.
В двадцать восьмой — тридцать второй книгах продолжается рассмотрение медицинских проблем, но уже независимо от ботаники. Описываются всевозможные лечебные средства животного происхождения.
Последние пять книг энциклопедии (тридцать третья — тридцать седьмая) посвящены неорганической природе, прежде всего металлам и минералам.
Давая характеристику «Естественной истории» в целом, мы должны отметить две бросающиеся в глаза ее отличительные черты. Первая: абсолютно некритическое отношение к источникам. Как мы уже имели возможность заметить, среди множества данных, имевшихся в распоряжении Плиния, его особенно привлекают сообщения о фактах необычных, чудесных и порой просто сказочных. Никаких попыток проверить такого рода информацию он, по-видимому, не предпринимал, причем в некоторых случаях его легковерие не может не вызвать изумления у читателя нашего времени. Приведем два характерных примера.
Так, в первой книге обращает на себя внимание пятьдесят восьмая глава, в которой говорится о лязге оружия и звуках трубы, доносящихся с неба. Процитируем эту маленькую главку целиком: «Нам рассказывали, что во время войны с кимврами были слышны лязг оружия и звук трубы, доносившиеся с неба, причем это многократно [повторялось] как до этих войн, так и после них. А в год третьего консульства Мария америны и тудерты[360] видели небесные войска, нападавшие друг на друга с востока и с запада, причем те, которые [наступали] с запада, были отброшены. Что само небо при этом пылало, представляется наименее удивительным, ибо нередко можно видеть, как облака бывают охвачены огромным пламенем» (I, 58).
А вот начало другой главы, на этот раз из книги о водных животных (девятой): «Во время правления Тиберия посольство, посланное в Олизиппо [Лиссабон], сообщило, что в какой-то пещере видели и слышали трубящего в раковину тритона, имевшего [совершенно такой же] вид, каким его представляют. Также не ложны [рассказы] о нереидах, что у них только тело шероховатое и чешуйчатое, облик же они имеют еще человеческий. Ибо нереиду видали на том же берегу, причем, умирая, она издавала печальные стоны и жившие поблизости слышали [эти стоны] в течение длительного времени. А в правление божественного Августа [римский] наместник в Галлии писал о том, что он заметил на берегу тела многих мертвых нереид. Я имею весьма надежных свидетелей из числа конников, утверждавших, что они видели в океане вблизи Гадеса морского человека, всем телом абсолютно похожего [на людей]; по ночам он подымался на корабли, причем та сторона, на которой он находился, тотчас же опускалась, а если он оставался на ней дольше, то даже погружалась в воду» (IX, 4).
Записывая подобные фантастические сообщения, имевшие явно фольклорное происхождение, Плиний неизменно ссылается на конкретных свидетелей. Этот сказочный аспект «Естественной истории» делал ее аналогом научной фантастики нашего времени и был, несомненно, одним из основных факторов, способствовавших ее широкой популярности как в древности, так и в средние века.
В качестве второй важной особенности «Естественной истории» мы отметим ее отчетливо выраженный антропоцентризм. В центре пестрого и многообразного мира Плиния всегда находится человек, и об этом наш автор никогда не забывает. Природа существует для человека, и Плиния интересуют прежде всего возможности практического использования ее богатств. Это в наибольшей степени относится к центральному — ботаническому — разделу энциклопедии. В нем лишь первые две книги, посвященные описанию заморских растений (с немалой долей сказочности), имеют своей целью удовлетворение чистой любознательности, а за ними следуют книги чисто практической направленности, повествующие о различных отраслях сельского хозяйства — о виноградниках и винах, о масличных и фруктовых деревьях, о полевых и огородных культурах и т. д. Как мы уже отмечали, сельское хозяйство было излюбленной темой многих римских авторов, тем не менее без Плиния наши знания в области италийского земледелия, садоводства и виноградарства I в. н. э. были бы значительно более скудными. Хотя сам Плиний и не был земледельцем-практиком, подобно Катону или Колумелле, хотя он допускает порой ошибки, а иногда его подводит любовь к риторике, к громкой фазе, тем не менее для историка он незаменим как пристальный и компетентный наблюдатель современного ему уклада жизни римской провинции[361].
Практическая направленность труда Плиния ясно видна и в последней части книги, где речь идет о металлах и минералах. Одна из книг этого раздела целиком посвящена получению и использованию минеральных красителей, а в другой (завершающей всю энциклопедию) Плиний с увлечением описывает всевозможные самоцветы, которые шли на изготовление гемм и прочих ювелирных изделий.
На этом мы заканчиваем рассмотрение «Естественной истории». Конечно, с нашей точки зрения, Плиний не был ученым, и его энциклопедия не выдерживает критики, с каким бы критерием, применимым к подлинно научному труду, мы к ней не подходили. Но не следует забывать, что энциклопедия Плиния была сочинением, авторитет которого считался непререкаемым в течение последующих двенадцати — четырнадцати веков! Мало можно назвать книг (за исключением, разумеется, Священного писания), которые в столь большой степени оказали бы влияние на формирование миросозерцания людей поздней античности, средневековья и даже эпохи Возрождения. Об этом свидельствует, в частности Шекспир, судя по всему бывший внимательным читателем Плиния: во многих местах его бессмертных творений ощущается явные отзвуки то той, то другой книги «Естественной истории»
Специальные сочинения первого века Римской империи
Время императора Августа и последующий I в. н. э. были эпохой расцвета римской науки, если употреблять термин «наука» с теми оговорками, которые были сделаны в начале этой главы. Помимо капитальных трудов Цельса, Сенеки и Плиния Старшего, о которых речь шла на предыдущих страницах, в эту же эпоху появляется ряд сочинений более специального характера, которые тем не менее заслуживают нашего внимания. Это, прежде всего, «Об архитектуре» Витрувия, затем «География» Помпония Мелы, «О сельском хозяйстве» Колумеллы, «О римских водопроводах» Фронтина. Все эти сочинения дошли до нас в более или менее полном виде.
Витрувий. Время жизни Витрувия явилось проблемой, вызвавшей оживленные дискуссии среди исследователей. Из авторского посвящения трактата Витрувия императору Августу вытекает, что Витрувий жил в эпоху Юлия Цезаря и Октавиана Августа, т. е. в середине и второй половине I в. до н. э. Однако некоторые ученые нашего времени ставили под сомнение это свидетельство, считая его позднейшей подтасовкой, и пытались доказать, что труд Витрувия был написан гораздо позднее — то ли в эпоху Флавиев, то ли в III в. н. э. Основной довод в пользу поздней датировки состоял в том, что в эпоху «золотой латыни» не могло появиться на свет сочинение, написанное таким грубым, «плебейским» языком. Этот аргумент, однако, не выдерживает критики. Витрувий, конечно, не принадлежал к высшему слою римской интеллигенции, получавшей первоклассное грамматическое и риторическое образование и к которой относились Варрон, Цицерон, Лукреций. По своему социальному положению Витрувий был просто ремесленником, вышедшим из такой же ремесленной среды, поэтому ни откуда не следует, что из него должен был получиться стилист в духе Цицерона или Цельса.
Сочинение Витрувия «Об архитектуре» состоит из десяти книг. В первой книге формулируются некоторые общие положения, касающиеся науки архитектора вообще и строительства городов в частности. Принципиальный интерес представляют следующие утверждения Витрувия[362]:
«Наука эта рождается из практики и теории».
«Практика есть неустанное мастерское суммирование опыта, которое тут же переходит в осуществление действием рук над материалом разного рода, какой потребен для стоящей перед оформлением задачи». «А теория есть то, что может законченные обработкой произведения подать в наглядном показе, раскрыть их со стороны ловкости исполнения и точности расчета» (I, 1, 1).
Ясно, что под теорией Витрувий понимает нечто совсем иное, чем мы. В дальнейшем он уточняет свою мысль:
«Ведь как и во всем, так и подавно в архитектуре неотделимы две стороны: изъясняемая и изъясняющая. Изъясняемая сторона вещи — это есть сама данная вещь, о которой говорят, а изъясняет ее наглядный ее показ, развернутый методами наук». «Следовательно, всякий, кто заявляет себя архитектором, обязан быть одинаково изощрен в том и другом подходе. А это значит, что архитектор должен быть и человеком, одаренным от природы, и человеком, восприимчивым к научному образованию, ибо ни дарование без науки, ни наука без дарования не могут создать законченного мастера».
«Так пусть же то будет человек, владеющий письмом, искусный в графике, обученный геометрии, знакомый с подбором рассказов из истории, прослушавший внимательно курс у философов, знающий музыку, не лишенный познаний в медицине, сведущий по части толкования законов юристами, обладающий знанием астрономии и законов небесных явлений» (I, 1, 3). Т. е. Витрувий требует от архитектора энциклопедического образования. Правда, в дальнейшем он оговаривается, замечая, что «никому нет никакой возможности при таком великом множестве разнообразных областей достигать в них исключительных тонкостей, так как познать и постичь относящиеся к ним теории есть вещь, едва ли совместимая с физической возможностью» (I,1, 14), и что «вполне достаточно преуспел тот архитектор, который хотя бы в средней степени усвоил себе из отдельных областей лишь известные части их теорий, но те именно, какие необходимы для архитектуры» (I, 1, 16).
Сам Витрувий вполне отвечает именно такому пониманию энциклопедизма. Его экскурсы в область теоретических наук (например, в астрономию) свидетельствуют о том, что его собственные познания в этой области были крайне нечеткими и поверхностными и имели своими источниками, по-видимому, греческие популярные компиляции. Вопрос о том, читал ли Витрувий эти компиляции в оригинале, или пользовался латинскими обработками типа энциклопедии Варрона, следует считать открытым.
Вторая книга Витрувия посвящена различным типам строительных материалов: кирпич-сырец, песок, известь, различные виды камней (вместе с описанием систем стенной кладки), различные древесные породы. Интересен предваряющий книгу исторический экскурс, повествующий о жизни первобытных людей, зачатках человеческой культуры, которые в большой степени стимулировались возникновением речи и изобретением огня, о постепенном и последовательном развитии строительной практики, прежде всего домостроения. Сравнение этой главы (II, 1) с заключительной частью пятой книги Лукреция об наруживает наличие общих идей. Не исключено, что Витрувий был знаком с поэмой Лукреция; возможно также, что излагаемая обоими авторами схема культурно-исторического развития человечества принадлежала к числу ходячих представлений того времени.
В третьей и четвертой книгах трактуются основные принципы строительства храмовых зданий. Проводится различение между тремя греческими ордерами: дорическим, ионийским и коринфским.
Пятая книга посвящена технике сооружения общественных зданий, прежде всего театров. Интересен экскурс в область музыкальной акустики; в частности, внимание историков театра неизменно привлекала глава о театральных сосудах, располагавшихся под сидениями театра и служивших для усиления и увеличения ясности звуков, идущих со сцены.
В шестой книге речь идет о строительстве частных (жилых) домов, а в седьмой — о различных видах отделочных работ внутри зданий, включая технику росписи стен и изготовление красок.
Самостоятельное значение имеет восьмая книга сочинения Витрувия. По существу, это небольшой трактат, посвященный проблемам гидрологии, — единственный дошедший до нас античный трактат такого рода. Книге предпослано введение, указывающее на то значение, которое придавалось воде физиками, философами и египетскими жрецами. Введение заканчивается следующими строками:
«Итак, если, согласно учению физиков, философов и жрецов, можно полагать, что силою воды держатся все вещи, я решил, что, изложив в предыдущих семи книгах теорию строений, следует в этой написать о способах находить воду и о том, какими свойствами она обладает в зависимости от особенностей места, каким способом она проводится и каким образом перед этим проверяется» (VIII, Praef. 4).
Затем идут главы, в которых излагаются методы изыскания воды (гидрологической разведки), имеющие, кстати сказать, вполне рациональный характер, и описываются свойства и особенности дождевой воды, а также вод из рек, озер и из разного рода источников, в том числе горячих. Заметим, что Витрувий хорошо знаком с идеей круговорота воды (изложенной еще в «Метеорологике» Аристотеля). Затем говорится о методах определения воды и установления ее доброкачественности, об устройстве водопроводных сооружений (для которых Витрувий рекомендует пользоваться не свинцовыми, а гончарными трубами) и, наконец, о рытье колодцев и устройстве цистерн для хранения воды.
В девятой книге трактата содержится описание основных типов часов, которыми пользовались древние, — как солнечных, так и водяных. Книге предпосылается небольшое астрономическое введение, материал для которого был, по-видимому, заимствован из популярных сочинений по астрономии, имевших хождение в то время (типа сочинений Гемина или Клеомеда, о которых мы говорили в пятой главе). Витрувий кратко (очень кратко!) говорит об устройстве Вселенной, о вращении небесного свода, о движении планет вдоль зодиакального пояса (с указанием периода обращения каждой планеты). Очень невнятное упоминание особенностей движения Меркурия и Венеры побудило некоторых исследователей утверждать, что Витрувий был сторонником теории солнечной системы Гераклида Понтийского. Нерегулярности в движении внешних планет (чередование прямых и попятных движений) объясняются Витрувием с помощью стоической идеи о действии на эти планеты солнечных лучей[363]. Для объяснения лунных фаз Витрувий предлагает две гипотезы; одна ив них, связываемая с именем халдейца Бероса[364], состоит в том, что у Луны имеются две половины — одна светящаяся, а другая темная, причем светящаяся привлекает к себе, по принципу взаимной симпатии (вспоминается Посидоний!), солнечные лучи, а темная всегда остается темной. Автором второй, правильной гипотезы Витрувий почему-то считает Аристарха Самосского, хотя на самом деле ее предложил еще Анаксагор. В заключение дается крайне лаконичное описание некоторых созвездий.
Последняя, десятая книга трактата Витрувия — самая разнородная из всех. В основном она посвящена описанию различного рода машин. Это — машины для подъема тяжестей (блоки, триспасты, полиспасты), рычажные весы (с рассуждениями о принципе действия рычага), водоподъемные устройства, водяные мельницы, водяные органы, приборы для измерения пройденного пути. Затем идут военные машины — «скорпионы», баллисты, катапульты, осадные сооружения (тараны, «черепахи»). Трактат заканчивается описанием различного рода оборонительных приспособлений — рвов, траншей и т. д. Короче говоря, эта книга в большей степени, чем все прочие, напоминает техническую энциклопедию.
Впрочем, и весь трактат Витрувия может рассматриваться в качестве единственной в своем роде технической энциклопедии того времени. Хотя в основной своей части трактат посвящен проблемам строительного дела, в нем фактически представлены все отрасли античной техники (за исключением, пожалуй, одного только судостроения). В этом отношении трактат «Об архитектуре» является бесценным документом для каждого исследователя материальной культуры древнего мира.
В заключение отметим одну важную особенность трактата Витрувия, резко отличающую его от «Естественной истории» Плиния и от многих позднейших сочинений римских авторов. В своем трактате Витрувий выступает не только как опытный инженер, как специалист своего дела, но и как трезво мыслящий человек, далекий от стремления поразить воображение читателя рассказом о необычных, фантастических вещах — стремления, которым отмечены столь многие страницы «Естественной истории». Характерно, что, даже рассказывая о методах обнаружения подземных источников, Витрувий ни слова не говорит о «волшебном пруте», применяемом при поисках подземных вод и рудных залежей во многих странах вплоть до нашего времени. Методы, описываемые Витрувием, вполне рационалистичны и могут быть обоснованы строго научно.
Помпоний Мела. Несмотря на то что география всегда принадлежала к числу наук, имевших большое практическое значение, она почему-то не привлекала к себе внимания римских ученых и, за исключением «Естественной истории» Плиния, даже не была представлена в латиноязычных энциклопедиях. Среди выдающихся географов древнего мира мы находим только греческие имена; это — Гекатей, Геродот, Эратосфен, Гиппарх, Посидоний, Страбон, Павсаний, Птолемей. Первым латинским трактатом по географии была «Хорография» («Описание местностей») в трех книгах Помпония Мелы, и хотя этого автора никак нельзя поставить в один ряд с перечисленными греческими учеными, все же несколько слов о его сочинении мы скажем.
Помпоний Мела, живший в середине I в. н. э., не был ученым-географом, и сообщаемая им информация ни в какой мере не была результатом его собственных изысканий. Все, что мы находим в его трактате, уже содержалось за немногими исключениями в «Географии» Эратосфена. Мела жил в эпоху, когда границы Римской империи далеко раздвинулись, достигнув Британии на севере и Эфиопии на юге, однако никаких попыток описать новые земли, подпавшие под власть римлян, Мела не предпринимает. Целые области, приобретшие к этому времени жизненную важность для Рима, — например, альпийские и придунайские провинции и Дакия — полностью им игнорируются. А говоря о Германии, он ограничивается замечанием, что германские географические названия имеют слишком варварское звучание, чтобы римляне были в состоянии их произносить. Зато он находит место для сообщений о сказочных пигмеях, амазонках, гипербореях, о птице феникс, о племенах безголовых и козлоногих людей, о которых писал в свое время Геродот. Все это чередуется с пассажами, имеющими чисто риторический характер. В целом трактат Мелы может служить атипичным примером римской компилятивной псевдонауки; несмотря на это (а может быть, именно поэтому), «Хорография» пользовалась широкой популярностью среди римских читателей и явилась одним из основных источников для географического раздела «Естественной истории» Плиния Старшого.
Колумелла. Это имя уже упоминалось нами в связи с работами по сельскому хозяйству Варрона и Плиния. Однако он заслуживает того, чтобы о нем сказали особо. Луций Юний Модерат Колумелла, родом из Гадеса (Испания), был современником Сенеки. Будучи отпрыском древнего рода Юниев, Колумелла получил превосходное образование, в основе которого лежало хорошее знакомство с греческой и римской литературой и умение владеть речью — как письменной, так и устной. Пройдя военную службу и получив звание военного трибуна (в качестве которого он находился некоторое время в Сирии), Колумелла вышел в отставку, но вопреки обычаю не стал домогаться юридической и административной карьеры, а приобрел несколько земельных участков в Ладиуме и Этрурии и занялся земледелием. В молодости он написал небольшую книгу «О деревьях» (De arboribus), однако основным трудом его жизни явился трактат «О сельском хозяйстве» (De re rustica) в двенадцати книгах, написанный им на склоне жизни и в котором он изложил итоги многолетнего опыта своей земледельческой деятельности[365]. После вступительной первой книги, в которой даются советы по поводу наиболее рационального устройства имения, Колумелла переходит к отдельным отраслям сельского хозяйства, последовательно касаясь вопросов хлебопашества (вторая книга), виноградарства и ухода за фруктовыми деревьями (третья — пятая книги), скотоводства (шестая — седьмая книги), птицеводства и рыбного хозяйства (восьмая книга), пчеловодства (девятая книга). Десятая книга, написанная в подражание «Георгикам» Вергилия в стихах, посвящена садоводству, а в двух последних (одиннадцатой и двенадцатой) книгах речь идет об обязанностях управляющего имением (вилика).
Основная идея, сквозной нитью проходящая через весь трактат Колумеллы, состоит в том, что упадок италийского сельского хозяйства обусловлен невежеством в вопросах агрокультуры, что земледелец должен быть знающим, умелым и энергичным хозяином, что за землей надо ухаживать, земле надо помогать и тогда она будет давать нам хорошие урожаи. «Не усталость и не старость, как думает большинство, а наша собственная лень и бездеятельность сделала поля менее к нам благосклонными» (II. 1.7), — пишет Колумелла. Его трактат поэтому есть не только свод знаний, относящихся к определенной области человеческой деятельности; он имеет ясно выраженную дидактическую направленность, ибо он написан как руководство для молодого сельского хозяина.
Подобно тому как «Об архитектуре» Витрувия мы назвали технической энциклопедией, трактат Колумеллы, охватывающий все отрасли сельскохозяйственного производства, может быть назван сельскохозяйственной энциклопедией эпохи Римской империи. Это был именно тот жанр литературы, в котором римская наука преуспела больше всего. Отметим также, что в отличие от Витрувия Колумелла был первоклассным мастером римской прозы и его трактат по справедливости считается одним из лучших образцов латинской литературы августовского века.
Фронтин. Остается упомянуть только Секста Юлия Фронтина, военачальника и администратора второй половины I в. н. э., автора не сохранившегося сочинения по военному делу (Stratagemata в трех книгах) и дошедшего до нас небольшого трактата «О римских водопроводах» (De aquis urbis Romanis). Написание последнего было стимулировано тем обстоятельством, что в течение нескольких лет Фронтин занимал пост заведующего водоснабжением города Рима (curator aquarum). В этом сочинении (которое можно рассматривать как конкретное развитие главы Витрувия о водопроводах) дается детальное описание акведуков, снабжающих Рим водой. В первой части Фронтин перечисляет одиннадцать существовавших в его эпоху акведуков, рассказывает историю их создания и указывает источники, откуда они берут воду. Во второй части приводится детальная информация, относящаяся к устройству и характеру функционирования этих акведуков. Информация эта представляет безусловный интерес для историков античной техники. Трактат написан лаконичным деловым языком, без всяких отступлений от основной темы.
Деградация римской науки во II–V вв. н. э
По сравнению с эпохой, в которую создавались труды Витрувия, Цельса, Сенеки, Колумеллы и (несколько позднее) Плиния Старшего и которая была одновременно «золотым веком» латинской художественной литературы, II век н. э. ознаменовался постепенным упадком по всем направлениям. Но если в области художественного творчества второй век еще может гордиться сатирами Ювенала и «Метаморфозами» Апулея, то научная проза не выдвинула за этот период ни одного известного имени. Заметим, впрочем, что, формулируя такой суровый вердикт, мы имеем в виду только латиноязычную науку, ибо для греческой науки этот же самый век был временем нового поразительного взлета: достаточно сказать, что именно к этому времени относится творческая деятельность таких гигантов, как Птолемей и Гален.
Характерной чертой латиноязычной науки II в. н. э. был отход от реальных проблем действительности, находившихся в центре внимания римских ученых предыдущей эпохи, и углубление в далекую от жизни антикварную схоластическую ученость. Примером такой тенденции может служить творчество Авла Геллия (130–180 гг. н. э.), автора знаменитых «Аттических ночей» (Noces atticae) в двадцати книгах, из которых до нас не дошла только восьмая книга. Это сочинение представляет собой весьма беспорядочную компиляцию отрывков и пересказов (эпитом), взятых из множества греческих и римских писателей. Этот материал содержит сведения из самых различных областей знания — литературы, грамматики, истории, философии, права, медицины, математики и естествознания. Сами по себе эти сведения не содержат ничего нового, но представляют интерес, поскольку в них содержится информация (и подчас уникальная) о писателях, философах и ученых прежних времен. В своем сочинении Геллий приводит цитаты примерно из 250 авторов, причем многие из этих цитат известны только благодаря ему. В этом и только в этом состоит значение «Аттических ночей».
В III столетии наследником энциклопедической традиции Варрона и Плиния явился Кай Юлий Солин, точные даты жизни которого нам неизвестны, но от которого до нас дошло сочинение, имеющее характерное заглавие «Собрание примечательных вещей» (Collectanea rerum memorabilium). Источниками для этого сочинения послужили прежде всего «Хорография» Помпония Мелы и «Естественная история» Плиния Старшего, хотя сам Солин, перечисляя 63 авторов, которым он якобы был обязан своими сведениями, ни разу не упоминает ни Мелу, ни Плиния. Как показал издатель Солина знаменитый немецкий ученый Теодор Моммзен, в энциклопедии Солина можно обнаружить 38 извлечений из «Хорографии» и около 1150 — из «Естественной истории». За исключением первой главы, в которой речь идет об удивительных фактах, касающихся человека (и заимствованных почти исключительно из седьмой книги Плиния), энциклопедия Солина посвящена в основном географии стран средиземноморского бассейна, причем описания тех или иных мест перемежаются в ней рассказами о разного рода удивительных и чудесных фактах. Книга Солина пользовалась исключительной популярностью в средние века.
IV и V века н. э. характеризуются в латиноязычной литературе возрождением интереса к космологической тематике, что можно объяснить влиянием неоплатонической философии, ставшей к этому времени ведущим философским учением. В плане этой космологической тенденции следует упомянуть три имени — Халкидия, Макробия и Марциана Капеллы.
Халкидий — неоплатоник IV в. н. э.; от него до нас дошел комментарий к первым двум третям «Тимея» Платона. Это — очень объемистое сочинение, в пять раз превышающее текст самого «Тимея». Метод Халкидия состоит в том, что он цитирует пространные пассажи из платоновского диалога (в своем переводе на латинский язык), которые служат для него предлогом для рассуждений на те или иные темы, порой не очень связанные с цитируемыми отрывками. Рассуждения Халкидия, порой очень запутанные и маловразумительные, несут на себе явную печать неопифагорейской мистики чисел. Для истории науки наиболее интересна пятая глава комментария Халкидия, в которой говорится об астрономии. В свое время эта глава давала повод оценивать Халкидия как довольно компетентного ученого в отношении знания античной астрономии, значительно превосходящего всех своих римских предшественников. Более детальное изучение текста этой главы показало, однако, что в большей своей части она представляет собой свободный перевод ряда мест (почти половины) трактата по астрономии Теона из Смирны, ученого II в. н. э., которого мы упоминали в пятой главе настоящей книги. Сам Халкидий ни разу не сылается на этот источник. Лишь закончив изложение трактата Теона, Халкидий в конце главы снова возвращается к Платону.
Из отдельных частностей комментария Халкидия отметим, что он повторяет ошибку Теона, утверждая, что Солнце в своем движении отклоняется от эклиптики на угол 1/2° (в созвездии Весов). Для историка астрономии представляет интерес утверждение, что Эратосфен еще придерживался старой (платоновской) точки зрения на порядок расположения планет, согласно которой Солнце идет сразу за Луной, а уже затем следуют Меркурий, Венера и т. д. Отметим также, что комментарий Халкидия является одним из немногих источников наших сведений о системе мира Гераклида Понтийского. Правда, Халкидий говорит только о движении Венеры вокруг Солнца (опуская Меркурий), но это, по-видимому, было с его стороны простой оплошностью. Еще более грубую ошибку он допускает, приписывая Гераклиду (и даже Платону) идею эпициклов.
Несмотря на несамостоятельность Халкидия, его все же следует считать первым латиноязычным автором, который попытался усвоить достижения греческой астрономии.
Время жизни Макробия относится к началу V в. н. э. Сохранились два сочинения этого автора, имевшие большой успех в средние века: «Сатурналии» и комментарий ко «Сну Сципиона» Цицерона. Первое из них представляет собой последний образец литературного жанра, начало которому было положено «Пиром» Платона. Во время римского праздника сатурналий, который, как известно, продолжался несколько дней, некая компания высокообразованных друзей собирается в доме богатого и знатного римлянина Ветия Претекстата и проводит время в беседах па различные занимающие их темы, в том числе и па научные. Эти беседы представляют для нас интерес главным образом тем, что в них содержится множество сведений, касающихся римских древностей, фольклора и религии.
Для историка науки значительно более важным представляется комментарий ко «Сну Сципиона». Не говоря о том, что именно благодаря Макробию мы располагаем полным текстом этого шедевра «золотой» латинской прозы, комментарий интересен тем, что в нем впервые на латинском языке дается сжатое изложение неоплатонистской философии. Основным источником для Макробия послужили, по-видимому, сочинения неоплатоника Порфирия, хотя сам автор утверждает, что основоположником неоплатонизма был Цицерон (подобные анахронизмы крайне типичны для научной литературы поздней античности). Астрономический раздел комментария Макробия содержит массу путаницы и различного рода неправдоподобных сведений; характерно, например, что сплошь и рядом он ссылается на древних египтян, в то же время игнорируя достижения греческой астрономии (возможно, впрочем, что он даже не был знаком с этими достижениями). Несмотря на эту путаницу (а может быть, именно благодаря ей) в средние века Макробий считался одним из высочайших авторитетов в области астрономии.
В лице Марциана Капеллы (V в. н. э.) мы встречаем последнего античного энциклопедиста варроновской традиции. Его единственное сочинение «Брак Меркурия и филологии» (De nuptiis Philologiae et Mercurii) состоит из девяти книг, две из которых служат общим введением, а остальные посвящены соответственно грамматике, диалектике, риторике, геометрии, арифметике, астрономии и музыке. Источниками для Капеллы служили Варрон, Плиний, Солин и какие-то не дошедшие до нас латинские учебники, черпавшие свой материал из соответствующих греческих трактатов (таких, как «Арифметика» Никомаха и «Об астрономии» Теона). Любопытно, что некоторые (правильные!) астрономические данные, сообщаемые Капеллой, не содержатся ни в каких письменных источниках и, возможно, были сообщены ему кем-либо из современных ему астрономов, еще продолжавших наблюдать за небом либо и Александрии, либо в каком-нибудь другом пункте Северной Африки. Но этим, пожалуй, исчерпывается все положительное, что можно сказать о труде Капеллы. Напыщенный стиль, дешевая риторика и безвкусная аллегоричность показывают, насколько деградировала римская проза со времен Цицерона и Цельса. Тем не менее сочинение Капеллы пользовалось большой популярностью в средние века, когда его комментировали такие авторитеты, как Эригена и Ремигий из Оксерра. Для историков римской науки энциклопедия Капеллы представляет известный интерес в той мере, в какой она позволяет реконструировать некоторые места из не дошедшей до нас энциклопедий Варрона.
Глава восьмая На рубеже двух эпох
Интереснейшей историко-научной проблемой была и остается проблема так называемого «упадка» античной науки. Бесспорно, что в целом наука эпохи Римской империи не могла подняться до тех высот, которые были достигнуты александрийской научной школой в III–II вв. до н. э. Но надо учесть, что развитие науки никогда не происходит равномерно: периоды расцвета той или иной дисциплины сменяются периодами застоя, причем для различных дисциплин эти периоды обычно не совпадают.
Эпоха I в. до н. э. — I в. н. э. не выдвинула ни одного крупного имени в области математики или астрономии, сравнимого с именами Эвклида, Архимеда, Аполлония Пергского, Гиппарха, зато к этому времени относится деятельность крупнейшего ученого стоической школы Посидония, географа Страбона, ботаника Диоскорида. Мы не говорим о замечательных трудах греческих и римских историков этой эпохи — Полибия, Дионисия Галикарнасского, Тита Ливия и других, рассмотрение которых выходит за рамки нашего исследования. Что касается точных наук, то и в них начиная с конца I в. н. э. намечается новый подъем, причем столицей этих наук, как и прежде, остается Александрия. Менелай, Герон, Птолемей, Диофант, Папп, Теон — к любому из этих имен, добавляется определение «Александрийский», бывшее в те времена эквивалентом нынешней фамилии. Уже одно перечисление этих имен показывает, что об упадке точных наук в период II–IV вв. н. э. говорить никак не приходится. Лишь трагическая гибель Гипатии в 418 г. как бы символизировала конец александрийской научной школы, просуществовавшей, таким образом, около семи столетий.
Рассматривая интеллектуальную жизнь этой эпохи ε более широком плане, можно выделить следующие основные направления:
1. Научное направление, связанное в основном с александрийской школой, важнейшие представители которой были только что перечислены. Особенностью научных изысканий александрийских ученых во II–IV вв. н. э. было то, что они не только существенно продвинули классические греческие дисциплины, к каковым следует отнести прежде всего геометрию, геометрическую алгебру, теоретическую и наблюдательную астрономию, но и наметили ряд новых путей, получивших развитие уже в XVI–XVIII вв. Известную стимулирующую роль при этом сыграло использование достижений восточной, в частности вавилонской, науки, существенно отличавшейся от греческой науки классического периода как по своим задачам, так и по методам.
В области астрономии это означало, прежде всего, усвоение богатейшего наблюдательного материала, накопленного вавилонскими звездочетами на протяжении многих столетий. Греческие астрономы заимствовали также принятое у вавилонян деление круга на градусы, минуты и секунды. Любопытно, что именно в связи с этим делением у Птолемея впервые появляется понятие нуля, отсутствовавшее в классической греческой математике. Но в основном деятельность Птолемея была скорее деятельностью завершителя, чем пролагателя новых путей. Его система мира была итогом усилий многих греческих ученых, начиная с Эвдокса, направленных на построение рациональной геоцентрической модели мира, которая позволила бы объяснить все факты, относящиеся к движению небесных тел (σώζειν φαινόμενα — «спасти явления», как говорили греческие авторы). Дальше Птолемея астрономии, основанной на принципе геоцентризма, идти было некуда. Мы говорили выше, при обсуждении системы Птолемея, что эта система уже содержала в зашифрованном виде всю гелиоцентрическую астрономию, какой она предстала человечеству после открытия законов Кеплера. Задача состояла, казалось бы, в немногом — в изменении точки зрения (тем более что в лице Аристарха мы уже имели соответствующий прецедент). В том, что на это потребовалась тысяча с лишним лет, греческие ученые были не виноваты. Можно не сомневаться, что при нормальном развитии, без тех катаклизмов, которые вскоре постигли Европу и прилегающие к ней культурные ареалы, указанный процесс мог бы осуществиться в более короткие сроки.
Еще в большей степени это относилось к математике. В этой области уже в античности: появились новые свежие ростки, свидетельствовавшие о том, что греческая математика была способна выйти за пределы геометрической алгебры классического периода. Ярчайшим примером этого служит «Арифметика» гениального Диофанта. Представляется несомненным, что истоки открытий Диофанта восходят в конечном счете к методам вавилонской алгебры, хотя из-за отсутствия данных мы не в состоянии восстановить промежуточные звенья, соединявшие Диофанта с вавилонянами. Бесспорной заслугой Диофанта было создание алгебраической буквенной символики; правда, эта символика еще очень непохожа на нашу (так, например, в ней еще нет знака +, хотя существует особый символ для вычитания), она кажется нам сложной и неуклюжей, и тем не менее самый факт создания такой символики был громадным шагом вперед. Но дело не только в этом. Развитые Диофантом методы решения неопределенных уравнений были воскрешены из небытия в XVI в. и оказали огромное влияние на работы Виета и Ферма. Эти методы находятся в таком же отношении к позднейшей алгебре и теории чисел, в каком архимедовские методы вычисления площадей и объемов послужили предвосхищением анализа бесконечно малых. Но и помимо Диофанта математика поздней античности содержит ряд «прорывов в будущее». Если зачинателем тригонометрии можно считать еще Гиппарха, то в ныне утерянной книге Менелая Александрийского тригонометрия получила дальнейшее значительное развитие. Кроме того, Менелай заложил основы новой дисциплины — сферической тригонометрии, изложенной в трех книгах «Сферики», дошедшей до нас в арабском переводе. Некоторые теоремы Паппа, содержащиеся в ого «Математическом сборнике», были вновь доказаны в XVII в. Дезаргом и Паскалем и положили начало проективной геометрии, как особой ветви математической науки.
2. Философия в эпоху поздней античности претерпела сложное развитие. В течение последних веков до н. э. наиболее влиятельными философскими школами оказались стоики и эпикурейцы, в то время как перипатетическая школа быстро пришла в упадок, а так называемая Средняя Академия, наиболее значительными руководителями которой были Аркесилай и Карнеад, отошла от ортодоксального платонизма и подпала под влияние скептицизма;
……
Плотин родился в 204/5 г. н. э. в Египте, учился в Александрии, а после 244/5 г. переехал в Рим, где и основал свою школу. В учении Плотина элементы платонизма и аристотелизма гармонично сливаются, образуя систему детально разработанного абсолютного идеализма, в центре которой лежит понятие Единого — первичного трансцендентного начала, второй и третьей ипостастью которого оказываются Ум и Душа. Дальнейшей разработкой и популяризацией учения Плотина занимались его ученики — Амелий и Порфирий.
Следующий, «сирийский» этап развития неоплатонизма связан с деятельностью, прежде всего, Ямвлиха, включившего в систему неоплатоновской философии многочисленные культово-религиозные и мистериальные элементы. Высшей точкой общественного влияния неоплатоников было правление императора Юлиана (Отступника), который сблизился с учениками Ямвлиха Эдесием, Максимом, Хрисанфием, принял философию неоплатонизма, а в качестве народной религии восстановил языческие культы. Гибель Юлиана в 363 г. коренным образом изменила ситуацию, после чего центр деятельности неоплатоников переносится в афинскую Академию.
Наиболее известными философами «афинского» периода неоплатонизма были Плутарх Афинский, Сириан (прозванный «великим») и, наконец, Прокл — наиболее универсальный ум среди неоплатоников, оставивший после себя громадное рукописное наследие. Дошедшие до нас трактаты Прокла затрагивают самые различные области знания и в значительной части все еще остаются неизученными. Даты жизни Прокла: 410–485 гг.
Учеником Прокла был Аммоний, сын Германия (которого не следует путать с Аммонием Саккасом, учителем Плотина). Перебравшись в Александрию, он возглавил там филиал неоплатонистской школы. Вместе со своими учениками, среди которых известны имена Иоанна Филопона, Асклепия, Олимпиодора и Симгагикия (учившегося также у Дамаския в Афинах), Аммоний направил основные усилия школы на комментирование трактатов Аристотеля. Многие из этих комментариев сохранили непреходящее значение вплоть до нашего времени.
Афинская школа не выдвинула после смерти Прокла ни одного сколько-нибудь значительного мыслителя. В 529 г. указом императора Юстиниана деятельность Ака демии была прекращена. Жившие в Афинах философы были изгнаны из Греции и вынуждены были искать убежища и Персии. Так закончилось более чем тысячелетнее развитие греческой философии.
3. Третьим направлением, характеризовавшим духовную жизнь эпохи Римской империи в первых веках нашей эры, было христианское богословие. Нe следует думать, что оно было неизменно враждебно греческой философии. Между этими двумя потоками интеллектуальной жизни существовало сложное взаимодействие: борясь с язычеством (и в том числе, разумеется, с греческой философией), отцы церкви многое брали от стоиков, Платона и Аристотеля, а впоследствии, конечно, и от неоплатоников.
Христианское богословие, как это отмечал еще Энгельс, в немалой степени обязано учению Филона Александрийского, жившего на рубеже обоих тысячелетий (ок. 25 г. до н. э. — ок. 50 г. н. э.). К этому времени еврейская община, существовавшая в Александрии, подверглась интенсивному процессу эллинизации. Именно таким эллинизированным иудеем был и Филон. Хотя он оставался верным приверженцем иудаизма, близким ему языком был уже не иврит, а греческий. Во всяком случае, все его сочинения написаны по-гречески, и Библию Филон цитирует не по оригиналу, а по каноническому переводу Септуагинты.
Филон был виднейшим представителем так называемой библейской экзегетики. Следует, впрочем, заметить, что аллегорическое толкование библейских текстов предпринималось и ранее; этим, например, занимался Аристобул (II в. до н. э.). Образцов этой ранней экзегетики мы не знаем, от Филона же до нас дошло множество сочинений, пользовавшихся большим авторитетом среди идеологов раннего христианства. Не случайно Энгельс назвал Филона Александрийского «отцом христианства»[366].
Основная идея экзегетики Филона состояла в том, что, по его мнению, Пятикнижие Моисея и греческая философия говорят, в сущности, об одном и том же, хотя ценность их далеко не равнозначна. Мудрость греческих философов — Пифагора, Платона, стоиков, — так полагал Филон, — восходит, в конечном счете, к Пятикнижию, в котором содержится вся полнота божественной истины, облеченной в иносказательную форму. Задача толкователя состоит в том, чтобы под внешней мифической оболочкой обнаружить глубочайший смысл библейских текстов. Именно эту задачу пытается решить Филон в своих экзегетических сочинениях.
Раннее христианское богословие — обычно именуемое патристикой — состояло из двух заметно различающихся линий. Водораздел между ними проходил как раз в вопросе отношения к философии. Если Юстин (Мученик), Ипполит, Климент Александрийский, Ориген были знатоками греческой языческой философии и признавали за ней право называться мудростью, хотя и низшего рода по сравнению с божественным откровением, то представители другой линии, имена которых будут названы ниже, отвергали философию начисто, как вредное и опасное заблуждение. У нас сначала пойдет речь о представителях первой линии.
Уже первый из названных богословов — Юстин (середина II в. н. э.) разъяснил, почему философию следует считать мудростью низшего рода. Во-первых, потому, что богооткровенная истина (а именно такова истина Священного писания) бесспорно выше истин, открываемых несовершенным человеческим разумом. Во-вторых, истины Писания имеют за собой преимущество древности, ибо они были изложены еврейскими пророками задолго до греческих философов. Оба этих аргумента были заимствованы Юстином у Филона. В-третьих, Священное писание ясно и общедоступно, в то время как сочинения философов написаны трудным и изощренным языком, доступным лишь немногим. В-четвертых, истина, поскольку она истина, должна быть единой (какой она и предстает нам в Писании), в то время как греческая философия состоит из многих соперничающих школ и противоречащих друг другу учений. Эти аргументы были восприняты последующими богословами и широко развивались ими. В позитивной части своего учения Юстин дал мало оригинального, следуя в основном стоикам и Филону. Заметим, что отождествление Логоса с Христом впервые встречается именно у Юстина.
Не очень оригинален и Ипполит (конец II — начало III в. н. э.), деятельность которого была в основном направлена на борьбу с гностицизмом — религиозным синкретическим учением, приобретшим широкое распространение во II в. Важнейший полемический тезис Ипполита состоял в том, что источником гностицизма было отнюдь не Священное писание, и не божественное откровение, а языческая философия и мифология, причем гностики взяли оттуда наиболее темные и недостоверные мнения. Будучи блестящим знатоком греческой философской литературы, Ипполит дает подробное и, вообще говоря, очень объективное изложение старых учений, выискивая в них идеи, заимствованные будто бы гностиками. Критическая часть сочинений Ипполита потеряла впоследствии свое значение, сообщаемые же им сведения о воззрениях ранних греческих мыслителей до сих пор входят в наиболее ценный фонд античной доксографии.
Климент Александрийский (ум. ок. 215 г.) был родом из Афин, получил первоклассное философское образование и принял христианство уже в зрелом возрасте. Он считался ученейшим среди христианских богословов раннего периода. Основной проблемой, которая его занимала, была проблема соотношения веры и знания, религии и философии. Разумеется, Климент признавал примат веры над разумом и принимал важнейший догмат христианства о том, что спасение души обеспечивается верой и праведной жизнью. В то же время он полагал, что идеал духовного совершенства состоит в гармонии веры и знания. Для достижения этой гармонии следует прежде всего изучить основные науки — грамматику, риторику, математику, астрономию, музыку и особенно диалектику. Но все это служит лишь ступенью к постижению философии, которая есть высшее знание, уже само по себе приближающее нас к истинной вере. Между Евангелием и философией, в лучших ее проявлениях, нет противоречия — это как бы «две ветви одного древа». Из всех философских учений Климент выше всего ставил платонизм; так, например, он доказывал тождество библейского мифа о сотворении мира и космогонии, изложенной в «Тимее», и даже прямо называл Платона «одним из еврейских философов» (ό έξ 'Εβραίων φιλόσοφος).
Очень интересную фигуру представляет собой Ориген Александрийский (род. в 185 г. в христианской семье, учился одновременно с Плотином у Аммония Саккаса, ум. ок. 254 г.). В отношении экзегезы Библии Ориген пошел дальше всех своих предшественников, не исключая Филона. В текстах Ветхого завета он находил не только основные положения греческой философии, но и указания на учение Христа. Не будучи уверен в боговдохновенности переводчиков Септуагинты, Ориген выучил иврит, чтобы читать Библию в подлиннике. Как и Климент, Ориген был знатоком греческой философии, но относился к ней более сдержанно: так, Платон не был для него авторитетом сам по себе. Ориген создал собственную философско-теологическую систему, имеющую много точек соприкосновения с учением Плотина; возможно, что известную роль в этом сыграло влияние их общего учителя. Бог Оригена — первичная идея, которая ниоткуда не может быть выведена; это — Монада, непостижимая в своей простоте, стоящая выше всякого бытия и всякого мышления. Правда, в одном из своих сочинений Ориген следует Аристотелю, утверждая, что Бог есть чистая мысль, которая мыслит саму себя. Творение мира осуществляется через вторую ипостась Бога — его единородного сына, который есть Христос и есть Логос. Процитируем самого Оригена: «Логос есть высочайшая истина, прообраз разумных существ, начало причин всех вещей, источник всех сил, образец, по которому сотворен мир. В нем план мира и идеи всего сотворенного. Все, что есть разумное и благое, — от него»[367]. В своей космогонической концепции Ориген отступает как от традиционной трактовки первых строк Книги Бытия, так и от космогонии «Тимея». Бог творит вещи не из бесформенной материи (ибо материя не может быть, подобно Богу, вечной), а из абсолютного небытия, причем процесс творения вечен и не имеет ни начала, ни конца. Правда, тот мир, в котором мы живем, имеет начало и конец, но до него существовали иные миры («эоны»), а после него будут возникать новые, последовательно сменяющие друг друга. Учение Оригена было впоследствии отвергнуто церковью; тем не менее оно оказало определенное влияние на развитие последующей богословской традиции.
Как уже было сказано выше, в христианском богословии существовала и другая традиция, для которой было характерно резко враждебное отношение к языческой философии. Одним из ранних ее представителей был богослов II в. Татиан, который хотя и был учеником Юстина, но отнюдь не разделял уважительного отношения последнего к греческой философии. В полемическом сочинении «Против греков» Татиан предпринял яростную атаку против всей эллинской культуры, обвиняя ее в ничтожности, несамостоятельности и безнравственности. Греческой философии он противопоставляет «мудрость варваров», причем под варварами в данном случае понимаются прежде всего иудеи. В своем бунте против элитарной античной культуры Татиан выражал настроения, распространенные среди беднейших слоев населения периферийных провинций Римской империи.
Сходное отношение к греческой философии было присуще некоторым латиноязычным идеологам христианства того же или более позднего времени. Наиболее яркой фигурой среди них был, несомненно, Тертуллиан (р. ок. 160 г.), которому приписывается знаменитое изречение «Credo quia absurdum est». Считая, что христианская вера уже содержит в себе всю полноту истины, Тертуллиан отрицал ценность любой философии, даже если она ограничивает свою задачу чистой экзегетикой, ибо любая философия, по его мнению, неизбежно ведет к ереси. Необученные и простые люди более склонны к принятию веры, чем философы и ученые. Будучи, таким образом, ярым антирационалистом, Тертуллиан не отрицал ценности опыта — как религиозно-мистического, так и обыденного. Впрочем, он признавал и разум, по только в его естественных природных проявлениях; в этом отношении он сходился с греческими киниками. В некоторых сочинениях Тертуллиана очень сильны эсхатологические мотивы. Любопытно, что именно у него впервые встречается термин «Троица» (trinitas).
Критику философского рационализма (в частности, платонизма) продолжил через сто лет после Тертуллиана Арнобий, собственные взгляды которого окрашены скептицизмом и пессимизмом. Этот пессимизм, возможно, объясняется тем, что Арнобий писал в годы наиболее жестоких гонений христиан со стороны императора Диоклетиана. Напротив, у ученика Арнобия, Лактанция, время деятельности которого совпало с царствованием императора Константина (306–337 гг.), когда христианство впервые стало в Риме государственной религией, от этого пессимизма не осталось и следа. Будучи выдающимся ритором и писателем-стилистом, Лактанций поставил перед собой задачу сочетать христианство с латинской образованностью. Любимым автором Лактанция был Цицерон; греческую литературу и философию он, по-видимому, знал значительно хуже. Как и его предшественники, Лактанций доказывал, что в язычестве не может быть истинной мудрости, но в его отношении к античной культуре нет и следа яростной ненависти Татиана или Тертуллиана; он взирает на нее сверху вниз, со снисходительностью победителя. Как мыслитель Лактанций обнаружил мало оригинальности.
В философии Августина Блаженного (354–430) обе указанные линии слились воедино. Августин был бесспорно одной из величайших фигур в истории мировой философской мысли. Пройдя сложную духовную эволюцию, о которой он рассказывает в своей «Исповеди», испытав влияния Цицерона, неоплатоников, манихейства, Августин выработал систему воззрений, послужившую основой, на которой было воздвигнуто здание средневекового католического богословия. По сравнению с греческой философией — даже по сравнению с неоплатопизмом — учение Августина явилось принципиально новым этапом. В этом учении получили глубокую разработку такие понятия, как самосознание, свобода воли, совесть, личность — понятия, которых не знала языческая культура. А некоторыми своими аспектами мышление Августина оказалось близким философам нового времени — Декарту, Лейбницу и др.
Мы ограничимся этими краткими замечаниями, поскольку рассмотрение философии Августина Блаженного выходит за рамки данной книги.
От античности к средневековью
Пятый век — век окончательного падения Римской империи. Ее западная часть распалась под ударами варварских орд — сначала готов, а затем гуннов, и на ее развалинах возникли новые государства, социальная структура которых уже ничего общего не имела с античным рабовладельческим обществом. Более жизнеспособной оказалась восточная часть империи — Византия, считавшая себя наследницей как римской государственности, так и греческой культуры. Духовная жизнь Византийской пиперин была исключительно пестрой и противоречивой: это был конгломерат античных традиций и воинствующего христианства, церковной ортодоксии и многочисленных ересей, греческого культурного наследия и разнородных восточных наслоений. По установившейся традиции история Византии шестого и последующих веков относится уже к средневековью, хотя здесь и нельзя провести такой резкой черты между обеими эпохами, какой на Западе было низложение с престола последнего римского императора Ромула Августула (в 476 г.).
И вот на рубеже V и VI столетий наш мысленный взор останавливается на трех фигурах, которые служат как бы связующими звеньями между античностью и новой средневековой культурой. Это — Боэций, Иоанн Филонон, Симпликий. Фигуры, конечно, неравнозначные — ни по доведшей до нас о них информации, ни по той известности, которая выпала на долго каждой из них в последующем. Но между тем все трое участвовали в деле великого исторического значения — в деле сохранения и передачи будущим поколениям античного культурного наследия.
В средние века наибольшей славой из них пользовался Северин Боэций (480–526). Он родился в знатной римской (и, по-видимому, христианской) семье и получил превосходное по тому времени образование. Несмотря на свою молодость, Боэций сделал блестящую административную карьеру при дворе короля Теодорика, в частности успешно выполнил ряд важных дипломатических поручений, однако в конце концов был обвинен в заговоре против короля и казнен. Боэция можно считать одним из предшественников средневековой схоластики. Большую роль в этом отношении сыграли его переводы на латинский язык (с комментариями) логических сочинений Аристотеля. Из высказываний самого Боэция нам известно, что он предполагал перевести также и другие аристотелевские трактаты, а также все диалоги Платона, но судьба не дала ему выполнить этот замысел. Не меньшее значение для последующих веков имели наставления Боэция по арифметике и музыке, л которых с сильным пифагорейским душком были изложены основные достижения греческой науки в этих областях. Не исключено, что аналогичные наставления были им написаны также по геометрии и астрономии (эти четыре науки составляли знаменитый «квадривиум», лежавший в основе средневековой образованности), но до нас они не дошли. В качестве предшественника будущих схоластическнх сочинений крайне интересен трактат Боэция «О Троице» («De trinitate»), в котором важнейшие догматы христианской религии доказываются средствами логики Аристотеля. Но особую популярность приобрело впоследствии предсмертное сочинение Боэция — диалог «Утешение философии», написанный в тюрьме в ожидании казни. Зависимость Боэция от античной философии предстает в этом диалоге вполне отчетливо; об этом свидетельствует уже самый факт, что последнее утешение перед лицом неизбежной смерти Боэций находит не в религии (как подобало бы верующему христианину), а в философии. Да и по своей форме это сочинение продолжает традицию сократических диалогов Платона.
Из сказанного следует, что самостоятельного вклада в развитие позитивных наук Боэций не внес; этим, однако, нисколько не умаляется его значение как талантливого посредника между античностью и культурой западноевропейского средневековья.
О жизни Иоанна Филопона («Трудолюба»), или, как его еще называли, Грамматика, мы знаем значительно меньше. Источники не сообщают сведений ни о его родителях, ни о годе его рождения, однако в предположении, что он был ровесником Боэция, большой ошибки не будет. Относительно места его рождения имеются противоречивые данные; вероятнее всего, его родиной была все же Александрия.
В молодости Иоанн слушал Аммония, руководителя александрийского филиала неоплатонической школы; отсюда некоторые исследователи заключают, что Иоанн был в то время язычником, а христианство принял позднее — уже в зрелом возрасте. Это соображение, однако, представляется неубедительным. По сообщению неоплатоника Дамаския, у Аммония была какая-то договоренность с тогдашним епископом Александрии (вероятнее всего, с Афанасием II); нельзя считать исключенным, что в этой договоренности речь шла также и о праве христиан посещать школу Аммония. Дух научной и религиозной терпимости, всегда характеризовавший Александрию, еще не полностью выветрился к этому времени; такие эпизоды, как убийство Гипатии, были там скорее исключением, чем правилом. Кроме того, Иоанн — чисто христианское имя, и у нас нет никаких сведений о том, что Филопон носил когда-либо другое имя[368].
В первый период своей научной деятельности Филопон много комментировал Аристотеля, следуя в этом отношении общей тенденции, характерной для александрийских неоплатоников. До нас дошли его комментарии к трактатам «Физика», «О душе», «О возникновении и уничтожении», «Метеорологика». По своему характеру комментарии Филопона заметно отличаются от других сочинений того же типа: они написаны свободным, раскованным стилем, хотя порой страдают чрезмерным многословием. В изложении Филопона имеются повторения и даже противоречия, но эти недостатки вполне искупаются богатством оригинальных идей, порой поражающих своей прозорливостью. В отличие от других комментаторов Аристотеля — как перипатетиков, так и неоплатоников — Филопон не обнаруживает традиционного пиетета к авторитету Стагирита и в отдельных случаях подвергает его воззрения резкой критике. В особенности это относится к неизменно занимавшей его дилемме: следует ли считать мир вечным, или он возник в результате творческого акта Господа Бога. Будучи христианином, Филопон, разумеется, стоит на позициях последовательного креационизма. Свои взгляды по этому поводу он изложил в нескольких сочинениях, в частности в большом трактате «Против Прокла. О вечности мира» (De aeternitate mundi), написанном около 529 г. и в котором он подвергает критике воззрения неоплатоников, апеллируя к платоновской космогонии, изложенной в «Тимее», от которой те якобы отступили[369]. К сожалению, до нас не дошло его сочинение на ту же тему, направленное непосредственно против Аристотеля. К поздним сочинениям Филопона относится его экзегетический трактат о библейской космогонии Моисея (De opificio mundi)[370]. В это время, когда Филопон уже получил сан епископа и стал одним из известнейших богословов, он написал ряд теологических сочинений, в большинстве своем до нас не дошедших. В них высказываются взгляды, порой сильно расходившиеся с официальной точкой зрения христианской церкви, чем и объясняется тот факт, что в 680 г. его воззрения были признаны еретическими. Дата и обстоятельства смерти Филопона нам неизвестны; можно предполагать, что он скончался где-нибудь около середины VI в.
В лице Филопона мы встречаем мыслителя, сочетавшего блестящие знания в области греческой философии с эрудицией христианского богослова и, как мы увидим ниже, с талантом подлинного естествоиспытателя, сумевшего преодолеть характерные для античности традиционные догмы и наметившего принципиально новые пути развития науки.
Следующей фигурой, о которой мы считаем необходимым упомянуть в контексте данной главы, был Симпликий. О его жизни мы тоже знаем очень немного. Как и Филопон, Симпликий слушал Аммония в Александрии, хотя друг с другом они, по-видимому, никогда не встречались (это, по крайней мере, утверждает сам Симпликий). Как и тот, он много комментировал Аристотеля, и его комментарии в основном дошли до нас. Большую часть своей зрелой жизни Симпликий провел в Афинах, будучи одним из наиболее значительных представителей академической школы в последний период ее существования. В злосчастном 529 г., когда указом императора Юстиниана Академия была закрыта и вообще всякое преподавание языческой философии было запрещено, Симпликий вместе с Дамаскием и другими деятелями школы эмигрировал в Персию. После нескольких лет скитаний он вернулся в Афины, где и прожил свои последние годы, уже не подвергаясь, по-видимому, преследованиям.
В отличие от Боэция и Филопона Симпликий не был христианином и до конца своей жизни оставался приверженцем неоплатонического учения. Не обладая оригинальным творческим умом, Симпликий не стремился к разработке собственной философской системы; тем не менее его следует признать ученым самого высокого класса. Его комментарии выделяются среди всей литературы подобного рода исключительной точностью и добросовестностью. Свою задачу он видел, прежде всего, в том, чтобы с максимальной объективностью донести до читателя мысли комментируемого им автора. В комментарии к аристотелевскому тексту он вставляет королларии, посвященные отдельным большим проблемам (таким, как время, пространство, движение) и содержащие обзор различных точек зрения по данному вопросу. В этих короллариях мы многое узнаем о взглядах авторов, сочинения которых до нас не дошли. Но самое ценное, пожалуй, состоит в том, что Симпликий сопровождает свое изложение многочисленными и подчас весьма пространными цитатами из книг древних мыслителей. Не будь его комментариев, мы располагали бы значительно меньшим количеством текстов таких авторов, как Парменид, Зенон, Мелисс, Анаксагор, Эмпедокл, Диоген из Аполлонии и др. Следует подчеркнуть, что Симпликий цитирует досократиков с полным сознанием важности этого дела. Цель, которую он перед собой при этом ставит, становится ясной из одного его замечания, когда он указывает, что охотно присоединил бы к своим комментариям поэму Парменида об едином бытии (не очень большую, как он сам оговаривается) — «как для подтверждения правильности сказанного мною, так и ввиду редкости сочинения Парменида». Полного текста поэмы Парменида Симпликий, к сожалению, не прилагает, но достаточно большие куски из нее все же цитирует. Нет оснований сомневаться, что как эта поэма, так и сочинения других досократиков имелись в ого распоряжении (возможно, что они хранились в библиотеке Академии). Свою миссию Симпликий усматривал, очевидно, в том, чтобы сохранить для будущих поколений наиболее ценные алмазы из дошедших до него россыпей ранней греческой философии. Это было единственное, что он мог делать перед лицом варварства, подобно океану захлестывавшего последние островки великой античной культуры. К этому варварству Симпликий, несомненно, относил и христианство, не замечая его глубокой внутренней правды. Он не воспринимал того света, который светил Боэцию и Филопону; по этой причине фигура Симпликия кажется нам особенно трагичной. При мысли о нем невольно вспоминаются строки из брюсовского стихотворения «Грядущие гунны»:
А мы, мудрецы и поэты, Хранители тайны и веры, Унесем зажженные светы, В катакомбы, в пустыни, в пещеры. И что, под бурей летучей, Под этой грозой разрушений, Сохранит играющий Случай Из наших заветных творений?
Дискуссия о вечности мира
Фактом большого историко-научного и мировоззренческого значения была полемика между Симпликием и Филопоном о вечности мира[371]. Она носила своеобразный характер. Филопон спорил с крупнейшими адептами той точки зрения, что мир существует вечно, не имея ни конца, ни начала, — с Аристотелем и Проклом. При этом он опирался па платоновского «Тимея», а в последнем своем сочинении — на авторитет Моисея. Для Симпликия же единственным противником был Филопон, ибо в греческой философской традиции это был первый представитель концепции чистого креационизма. Эта концепция представлялась Симпликию в высшей степени абсурдной. В этом отношении он следовал глубоко укоренившемуся в античности убеждению в вечности если не космоса как такового, то, во всяком случае, его материальной основы. Тезис «ex nihilo nihil» не ставился под сомнение никем из греческих мыслителей; его разделяли и Анаксагор, и Платон, хотя в каких-то отношениях они приближались к позиции относительного креационизма. У Анаксагора «нус» ничего не творит; он только приводит в движение первичную смесь, до этого находившуюся в состоянии покоя. Строго говоря, нельзя считать творцом и «демиурга» Платона, даже если понимать буквально излагаемый в «Тимее» миф о возникновении мира. Не случайно слово δημιουργός эквивалентно русскому «мастеру»; у Платона это был именно мастер, устрояющий мир в соответствии с неким идеальным образцом и использующий для этого уже имевшийся в наличии материал в виде четырех элементов, пребывавших «всецело в таком состоянии, в котором свойственно находиться всему, до чего еще не коснулся бог»[372]. Филопон смотрел на Платона сквозь призму христианской идеологии и только поэтому мог считать его своим союзником.
Симпликия Филопон нигде не упоминает; может быть, он просто не считал нужным нисходить до полемики с ним. Наоборот, Симпликий подвергает Филопона яростной критике, не называя, впрочем, его по имени и лишь иногда прибегая к прозвищу Грамматик. Для него Филопон — злейший враг, для уничижения которого он не скупится на самые оскорбительные эпитеты. Были ли у этой ненависти причины личного характера, — мы не знаем. Возможно, что Филопон был антипатичен Симпликию как христианин, приобретший благодаря своему епископскому сану высокое положение и безопасность в тогдашнем бурном и неустойчивом мире. Не исключено также, что креационистская позиция Филопона рассматривалась Симпликием как измена подлинно философскому духу, как беспринципная уступка торжествующей антинаучной идеологии. Для существа спора его мотивы, впрочем, не так уж важны. Существеннее то, что и в пылу полемики Симпликий не теряет позиции объективного ученого: он добросовестно приводит аргументы своего противника, какими бы нелепыми они ему ни представлялись. Критике филопоновского трактата «Против Аристотеля» Симпликий уделяет много места в своих комментариях к первой книге «О небе» (где обстоятельно разбираются первые пять книг трактата Филопона) и к восьмой книге «Физики» (где речь идет исключительно о шестой книге трактата, в философском отношении, по-видимому, наиболее важной)[373].
Рассмотрим теперь хотя бы некоторые аргументы и контраргументы обоих оппонентов. Любопытно, что в этом споре как Филопон, так и Симпликий стоят на платформе ортодоксального перипатетизма, исходя из одних и тех же понятий и определений и используя при этом сходные приемы аристотелевской диалектики. Так, например, Филопон полностью принимает данное Аристотелем в «Физике» определение движения, согласно которому движение есть действительность (энтелехия) тела, способного к движению, поскольку оно таково (ή τοΰ δινάμει ογζος εντελέχεια, ή τοιούτον)[374]. Но если это определение есть определение движения вообще, то оно должно охватывать все роды движений. Филопон полагает, что это определение вполне подходит для ограниченных во времени движений, каковыми являются всевозможные изменения, перемещения, а также возникновение и уничтожение вещей нашего подлунного мира. Но оно отнюдь не согласуется с допущением вечных круговых движений небесных тел. Если бы оно было применимо и для этого рода движений, то тогда должно было бы существовать нечто способное к движению, что предшествует (προϋπάρχει) этим вечным движениям. То есть мы приходим к противоречию, устранить которое мы можем либо отказавшись от аристотелевского определения движения, либо признав невозможность существования вечных движений.
Как отвечает на эту критику Симпликий? Будучи безоговорочным сторонником принципов аристотелевской физики, он, разумеется, считает, что определение движения, данное Аристотелем, применимо для всех родов движений. Только для вечных круговых движений его следует применять иначе, чем для движений, ограниченных во времени. Движению, ограниченному во времени, всегда предшествует состояние покоя данного тела, находясь в котором тело не движется, хотя и обладает способностью к движению. Для небесных тел, совершающих вечные круговые движения, таких состояний покоя быть не может. Однако данному состоянию движения небесного тела всегда предшествуют другие состояния движения, которые как раз и соответствуют его возможности перехода в данное состояние. Симпликий поясняет это на примере Солнца, движущегося по кругу зодиака. Нахождению Солнца в созвездии Тельца предшествует его нахождение в созвездии Овна. Таким образом, нахождение Солнца в созвездии Овна есть возможность его нахождения в созвездии Тельца — вполне в духе аристотелевского определения движения.
Это лишь один пример аргументации и контраргументации в споре Филопона с Симпликием. Таких примеров можно было бы привести больше. Филопон атакует Аристотеля с разных сторон, находя все новые (порой реальные, а порой, может быть, и мнимые) слабости в его системе мира. Цель этих атак всегда одна и та же: показать, что допущение вечности космоса, движения, времени неизбежно приводит к противоречиям. Иначе говоря, важнейшая догма христианства о сотворении мира Богом обосновывается Филопоном с помощью средств, взятых из философии Аристотеля, с помощью аргументов, которые могли быть понятны любому перипатетику. Это была, так сказать, подрывная работа против античного миропонимания, проводимая в рамках самого этого миропонимания. Может быть, именно поэтому рассуждения Филопона вызывали у Симпликия такое яростное возмущение.
В этом же духе действует Филопон и в другом своем трактате, посвященном проблеме вечности мира, — «Против Прокла». Но здесь он находит (во всяком случае, ему кажется, что он находит) прямого союзника в лице Платона: И хотя с его трактовкой «Тимея» можно не во всем соглашаться, в глубоком знании философии Платона Филопону, во всяком случае, нельзя отказать. Тот факт, что это сочинение не упоминается Симпликием, объясняется, по-видимому, тем, что оно было написано позднее. И лишь в последнем своем труде, представляющем собой комментарий к космогонии Моисея, Филопон наконец выступает с поднятым забралом в роли открытого представителя христианско-библейского мировоззрения.
Вернемся, однако, к трактату «Против Аристотеля». В одном его месте Филопон формулирует самую суть спора, указывая, что утверждение о безначальности движения может быть доказано лишь в том случае, если окажется справедливой пресловутая аксиома физиков (πολυϑρύλητον αξίωμα), гласящая, что ничто не может возникнуть из никоим образом не существующего[375]. Поэтому, по мнению Филопона, Аристотель совершает ошибку, не прибегая к этой аксиоме. Мы уже отмечали выше, что положение ex nihilo nihil действительно было одним из краеугольных камней греческого естественнонаучного мышления, в том числе и аристотелевского. Об этом, впрочем, пишет и сам Аристотель, ссылающийся в своей критике теории Анаксагора на «общее мнение физиков, по которому из не-сущего ничего не возникает»[376]. Правда, в рассуждениях о безначальности времени и движения он этим положением прямо не пользуется — потому (отвечает Филопону Симпликий), что Аристотель всегда стремится исходить не из самых общих, а, наоборот, из наиболее конкретных предпосылок, которые еще допустимы в каждом данном случае. Но это, конечно, несущественно. Филопон бесспорно прав, что в основе концепции вечности мира, движения, времени лежит положение ex nihilo nihil. И выступая против этого положения, Филопон выступает против самого духа античного естествознания.
Опровергая «пресловутую аксиому» физиков, Филопон не ограничивается утверждением, что она неверна лишь для Бога, сотворившего из ничего все, в том числе всю материю. Это для него, как для христианина, бесспорная истина. Но он идет гораздо дальше: он пытается доказать, что эта аксиома неверна вообще, в том числе для частных процессов, происходящих в окружающем нас мире. По его мнению, и природа, и искусство тоже творят вещи из ничего. Доказывая этот парадоксальный тезис, Филопон исходит из аристотелевского учения о материи и форме. Согласно Аристотелю, возникновение любой вещи есть оформление уже существующего материального субстрата: субстрат этот пребывает, в то время как форма (είδος) возникает и исчезает вместе с вещью. Откуда же возникает форма? Была ли она прежде вещи и куда она делась, когда вещь исчезла? Тут, действительно, имеется некая принципиальная трудность, которой не было у платоновской теории идей. Филопон полагает, что рождение формы есть именно тот случай, когда нечто возникает из ничего, и поясняет свою мысль на примере возникновения и исчезновения таких свойств, как цвет и фигура,
Для такого знатока аристотелевской философии, как Симпликий, рассуждение Филопона представлялось, вероятно, неграмотным. Симпликий возражает Филопону, аргументируя общими положениями аристотелевской натурфилософии, изложенными в первой книге «Физики». Любое движение есть переход от одной противоположности к другой, причем обе эти противоположности образуют неразрывное единство. Наиболее универсальная пара противоположностей — это форма и лишенность (εΐδος и στέρησις), и возникновение формы есть не рождение из ничего, а переход от лишенности к форме.
При обсуждении проблемы начала или безначальности мира Филопон, разумеется, не мог обойти аристотелевскую концепцию времени. Как и в других аналогичных случаях, он принимает основные положения этой концепции, а затем приходит к выводам, прямо противоположным выводам Аристотеля. Согласно Аристотелю, время есть «число движения в отношении к предыдущему и последующему»[377]. Таким образом, понятие времени неотделимо от понятия движения; по мнению Филопона, это означает, что в бытийной иерархии вещественного мира время стоит на четвертом месте (1 — тело; 2 — движущая сила; 3 — движение; 4 — время). Нематериальные сущности, в том числе разум (νους), обладают вневременным бытием; не имеет временного характера и логическая деятельность разума. Хотя человеческий разум в отличие от божественного не способен своим мысленным взором охватить сразу все возможные объекты мышления; тем не менее связь между двумя объектами, которые последовательно мыслит разум, только по видимости кажется временной. Так, мы говорим, что посылка предшествует в силлогизме выводу, но эти «предшествует» и «следует» нельзя понимать во временном смысле; связь между членами силлогизма имеет чисто логический, вневременной характер.
Итак, только в сфере телесных, бренных и преходящих, вещей можно говорить о времени. Но будет ли и там время вечным, т. е. не имеющим ни начала, ни конца? В сущности, допущение вечности эквивалентно признанию существования актуальной бесконечности для некоторого специфического случая. И тут Филопон прибегает к аристотелевскому арсеналу аргументов, направленных против актуальной бесконечности. Так, он утверждает, что если бы одна вещь возникала из другой, та из третьей, третья из четвертой и т. д., то для вечно существующего мира пришлось бы допустить бесконечное число таких превращений и, следовательно, бесконечное число условий, которые были необходимы для возникновения данной вещи. Это именно то, что Аристотель называл «уходом в бесконечность» (εις άπειρον ίέναι) и что привело Стагирита к мысли о существовании первого неподвижного двигателя. Филопон пользуется точно таким же аргументом для обоснования тезиса о начале и конце мира.
Интересно возражение Симпликия на этот аргумент Филопона. Допущение вечности мира вовсе не означает уходящего в бесконечность ряда процессов или превращений. Симпликий ссылается при этом на известное место трактата «О возникновении и уничтожении», где излагается аристотелевская концепция взаимопревращений четырех элементов (любопытно, что на это же место ссылается и Филопон при обосновании своей точки зрения)[378]. Превращения элементов не имеют предела во времени, но это не значит, что каждое такое превращение приводит к новому виду (εΐόος). Процесс превращений кругообразен: из огня возникает воздух, из воздуха — вода, из воды — земля, из земли — опять огонь. И это относится не только к элементам: миру вообще свойственна цикличность, периодическое повторение одних и тех же процессов. Именно цикличность спасает вечно существующий мир от опасности «ухода в бесконечность».
Здесь мы встречаемся с двумя принципиально различными концепциями времени — циклической и линеарной. Первая была типична для античного сознания. На идее цикличности базировались почти все космогонические учения ранних досократиков: Анаксимандра, Анаксимена, Гераклита, Эмпедокла (отдельные исключения, к каковым следует причислить, например, космогоническую систему Анаксагора, лишь подтверждают общее правило). Несколько иной характер имела цикличность мирообразования у атомистов, хотя и там она была выражена достаточно отчетливо: миры возникают, развиваются, гибнут и на их место приходят новые миры, причем частные различия в их структуре не нарушают единой закономерности вихревого процесса, лежащего в основе всякого мирообразования. Аристотель отвергал любую космогонию, но идея цикличности пронизывает его физику (цикличность во взаимопревращениях элементов, цикличность в смене времен года, цикличность в круговороте воды и т. д. В конце концов чередование органических форм — всегда одних и тех же, хотя и бесконечно разнообразных — также можно считать проявлением идеи цикличности у Аристотеля). Ярким примером использования идеи цикличности (и притом не без влияния восточных, особенно иранских, космогонических спекуляций) следует считать учение стоиков о живом, периодически воспламеняющемся и вновь рождающемся из пламени космоса.
С другой стороны, концепция линеарного времени и тесно связанная с ней идея историчности всего происходящего была чу5кда эллинскому гению. Линеарная концепция, истоки которой восходят к Библии, привносится в западную культуру христианством. Согласно христианскому учению, мир имел начало, будучи создан Богом в результате акта абсолютного творения, и в будущем придет к своему концу, кульминацией которого явится день Страшного суда. В интервале между началом и концом мира простирается процесс исторического развития человечества. Важнейшее событие, придающее смысл всему этому процессу, — вочеловечение и мученическая смерть Христа, Сына Божия. Таким образом, христианская концепция линеарного времени обладает следующими двумя особенностями. Во-первых, она подчеркнуто антропоцентрична: во главу всего мирового процесса ставится человек и его судьба. Во-вторых, христианское время, в сущности, конечно: оно ограничено моментами начала и конца мира. Правда, Богу придается атрибут вечности, но эта вечность трактовалась христианскими богословами по-разному. Согласно рядовым христианским представлениям, Бог существовал вечно до начала творения. Естественно возникал вопрос: что же он делал в течение этого бесконечно длившегося времени и почему он приступил к созданию мира именно в этот момент, а не на полмиллиона лет раньше или позже? После конца мира Бог также обречен на вечное существование, только тут он будет уже не одинок, а сможет наслаждаться обществом поющих ему хвалу ангелов и бессмертных душ праведников. Что касается грешников, то их души — тоже бессмертные — осуждены на вечные муки в аду. Эта вторая вечность, как и первая, по сути дела, лишена каких бы то ни было событий.
Разумеется, дефекты такого представления должны были быть ясны любому мыслящему богослову. Простейшим выходом из затруднений было, конечно, псевдотертуллиановское credo quia absurdum. В то же время предпринимались попытки как-то рационально интерпретировать тезис о вечности Бога. Одна из них принадлежала Оригену, который пытался возродить античную идею цикличности мира, о чем мы уже говорили раньше. Однако она была отвергнута христианской церковью. Наиболее удачной оказалась концепция Августина, опиравшегося на Платона и неоплатоников. Детальной разработке проблема времени подвергается Августином в одиннадцатой книге «Исповеди». Полностью в духе платоновской философии Августин утверждает, что время не существует само по себе, независимо от вещей, и что оно возникло вместе с миром, будучи характеристикой происходящих в нем изменений. Поэтому «если бы вещи были неподвижными, то не было бы и времени»[379]. Неизменность — важнейшая характеристика Бога, и она ставит его выше всякого времени. Времени Августин противопоставляет вечность, которую надо понимать не как совокупность прошедших и будущих времен, а как нечто, лишенное каких-либо временных определений. «Продолжительность времени складывается не иначе, как из последовательного прохождения множества моментов, которые не могут существовать совместно. Наоборот, в вечности ничто не проходит и все пребывает в наличном настоящем, тогда как никакое время не находится целиком в настоящем. Все наше прошлое выходит из будущего, а все будущее следует за прошлым; вместе с тем все прошлое и будущее творится и изливается из того всегда сущего, для которого нет ни прошлого, ни будущего, — из того, что называется вечностью»[380].
Ко времени Иоанна Филопона взгляды Августина получают в христианском мире практически всеобщее признание; нет ничего удивительного, что и Филопон придерживался в основном этих же взглядов. Для нас особый интерес представляют те естественнонаучные выводы, которые Филопон сделал на основе христианского миропонимания. Изложению этих выводов и будет посвящена вторая часть этой главы.
Как уже было сказано выше, из всех философских школ древности наиболее родственными христианскому богословию оказались Платон и неоплатоники (в особенности Порфирий). С другой стороны, Аристотель воспринимался христианами как выразитель чисто языческого миропонимания. Стремление синтезировать аристотелизм и христианство возникает гораздо позднее — в эпоху развитой схоластики. Для раннего средневековья Аристотель представлял интерес главным образом лишь своими логическими трактатами, переведенными на латинский язык Боэцием. Прочие же — и в первую очередь естественнонаучные — сочинения Аристотеля не вызывали интереса и постепенно забывались по мере отчуждения христианства от антично-греческой культуры. В лице Филопона мы встречаем, пожалуй, единственного христианина, который, будучи превосходным знатоком натурфилософии Аристотеля, подвергнул разрушительной критике ее важнейшие положения. К счастью, наряду со свидетельствами Симпликия мы имеем в нашем распоряжении и тексты самого Филопона — его комментарии к основным научным трактатам Аристотеля, таким, как «Физика», «О душе», «О возникновении и уничтожении» и первая часть «Метеорологики»[381]. В силу этого мы имеем возможность составить достаточно полное представление об естественнонаучных воззрениях Филопона.
Прежде всего Филопон отвергает едва ли не самое фундаментальное положение аристотелевской космологии, — положение о том, что сферический космос делится на две существенно различные области — подлунную и надлунную. По Аристотелю, подлунная область заполнена телами, образованными из четырех элементов — огня, воздуха, воды и земли. Это — область изменчивого и преходящего: в ней происходят процессы возникновения, роста и гибели всевозможных вещей, в том числе и живых существ. Резко отличается от нее надлунная область, где нет места возникновению и гибели, где находятся небесные тела — звезды, планеты, Луна и Солнце, совершающие свои вечные круговые движения. Это — область пятого элемента, эфира, который у Аристотеля обычно именуется «первым телом» (πρώτον σώμα). Эфир ни с чем не смешан, вечен и не переходит в другие элементы: он не обладает тяжестью или легкостью и его естественным движением является движение по кругу.
Впоследствии христианское богословие примет аристотелевскую систему мира и попытается приспособить ее к своим задачам. Но в период раннего средневековья для христианина Филопона эта система была неприемлема. Филопон еще был далек от разработанного в дальнейшем схоластиками дуалистического учения о двух родах истины, о том, что истина может иметь своим источником как разум, так и веру (откровение), причем разумное знание может не совпадать со знанием божественным, сверхчувственным и даже, по-видимости, противоречить ему. Филопон, по-видимому, считал, что разум, логическое рассуждение, наука должны непосредственно привести к выводам, тождественным по своему содержанию с истинами, возвещенными Священным писанием. И он доказывает эти истины, используя для этого все средства античной науки, в том числе и аристотелевской.
Филопон не мог признать учения о двух областях мира — надлунной и подлунной, поскольку Бог, как вечная, безначальная основа всего сущего, противостоит временному и конечному миру в целом. Объекты надлунного мира не могут принципиально отличаться от окружающих нас изменчивых и тленных вещей; возведение их в ранг вечных и неизменных объектов приблизило бы их к Богу, а это, по мнению Филопона, недопустимо. Как и в других случаях, доказывая свой антиаристотелевский тезис, Филопон пользуется средствами аристотелевской диалектики. Если бы небесные светила вместе с эфирными сферами, к которым они прикреплены, совершали свои обороты вечно и неизменно, то это означало бы, что каждая совершила к настоящему времени бесконечное число оборотов. Это уже само по себе абсурдно, ибо это означало бы допущение актуальной бесконечности, которую Филопон отрицает так же, как и Аристотель. А так как одни сферы (например, сфера неподвижных звезд) вращаются вокруг Земли быстрее, другие же (особенно сферы, связанные с внешними планетами — Юпитером и Сатурном) гораздо медленнее, то, очевидно, первые совершили к настоящему времени бесконечно большее число оборотов, чем другие. То есть мы имеем здесь дело с различными бесконечностями, бесконечно отличающимися друг от друга. А это еще более абсурдно, ибо для Филопона, далекого от идей современной теории множеств, одна бесконечность не может быть больше (или меньше) другой.
Эти аргументы относятся, по сути дела, к аргументам, направленным против тезиса о вечности мира. Но на них Филопон не останавливается. Основные полемические стрелы он направляет против доктрины эфира — пятого элемента, нетленного и не переходящего в другие элементы. Необходимо сказать, что эта доктрина вызывала сомнения ещеи до Филопона, — и притом в недрах самой перипатетической школы. Первым известным нам критиком этой доктрины был перипатетик I в. до н. э. Ксенарх, учитель географа Страбона. Ксенарх написал сочинение «Против пятого элемента», до нас, к сожалению, не дошедшее, но которое цитируется Симпликием в его комментариях к аристотелевскому трактату «О небе»[382]. Симпликий приводит ряд аргументов Ксенарха; некоторые из них имеют софистический характер, другие же представляют больший интерес, в частности, потому, что они были впоследствии использованы Филопоном. Мы изложим наиболее важные, с нашей точки зрения, соображения Ксенарха. Согласно Аристотелю, для четырех элементов подлунного мира — огня, воздуха, воды и земли — естественным движением является движение по прямой к центру мира или к его периферии в зависимости от легкости или тяжести соответствующего элемента. По мнению Ксенарха, это справедливо лишь постольку, поскольку эти элементы находятся в процессе становления, в процессе перехода от небытия к бытию. Но, когда эти элементы попадают в свойственные им по природе места, их естественные движения принимают другой характер. Так, огонь, который поднялся вверх и достиг своего природного места на периферии Вселенной, перестает двигаться прямолинейно и начинает совершать круговое движение. Таким образом, круговое движение есть естественное движение огня, достигшего полноты своего бытия. В отличие от него три других элемента, попав в свои природные места, переходят в состояние покоя. Мы видим, что у Ксенарха огонь перенимает основную функцию аристотелевского эфира, который в результате становится излишним.
Филопон несомненно знал сочинение Ксенарха, хотя прямо он на него нигде не ссылается. В комментариях к «Метеорологике» и в других книгах он подвергает критике положение Аристотеля, что «звезды не из огня и не в огне движутся»[383]. Это положение Аристотель обосновывал многочисленными соображениями, η частности тем, что если бы промежутки между небесными телами были заполнены огнем, то «он бы выжег все остальное»[384]. На естественный вопрос, откуда же берется тепло и свет от Солнца, если оно не состоит из огня, Аристотель отвечает, используя аналогию, взятую из нашего повседневного опыта. «Ведь и здесь [на земле] воздух вблизи брошенного тела сильно нагревается»[385]. Свет и тепло от небесных тел также, по его мнению, возникают в качестве вторичных эффектов, вызываемых трением вращающихся светил о находящийся под ними воздух. Аристотель добавляет, что «Солнце, по всей видимости самое горячее [из небесных тел], кажется нам белым, а не огненным»[386]. Эти соображения Аристотеля, которые, надо сказать, и нам представляются очень искусственными, подвергаются буквальному разгрому со стороны Филопона. Прежде всего Иоанн останавливается на вопросе о цвете огня. Этот цвет определяется в первую очередь природой топлива. «Солнце же, — поправляет он Аристотеля, — отнюдь не имеет белого цвета, подобного цвету многих звезд; оно нам представляется желтым, каким бывает огонь при горении очень сухой и мелко нарубленной древесины. Но даже если бы Солнце было белым, это отнюдь не доказывало вы, что оно не состоит из огня, потому что цвет огня меняется вместе с природой топлива. Падающие звезды и молнии своим белым цветом подобны звездам: недаром первые именуются звездами, в то время, как молнию поэт назвал „бело сияющей“. Кометы также белые, а они явно состоят из огня. Солнце же кажется нам желтым и даже красным, когда оно приближается к горизонту. Таким образом, на основании цвета Солнца мы не можем заключить, что оно не состоит из огня»[387].
Эту тему Филопон развивает и в других своих сочинениях. Так, Симпликий приводит цитату из его полемического трактата «Против Аристотеля», в которой доказывается, что лучистое свечение нельзя считать отличительным признаком так называемых эфирных тел: «И то, что мы называем лучистым свечением, и цвет, и все другие свойства, приписываемые свету [небесных светил], встречаются также во многих земных телах, например в огне, в светлячках, в чешуе некоторых рыб — в других аналогичных предметах»[388].
Сопоставление сияния небесных светил со свечением светлячков и светящихся рыб приводит Симпликия в ярость. Осыпая Филопона градом оскорбительных эпитетов, он объявляет его просто сумасшедшим: «…он явно сумасшедший, утверждая, что небесный свет не отличается от свечения светлячков. Этот тщеславный и вздорный человек не осознает, что Давид, кого он так глубоко почитает, высказывал прямо противоположные взгляды. Давид не считал, что подлунный мир и небо имеют одну и ту же природу, как явствует из его слов: „Небеса проповедуют славу Божию и о делах рук Его вещает твердь“[389], и он ничего не говорит о светляках и светящихся рыбах»[390].
Мы видим, что Симпликий пытается обратить против Филопона его же собственное оружие. Действительно, в Священном писании трудно найти подтверждение тезису Филопона о тождественности природы небесных и земных тел. Однако этот полемический выпад, по-видимому, не произвел на Филопона впечатления, потому что в своем последнем трактате «О сотворении мира» он возвращается к этой же теме: «…и звезда от звезды разнится в славе, говорит Павел[391]. Действительно, существуют большие различия в их величине, цвете и яркости, и я думаю, что причины этих различий состоят не в чем ином, как в составе вещества, из которого звезды образованы. Они не могут быть простыми телами, ибо как они могли бы отличаться друг от друга, имея одну и ту же природу? Это служит также причиной большого разнообразия огней подлунной сферы — грозовых вспышек, комет, метеоров, падающих звезд и молний. Каждый из этих огней образуется в тех случаях, когда более или менее плотная материя проникает в более тонкую и воспламеняется. Но и огонь, зажигаемый для нужд человека, различается в зависимости от топлива — будет ли это масло, смола, тростник, папирус или различные сорта древесины, из которых одни [могут быть] более влажными, а другие — более сухими»[392].
Трудно представить себе более материалистический подход к проблеме света и свечения, чем тот, который развивается здесь христианином Филопоном! Здесь он более всего напоминает древнего Анаксагора, которого обвинили в безбожии за то, что он стирал различия между земными процессами и тем, что происходит на небе. При этом не исключено, что приведенные рассуждения направлены уже не только (и не столько) против Аристотеля, сколько против неоплатоников с их световой символикой.
Не ограничиваясь проблемой света, Филопон (в трактате «Против Аристотеля») переходит к проблеме прозрачности. Речь идет отом, что, согласно Аристотелю, небесные сферы состоят из абсолютного прозрачного эфира, не видимого человеческим глазом. Филопон утверждает, что и на земле существуют вполне прозрачные тела — воздух, вода, стекло, некоторые минералы. И это относится ко всем прочим качествам, которые оказываются общими как для небесных, так и для земных вещей. «Все видимое является также осязаемым, а осязаемые вещи обладают осязаемыми качествами — твердостью, мягкостью, гладкостью, шероховатостью, сухостью и влажностью, а также теплом и холодом…»[393]
И опять Симпликий обрушивает на Филопона массу язвительных насмешек, а затем выставляет новые, по видимости самые сильные, контраргументы в пользу аристотелевской космологии.
«Мы должны далее сказать, что этот вздорный человек допускает наличие на небе тепла и холода, сухости и влажности, мягкости и твердости и других и осязаемых и чувственно воспринимаемых качеств. Тогда возникает вопрос: если эти качества на небе действительно находятся во взаимодействии с аналогичными качествами на земле, то как можно объяснить тот факт, что до настоящего времени на небе не произошло никаких видимых изменений под влиянием взаимодействия с землей? Можно допустить, что небеса не легко подвергаются воздействию земных вещей, однако, согласно людям [христианам], мы живем в последние дни и очень скоро наступит конец мира, так что уже поэтому в настоящее время должны были быть заметны некоторые изменения в небе и в небесных движениях»[394].
В другом месте Симпликий поясняет, что он имеет в виду под этими изменениями: «Если небо создано около 6000 лет тому назад, как полагает Филопон, а сейчас оно существует свои последние дни, то почему оно не обнаруживает никаких признаков того, что его лучшие дни остались в прошлом, а сейчас оно близится к своему распаду? По крайней мере одна вещь должна была бы свидетельствовать о его старости: что все движения постепенно замедляются. Однако ни дни, ни ночи не становятся длиннее, как это доказывается путем сравнения нынешней человеческой деятельности, включая сельское хозяйство, путешествия, навигацию, с аналогичной деятельностью в прошлые времена. Расстояние, проходимое за день, остается всетем же самым, быки вспахивают за день все ту же площадь или даже меньше, а водяные часы, построенные одинаковым образом, вбирают и расходуют за один час столько же воды, как и прежде»[395].
Мы приведем еще одну цитату из Симпликия, в которой эмоциональный накал его критики достигает апогея: «Разве он (Филопон. — И. Р.) не понимает, что если небо и подлунный мир были бы образованы из одних и тех же веществ, то все вещи превратились бы друг в друга? Я не могу поверить, что даже он, со всей своей дерзкой и непродуманной болтовней, мог бы утверждать, что вещи, находящиеся на небе и на земле, способны превращаться друг в друга. Если бы он заявил, что может представить себе вышние предметы находящимися внизу, то он поистине выглядел бы пьяным среди трезвых. Если материя была бы одной и той же повсюду, тогда взаимные превращения должны были бы произойти уже многократно, поскольку формы, образующиеся в [земном] веществе, имеют весьма недолговечное существование»[396].
К чести Симпликия надо отметить, что при всей резкости его критики он всегда добросовестно цитирует своего оппонента (в этом отношении он может служить примером для многих полемистов не только древнего, но и нынешнего времени). Многие приводимые им цитаты показывают, что Филопон, несомненно, предвидел критику, которой он может подвергнуться со стороны своих идейных противников, и заранее предусмотрел соответствующие контраргументы.
Так, отсутствие видимых изменений в расположении и движении небесных тел объясняется им как устойчивостью этих последних, так и волей всемогущего Бога.
«Тот факт, что за все прошедшие времена небо не претерпело видимых изменений ни в целом, ни в своих частях, не может служить доказательством его нетленности и несотворенности. Ведь существуют животные, которые живут дольше других, существуют также части Земли, такие, как горы, камни и твердые металлы, которые, грубо говоря, стары как мир, и нет никаких данных, что гора Олимп когда-либо имела начало, а потом росла или уменьшалась. Более того: для жизни смертных существ необходимо, чтобы их важнейшие части пребывали в их естественном состоянии. Таким образом, пока Господь желает, чтобы Вселенная существовала, ее основные части должны пребывать, а ведь считается, что небо и его части относится к важнейшим и наиболее существенным частям Вселенной»[397].
Одной из естественных причин постоянства некоторых предметов Филопон считает их величину. Он поясняет это на примере Океана. Предположим, что количество воды, находящейся в ковше, может существовать [в качестве воды] в течение года. Предположим далее, что это будет справедливо для любого равного количества воды. Тогда очевидно, что океан будет настолько долговечнее одного ковша воды, насколько больше воды в нем содержится. Но это количество не бесконечно велико, поэтому даже Океан не может существовать вечно. То же относится и к другим большим объектам — к горам и к небесным телам. Все в мире конечно, поэтому все тленно и преходяще. Один только Бог вечен и обладает всемогуществом, позволяющим ему мгновенно создать Вселенную из ничего и также мгновенно уничтожить ее.
Мы видим, каким образом христианское мировоззрение Филопона содействовало радикальному подрыву самых основ аристотелевской космологии с ее делением мира на подлунную и надлунную область, с ее «первым телом» — эфиром, из которого состоят небесные тела.
Как относился Филопон к учению Аристотеля о естественных местах и движениях? И в этом вопросе аристотелевские взгляды подвергаются им коренному пересмотру. Ход его мыслей сводится в основном к следующему.
Почему Аристотель ограничивает проблему естественных движений одними лишь перемещениями в пространстве? Ведь существуют и другие виды изменений, которые также могут происходить как в ту, так и в другую сторону. Так, тело может становиться черным или белым, может увеличиваться или уменьшаться, может нагреваться или охлаждаться. Почему не назвать одни из этих изменений естественными, а противоположные им противоестественными? Аристотель утверждает, что в этих случаях изменения как в ту, так и в другую сторону вызываются некими внешними причинами. Но ведь то же имеет место и с перемещением. Возьмем в качестве примера воздух. Уберем некоторое количество земли или воды, находящееся под воздухом, воздух сразу же заполнит освободившееся место. То же произойдет, если будет удалено нечто, находившееся непосредственно над воздухом. Почему же в первом случае распространение воздуха объясняется действием силы пустоты, а во втором — внутренне присущим ему естественным стремлением подниматься вверх? Не лучше ли будет сказать, что воздух стремится туда, где есть свободное место, независимо от того, где оно образовалось — внизу, вверху или сбоку? И Филопон делает вывод, что никакого естественного стремления тел не существует и что движение тела в ту или другую сторону всегда обусловлено какими-то внешними причинами.
Переходим к движениям небесных тел. Согласно Аристотелю, они объясняются естественным стремлением эфира двигаться по кругу. Филопон заявляет, что допущение эфира в качестве особого элемента, естественным движением которого является движение по кругу, не может объяснить наблюдаемых фактов. Ссылаясь на данные астрономии, он указывает, что звезды (речь идет в данном случае о планетах) совершают такие движения, которые нельзя назвать ни в собственном смысле круговыми, ни простыми. Это — очень сложные движения, состоящие из комбинаций эпициклов, эксцентрических сфер и т. д. (Филопон, несомненно, был знаком с птолемеевой системой мира, сильно отличавшейся от гомоцентрической модели, которой придерживался в свое время Аристотель). Изменения яркости отдельных планет, которые в некоторые промежутки времени явно приближаются к Земле, а в другие — явно от нее удаляются, также никак не укладываются в рамки аристотелевской концепции эфира.
В другом месте Филопон подвергает критике утверждение Аристотеля о единстве кругового движения эфира. Круговое движение по часовой стрелке не может считаться противоположным круговому движению против часовой стрелки, писал Аристотель, ибо оба эти движения начинаются с одной точки и кончаются в этой же точке (этим они отличаются от двух прямолинейных движений, одно из которых направлено к центру Вселенной, а другое к ее периферии). Филопон возражает Аристотелю, подчеркивая, что различие между круговыми движениями по часовой стрелке и против нее имеет вполне реальный характер. Он ссылается при этом на видимые перемещения небесных светил. Одни светила (неподвижные звезды) движутся с востока на запад, скажем, от Овна к Рыбам и Водолею, другие же (планеты) — с запада на восток, в данном случае к Тельцу и Близнецам. Это различие имеет для астрономии фундаментальное значение, и оно не может быть объяснено с помощью гипотезы единого эфира.
Выше мы приводим и другие аргументы Филопона, направленные против гипотезы эфира и имевшие своей целью доказать, что небесные светила состоят из различных видов огня. Так как Филопон отрицал существование естественных движений — как прямолинейных, так и круговых — и считал, что любое движение вызывается какой-то внешней причиной, то позволительным представляется вопрос: в чем, по его мнению, заключалась причина движения небесных светил? Эти светила, будучи по природе огненными, т. е. в принципе тленными и преходящими, совершают регулярно повторяющиеся движения, которые даже в тех случаях, когда они не являются круговыми (круговыми можно считать лишь движения неподвижных звезд), поддаются точным математическим расчетам. Как объяснить регулярность этих движений? И почему они именно таковы, а не другие?
И тут мы оказываемся у предела, перед которым останавливается научная мысль Филопона. На поставленные выше вопросы он не находит другого ответа, кроме ссылки на неисповедимый божественный промысел. А в своем последнем сочинении — «О сотворении мира» — он становится на позиции прямого агностицизма, отрицающего самый смысл постановки таких вопросов: «…какова причина такого-то числа сфер — одного, согласно старым гипотезам, и другого, согласно новым? И почему их не больше и не меньше? Может ли кто-нибудь совершить невозможное и доказать, почему их должно быть именно столько и что означают различные скорости у разных планет? Ведь неподвижные звезды совершают полный оборот в течение суток, Луна — в течение месяца; Солнце проходит свою орбиту за год, увлекая за собой Меркурий и Венеру, Марсу для своего возвращения требуется почти два года, Юпитеру — двенадцать лет, а Сатурну — тридцать. Я уже не говорю об описанном Птолемеем перемещении па один градус за сто лет, так что прохождение одного знака Зодиака совершается за 3000 лет[398]. Кто мог бы указать причину всех этих [движений]? И уже никто никогда не будет в состоянии объяснить количество звезд, их положение и порядок [на небесном своде] и различия в их цвете. Только в одно мы все верим: что Бог создал все прекрасно и именно так, как нужно — ни больше ни меньше. Мы знаем причины лишь немногих вещей, и если люди ничего не могут сказать нам об естественных причинах [видимых нами] явлений, то они не должны спрашивать нас о причинах того, что скрыто от нашего взора»[399].
Физика Иоанна Филопона
В комментариях Филопона к трактатам Аристотеля можно найти много рассуждений по конкретным вопросам естествознания. Эти рассуждения порой очень интересны и свидетельствуют об остром и оригинальном уме их автора, из которого при определенных благоприятных условиях мог бы получиться крупный ученый. Мы коснемся лишь нескольких вопросов, обсуждаемых Филопоном, которые представляют наибольший интерес с точки зрения истории науки.
Несколько важных замечаний Филопон делает в комментариях к «Физике» по поводу аристотелевской концепции пространства. Для их уяснения нам придется вкратце сказать, в чем заключалась эта концепция.
Аристотель был первым греческим мыслителем, подвергшим понятие пространства глубокому и основательному анализу. Правда, термин «пространство» у него еще отсутствует, и вместо него он везде пользуется термином «место» (τόπος). В «Категориях» Аристотель относит «место» к категории количества и помещает его в разряд непрерывных количеств, т. е. таких, любая часть которых имеет общую границу с другой частью. Особенностью места по сравнению с другими непрерывными количествами Аристотель считает наличие у него противоположности «верха» и «низа».
Более детально понятие места рассматривается в четвертой книге «Физики»[400]. Аристотель подчеркивает, что он не нашел у других исследователей никакого — ни предварительного, ни хорошего — разрешения трудностей, связанных с понятием места. Но что место есть нечто реально существующее — это очевидно, ибо мы сталкиваемся с ним в нашем повседневном опыте. Ясно также, что место есть условие существования всех чувственно воспринимаемых вещей, ибо всякое тело, чтобы существовать, должно находиться в каком-то месте. Это знали уже древние, говорит Аристотель и цитирует по этому поводу Гесиода, интерпретируя мифологический образ Хаоса как персонификацию идеи пространства[401]. Так что же такое место?
Аристотель рассматривает различные возможные определения места. По его мнению, существуют четыре вещи, одной из которых должно быть место: или форма, или материя, или протяжение между границами тела, или крайние границы, объемлющие данное тело. Первые три возможности Аристотель отвергает, причем особый интерес представляет для нас его рассуждение, почему местом не может считаться протяжение между границами тела. Нам только кажется, что между границами, объемлющими данное тело (например,· внутри сосуда, в котором находится вода), имеется некое протяжение, отличное от самого тела; эта иллюзия возникает из-за того, что данное тело может быть заменено другим, например, вода, если ее вылить из сосуда, заменяется воздухом, а тот, в свою очередь, может быть заменен вином. На самом деле между границами тела нет ничего, кроме самого тела, иначе оказалось бы, что в данном месте имеются две вещи: тело, и то, что мы называем его протяжением. Нетрудно усмотреть теснейшую связь этого рассуждения Аристотеля с его принципиальным отрицанием пустоты.
Итак, местом, по Аристотелю, следует называть крайние границы, объемлющие данное тело. Эти границы всегда принадлежат какому-то внешнему телу, играющему роль сосуда для данного тела; если такого внешнего тела нет, то мы не можем утверждать, что данное тело где-то находится. Так, земля окружена водой, вода находится в воздухе, воздух — в эфире, эфир — в небе (причем под небом в данном случае понимается не сам вращающийся небосвод, а крайняя, касающаяся его неподвижная граница), небо же ни в чем вообще не находится. Поэтому бес-мысленно ставить вопрос о местонахождении космоса в целом, который заключает в себе совокупность всех возможных мест. Именно эту совокупность всех возможных мест и следует называть пространством в аристотелевской системе мира.
Из сказанного сразу же вытекают некоторые важные особенности аристотелевского пространства. Оно не бесконечно, ибо ограничено пределами космоса, оно имеет сферическую форму и отнюдь не обладает свойством изотропности. Оно не изотропно прежде всего потому, что радиальные направления от центра космоса к его периферии, определяющие противоположность верха и низа, выделены в нем среди всех прочих направлений. Кроме того, пространство Аристотеля состоит из нескольких сферических слоев, каждый из которых играет роль естественного места для одного из элементов. При этом особенно резкое различие существует между внешним слоем, заполненным небесным эфиром, и внутренними слоями, по которым соответственно располагаются четыре прочих элемента.
Уже ближайшим ученикам Аристотеля его концепция пространства не казалась, видимо, удовлетворительной. Вскоре в Ликее формулируются две другие концепции, которые лягут в основу всех последующих точек зрения на пространство вплоть до нового времени. Их авторами были два ученых, бывших последовательно преемниками Аристотеля по руководству перипатетической школой, — Феофраст и Стратон. К сожалению, в полном авторском изложении соответствующие тексты до нас не дошли, но, как и во многих других случаях, нам на помощь приходит Симпликий. В весьма ценном королларии «О пространстве», включенном им в комментарии к «Физике», он излагает мнения по этому вопросу различных мыслителей, приводя при этом достаточно обширные цитаты из их сочинений[402].
Благодаря Симпликию мы узнаем, что Феофраст подверг критике аристотелевское определение места и выдвинул свою точку зрения, согласно которой пространство есть упорядочивающее отношение между вещами, определяющее их положение относительно друг друга. Передаем слово самому Феофрасту:
«Возможно, что пространство не есть самостоятельная сущность, но оно определяется положением и порядком тел соответственно их природе и способностям (δυνάμεις), как это имеет место у животных, растений и у всех неподобочастных тел, либо имеющих душу, либо лишенных ее, но обладающих некоторым природным устройством. Ибо этим телам также присущ некоторый порядок и расположение частей по отношению к целому. Находясь в своем собственном месте, каждое из них имеет свой определенный порядок, в особенности поскольку каждая часть тела желает и стремится занять свойственное ему место и положение»[403].
Здесь еще явно слышится отзвук аристотелевского учения о естественных местах. Но Феофраст понимает естественное место более широко, чем Аристотель: у него это — положение любой части, соответствующее общей структуре целого. Что же касается пространства, то в приведенном отрывке мы имеем исторически первую формулировку релятивистской концепции пространства. Новейшие историки науки Джеммер и Самбурский подчеркивали близость точки зрения Феофраста на пространство позднейшим воззрениям Лейбница, впоследствии нашедшим подтверждение в общей теории относительности Эйнштейна[404].
В отличие от Феофраста Стратон оказался адептом абсолютного пространства в духе Ньютона. Его представления о пространстве сформировались, по-видимому, под влиянием атомистики, одним из основных понятий которой было понятие пустоты (κενόν). Стратон пересматривает воззрения Аристотеля на пустоту и приходит к допущению пустоты как физической реальности — правда, всего лишь в форме небольших зазоров между частицами вещества. Но это допущение необходимо влекло за собой признание пространства как протяжения, существующего независимо от физических тел. Вслед за этим Стратон делает еще один важный шаг: он отвергает аристотелевское учение о естественных местах для элементов; по его мнению, все четыре элемента, включая огонь и воздух, обладают тяжестью и стремятся вниз, только в различной степени[405].
Из сказанного явствует, что ближайшие ученики Аристотеля отнюдь не рассматривали взгляды их учителя в качестве непререкаемой догмы, какой они стали впоследствии. В частности, Феофраст и Стратон сформулировали две прямо противоположные концепции, существенно отличавшиеся от аристотелевской и впоследствии ставшие как бы парадигмами для всех учений о пространстве. Взгляды последующих эллинистических школ, в частности стоиков и неоплатоников, обнаруживают большее или меньшее влияние как той, так и другой концепции. Оставляя их в стороне, мы сразу же перейдем к изложению воззрений Филопона.
В своих комментариях к «Физике» Филопон резко критикует аристотелевское учение о месте и в то же время излагает свою точку зрения, близкую концепции абсолютного пространства Стратона. В частности, он пишет следующее: «Что место не есть граница окружающего [тела], можно с достаточной убедительностью усмотреть из того [обстоятельства], что оно является протяженностью, обладающей тремя измерениями и отличной от помещаемых в нее тел; эта протяженность по самому своему смыслу невещественна и представляет собой всего лишь пустые интервалы тела (ибо в основе своей пустота и место суть одно и то же); доказывается же это путем отбрасывания прочих [возможностей]: ибо если место не есть ни материя, ни форма, ни граница окружающего [тела], то оно может быть только протяженностью… Как мы объясняем, что тела меняются своими местами? Если движущееся [тело] не может проникать в другое тело и если оно не есть движущаяся поверхность, а обладает трехмерным объемом, то очевидно, что при разрезании воздуха в том месте, где он находился, количество воздуха, которое обойдет данное тело, будет равно ему [по объему]. И вот поскольку измеряющее равно измеряемому, то совершенно необходимо, если объем воздуха равен десяти кубическим единицам, чтобы такой же объем имело и пространство, которое он занимал. И очевидно, что он будет [и в дальнейшем] занимать тот же объем, каким он обменялся с движущимся телом. …Таким образом, место объемно, объемным же я называю [всякое тело], имеющее трехмерную протяженность. Мерой же [объема] является место, потому-то оно имеет такое же число [измерений]»[406].
При некоторой сбивчивости рассуждений Филопона, основная его мысль ясна: место (т. е. пространство) есть трехмерная протяженность, существующая независимо от заполняющих ее тел и служащая мерой объема этих тел. Правда, в отличие от Стратона он отрицает возможность реального существования пустоты и в этом отношении стоит ближе к Аристотелю. Через несколько строк после процитированного места он пишет: «И я совсем не утверж, даю, что эта протяженность когда-либо бывает или [вообще] может быть лишенной всякого тела. Ни в коем случае; и хотя я назвал ее отличной от находящихся в ней тел и в собственном смысле пустой, однако она никогда не существует без тел — подобно тому как материя, будучи отличной от форм, тем не менее никогда не может существовать без них»[407].
Проблему пространства Филопон мимоходом затрагивает и в трактате «Против Аристотеля». Доказывая ненужность гипотезы эфира, как элемента, принципиально отличного от четырех земных элементов, он говорит, что если абстрагироваться от форм всех вещей, то останется только трехмерная протяженность, по отношению к которой не существует никакой разницы между земными и небесными телами. И здесь пространство трактуется Филопоном как некая абсолютная сущность, не зависящая от характера заполняющих ее тел[408].
В любом учебнике по истории физики или механики имя Иоанна Филопона встречается в связи с идеей движущей силы (κινετική δύναμις), получившей впоследствии латинское обозначение impetus. Ниже мы увидим, что абсолютный приоритет в этом вопросе принадлежал не ему, но он сумел дать убедительную критику господствовавшей в то время теории Аристотеля и четко сформулировал альтернативную точку зрения, послужившую впоследствии исходным пунктом для развития динамики Галилея и Ньютона.
Вкратце напомним основные положения аристотелевской концепции механического движения. Эта концепция была основана на двух идеях: на идее естественных мест и движений и на идее близкодействия. С первой из этих идей были связаны аристотелевские представления о легкости и тяжести, со второй — закон о соотношении силы и скорости при насильственном движении. Рассмотрим последовательно оба этих комплекса вопросов.
Естественным движением (или движением по природе) Аристотель называл движение тел к их естественным местам. Так, естественным местом для земли является область, находящаяся непосредственно у центра космоса; именно поэтому земля и все тела, в которых земля преобладает, стремятся к центру космоса, т. е. падают вниз. Выше расположены, соответственно, естественные места воды, воздуха и огня. Тяжесть и легкость суть не свойства элементов самих по себе, а свойства, определяемые стремлением тел занять свои естественные места и, следовательно, их положением в пространстве. Тело, расположенное выше своего естественного места, стремится падать вниз, так как обладает тяжестью; тело, находящееся ниже своего естественного места, стремится подняться вверх и потому кажется легким. Земля не может находиться ниже центра космоса, поэтому она всегда падает вниз и в этом смысле является абсолютно тяжелым телом.
По аналогичным причинам огонь можно считать абсолютно легким телом, ибо выше периферии подлунного мира он подняться не может. Промежуточное положение занимают вода и воздух: в определенных условиях они оказываются легкими, в других же — тяжелыми. При этом то, что справедливо для чистых элементов, справедливо и для сложных тел, в которых соответствующие элементы преобладают.
Однако тяжесть (или соответственно легкость) тела, т. е. его стремление к естественному месту, зависит не только от его элементарного состава, но также от его массы, — иначе говоря, от количества содержащегося в нем вещества. Это проявляется в том, что большие и массивные тела падают вниз быстрее, чем небольшие и относительно менее тяжелые. Так, глыба металла падает быстрее, чем маленький комок земли, а этот последний быстрее, чем пушинка. Чем тяжелее тело, тем больше скорость его падения. Сам Аристотель формулирует эту закономерность следующим образом: «Если такая-то тяжесть проходит такое-то расстояние за такое-то время, то такая-то плюс еще [некоторая величина] — за меньшее, и пропорция, в которой относятся между собой времена, будет обратной к той, в которой относятся между собой тяжести. Например, если половинная тяжесть [проходит такое-то расстояние] за такое-то время, то целая — за его половину»[409]. Разумеется, все это справедливо и по отношению к скоростям поднятия легких тел.
Не будем поспешно обвинять Аристотеля в незнании закона падения тел, открытого впоследствии Галилеем. Для тел, падающих в материальной среде, действительно справедливо соотношение пропорциональности между весом тела и скоростью его падения. А ведь именно этот случай и имел в виду Аристотель: он принципиально отрицал возможность существования пустоты и вся его механика была теорией движения тел в материальной среде. При этом скорость падающего тела и плотность среды, в которой происходит падение, связаны соотношением обратной пропорциональности: чем плотнее среда, в которой падает тело, тем меньше его скорость. При плотности равной нулю (т. е. в пустоте) скорость падающего тела становится бесконечно большой. Это обстоятельство служило для Аристотеля одним из аргументов против существования пустоты.
При всем этом Аристотелю был известен факт ускорения; свободно падающих тел. Он объяснял этот факт увеличением веса тела по мере его приближения к своему естественному месту. Или, как разъяснял позднее Александр Афродисийский, «Аристотель приписывал это [увеличение скорости] тому обстоятельству, что, чем ближе подходит тело к собственному месту, тем чище становится приобретаемая им форма, а это означает, что тяжелое тело делается более тяжелым, а легкое — более легким»[410].
Такова была аристотелевская теория естественных движений, тяжести и легкости. В основных своих чертах она была принята наукой поздней античности. Принципиальной альтернативой этой теории была лишь атомистика Эпикура, признававшая пустоту и учившая — в согласии с механикой нового времени, — что свободное падение тел в пустоте происходит с одинаковой скоростью, не зависящей от веса падающего тела. Но широкого распространения атомистическое учение в эпоху поздней античности не получило, а по мере роста новых мощных течений — неоплатонизма и христианства — ее влияние фактически свелось к нулю. Что касается аристотелевской теории, то различные ученые вводили в нее те или иные коррективы, не менявшие ее сути. Так, например, Стратон отказался от деления элементов на легкие и тяжелые, приняв, что всем телам (в том числе огню и воздуху) присущи различные степени тяжести. Знаменитый астроном Гиппарх придерживался мнения, что вес тела увеличивается не по мере приближения к его естественному месту, а по мере удаления от него. Симпликий, сообщающий нам об этом, добавляет, что точка зрения Гиппарха может привести к нелепым следствиям: так, например, чашка рычажных весов с более тяжелым грузом, опускаясь вниз, станет в конце концов легче чашки с более легким грузом и начнет подыматься[411]. Было бы крайне интересно знать аргументы самого Гиппарха по этому вопросу; к сожалению, они до нас не дошли. Далее Симпликий указывает, что и Птолемей в своей книге «О весах» придерживался взглядов, отличных от взглядов Аристотеля, а именно он считал, что вода и воздух, находясь в своих естественных местах, лишены вообще какого бы то ни было веса. Симпликий приводит, в частности, следующее соображение Птолемея: «То, что вода не обладает весом [в своем естественном месте], он доказывает на основании того факта, что ныряльщики не ощущают веса находящейся над ними воды — даже когда они ныряют на значительную глубину. Против этого можно возразить, что непрерывность воды, поддерживающей ныряльщика сверху, снизу и с боков, приводит к тому, что он не чувствует веса… Впрочем, если бы вода давила на него только сверху, этот вес, вероятно, ощущался бы…»[412]
Самым поразительным в этом и других сходных рассуждениях нам представляется полное игнорирование работ Архимеда, имевших, казалось бы, непосредственное отношение к рассматриваемым вопросам. Из других источников мы можем заключить, что исследования Архимеда, в частности его методы определения удельных весов, должны были быть хорошо известны как Птолемею, так и комментаторам Аристотеля. Но, видимо, Архимед слишком опередил свое время по духу своего мышления. Отсутствий в его сочинениях натурфилософских спекуляций по поводу элементов, естественных мест и «истинных» причин тех или иных явлений, т. е. именно то, что делало эти сочинения созвучными науке нового времени, выводило их за пределы физики в том смысле, в каком эта наука понималась перипатетиками и неоплатониками. Определение удельного веса казалось технической процедурой, служащей чисто практическим целям и далекой от задач «высокой» науки. Это — типичный пример того отрыва теории от практики, который был так характерен для древнегреческой науки и который послужил одной из внутренних причин упадка этой науки в эпоху поздней античности.
Филопон не был ученым-специалистом в духе Архимеда или Гиппарха. Он был философом, богословом и грамматиком, попутно интересовавшимся и проблемами естествознания. Будучи воспитан на трудах Аристотеля, он принял многие важные положения перипатетической физики. Но в то же время он обладал острым и независимым умом, позволявшим ему без всякой предубежденности подходить к воззрениям величайших мыслителей прошлого. Выше мы показали, каким образом христианская идеология помогла Филопону пересмотреть глубоко укоренившиеся догмы античного мышления. Теперь же речь пойдет о некоторых конкретных научных проблемах, при решении которых Филопон обнаружил чутье прирожденного естествоиспытателя.
Перипатетическую теорию естественных движений, тяжести и легкости Филопон пересмотрел лишь с одной стороны. Он сохранил основное положение этой теории, согласно которому тела стремятся к своим естественным местам со скоростями, пропорциональными их весам. Он только отвергнул характерную для аристотелевской физики абсолютизацию роли среды, в которой движутся тела. Особенно ярко это проявилось в его концепции движущей силы, о которой речь пойдет ниже. Но и в вопросах, связанных с падением тел, он допустил принципиальную возможность движения в пустоте, рассматривая это движение как предельный случай движения в разреженной среде. Согласно Аристотелю, говорить о каких-либо закономерностях падения тел в пустоте бессмысленно, поскольку скорости падения там становятся бесконечно большими. По мнению же Филопона, закономерности падения тел выступают в пустоте в наиболее чистом виде. Как пишет сам Филопон, Аристотель «неправильно полагает, что отношение времен, требуемых для прохождения через различные среды, равно отношению плотностей этих сред»[413]. Филопон показывает ошибочность этого предположения с помощью некоторого мысленного эксперимента. Вместо того, чтобы рассматривать падение одного и того же тела через среды, обладающие разными плотностями, он предлагает рассмотреть падение нескольких тел неодинакового веса через одну и ту же среду. Принимая предположение Аристотеля, надо будет согласиться с тем, что «если имеется одна и та же среда с движущимися через нее телами разного веса, то отношение времен, требующихся для прохождения через эту среду двух тел, будет обратно отношению их весов; например, если вес тела удваивается, его движение будет происходить в половинное время». Однако, продолжает Филопон, «это совершенно неверно, что может быть доказано с помощью [наблюдаемых] фактов… еще лучше, чем с помощью теоретического рассуждения. Потому что если мы одновременно бросим с одной и той же высоты два тела, сильно различающиеся по весу, мы найдем, что отношение времен их падения не будет равно отношению их весов, но что, напротив, разница времен окажется очень малой». Отсюда Филопон заключает, что «разумно предположить, что, когда одинаковые тела движутся через различные среды, например через воздух и воду, отношение времен движения через эти среды не будет равно отношению их плотностей»[414].
Важность этих соображений Филопона бесспорна. Особенно любопытно то, что при рассмотрении падения тел различного веса через данную среду он предлагает руководствоваться не теоретическим рассуждением, а фактами. Значит ли это, что он сам ставил опыты для наблюдения этих фактов? В этом позволительно сомневаться, но ведь в настоящее время сомневаются и в том, что Галилей бросал с Пизанской башни шарики различного веса. Так или иначе, мысленный эксперимент Филопона крайне напоминает аналогичный эксперимент Галилея. Читая приведенные выше цитаты, мы невольно ожидаем, что Филопон вот-вот заявит, что тела различного веса в пустоте должны падать с одинаковой скоростью. На самом деле Филопон не сделал такого вывода и не собирался его делать. Он хотел доказать только одно: что если бы пустота существовала, тела падали бы в ней, вопреки Аристотелю, с конечной скоростью.
Второй комплекс вопросов, связанный с механикой Аристотеля, относится в основном к механике насильственных движений, прежде всего к динамике брошенного тела. Здесь на первый план выступает идея близкодействия. Согласно принципиальному убеждению Аристотеля, движение любого тела не может происходить само по себе, но всегда вызывается действием другого, движущего, тела, которое должно находиться в непосредственном контакте с движимым (мы оставляем в стороне вопрос, как с этой точки зрения интерпретировались Аристотелем естественные движения четырех элементов). Иначе говоря, тело движется до тех пор, пока на него действует сила движущего тела, причем между скоростью движения тела и величиной действующей на него силы существует отношение прямой пропорциональности. Это отношение и есть, собственно говоря, то, что называется законом динамики Аристотеля.
К этой основной зависимости надо добавить (как и в случае естественного падения тел) зависимость скорости движения тела от сопротивления среды. Это сопротивление определяется плотностью: чем плотнее среда, в которой движется тело, тем меньше становится скорость его движения. Наоборот, при уменьшении плотности среды скорость тела будет увеличиваться, и в предельном (совершенно нереальном, по Аристотелю) случае пустого пространства эта скорость станет бесконечно большой.
Таким образом, с учетом сопротивления среды закон динамики Аристотеля может быть выражен формулой:
v ~ F/ρ
где v— скорость тела, F — действующая на него внешняя сила, а ρ — сопротивление среды.
Если для некоторого круга явлений этот закон приближенно согласуется с фактами реальной действительности, то для целого ряда других явлений он явно не соблюдается. Приведем два наиболее характерных примера.
Первый относится к динамике брошенного тела. Так, при стрельбе из лука скорость, приобретаемая стрелой, будет действительно пропорциональна силе натяжения тетивы, толкающей стрелу. Но вот стрела приобрела скорость и оторвалась от тетивы. Согласно принципу близкодействия Аристотеля, стрела должна была бы сразу остановиться и упасть на землю (ведь после того, как она оторвалась от тетивы, на нее, по-видимому, уже не действует никакая сила). Но этого не происходит: наоборот, стрела еще довольно долго будет лететь и лишь потом, постепенно опускаясь, упадет на землю.
Другой пример: группа рабов тащит какую-то тяжесть, например большую глыбу мрамора. При увеличении числа рабов, тянущих глыбу, скорость ее движения будет возрастать, при уменьшении — замедляться. Но строгой пропорциональности здесь не будет: так, один раб при максимальном напряжении своих сил не сможет сдвинуть глыбу ни на один дюйм, сколько бы времени он ни потратил на это.
Аристотель хорошо видел эти трудности и пытался преодолеть их с помощью более или менее искусственных предположений. В частности, имея в виду случаи, подобные второму из приведенных примеров, он указывает, что закон пропорциональности силы и скорости справедлив лишь при достаточно больших силах. Возможно, пишет сам Аристотель, что «если целая сила произвела определенное движение, половина ее не произведет такого движения в какое бы то ни было время»[415]. Почему так происходит — Аристотель не указывает: во всяком случае, ему не приходит в голову сослаться на трение, хотя именно сила трения играет в подобных примерах основную роль.
Принципиально более важен пример с летящей стрелой. То, что стрела, оторвавшись от тетивы, продолжает лететь вперед, объясняется Аристотелем как действие промежуточной среды, в данном случае — воздуха. Процитируем самого Аристотеля. «Необходимо все-таки предположить, что первое движущее [в нашем примере — тетива] сообщает воздуху (или воде, или чему-нибудь другому, что способно двигать и быть движимым) способность передавать движение, но что воздух не одновременно перестает быть движущим и движимым: быть движимым [он перестает быть] в тот момент, когда двигатель перестает двигать, но двигателем он [воздух] еще продолжает быть и поэтому может двигать что-то другое. И по отношению к этому другому справедливо то же рассуждение»[416].
Таким образом, передача движения от одного промежуточного агента к следующему может происходить не одновременно, но с запаздыванием. Это очень важное заявление: здесь Аристотель отходит от буквального следования принципу близкодействия (предполагающему, строго говоря, одновременность передачи движения через все промежуточные инстанции) и, по существу, допускает наличие некоего интервала времени, в течение которого промежуточный агент сохраняет способность оказывать воздействие, хотя сам он уже не испытывает никакого воздействия со стороны предыдущего агента. В этом допущении уже содержится зародыш идеи движущей силы или «импетуса», развитой учеными последующих веков.
Наряду с этими принципиальными указаниями Аристотель предлагает вполне конкретный механизм действия промежуточного агента. Так, при полете брошенного тела воздух разрезается этим телом, обтекает его со всех сторон и начинает толкать его сзади, тем самым обеспечивая преемственность движущих агентов. То же самое может происходить при движении тела в воде или в любой другой непрерывной среде. Этот механизм Аристотель обозначил трудно переводимым термином άντιπερίστασις[417]. Комментаторы Аристотеля пытались впоследствии разобраться в действии этого механизма и неизменно приходили к выводу, что промежуточная среда (воздух) оказывается на некоторое время самодвижущей, как бы накопившей некую движущую силу, которая потом постепенно расходуется. Наиболее четко эта мысль выражена у Симпликия, который, кроме того, ставит вопрос: а нужно ли вообще прибегать к воздуху и не следует ли принять, что летящее тело получает способность двигаться и двигать непосредственно от первичного агента, сообщившего ему скорость[418]. Но на этом Симпликий останавливается и в конце концов возвращается к ортодоксальной аристотелевской аргументации о промежуточном действии воздуха.
Между тем тот же Симпликий сообщает, что за 700 лет до него Гиппарх сформулировал концепцию движущей силы, которую можно было считать единственной разумной альтернативой аристотелевской теории движения, основанной на принципе близкодействия. Поскольку оригинальный текст Гиппарха до нас не дошел, мы просто процитируем то место из комментариев Симпликия к аристотелевскому трактату «О небе», где он излагает эту концепцию. Там говорится, правда, только о вертикальном движении, но сути дела это не меняет.
«В своей книге „О телах, движущихся вниз под действием их тяжести“ Гиппарх пишет, что если бросить кусок земли прямо вверх, причиной движения вверх будет бросившая сила (δύναμις), пока она превосходит тяжесть брошенного тела; при этом, чем больше бросившая сила, тем быстрее предмет движется вверх. Затем, по мере уменьшения силы, движение вверх будет происходить со все убывающей скоростью, пока, наконец, тело не начнет двигаться вниз под влиянием собственного естественного влечения (ροπή) — хотя в какой-то степени бросившая сила еще будет в нем присутствовать; по мере того, как она иссякает, тело будет двигаться вниз все быстрее и быстрее, достигнув своей максимальной скорости, когда эта сила окончательно исчезнет»[419].
При чтении этого текста сразу же напрашивается естественное возражение: а как быть с тем случаем, когда тело не брошено вверх, а просто падает с некоторой высоты? Откуда берется у него тогда ускорение? Однако Гиппарх предусмотрел и этот случай, что видно из продолжения текста Симпликия: «Он приписывает ту же причину и телам, падающим с высоты. Λ именно в этих телах также имеется сила, которая удерживала их на высоте, и действием этой силы объясняется более медленное движение тела в начале его падения»[420].
«Бросившая сила» Гиппарха — это прямое предвосхищение идеи импетуса, поэтому именно Гиппарха следует считать родоначальником этой идеи. Весьма интересна также его мысль о том, что «бросившая сила» присутствует не только в телах, брошенных вверх, но вообще во всех телах земной природы, находящихся на некоторой высоте. В нашем сознании невольно возникает понятие потенциальной энергии. Действительно, величина этой силы не зависит от того, каким образом тело очутилось на данной высоте: уже сам факт, что тело находится на некотором расстоянии от его естественного места (т. е. от центра космоса), обусловливает присутствие в нем этой силы. Однако в отличие от потенциальной энергии в современном понимании сила Гиппарха имеет векториальный характер, ибо она направлена всегда вверх. По тем или иным причинам эта оригинальная мысль Гиппарха не получила дальнейшего развития.
Нам неизвестно, был ли знаком Филопон с сочинением Гиппарха и если да, то оказало ли оно на него какое-либо влияние. Бесспорной заслугой Филопона было, во всяком случае, то, что он дал развернутую критику механического учения Аристотеля и уже на основе этой критики сформулировал свою концепцию «кинетической силы». На фоне господства аристотелианской натурфилософии критика Филопона была первой важной вехой в подготовке нового научного миропонимания.
Критически анализируя аристотелевскую теорию насильственного движения, Филопон детально рассмотрел два возможных (в рамках этой теории) механизма воздействия воздуха на движение летящего тела. Мы не будем повторять весь ход рассуждений Филопона и укажем только некоторые из его аргументов.
Первый механизм, это уже упоминавшийся выше механизм обратного кругового давления («антиперистасис»), согласно которому воздух рассекается летящим телом, обтекает его с боков и начинает толкать его сзади[421]. Филопон убедительно доказывает полную нелогичность допущения, что воздух, движущийся в направлении, противоположном движению тела, вдруг изменяет направление своего движения и начинает толкать тело сзади. Столь же необоснованно предположение, что этот воздух не сам толкает движущееся тело, а использует в качестве промежуточного агента воздух, уже находившийся за телом.
Второй механизм, на первый взгляд более приемлемый, предполагает, что непосредственно вслед за тем, как тело (например, стрела) отделилось от движущего агента (тетивы), этот последний приводит в быстрое движение воздух, находившийся за телом. Этот воздух и является промежуточным агентом, поддерживающим движение тела. Филопон доказывает, что такое предположение не подтверждается фактами реальной действительности. Если мы положим тело (будь это стрела или камень) на тонкий стержень или даже нитку и попытаемся с помощью какого угодно числа машин создать поток воздуха, который будет дуть в направлении предполагаемого движения тела, все равно под воздействием этого ветра тело не продвинется ни на один фут. А когда мы стреляем из лука или швыряем камень, ничего даже приблизительно похожего на такой ветер не создается; между тем и стрела и камень улетают далеко вперед.
«Из этих, а также из многих других соображений, — заключает Филопон, — можно убедиться в полной несостоятельности объяснения насильственного движения указанным путем (т. е. действием промежуточной среды). По-видимому, необходимо допустить, что бросающий агент сообщает брошенному телу некую нематериальную движущую силу и что воздух, приводимый при этом в движение, добавляет к движению брошенного тела либо очень мало, либо вообще ничего не добавляет. И вот если насильственное движение производится так, как я предположил, то становится совершенно очевидным, что, когда стреле или камню сообщается некоторое „противоестественное“ или насильственное движение, то же самое движение может быть сообщено гораздо легче в пустоте, чем в заполненной среде. И при этом не потребуется никакого иного агента, кроме бросившей силы…»[422].
При этом отметим, что у Филопона еще нет твердо установившейся терминологии для введенного им понятия движущей силы. В одних случаях он обозначает ее как κινητική δύναμις, в других как κινητική ενέργεια. Отсюда мы можем заключить, что термины δύναμις и ενέργεια стали в эпоху Филопона практически однозначными (у Аристотеля они имели прямо противоположные значения: δύναμις —возможность, способность, скрытое качество; ενέργεια — действительность, деятельность, актуальное действие).
В заключение отметим еще одну, как бы мимоходом появляющуюся у Филопона идею, которая приобрела исключительно большое значение в науке нового времени. Речь идет об идее функциональной зависимости. Хорошо известно, что греческая наука не знала понятия функции. Александрийская математика имела дело лишь с очень ограниченным числом простейших функций, но общего определения функциональной зависимости она не дала. Единственные типы зависимостей физических величин, с которыми оперировал Аристотель, были простая и обратная пропорциональность. Не будет преувеличением сказать, что отсутствие понятия функции — одна из основных особенностей античной науки, отличающих ее от естествознания близких к нам эпох. Без этого понятия нельзя себе представить теперь ни физики, ни химии, ни механики. И вот у Филопона мы находим впервые четко осознанную — хотя и в чисто качественной форме — идею функциональной зависимости.
Мы имеем в виду одно место (на которое впервые обратил внимание, по-видимому, Самбурский) в комментариях Филопона к аристотелевскому трактату «О возникновении и уничтожении». В этом трактате Аристотель обсуждает проблемы, связанные с четырьмя элементами материальных тел, с их взаимопревращениями, соединениями и смешениями. Естественно, что большое место при этом уделено понятию смеси. И вот Филопон делает явное отступление от проблематики, непосредственно занимавшей Аристотеля, и начинает рассуждать на тему о том, почему при изменении элементарного состава тел одни качества меняются сильно, другие — слабо, а третьи до поры до времени вообще не обнаруживают никаких изменений. Предоставим, однако, слово самому Филопону.
«Если различные свойства подобочастных тел — как, например, у меда сладость, желтизна и вязкость — достигают совершенного вида при определенном соотношении первичных качеств [теплоты, холода, сухости и влажности], то почему изменение одного свойства не влечет за собой изменения также и другого? Так, цвет меда может измениться и из желтого стать белым, а его сладость при этом нисколько не изменится. С другой стороны, совершенно очевидно, что цвет не мог измениться без изменения первичной смеси, составляющей мед. Почему же, если изменяется исходное соотношение смеси, вместе с цветом не изменяется и вкус, раз они оба существуют соответственно одному и тому же соотношению смеси? Можно привести тысячи аналогичных примеров… Что же мы скажем по этому поводу? Каждое свойство обнаруживается в некотором интервале (έν πλάτει τινί ϑεωρείται), и его бытие отнюдь не сводится к неделимой точке. И белизна также существует в интервале (ведь дело обстоит не так, что как только [тело] лишается высшей степени белизны, оно вообще уже перестает быть белым), и сладость тоже в интервале (ибо существует много сладких [вещей]), и то же самое в отношении прочих свойств. Если свойства имеют интервалы, то очевидно, что и способности смесей порождать эти свойства также должны иметь интервалы. Однако существует некое предельное соотношение смеси, при котором любое свойство перестает обнаруживаться, и ниже этой неделимой точки вся природа свойства сразу же меняется. Чтобы натренировать наш ум как бы на образце, предположим, например, что высший вид сладости достигается при десяти частях теплоты, холода, сухости и влажности. Если уменьшить каждую из этих противоположностей на единицу [тело] станет не таким сладким, однако оно не вовсе лишится сладости, но только его сладость уменьшится. Если же мы уменьшим на пять частей (предполагая, что сладость сохраняется как раз до этой точки), то ясно, что вид [сладости] исчезнет полностью. И вот, хотя этой смесью определяются различные свойства, не все они обязательно возникают при одном и том же соотношении [первичных качеств] друг с другом, но если, скажем, сладость достигла совершенного вида, белизна, или желтизна, или вязкость могут не достичь совершенства при этом соотношении, но подчас быть [значительно] слабее. Именно поэтому при небольшом изменении смеси сладость может в целом не измениться, цвет же может измениться полностью, поскольку он с самого начала находился вблизи предельной и неделимой точки этой смеси, ниже которой этот цвет уже никак не способен обнаруживаться»[423].
Разумеется, этот текст кое в чем сбивчив и в нем имеются неточности. В частности, Филопон не замечает, что если смесь состоит из равного числа частей всех первичных качеств, то при уменьшении каждого из этих качеств на одну часть состав смеси останется неизменным. Вероятно, Филопон имел в виду уменьшение на одну часть (а потом на пять частей) одного из четырех качеств; в этом случае его рассуждение было бы безупречным. Но это мелочи. Значение этого отрывка состоит в том, что в нем ставится вопрос о функциональной зависимости ряда физических величин (свойств) от четырех независимых переменных (первичных качеств). Эта зависимость отнюдь не сводится к прямой или обратной пропорциональности (как у Аристотеля); Филопон предусматривает такие случаи, когда при небольших изменениях независимых переменных значение одной из функций (сладость) может не меняться или меняться очень мало; в то же время другая функция (цвет) может претерпеть резкое изменение и даже исчезнуть (т. е. стать равной нулю). При этом он вводит понятия, которые можно истолковать как понятия максимального значения функции (высший или совершенный вид — τό άκρον είδος или τό τέλειον είδος), интервала ее существования (τό πλάτος) и, наконец, критической точки, в которой функция обращается в нуль (ό έσχατος κράσεως λόγος). Рассуждения Филонова допускают, таким образом, чисто математическую интерпретацию. В этом отношении приведенный текст является уникальным во всей античной литературе.
Заключение
Остается ответить на последний вопрос: почему при всей оригинальности и относительной прогрессивности естественнонаучных идей Филопона, идеи эти не оказали заметного влияния на развитие научной мысли того времени? Это объясняется несколькими причинами.
Прежде всего надо помнить, что наука развивается не только в силу своей внутренней логики (последняя имеет место в основном лишь в относительно стабильные периоды человеческой истории), но и под влиянием внешних социально-исторических условий. Общественные катаклизмы, войны, нашествия более отсталых по своему культурному развитию народов — все это не может не сказаться отрицательно как на положении науки, так и на общем культурном уровне данной страны или группы стран. Филопон жил в одну из наиболее бурных и в то же время мрачных переломных эпох. Римская империя развалилась под натиском варварских, главным образом германских, племен. Античная культура, отмеченная на протяжении своего многовекового развития неповторимыми достижениями к области науки, искусства, литературы, философии и создавшая свой эстетически законченный образ мира, испускала последние предсмертные хрипы. Философские и научные школы либо умирали своей естественной смертью, либо их существование прекращалось насильственным путем, как это было с афинской Академией в 529 г. Христианская церковь воспитывала у своих адептов ненависть к «языческим» культурным ценностям, которые подвергались систематическому и безжалостному уничтожению. Следует отметить, что христианство этого времени — особенно в странах Западной Европы — уже миновало сравнительно недолгий период своей зависимости от греческой философии и, постепенно регрессируя, подчас переходило на позиции прямого обскурантизма. Только в Византийской монархии связь с греческой культурой еще будет чувствоваться в течение нескольких столетий, что же касается стран Востока и Северной Африки, то на пройдет и века, как они будут залиты потоком новой мировой религии — ислама. Приближалось «темное» время раннего средневековья.
Как непохоже было это время — время Иоанна Филопона — на эпоху позднего средневековья! Правда, и там бывали периоды опустошительных войн, кровавых преследований еретиков, культурных спадов. Но в целом климат XIII–XIV вв. разительно отличался от мрачной и безысходной атмосферы VI в. Развивались и богатели города, крепли новые социальные силы — ремесленники и купечество. Начали раздвигаться географические горизонты известного европейцам мира (путешествия Марко Поло, рост торговли с Индией и другими странами Востока). Открываются многочисленные университеты: в Италии (сначала в Болонье, а затем в Падуе, Флоренции и других городах), во Франции (Париж, Тулуза), в Англии (Оксфорд, Кембридж), на территории так называемой Священной Римской империи (Прага, Вена, Гейдельберг и др.), наконец, в Польше (Краков). Искусство и литература свидетельствуют о возросшем интересе к человеку, к его внутреннему миру (поэзия трубадуров, рыцарские романы, творчество Данте и Чосера, живопись Джотто и других итальянских мастеров Раннего Возрождения). Католическая церковь пока сохраняет монопольные позиции в духовной жизни Западной Европы, но ее ведущий идеолог Фома Аквинский уже санкционировал сосуществование двух типов истин — истин разума и истин откровения, тем самым допустив возможность развития светской науки. Указанные факторы стимулировали появление целой плеяды блестящих ученых — таких, как Гроссетет, Роджер Бэкон, Оккам, Буридан, Орем, интерес которых к проблемам естествознания не ограничивался толкованием аристотелевских текстов, но приобрел новые формы, предвосхищавшие, между прочим, зарождение будущего экспериментального метода. Живи Филопон в это время, он легко вписался бы в это окружение. Но он родился на семь веков раньше, когда его естественнонаучные догадки и размышления не смогли иметь никакого резонанса. Ни единомышленников, ни последователей у него не было — и потому, несмотря на внешнее благополучие его жизненного пути, он представляется нам глубоко трагической фигурой.
К этому надо добавить еще следующее соображение. Выше мы указывали на то, каким образом христианское мировоззрение Филопона содействовало его отходу от античного образа мира и, в частности, стимулировало критику некоторых важнейших догм аристотелевской натурфилософии. Трагизм ситуации, в которой оказался Филопон, состоял в том, что для христианской церкви того времени ломка этих догм была совсем не так уж необходима. Скорее, наоборот: аристотелевское деление мира на надлунную и подлунную область было очень удобно для идеологов христианства, поскольку небо с его нетленным эфиром и вечно вращающимися сферами казалось естественным местом пребывания Бога вместе с окружавшим его синклитом архангелов и ангелов. Абстрактно-философский монотеизм Филопона, согласно которому Бог мыслился в качестве непостижимой сущности, вездесущей, всемогущей и вневременной, был недоступен сознанию рядового христианина, склонного в своих представлениях о Боге к примитивному антропоморфизму. По этой причине услуга, оказанная Филопоном христианству своей критикой аристотелевской космологии, представлялась руководителям церкви крайне сомнительной. Не забудем также, что Филопон был монофизитом, т. е. сторонником учения, уже в 451 г. осужденного церковью как ересь. Были и другие пункты, в которых он расходился с официальной церковной идеологией; эти расхождения, как можно думать, особенно обострились в последний период жизни Филопона. Его стойкость в защите собственных взглядов свидетельствовала о его принципиальности и независимости мышления, но в то же время она делала его одиноким в лоне той самой церкви, служению которой он посвятил свою жизнь. Через сто с лишним лет после смерти Филопона (в 680 г.) его взгляды были официально признаны еретическими.
Примечания
1
Лейбниц. Соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 2. С. 630.
(обратно)2
West M. L. Early Greek Philosophy and the Orient. Oxford, 1971.
(обратно)3
Характерно мнение знаменитого историка начала XIX в. Нибура, который в своих «Лекциях по древней истории» (Niebuhr В. G. Vorträge über alte Geschichte. В., 1851) называет диадохов македонскими разбойниками, достойными того, чтобы разверзшаяся земля поглотила их. «С такими чувствами, — пишет Нибур, — нелегко заниматься этой частью истории» (цит. по: Жебелев С. А. Древняя Греция. Пг., 1922. Ч. II: Эллинизм. С. 101).
(обратно)4
Droysen J. H. Geschichte des Hellenismus. I–III. Hamburg, 1833–1843. (Bd. I: Alexander; Bd. II: Geschichte der Diadochen; Bd. III: Geschichte der Epigonen). Этот новаторский для своего времени труд во многих отношениях сохраняет свою ценность до нашего времени.
(обратно)5
Если диадохами в древней историографии именовались соратники Александра Македонского (Пердикка, Кратер, Эвмен, Антигон, Птолемей, Селевк и др.), боровшиеся за власть в течение первых десятилетий после смерти великого завоевателя, то наименование «эпигоны» было дано (с оттенком некоторой уничижительности) их сыновьям и внукам.
(обратно)6
Rostovtzeff Μ. I. The Social and Economic History of the Hellenistic World. Oxford, 1921. Vol. 1–3.
(обратно)7
Так, например, акад. С. А. Жебелев в своей небольшой книжке, указанной в примечании 1, рассматривает эллинизм исключительно как «культурно-исторический фактор». Такая точка зрения преобладала и среди западных историков вплоть до появления труда М. И. Ростовцева.
(обратно)8
А. Б. Ранович в книге «Эллинизм и его историческая роль» (М.; Л., 1960, С. 16) писал: «Изучить эллинизм как историческую эпоху и понять его во всем его своеобразии нельзя без учета того основного факта, что эллипизм — этап в истории античного рабовладельческого общества.»
(обратно)9
С. И. Ковалев, в свою очередь, указывал: «Эллинизм — не только исторический период, охватывающий около трех столетий, с конца IV до конца I в. до п. э.; это не только эпоха распространения эллинистической культуры далеко на восток и на запад: эллинизм — это прежде всего определенная стадия развития рабовладельческой социально-экопомической формации» (Ковалев С. И. Предисловие // Тарн В. Эллинистическая цивилизация. [М., 1949. С. 9).
(обратно)10
См. статьи К. К. Зельина («Некоторые основные проблемы эллинизма») и В. Д. Блаватского («Культура эллинизма»), опубликованные в XXII выпуске журнала «Советская археология» (1955 г.).
(обратно)11
Walbank F. W. The Hellenistic World. L·., 1981. P. 287 (цит. по: Кащеев В. И., Шофман А. С. Фрэнк Уолбэнк и его концепция эллинизма // Вестн. древ, истории. 1984. № 2. С. 204–210).
(обратно)12
См.: История Древнего мира. М., 1983. Т. 2. С. 318.
(обратно)13
Здесь и в дальнейшем пояснение «до н. в.» считается само собой разумеющимся.
(обратно)14
Плутарх в своей биографии Александра, а также историограф великого похода Арриан сообщают версию об отравлении Александра, по-видимому, имевшую широкое хождение в древности.
(обратно)15
Diod. XVIII, 2, 3 (Diodorus. Bibl. hist.). Здесь и далее ссылки на античных авторов даются в общепринятом сокращении. — И. Р.
(обратно)16
Формальным поводом похода Пердикки против Птолемея был отказ последнего выдать тело Александра, которое он тайно увез в Египет (местонахождение могилы Александра до сих пор остается невыясненным).
(обратно)17
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1963. Т. 2. С. 295. (Plut. Eum. 10).
(обратно)18
Биография Фокиона включена Плутархом в его «Сравнительные жизнеописания» (Указ. соч. Т. 3. С. 5—28).
(обратно)19
У Александра был еще один сын — Геракл, прижитый им от Барсины, дочери персидского сатрапа Артабаза и бывшей жены Мемнона, командовавшего греческими наемниками в Персии. Она была захвачена в плен в Дамаске в 333 г. и стала наложницей Александра. Впоследствии она жила с сыном в Пергаме; после гибели юного Александра IV Геракл был вызван Полиперхоном в Грецию, но вскоре пал жертвой политических интриг.
(обратно)20
Плутарх. Указ. соч. Т. 3. С. 301 (Plut. Eum. XVIII).
(обратно)21
См.: Бикерман 9. Хронология Древнего мира. М., 1975. С. 66.
(обратно)22
Плутарх. Указ. соч. Т. 3. С. 205 (Plut. Demetr. XXI).
(обратно)23
Плутарх. Указ. соч. Т. 3. С. 193–226 (Plut. Demetr.).
(обратно)24
Так, греко-римский историк II в. н. э. Аппиан сообщает, что Селевк I построил шестнадцать Антиохий (по имени отца), пять Лаодикей (в честь матери), девять Селевкий, три Апамеи, одну Стратоникею (в память своих жен), а также ряд городов, названных иначе — в честь своих подвигов, подвигов Александра и т. д. Современный нам историк Чериковер, собравший все сведения о строительстве греко-македонских городов Александром и его преемниками, называет 153 таких города (Tscherikower V. Die hellenistischen Städtegründungen von Alexander dem Großen bis auf die Römerzeit. Leipzig, 1927). Разумеется, в это число вошли не только вновь построенные города, но также старые восстановленные города, города образованные путем синойкизма и просто переименованные города. См. также: Кошеленко Г. А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М., 1979.
(обратно)25
Rostovtzeff Μ. Dura-Europos and its art. L., 1938.
(обратно)26
Гипподам Милетский жил в середине V в. и принимал участие в планировке ряда городов, в том числе Иирея, Родоса, Селина (в Сицилии), Турий (в Италии) и т. д. Написал сочинение о наилучшем государственном устройстве, которое было подвергнуто критике Аристотелем в «Политике» (Polit. В 8, 1267 b 22-1268 Ь 31 II Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 423–426).
(обратно)27
Слова апостола Павла, относящиеся к городу Тарсу (Деяния апостолов. 21.38).
(обратно)28
Гомер. Одиссея. IV. 354–355.
(обратно)29
Канобское устье — самый западный рукав Нильской дельты.
(обратно)30
Плутарх. Указ. соч. Т. 2. С. 414–415 (Pint. Alex.).
(обратно)31
Diod. XVII, 52, 3–4.
(обратно)32
Напротив, города, основывавшиеся в качестве опорных военных пунктов, воздвигались очень быстро: так, Александрия Крайняя на Сырдарье была, но свидетельству Арриана, построена и обведена стенами всего за 20 дней.
(обратно)33
Diod. XVII. 52, 6.
(обратно)34
Решение о восстановлении храма Бола было принято еще Александром Македонским, но фактически это решение было выполнено лишь Антиохом I.
(обратно)35
Ктесий — греческий врач, в начале IV в. (ориентировочно с 401 по 384 г.) бывший лейб-медиком персидского царя Артаксеркса II. Написал два сочинения — Περςικά и 'Ινδικά, от которых до нас дошли лишь некоторые фрагменты. Изобиловавшие массой фантастических сведений, эти сочинения вплоть до походов Александра Македонского оставались для греков излюбленным источником информации о Персии, Индии и других странах Ближнего и Среднего Востока.
(обратно)36
По-видимому, никто из Птолемеев не владел египетским языком; исключение составляла лишь последняя царица Египта знаменитая Клеопатра, говорившая на семи языках (греческом, латинском, египетском, арамейском, эфиопском, нубийском и сирийском).
(обратно)37
Именно об этих эллинизированных евреях (Έλληνίσται) идет речь в «Деяниях апостолов»: «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей» (Деяния апостолов. 6.1).
(обратно)38
См.: Уилер М. Пламя над Персеполем. М., 1972.
(обратно)39
Читателям, которые могут заинтересоваться историей Греко-Бактрийского царства, мы рекомендуем обратиться к капитальному труду: Tarn W. W. The Greeks in Bactria and India. Cambridge, 1951 (в котором, однако, не могли быть учтены данные новейших археологических исследований).
(обратно)40
Schneider К. Kulturgeschichte des Hellenismus. München, 1969. Bd. 2. S. 660.
(обратно)41
Rostovtzeff M. I. Op. cit. Vol. 1. P. 187.
(обратно)42
Говоря о благосостоянии полисов Старой Греции, мы отнюдь не имеем в виду высокий материальный уровень жизни всех слоев населения. Спрос на греческие товары, несомненно, улучшил положение производителей этих товаров — владельцев мастерских и землевладельцев, продававших на экспорт вино и оливковое масло. В то же время рост цен, явившийся прямым следствием увеличения количества находящихся в обращении денег, повысил стоимость среднего прожиточного уровня и больно ударил по наемным рабочим, заработная плата которых практически но изменилась. См. по этому вопросу интересную работу известного исследователя эллинизма Тарна:
Tarn W. W. The Social Question in the Third Century // The Hellenistic Age. L., 1913; 2-nd ed. N. Y., 1970. В ней Тарн анализирует дошедшие до нас хозяйственные архивы о-ва Делос, где находилось знаменитое святилище Аполлона. Следует, впрочем, проявлять известную осторожность и не распространять специфические условия этого острова на другие районы Старой Греции.
(обратно)43
Beloch J. Griechische Geschicbte. Bd. III. Th. 1. S. 300.
(обратно)44
Советские историки А. И. Ранович, К. К. Зольин и другие резко критиковали Ростовцева за применение терминов «буржуазия» и «пролетариат» применительно к эллинистическому обществу. Заметим, однако, что сам Ростовцев, по-видимому, прекрасно понимал условность своей терминологии, что видно из того, что эти термины у него везде пишутся курсивом. Смысл, вкладываемый им в эти термины, достаточно четко разъяснен им в заключительном разделе его труда (Rostovlzeff Μ. I. Op. cit. Vol. II).
(обратно)45
Подробной характеристике этой группы общества в городах Старой Греции посвящена очень ценная монография Т. В. Блаватской «Из истории греческой интеллигенции, эллинистического времени» (2-е изд. М., 1983).
(обратно)46
Исключением может показаться новоаттическая комедия, которая на рубеже IV–III вв. переживала несомненный расцвет (Менандр, Филемон, Дифил). Этот расцвет, однако, оказался недолговечным. В середине III в. мы уже не можем назвать ни одного афинского автора, который составил бы себе имя в этом жанре.
(обратно)47
Термин, введенный французским историком, исследователем эллинизма, П. Брианом (Briant P. Rois, tributs et paysans: Ėtudes sur les formations tributaires du Moyen-Orient ancien. P., 1982. P. 261 if.).
(обратно)48
Rostovtzeff M. I. Op. cit. Vol. 1. P. 141.
(обратно)49
А также в труде П. Бриана, указанном в примечании 44.
(обратно)50
Огромное значение для понимания социально-экономических отношений в Египте эпохи Птолемеев имело обнаружение в египетских песках ряда архивов, и прежде всего так называемого «Архива Зонона», исключительного по полноте и числу содержащихся в нем документов. Зенон был кем-то вроде начальника канцелярии у Аполлония, занимавшего при Птолемее II Филадельфе ноет диойкета (управляющего) сначала Птолемаиды, а потом всего Египта.
(обратно)51
Родоначальником литературы об идеальных монархах следует считать Ксенофонта с его «Воспитанием Кира». Ряд философов обращался к монархам с наставлениями о том, каким должен быть хороший царь. Таковы «Начала царской власти» Ксено-крата, обращенные к Александру, далее «К Кассандру о царской власти» Феофраста, два сочинения Стратопа — «О царской власти» и «О царе-философе» (заметим, что Стратой был воспитателем Птолемея II Филадельфа). Целая серия сочинений со стандартными заглавиями «О государстве», «О царской власти» и т. д. вышла из школы стоиков.
(обратно)52
См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1964. Т. 3. С. 261; 275.
(обратно)53
Diod. III, 12–14.
(обратно)54
См.: История Древнего мира. Т. II. С. 328–331.
(обратно)55
Платон. Соч.: В 3 т. М., 1970. Т. 3. С. 328 (Theait. 152A).
(обратно)56
Секст Эмпирик, Соч.: В 2 т. М., 1975. Т. 1. С. 73 (Sext. Adv. math., 65).
(обратно)57
См.: Рожанский И. Д. Загадка Сократа // Прометей. М., 1972, № 9
(обратно)58
Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 102 (Metaph. В 2, 996 а 32; «Met.» B23, 1398 b 29).
(обратно)59
Платон. Соч.: В 3 т. М., 1970. Т. 2. С. 237–285 (Theait. 151E— 187 А).
(обратно)60
Horat. I, II, 8.
(обратно)61
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979 (Diog. Laert. VI, 20–81).
(обратно)62
См.: Нахов И. М. Философия киников. М., 1982.
(обратно)63
Плутарх. Указ. соч. Т. 2. С. 404 (Plut. Alex.).
(обратно)64
См.: Sloterdijk P. Kritik der zynischen Vernunft. Frankfurt a. M., 1983. Bd. 1. S. 208–214.
(обратно)65
Cicero. Acad. II, 44, 135.
(обратно)66
Точка зрения, подхваченная во второй половине XIX в. немецким филологом Эрвином Роде, к которому присоединились П. Наторп, П. Таннери, В. Нестле и др. Традиционное мнение, согласно которому Левкипп был учителем Демокрита и, следовательно, реальной фигурой, защищавшееся Г. Дильсом, Э. Целлером, К. Прехтером, в конце концов, по-видимому, взяло верх (см. статью Й. Штенцеля о Левкиппе в Энциклопедии Паули-Виссова). Впрочем, учитывая скудость источников, вряд ли можно будет считать когда-либо «Левкиппов вопрос» решенным окончательно и безоговорочно.
(обратно)67
Cicero. De fin bon. et mal. I, 6, 19.
(обратно)68
Целлер Э. Очерк истории греческой философии. Μ., 1913. С. 242.
(обратно)69
См.: Вавилов С. И. Физика Лукреция // Лукреций. О природе вещей. М., 1947. Т. 2. С. 9—38.
(обратно)70
Лурье С. Я. Демокрит. Л., 1970. С. 65; 255.
(обратно)71
Детальный анализ понятия «амер» у Эникура дан в монографии: Furley D. J. Two Studies in Greek Atomists. Princeton, 1967.
(обратно)72
Лурье С. Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. М.; Л., 1935;
Лурье С. Я. Демокрит. С. 47–51 и 231–238. Существует мнение, что термин «амеры» был впервые введен философом мегарской школы Диодором Кроном. См.: Furley D. J. Op. cit. P. 131–135.
(обратно)73
Эпикур. Письмо к Пифоклу // Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 423 (Diog. Laert. X, 91).
(обратно)74
Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 437–442 (Diog. Laert. X, 139–154).
См. также: Лукреций Кар. О природе вещей. М.; Л., 1947. Т. 2. С. 588–611.
(обратно)75
Эпикур. Письмо к Менекею // Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 433 (Diog. Laert. Χ, 125).
(обратно)76
Лосев Α. Φ. Статьи по истории античной философии для IV–V томов философской энциклопедии: (Рукопись для общественного обсуждения). М., 1965. С. 39.
(обратно)77
См.: Рожанский И. Д. Анаксагор: У истоков античной науки. М., 1972.
(обратно)78
Диоген Лаэртий приводит дословно письмо Антигона Гоната к Зенону, содержащее предложение о переезде в Македонию, а также ответ Зенона. См.: Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 271–272 (Diog. Laert. VII, 7–9).
(обратно)79
Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 392.
(обратно)80
Там же. С. 385–387.
(обратно)81
Секст Эмпирик. Соч.: В 2 т. М., 1976. Т. 2. С. 215–239.
(обратно)82
Schneider К. Kulturgeschichte des Hellenismus. München, 1967–1969. Bd. 1, 2.
(обратно)83
Когда Птолемей I Сотер принял в 285 г. решение отойти от государственных дел, встал вопрос о его наследнике. Деметрий Фалерский считал правильным передать престол старшему сыну царя от его первой жены Эвридики — Птолемею Керавну. Однако Сотер не согласился с мнением своего советника и назначил на следником младшего сына (от второй жены Береники), получившего впоследствии прозвище Филадельфа (поскольку он женился на своей родной сестре Арсиное). Результатом этих разногласий было то, что после смерти Сотера в 282 г. Деметрий Фалерский оказался в опале и, будучи сослан, вскоре умер (согласно легенде — от укуса змеи).
(обратно)84
См.: Платон. Соч.: В 3 т. М., 1968. Т. 1. С. 94–95 (Платон. Апология Сократа. 266).
(обратно)85
Перечень лиц, состоявших во главе Библиотеки, приведен нами согласно работе: Fraser P. М. Ptolemaic Alexandria. Vol. 1. P. 333. Фрэзер исключил из этого перечня поэта Каллимаха, который, по мнению ряда других исследователей, возглавлял Библиотеку после Зенодота. С другой стороны, большинство историков не включают в перечень главных библиотекарей Аполлония Эйдографа.
(обратно)86
Galen. Comm. in Hipp. Epidem II. (XVII a 606—7, ed. Kühn).
(обратно)87
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 220–221 (Diog. Laert V, 51).
(обратно)88
Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 223–224 (Diog. Laert VI, 62).
(обратно)89
Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 222 (Diog. Laert VI, 58).
(обратно)90
Страбон. География. М., 1964. С. 733 (Strabo XVII, I, 8).
(обратно)91
Диоген Лаэртий сообщает (V, 58), что Стратон получил от Филадельфа 80 талантов, но это было, по-видимому, единовременное вознаграждение, выданное ему при отъезде из Александрии.
(обратно)92
Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 229 (Diog. Laert V, 80–81).
(обратно)93
Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 222–223 (Diog. Laert V, 59–60).
(обратно)94
Prod. Diad. In prim. Euclidis Elem. Libro Comm. P. 68 (ed. Friedl., 1873). Подробное обсуждение этого места содержится у Фрэзера. См.: Fraser P. M. Ptolemaic Alexandria. Vol. II. P. 563–564, note 82.
(обратно)95
Аналогичный анекдот рассказывается, впрочем, также об Александре и ученике Эвдокса Менехме (Стобеем), так что он принадлежал, по-видимому, к числу «бродячих» сюжетов.
(обратно)96
Классической и во многих отношениях до сих пор непревзойденной считается «История греческой математики» Т. Хита Heath Т. A History of Greek Mathematics. Oxford, 1921. Vol. I, II).
(обратно)97
На этот сюжет Каллимах написал поэму, частично дошедшую до нас в числе прочих папирусных находок недавнего времени. Ранее был известен только латинский перевод этой поэмы, сделанный Катуллом (Carmen LXVI. De Coma Berenices). Содержание поэмы таково: когда Птолемей Эвергет находился в военном походе в Сирии, его жена Береника обещала посвятить локон своих волос богам, если царь вернется живым и невредимым. Отрезанный локон был положен на хранение в храм, но внезапно оказался исчезнувшим. Следующей ночью Конон обнаружил его на небе в виде созвездия. Эту историю пересказывает также римский астроном-популяризатор II в. н. э. Гигин.
(обратно)98
O том, что тема трактата «О спирали» была предложена Архимеду Кононом, сообщает Папп в «Математическом сборнике» (IV, 30). До Конона спираль вообще не попадала в поле зрения греческих математиков.
(обратно)99
Дошедший до нас текст «Измерения круга» представляет собой лишь часть более полного сочинения Архимеда на эту же тему. Об этом свидетельствуют фрагменты этого сочинения, приводимые Героном и Диофантом. См.: Архимед. Соч. М., 1962. С. 270.
(обратно)100
Цитата из трактата Теоиа из Смирны: Τά κατά τό μαϑηματικόν χρήσιμα είς τήν τοϋ Πλάτωνος άγάγνοσιν. См.: Ван дер Варден В. Л. Пробуждающаяся наука. М., 1959. С. 315.
(обратно)101
Первым автором, использовавшим нумерацию олимпиад для датировки исторических событий, был, по-видимому, сицилийский историк Тимон из Тавромениона (около 346–250 гг.). С середины III в. вся греческая хронология строится на датах олимпиад, которые отсчитываются начиная с 776 г.
(обратно)102
Три задачи, поставленные математиками V в. (1. Удвоение куба («делийская» задача); 2. Трисекция угла; 3. Квадратура круга), оказались не разрешимы средствами геометрической алгебры. Все три задачи вскоре приобрели большую популярность, о чем свидетельствуют их упоминания в нематематической литературе (так, например, ссылку на квадратуру круга мы находим в «Птицах» Аристофана). Ими занимались практически все математики, а также некоторые философы (Анаксагор, Гиппий, Антифон). Окончательное решение этих задач было получено лишь в XIX в.
(обратно)103
См.: Fraser P. M. Ptolemaic Alexandria. Vol. 1. P. 416.
(обратно)104
He следует отождествлять этого Аттала с царем Пергама Атталом I, как это иногда делается в историко-математической литературе. По этому поводу см.: Fraser P. M. Op. cit. P. 417–418.
(обратно)105
Понятия нуля и отрицательной величины впервые появляются — и притом еще в очень неясной форме — у Птолемея и Диофанта.
(обратно)106
Птолемей. Альмагест, III, I (ed. Heiberg. P. 195).
(обратно)107
Речь идет о трактатах Аристотеля «История животных» (Ai περί τά ζωα ιστορία), «О частях ЖИВОТНЫХ» (Περί ζώων μορίων), «О происхождении животных» (Περί ζώων γενέσεως) и ряде мелких аристотелевских работ, объединяемых под общим заглавием Parva naturalia, а также о трактатах Феофраста «История растений» (Περί φυτών ιστορίας), «О причинах растений» (Περί φυτων αιτίων), «О камнях» (Περί λίδων) и некоторых других.
(обратно)108
Приведем отрывок из трактата «О священной болезни» (Περί ίεοης νοόσου): «Полезно также знать людям, что не из иного места возникают в нас удовольствия, радости, смех и шутки, как именно отсюда (от мозга), откуда также происходят печаль, скорбь и плач. И этой именно частью мы мыслим и разумеем, видим, слышим и распознаем постыдное и честное, худое и доброе, а также все приятное и неприятное, различая отчасти все это по той пользе, которую получаем. Этой же частью мы распознаем удовольствия и тягости, смотря по обстоятельствам, и не всегда нам бывает приятно одно и то же. От этой же самой части нашего тела мы и безумствуем, и сумасшествуем, и являются нам страхи и ужасы, одни ночью, другие днем, а также сновидения и заблуждения неуместные, заботы беспричинные; отсюда также происходит у нас незнание настоящих дел, неспособность и неопытность. И все это случается у нас от мозга, когда он нездоров и окажется теплее или холоднее, влажнее или суше своей природы или вообще когда он почувствует другое какое-нибудь страдание, несообразное со своей природой и обычным состоянием» (Гиппократ. Избранные книги. М., 1936. С. 509).
(обратно)109
Фридрих Эберс (1837–1898) — известный немецкий египтолог. Названный его именем медицинский египетский трактат был найден и опубликован в 1875 г. Русским читателям Эберс известен главным образом как автор исторических романов («Дочь фараона», «Уарда» и др.), которые переводились на русский язык и публиковались в конце прошлого и начале нашего века.
(обратно)110
Клепсидра — водяные часы. Опыты с клепсидрой в связи с процессами дыхания и кровообращения проводил еще Эмпедокл (Diels/Kranz. Die Fragmente der Vorsokratiker. 31, В 100).
(обратно)111
Научные и моральные аспекты вивисекторских опытов над людьми обсуждаются К. Цельсом в его известном трактате «О медицине» (С. Celsus. De medicina. Proemium); рус. изд.: Авл Корнелий Целъс «О медицине». М., 1959. С. 17–18.
(обратно)112
Qu. Sept. Flor. Tertullianus. De anima, 10, (Tertulliani opera. Lipsiae, 1841. Pars IV. P. 180–181).
(обратно)113
Соран (Soranus) из Эфеса — греческий врач начала II в. н. э., представитель методической школы. Его основные труды, посвященные внутренним π хроническим болезням, сохранились лишь в латинской обработке Целия Аврелиана (Coelius Aurelianus).
(обратно)114
См.: Grensemann II. Knidische Medizin. В.; Ν. Υ., 1975. Teil. 1: Die Testimonien zur ältesten knidischen Lehre und Analysen knidischer Schriften im Corpus Hippocraticum.
(обратно)115
Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 357 (Diog. Laert. VIII, 86–87).
(обратно)116
Плутарх в биографии Деметрия Полиоркета рассказывает легенду о том, каким образом Эрасистрат вылечил наследника престола Антиоха от недуга, вызванного его страстью к Стратонике, молодой жене царя Селевка I. Это «чудесное излечение» явилось началом славы Эрасистрата. См.: Плутарх. Указ. соч. Т. 3. С. 215–216 (Plut. Dem. 38).
(обратно)117
Сообщается, что Андрей погиб в сражении при Рафии (217 г.), закрыв своим телом царя.
(обратно)118
Gal. XVII, 735 (ed. Kuhn).
(обратно)119
Страбон. География. М., 1964. С. 603 (Strabo XIV, I, 34).
(обратно)120
Gal. СVIII, 746 (ed. Kuhn).
(обратно)121
Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1964. С. 146 (Sueton. Claud. 42). «Этрусская история» и «Карфагенская история» — книги, написанные самим императором Клавдием.
(обратно)122
Речь идет о представителях так называемой «второй софистики», расцвет которой относится ко второму веку н. э. См. «Жизнеописания софистов» (Βίοι σοφιστών) Флавия Филострата.
(обратно)123
До нас дошел полемический трактат еврейского писателя I в. н. э. Иосифа Флавия «Против Аниона» (Κατά Άπίωνα).
(обратно)124
См.: Neugebauer О. Ueber eine Methode zür Distanzbestimmung Alexandria — Rom bei Heron // Vidensk. Selsk. Hist.-fil. Medd. 1938. Bd. 26.
(обратно)125
Платон. Соч.: В 3 т. М., 1970. Т. 2. С. 83 (Plato. Phaid. 108E).
(обратно)126
Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1981. Т. 3. С. 338–340 (Arist. De caelo. II, 14, 296 а 8—298 а 21).
(обратно)127
Аристотель. Указ. соч. Т. 3. С. 340 (Arist. De caelo).
(обратно)128
Страбон. География. Μ., 1964. С. 120–121 (Strabo. II, 5).
(обратно)129
См. ссылки на Эвдокса в IX–X книгах «Географии» Страбона.
(обратно)130
Аристотель. Указ. соч. Т. 3. С. 493–494 (Arist. Meteor. II, 5).
(обратно)131
Theon Smyrn. (ed. Hiller) 1878. P. 198.
(обратно)132
Страбон. Указ. соч. С. 716 (Strabo. XVI, 4, 14).
(обратно)133
Herod. II, 29.
(обратно)134
Страбон. Указ. соч. С. 82 (Strabo. II, I, 20).
(обратно)135
Страбон. Указ. соч. С. 489 (Strabo. XI, II, 5).
(обратно)136
Страбон. Указ. соч. С. 122 (Strabo. II, 5, 18).
(обратно)137
Страбон. Указ. соч. С. 107 (Strabo. II, 4, 2).
(обратно)138
См.: Томсон Дж. О. Указ. соч. С. 212. Это соотношение вычислено на основании данных Пифея, приводимых в абсолютных длинах (тысячах стадиев), которые, будучи взяты поодиночке, следует признать сильно преувеличенными.
(обратно)139
У Страбона явное преувеличение: «Хотя Пифей заявил, что прошел всю доступную для путешественников Британию».
(обратно)140
Страбон. Указ. соч. С. 69 (Strabo. I, 4, 2).
(обратно)141
Страбон. Указ. соч. С. 191 (Strabo. IV, 5, 5).
(обратно)142
Страбон. Указ. соч. С. 106 (Strabo. II, 4, 1).
(обратно)143
Страбон. Указ. соч. С. 106 (Strabo. II, 4, 1).
(обратно)144
Plin. Hist. Nat. XXXVII, 2, И, 35.
(обратно)145
Страбон. Указ. соч. С. 107 (Strabo. II, 4, 2).
(обратно)146
В древних источниках (в частности, у Клеомеда) нет прямых указаний на то, что описываемая в тексте методика измерения величины земного шара была применена именно Дикеархом. Существует мнение, что ее автором скорее мог быть Аристарх (см.: Heidel W. The Frame of the Ancient Greek Maps. 1937. № 9). Однако большинство историков географии решают этот вопрос в пользу Дикеарха. Убедительные аргументы по этому поводу содержатся в работах А. Б. Дитмара «Родосская параллель: Жизнь и деятельность Эратосфена» (М., 1965) и «Рубежи ойкумены: Эволюция представлений античных ученых об обитаемой земле и природной широтной зональности» (М., 1973).
(обратно)147
Надо, впрочем, учесть, что Эратосфен, вероятно, пользовался египетскими стандартами, согласно которым длина одного стадия была равна 157,5 м.
(обратно)148
Geminus. Elem. Astron. § 14; Plin. Hist. Nat. II, 65, § 162.
(обратно)149
Herod. VII, 34–35.
(обратно)150
Другое название труда Эратосфена — «Географические записки».
(обратно)151
Страбон. Указ. соч. С. 74 (Strabo. II, 1, 2).
(обратно)152
Страбон. Указ. соч. С. 21 (Strabo. I, 2, 3).
(обратно)153
Страбон. Указ. соч. С. 40 (Strabo. I, 2, 15).
(обратно)154
Страбон. Указ. соч. С. 7 (Strabo. I, 1, 1).
(обратно)155
Страбон. Указ. соч. С. 57 (Strabo. I, 3, 3).
(обратно)156
Страбон. Указ. соч. С. 69 (Strabo. I, 4, 1).
(обратно)157
Cleomedes. De motu circulri corporum caelestium, I, 10 (ed. Zieg-
lor). 1891. P. 95—101.
(обратно)158
Если считать, что Эратосфен пользовался в своих вычислениях египетским стадием, равным 157,5 м, то расстояние в 5 тыс. стадиев будет соответствовать 787,5 км.
(обратно)159
По преданию, сембриты были потомками египтян, изгнанных египетским фараоном Псамметихом в Эфиопию (См.: Геродот, II, 30).
(обратно)160
Страбон. Указ. соч. С. 71 (Slrabo. I, 4, 6).
(обратно)161
Страбон. Указ. соч. С. 643–644 (Strabo. XV, 1, 11, 14).
(обратно)162
Страбон. Указ. соч. С. 96 (Slrabo. II, 1, 40).
(обратно)163
Страбон. Указ. соч. С. 87 (Strabo, II, 1, 23).
(обратно)164
Страбон. Указ. соч. С. 131 (Slrabo. II, 5, 34).
(обратно)165
Страбон. Указ. соч. С. 70, 116 (Slrabo. I, 4, 1 и II, 5, 8).
(обратно)166
Страбон. Указ. соч. С. 109 (Slrabo. II, 4, 4).
(обратно)167
Страбон. Указ. соч. С. 197 (Strabo. IV, 6, 12).
(обратно)168
Polib. IV. 39.
(обратно)169
Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л., 1972.
(обратно)170
О Фотии, дважды становившемся патриархом православной церкви, см.: Фейнберг Л. Α., Попова Т. В. Византийская литература эпохи расцвета (IX–XV вв.). М., 1978. С. 23–28.
(обратно)171
Diod. III, 12–14.
(обратно)172
Страбон. Указ. соч. С. 101–103 (Strabo. II, 3, 4–6).
(обратно)173
Страбон. Указ. соч. С. 254–255 (Strabo. VI, 2, 11).
(обратно)174
Plin. Hist. Nat. II, 88, 203.
(обратно)175
Страбон. Указ. соч. С. 104 (Strabo. II, 3, 6).
(обратно)176
Страбон. Указ. соч. С. 115 (Strabo. XII, 3, 15).
(обратно)177
Страбон. Указ. соч. С. 608 (Strabo. XIV, 1, 48).
(обратно)178
Страбон. Указ. соч. С. 626 (Strabo. XIV, 4, 4).
(обратно)179
Страбон. Указ. соч. С. 118 (Strabo. II, 5, 10).
(обратно)180
Страбон. Указ. соч. С. 269 (Strabo. VII, 2, 4).
(обратно)181
Страбон. Указ. соч. С. 284 (Strabo. VII, 3, 17).
(обратно)182
Там же (Strabo. VII, 4, 5).
(обратно)183
Мы сознательно пишем иверы (и Иверия), а не иберы (и Иберия), чтобы не путать предков грузин с тогдашними обитателями Пиренейского полуострова. В греческом начертании между тем и другим словом нет разницы.
(обратно)184
Страбон. Указ. соч. С. 672 (5ira6o. XV, 2, 8).
(обратно)185
Страбон. Указ. соч. С. 11 (Strabo. I, 1, 22).
(обратно)186
Лучшим критическим изданием «Географии» Птолемея признается лейпцигское издание 1938 г., снабженное критическими комментариями и картами. На русском языке отрывки из труда Птолемея приведены в хрестоматии М. С. Боднарского «Античная география» (М., 1953).
(обратно)187
Перевод дан по хрестоматии М. С. Боднарского.
(обратно)188
Впрочем, фактическая разница между цифрами Эратосфена и Птолемея (Посидония) могла быть и не столь большой, если учесть то обстоятельство, что в разных частях греческого мира стадий имел разную длину. Строго говоря, мы не знаем, каким именно стадием пользовался Эратосфен и каким Посидоний.
(обратно)189
См.: Bunbury E. H. A History of Ancient Geography. N. Υ., 1959. Vol. 2. P. 578; Tozer Η. F. A History of Ancient Geography. N. Y., 1964. P. 340.
(обратно)190
См.: Боднарский М. С. Указ. соч. С. 284.
(обратно)191
Simpl. In phys. comm. Ed. Η. Diels. В., 1882. S. 58–69.
(обратно)192
Аристофан. Комедии. Μ., 1954. Т. 2. С. 61. (Аристофан. Птицы, строки 1000–1005).
(обратно)193
Рожанский И. Д. Анаксагор: У истоков античной науки. М., 1972. С. 255. (DielslKranz 59, А 30).
(обратно)194
Платон. Соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 3, ч. 1. С. 338–340. (Plato. Polit. VII. 527 D — 53 °C).
(обратно)195
Там же. Т. 3, ч. 2. С. 304–305. (Plato. Leg. VII 821 А—822 С).
(обратно)196
Там же. С. 492–493, 500–501. (Plato. Epin. 983 А — В, 990 А — В).
(обратно)197
Simpl. In de caelo comm. В., 1894. 488, 20–24.
(обратно)198
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 357. (Dtog. Laert. VIII, 8, 86–88).
(обратно)199
Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 313–314. (Arist. Metaph. XII, 8, 1073 b 16—1074 а 14).
(обратно)200
Simpl. In de caelo, 493–506.
(обратно)201
Schiaparelli G. Le sfere omocentriche de Eudosso, di Calippo e di Aristotele //Memorie del R. Instituto di Scienze e Lettere; classe di Scienze matematiche e naturali. 1877. Vol. III. P. 117–179.
(обратно)202
Duhem P. Le systeme du monde. P., 1954. Vol. 1; Heath Th. Aristarchus of Samos, the ancient Copernicus. Oxford, 1913;
Dreiyer J. L. E. History of Astronomy from Thales to Kepler. N. Y., 1953.
(обратно)203
Dicks D. R. Early Greek Astronomy to Aristotle. Bristol, 1970. P. 179–180.
(обратно)204
Аристотель. Соч. Т. 1. С. 313. (Arist. Metaph. XII, 8, 1073 34–38).
(обратно)205
Theon Smyrn. Leipzig, 1878. P. 135.
(обратно)206
Что касается неверных значений сидерических периодов для Меркурия и Венеры, то, ввиду того что обе эти планеты лишь недалеко уходят от Солнца, их периоды в любой геоцентрической системе принимались равными одному солнечному году.
(обратно)207
Заметим, что Марс как объект исследования был камнем преткновения для многих астрономов вплоть до Кеплера (так, Плиний охарактеризовал движение Марса как maxime inobservabilis cursus — Plin. Hist. Nat. II, 15.).
(обратно)208
Hipparch. In Arat. et Eudox. comm. Leipzig, 1891.
(обратно)209
Simpl. In de caelo, 493.
(обратно)210
Аристотель. Соч. Т. 1. С. 313. (Arist. Metaph. XII, 8, 1073 b 34–38).
(обратно)211
Leptines. Ars Eudoxi (иногда расшифровывается как Didascalia caelestis. — И. Р.) II Tannery P. Recherches sur l'histoire de l'astronomie celeste. Bordeaux, 1893. P. 283–294.
(обратно)212
Аристотель. Соч. Т. 1. С. 313–314. (Arist. Metaph. XII, 8. 1073 38-1074a 17).
(обратно)213
Там же (Arist. Metaph. XII 1074 a 12–14).
(обратно)214
Simpl. In de caelo. 503. 35.
(обратно)215
Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 230–232. (Diog. Laert. V, 6).
(обратно)216
Simpl. In de caelo, 444.31-445.5; 519.9-11; 541.27—542.2.
(обратно)217
Chalcid. In Timaoum comm. C-110. Leipzig, 1976. P. 176–177.
(обратно)218
Наиболее авторитетные источники согласны в том, что порядок планет у пифагорейцев (включая Филолая) был такой же, как и у Платона: Луна, Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Но у более поздних авторов, начиная с Цицерона и Плутарха, появляется другой порядок, согласно которому Солнце помещается между Венерой и Марсом, причем Цицерон утверждает, что этот порядок был введен стоическим философом Диогеном из Вавилона (Cicero. De divinatione II, 43). Существует мнение, что этот порядок был заимствован стоиками у халдейских астрологов, в то время как традиционный порядок (Луна, Солнце и т. д.) имел египетское происхождение. См. по этому поводу: Dreyer. Op. cit. S. 129; 168–169.
(обратно)219
Theon Smyrn. Op. cit. P. 186–187.
(обратно)220
Mart. Capella. De nupt. Philol. et Mercur. Leipzig, 1925.
(обратно)221
Macrobius. In ciceros somnium Scipionis comm. Ed. Eypenhardt, 1893. I, 19.
(обратно)222
Simpl. In Phys. 292—21—292—31.
(обратно)223
Aet. I, 15, 5 (Dox. graeci. P. 313).
(обратно)224
Ptolem. Synt. III, 1 (Ptolemaios Handbuch der Astronomic Leipzig, 1963. Bd. 1. S. 145).
(обратно)225
Архимед. Соч. М., 1962. С. 358–359.
(обратно)226
Περί μεγεϑών καί αποστημάτων ήλιου καί σελήυης. (Полный текст с переводом на английский язык приложен к книге: Heath Th. Aristarchus of Samos. Oxford, 1913. P. 352–411).
(обратно)227
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 340. (Arist. De caelo II, 14, 298 a 19–20).
(обратно)228
Архимед. Соч. С. 358–359.
(обратно)229
Plutarch. De facie in orbe lunae. 6, 922 F—923 A.
(обратно)230
Aet. II. 24 (Dox. graeci. P. 355).
(обратно)231
Ptolem. Synt. I, 7 (Ptolemaios Handbuch der Astronomie. Bd. 1. S. 18–19).
(обратно)232
Simpl. In de caelo. 507, 14–20.
(обратно)233
Ptolem. Synt. XII, 1 (Ptolemaios Handbuch dor Astronomie. Leipzig, 1963. Bd. 2. S. 268, 272).
(обратно)234
Comment. In Aratos et Eudoxos. Ed. Manitius, 1891.
(обратно)235
Ptolem. Synt. III, 1 (Ptolemaios Handbuch der Astronomie. Bd. 1. S. 133.
(обратно)236
Ibid. (Ptolemaios Handbuch der Astronomie. S. 183).
(обратно)237
Ibid. (Ptolemaios Handbuch der Astronomie. Bd. 1. S. 145).
(обратно)238
Ibid. IX, 2 (Ptolemaios Handbuch der Astronomie. Bd. 1. S. 96).
(обратно)239
Theon Alex. In Ptolem comm. 1821 (сохранились частично). Упоминаемыми в этом труде таблицами хорд пользовались впоследствии Менелай и Птолемей.
(обратно)240
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 399–340. (Arist. De caelo II, 14).
(обратно)241
Платон. Соч. Т. 3, ч. 1. С. 475–476. (Plato. Tim. 35C—36D).
(обратно)242
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 322–324. (Arist. De caelo II, 9).
(обратно)243
Архимед. Соч. С. 359.
(обратно)244
Cleomedes. De motu circulari. Leipzig, 1891.
(обратно)245
Geminus. Isagoge. Leipzig, 1828.
(обратно)246
Ptolem. Synt. VII, 3 (Ptolemaios Handbuch der Astronomic Bd. 2. S. 26).
(обратно)247
Ptolem. Synt. VII, 3 (Ptolemaios Handbuch der Astronomie. Bd. 2. S. 23).
(обратно)248
Русский перевод «Большое математическое сочинение по астрономии». Немецкое издание в переводе Маниция, на которое мы ссылаемся, озаглавлено: «Handbuch der Astronomie».
(обратно)249
См. главу шестую.
(обратно)250
Идельсон Н. И. Этюды но истории небесной математики. М., 1975. С. 140.
Кстати, отметим, что данные, приводимые Птолемеем в его труде, давно уже вызывали сомнения историков астрономии, начиная с Деламбра, автора знаменитого шеститомного труда по истории астрономии (1817–1827 гг.). Своего апогея критическое отношение к Птолемею достигло в работах современного американского учёного Роберта Р. Ньютона, книга которого «Преступление Клавдия Птолемея» вышла в 1985 г. на русском языке. По мнению Роберта Ньютона, все наблюдательные данные, включенные Птолемеем в «Альмагест», были либо заимствованы у его предшественников, либо сфабрикованы. Подобная концепция, развенчивающая одного из величайших ученых древности, требует, разумеется, детального анализа. И все же на основании общих соображений она представляется пам но меньшей мере. преувеличенной.
(обратно)251
Ptolem. Synt. XIII, 12 (Ptolemaios Handbuch der Astronomie. Bd. 2. S. 333–334).
(обратно)252
Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972. С. 157 (Herod. III,60).
(обратно)253
Дильс Г. Античная техника. М.; Л., 1934. С. 19.
(обратно)254
Геродот. Указ. соч. С. 157 (Herod. III, 60).
(обратно)255
Fabricius. Athen. Mitt. Bd. 9. 1884. S. 165 ff.
(обратно)256
Heronis Alexandrini Opera quae supersunt omnia. Stuttgart, 1876. Vol. III (Heron. Dioptra).
(обратно)257
Дильс Г. Указ. соч. С. 20.
(обратно)258
Геродот. Указ. соч. С. 157 (Herod. III, 60).
(обратно)259
Геродот. Указ. соч. С. 209–210 (Herod. IV, 87–89).
(обратно)260
Геродот. Указ. соч. С. 324–325 (Herod. VII, 34–35).
(обратно)261
Дильс Г. Указ. соч. С. 34.
(обратно)262
По поводу корабельного дела в античности см.:
Landcls J. G.Engineering in the Ancient World. University oi Caliiornia Press, 1978. P. 133–169;
Casson L. Ships and seamanship on the Ancient World. Princeton University Press, 1971.
(обратно)263
Гомер. Илиада. Π, 494–759.
(обратно)264
Гомер. Одиссея. V, 233–261.
(обратно)265
Единственное исключение представляет собой, пожалуй, Гесиод с его явной антипатией к морю и к морским путешествиям:
Гесиод. Труды и дни. 641–660.
(обратно)266
Латинское triremis, соответствующее греческому τριήρης.
(обратно)267
Плутарх. Сравнительное жизнеописание: В 3 т. М., 1964. Т. 1. С. 219 (Plut. Demetr. XLIII).
(обратно)268
Plin. Hist. Natur. XIX, 3–4.
(обратно)269
Luciani Samosatensis opera. Leipzig, 1881. S. 213–234 (Navigium S. Vota).
(обратно)270
Athen. V, 206d—209b.
(обратно)271
В качестве наиболее солидного исследования по античной военной технике можно рекомендовать капитальный труд: Mars-den Ε. W. Greek and Roman Artillery. Oxford, 1969–1971. Vol. 1, 2.
Краткие изложения этих же вопросов содержатся в книгах:
Дильс Г. Указ. соч. С. 85—108;
Landels J. G. Op. cit. P. 99–132.
(обратно)272
Здесь и далее: Heron Belopoiica. Griechisch und Deutsch von H. Diels und E. Schramm II Abhandl. der Preus Akad. der Wissensch., Phil.-hist. Kl. - Jahrg., 1918. N 16. В., 1919.
(обратно)273
Bitons Bau von Belagerungsmaschinen und Geschiitzen. Griechisch und Deutsch von A. Rehm und E. Schramm // Abhandl. der Preus Akad. der Wissensch. Phil.-hist. Abt. N. F. В., 1929. Bd. 2.
(обратно)274
Altertiimer von Pergamon. B. Bd. XX. S. 48–54.
(обратно)275
Велиты — легкие пешие воины в римском легионе, выполнявшие ряд вспомогательных функций (караульная служба, охранение основной колонны и т. д.). Впоследствии этот род войска был ликвидирован Марией.
(обратно)276
Архимед. Соч. М., 1962. С. 47–48.
(обратно)277
Аристотель. Метафизика. М.; Л., 1934. С. 20. (Arist. Metaph. A I. 981 17–20).
(обратно)278
Aristoteles graece. Berolini, 1831 [P. 847–858] (русский перевод этого сочинения еще не издан; английский перевод:
The Works of Aristotle. Transl. under the editorship of W. Ross. Oxford, 1952. Vol. VI).
(обратно)279
Аристотель. Указ. соч. С. 92 (Arist. Metaph. A 2. 982 b 12–15).
(обратно)280
Arist. Mech. 5.851 a 5—10.
(обратно)281
Ibid. 19.853 b 14–22.
(обратно)282
Ibid. 32.858 a 13–16.
(обратно)283
Ibid. 11.852 a 31–33.
(обратно)284
Аристотель. О частях животных. М., 1937. С. 50 (Arist. De part. anim. A 5. 645a).
(обратно)285
Полное собрание трудов Архимеда в переводе на русский язык, со вступительной статьей и комментариями проф. И. Н. Веселовского издано Физматгизом в 1962 г. (см. ссылку 23).
(обратно)286
Heron. Mechanica I. 25–28, 30–31 // Heronis Alexandrini Opera, quae supersunt omnia. Stuttgart, 1976. Vol. II;
Архимед. Соч. С. 64–68.
(обратно)287
Pappus. Collectio mathematica VIII. 24 // Pappi Alexandrini collectionis quae supersunt. Vol. l—3. Berolini, 1876–1879;
Архимед. Соч. С. 68.
(обратно)288
Simplicius. In de caelo comment. В., 1894; Архимед. Соч. С. 72.
(обратно)289
Heron. Mechanica I, 1, 24;
Архимед. Соч. С. 69 (также С. 14–15).
(обратно)290
Pappus. Collectio mathematica VIII, 5–8; Архимед. Соч. С. 71.
(обратно)291
Архимед. Соч. С. 29.
(обратно)292
Архимед. Соч. С. 77.
(обратно)293
Архимед. Соч. С. 77.
(обратно)294
Архимед. Соч. С. 56.
(обратно)295
'Έγοδος — вход, доступ, в переносном смысле — метод.
(обратно)296
Архимед. Соч. С. 299.
(обратно)297
Heath Т. L. A History of Greek Mathematics. Vol. 1, 2. Cambridge, 1912;
Лурье С. Я. Архимед. М.; Л., 1945. С. 82.
(обратно)298
Архимед. Соч. С. 554–556.
(обратно)299
Архимед. Соч. С. 15.
(обратно)300
Мах Э. Механика. СПб., 1909. С. 21.
(обратно)301
Архимед. Соч. С. 556–557.
(обратно)302
Архимед. Соч. С. 328.
(обратно)303
Архимед. Соч. С. 328.
(обратно)304
Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1981. Т. 3. С. 314–315 (Arist. De caelo. II 4. 287b, 4—14).
(обратно)305
Strabo I, 3, 11 (Архимед. Соч. С. 578).
(обратно)306
Архимед. Соч. С. 329–332.
(обратно)307
Архимед. Соч. С. 335.
(обратно)308
Ареометр — прибор, служащий для определения плотности твер дых и жидких тел.
(обратно)309
Архимед. Соч. С. 629–632.
(обратно)310
Vitruv. De archit. IX, Praef., 9—12 (русское издание: Витрувий. Об архитектуре. М., 1936. Т. 1. С. 171–172).
Сходный метод излагается также Героном [Metrica II, 20] для решения задачи об измерении объема тел неправильной формы. При этом Герон добавляет: «некоторые сообщают, что для подобных целей метод был придуман Архимедом». Оценка точности этого метода дается в статье: Hoddeson L. Η. How Did Archimedes Solve King Hiero's Crown Problem? — An Unanswered Question // The Physics Teacher. January 1972. При этом оказывается, что ошибка при использовании метода, описанного Витрувием, может достигать 60 %.
(обратно)311
Второй метод, основанный на законе Архимеда, излагается в латинской дидактической поэме Carmen de Ponderibus, обычно приписываемой грамматику VI в. Прискиану. Версия Прискиана состоит в следующем: На одну чашу весов Архимед положил фунт серебра, на другую — фунт золота. Обе чаши он погрузил в воду и установил разницу в весе между ними. Предположим, что эта разница была равна трем драхмам. Затем он взял венок и положил его на одну чашку, а на другую положил равное ему по весу количество серебра. Снова обе чашки опускаются в воду. Пусть разница в весе обеих чашек, погруженных в воду, равна восемнадцати драхмам. Это означает, что венок содержит шесть фунтов чистого золота.
Совсем недавно версия Прискиана нашла неожиданное подтверждение. В библиотеке Гайдерабада (Индия) была обнаружена и прочитана арабская рукопись XIV в., автором которой был Абдул Рахман аль Хазини. Одна из глав рукописи озаглавлена «Весы Архимеда и их применение». В этой главе приводится следующая цитата из Архимеда, по словам автора дословно переведенная с греческого оригинала на арабский язык: «Мы пользуемся очень чувствительными весами. Мы берем равные по весу количества золота и серебра и кладем их на обе чашки весов, так чтобы в воздухе они уравновешивали друг друга. После этого мы помещаем обе чашки в воду. Когда весы склоняются в сторону золота (из-за большей тяжести золота), мы восстанавливаем равновесие, двигая вдоль коромысла регулировочную гирьку до тех пор., пока коромысло весов не примет горизонтальное положение. Мы отмечаем положение гирьки на том плече коромысла, к которому подвешена чашка с серебром… Но если мы смешиваем золото с серебром и желаем знать долю каждого из этих металлов в сплаве, мы должны взять такое количество серебра, которое было бы равно но весу сплаву. После этого мы помещаем чашки с серебром и сплавом в воду, предварительно убедившись, что чашки сделаны из одного материала и имеют одинаковый вес. Если теперь чашка со сплавом опустится, мы восстанавливаем равновесие, передвигая регулировочную гирьку вдоль коромысла до тех нор, пока коромысло не примет горизонтального положения. Отметив точку на коромысле в том месте, где подвешена гирька, мы можем утверждать, что эта точка укажет нам процентное содержание золота в сплаве». См.: Stamatls Evangelos S. Archimedes' Balance. Athens, 1979.
(обратно)312
Polybios. VIII. См. также: Архимед. Соч. С. 51; 579.
(обратно)313
Claudianus. Epigramma XVIII. — In sphaeram Archimedis. Русский (неточный) перевод см.:
Поздняя латинская поэзия. М., 1982.
(обратно)314
Tertullianus. De Anima, II, 14.
(обратно)315
Vitruu. IX, 8; Plin. Hist. Natur. VII, 38;
Athen. IV, 174b-d.
(обратно)316
Arlst. Phys. IV, 6. 213 a 22–27;
Arist. De respir. 7, 473 a 15—474 a 6.
(обратно)317
См.: Drachmann A. G. Ktesibios, Philon and Heron. Copenhagen, 1948. P. 1–3.
(обратно)318
Vitruv. IX, 8—27, X, 7–8.
(обратно)319
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 209. (Arist. Phys. VII, 2. 243 b 12).
(обратно)320
Письма Плиния Младшего. М., 1984. С. 33. (Plini Secundi epistolarum Libri. IX, X, 33).
(обратно)321
Vitruv. X, 7, 4.
(обратно)322
Neugebauer O. Über eine Mothode zur Distanzbestimmung Alexandria — Horn bei Heron // Vidensk. Selsk. Hist.-filol. Medd. 1938. Bd. 26. S. 2.
(обратно)323
Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia. Vol. 1–5. Leipzig, 1899.
(обратно)324
К дискуссии по этому вопросу относятся статьи:
Hammer-Jensen J. Ptolemaios und Heron // Hermes. 1913. Bd. 48. S. 224–235;
Hoppe E. Heron von Alexandrien // Hermes. 1927. Bd. 62. S. 79— 105);
Hammer-Jensen I. Die heronische Frage // Hermes. 1928. Bd. 63. S. 34–47.
(обратно)325
Дорфман Я. Г. Всемирная история физики. М., 1974. Т. 1. С. 67.
(обратно)326
Понятие этноса как исторически возникшей устойчивой группировки людей, единство которой обусловлено не столько сходством расы, языка, религии, сколько общностью исторической судьбы, существенно отличается от понятий племени, народа, нации. В данном случае оно представляется нам наиболее гибким и удобным.
(обратно)327
Блок А. Каталина // Блок А. Собр. соч. Л., 1936. Т. 8. С. 98.
(обратно)328
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1961. Т. 1. С. 430. (Plut. Μ. Cato. I).
(обратно)329
Μ. Catonis de agri cultura. Leipzig, 1962. (Русский перевод Μ. Ε. Сергеенко. См.: Марк Порций Катон. Земледелие. М.; Л., 1950).
(обратно)330
De agric. 61 // Марк Порций Катон. Указ. соч. С. 41.
(обратно)331
De agric. Introd. // Марк Порций Катон. Указ. соч. С. 7.
(обратно)332
Cicero. Ad Atticum, II, 4 (рус. изд.: Цицерон М. Т. Письма. М.; Л., 1949. С. 107–108).
(обратно)333
Ad Atticum, II, 6. (С. 110).
(обратно)334
Ad Atticum, II, 7. (С. 111).
(обратно)335
DK 22, В 40.
(обратно)336
August, de civitabe Dei, VI, 2 (цит. по: Варрон. Сельское хозяйство. Μ.; Л., 1963, С. 4).
(обратно)337
См. в особенности: Бахтин П. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 190–206.
(обратно)338
Cicero. Academica posteriora, 1, 9.
(обратно)339
Русское издание: Варрон. Сельское хозяйство. М.; Л., 1963.
(обратно)340
См.: Ученые земледельцы древней Италии. Л., 1970.
(обратно)341
Поэма Лукреция неоднократно издавалась у нас в образцовом переводе Ф. А. Петровского. Лучшим до сих пор остается двух томное издание, осуществленное Изд-вом АН СССР в 1946–1947 гг. Первый том содержит текст поэмы на латинском и русском языках; во втором томе помещены комментарии, статьи, а также фрагменты Эмпедокла и Эпикура.
(обратно)342
Cicero. Ad Quintum. II, 9 (с. 263).
(обратно)343
Все дошедшие до нас тексты Эпикура приведены по-гречески и по-русски (в переводе С. И. Соболевского) во 2-м томе указан ного издания Лукреция.
(обратно)344
Франс А. Собр. соч. М., 1983. Т. 3. С. 389–390.
(обратно)345
Здесь и далее произведение Лукреция Кара «О природе вещей» цит. по: Лукреций Кар. О природе вещей. Т. 1, 2. М., 1946–1947.
(обратно)346
Кай Меммий, которому посвящена поэма Лукреция, занимал ряд должностей у Помпея, а потом у Юлия Цезаря; кроме того, он подвизался в качестве оратора (Cic. Brut. 70, 247) и автора эротических стихотворений (Ovid, trist. 2, 433).
(обратно)347
Лукреций Указ. соч. Т. 2. С. 24.
(обратно)348
Лукреций Указ. соч. Т. 2. С. 33–34.
(обратно)349
Эпикур. Письмо к Геродоту, 57 // Лукреций. Указ. соч. Т. 2. С. 542, 544. Анализ этого места дап в работе: Furley D. J. Two Studies in the Greek Atomists. Princeton, 1967. P. 7—27.
(обратно)350
Лукреций. Указ. соч. Т. 2. С. 560–562.
(обратно)351
DK 22, В 3.
(обратно)352
Cicero. De fin. I, 6. 20.
(обратно)353
Эпикур. Письмо к Пифоклу, 93 // Лукреций. Указ. соч. Т. 2. С. 570–571.
(обратно)354
В переложении Ломоносова этот пассаж выглядит так:
Железо, злато, медь, свинцова крепка сила И тягость серебра тогда себя открыла Как сильный огнь в горах сжигал великий лес; Или на те места ударил гром с небес; Или против врагов народ, готовясь к бою, Чтоб их огнем прогнать, в лесах дал волю зною; Или чтоб тучность дать чрез пепел древ полям, И чистый луг открыть для пажити скотам; Или причина в том была еще иная, Владела лесом там пожара власть, пылая. С великим шумом огнь коренья древ палил; Тогда в глубокой дол лились ручьи из жил, Железо, и свинец, и серебро топилось, И с медью золото в пристойны рвы катилось. (Ломоносов М. В. Соч. М., 1893. Т. II. С. 256) (обратно)355
Thuc. II, 47–52 (рус. пер.: Фукидид. История. Л., С. 84–86).
(обратно)356
Письма Плиния Младшего. М., 1984. С. 45–46.
(обратно)357
Письма Плиния Младшего. М., 1984. С. 105–106.
(обратно)358
Ауфидий Басс — римский историк I в. н. э. Написал сочинение о войне с германцами (De bello Germanico), а также всеобщую историю. Книги Басса, послужившие одним из источников для Тацита, не сохранились, за исключением небольшого числа фрагментов.
(обратно)359
Caii Plinii. Historia Naturalis. Vol. 1—10. P., 1832.
(обратно)360
Жители городов Америя и Тудер, расположенных в Умбрии, к северо-востоку от Рима.
(обратно)361
В сборник «Ученые земледельцы древней Италии» (см. примеч. 15) включены четырнадцатая и пятнадцатая книги «Естественной истории» Плиния, посвященные виноградарству (и виноделию), масличному и фруктовому садоводству.
(обратно)362
Цитаты из Витрувия приводятся в переводе Ф. А. Петровского. См.: Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 1936.
(обратно)363
Сравни аналогичное объяснение Плиния во второй книге «Естественной истории».
(обратно)364
Берос — вавилонский жрец, написавший на греческом языке сочинение по истории Вавилона.
(обратно)365
Книги трактата Колумеллы переведены на русский язык и включены в сборник: Ученые земледельцы древней Италии. Л., 1970.
(обратно)366
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 307.
(обратно)367
Ortg. Contr. Cels., III, 34 (цит. по: Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. М., 1979. С. 95). Заметим, что Цельс, против которого направлено это сочинение Оригена, не имеет никакого отношения к энциклопедисту Авлу Корнелию Цельсу, о котором шла речь в седьмой главе. Это был платоник II в. н. э., написавший сочинение Αληϑής λόγος («Истинный логос») — первое известное нам полемическое сочинение, содержавшее критику христианского вероучения.
(обратно)368
См.: Saffrey H.-D. Le Chretien Jean Philopon et la survivance de l'ecole d'Alexandrie au VI-е siecle // Revue des etudes grecques. 1954. N 67. P. 396–410.
(обратно)369
Philoponus Joannes. De aeternitate mundi contra Proclum. В., 1899.
(обратно)370
Philoponus Joannes. De opificio mundi. Leipzig, 1897.
(обратно)371
О дискуссии Филопона и Симпликия по поводу вечности мира см.: Wieland W. Die Ewigkeit der Welt: (Die Gegenwart der Griechen in neuerem Denken) // Festschrift für H. G. Gadamer zum 60. Geburtstag. Tübingen, 1960. Plat. Tim. 53 в (рус. изд.: Платон. Соч.: В 3 т. Т. 3, ч. 1. М., 1971. С. 494–495).
(обратно)372
Plat. Tim. 53 b (рус. изд.: Платон. Соч.: В 3 т. Т. 3, ч. 1. М., 1971. С. 494–495).
(обратно)373
Simplicius. In de caelo comment. Ed. H. Diels. В., 1894; Simpli-cius. In phys. comment. В., 1882. В последующих ссылках страницы и строки указываются по этим изданиям.
(обратно)374
Аристотель. Соч.: В 3 т. М., 1981. Т. 3. С. 105 (Aristot. Phys. Г I. 201 а 10–11).
(обратно)375
Simplicius. In phys. 1140, 13.-14.
(обратно)376
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 68 (Aristot. Phys. A 4. 187а, 28–29).
(обратно)377
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 150 (Arist. Phys. 11. 220а, 24–25).
(обратно)378
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 422–427 (Arist. Degen. etcorr. A 4–5. 331а-333а).
(обратно)379
Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. С. 292. (August. Confessiones. XI, 14).
(обратно)380
Майоров Г. Г. Указ. соч. С. 293 (August. Confessiones. XI, 11).
(обратно)381
Philoponus Joannes. In Phys. comment. В., 1887; In de Anima comment. В., 1897; In de gen. et core, comment. В., 1897; In meteorol. comment. В., 1901.
(обратно)382
Sambursky S. The Physical World of the Late Antiquity. L., 1962. P. 122–132.
(обратно)383
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 319 (Arist. De caelo В 7. 289а, 34–35).
(обратно)384
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 447 (Artst. Meteor. A 3, 340b, 1–2).
(обратно)385
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 449 (Ibid. 341а, 26–27).
(обратно)386
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 449 (Ibid. 341а, 35–36).
(обратно)387
Philop. In meteor. 47, 18 и далее.
(обратно)388
Simpl. In de caelo. 89, 4–7.
(обратно)389
Псалтирь. 18, 2.
(обратно)390
In de caelo. 90, 12–18.
(обратно)391
Первое послание к коринфянам. 15, 41.
(обратно)392
Philop. De opif. mundl IV, 12, 184, 26-185, 13.
(обратно)393
Simpl. In de caelo, 89, 16–19.
(обратно)394
Ibid. 87, 29–88, 5.
(обратно)395
Simpl. In phys. 1335, 5-16.
(обратно)396
Simpl. In de caelo. 134, 24–32.
(обратно)397
Ibid. 142, 7-17.
(обратно)398
Имеется в виду так называемое предварение равноденствий (прецессия), открытое Гиппархом.
(обратно)399
Philop. De opif. mundi III 4, 116, 26—117, 24.
(обратно)400
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 123–124 (Arist. Phys. 1–5. 208a 25-213a 11).
(обратно)401
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 124. (Arist. Phys. 1. 208b 29–33).
(обратно)402
Simpl. In phys. Corollarium «De loco», 601–645.
(обратно)403
Ibid. 639, 15–22.
(обратно)404
Jammer M. Concepts of space. Cambridge, Mass., 1954; Sambursky S.The physical world of late antiquity. L., 1962.
(обратно)405
Diels H. Straton der Physiker.
(обратно)406
Philop. In phys. 567, 29-568, 1; 4-12; 568, 13–14.
(обратно)407
Ibid. 569, 7-11.
(обратно)408
Simpl. In de caelo.
(обратно)409
Arist. De caelo. A 6. 273b 30—274a 1.
(обратно)410
Simpl. Op. cit. 266, 92–35.
(обратно)411
Simpl. In de caelo. 265, 9 и далее.
(обратно)412
Ibid. 710, 17-711, 25.
(обратно)413
Philop. In phys. 682, 30–32.
(обратно)414
Philop. In phys. 693, 9-12; 683, 16-r21; 29–33.
(обратно)415
Аристотель. Соч. Т. 3. С. 219 (Arist. Phys. Η. 5. 250a 16–17).
(обратно)416
Там же. С. 260 (Arist. Phys. 10. 267а 2–7).
(обратно)417
По-русски этот термин передавался словосочетаниями: «круговое перемещение», «обратное круговое давление» и др.
(обратно)418
Simpl. In phys. 1349, 26–29.
(обратно)419
Simpl. In de caelo. 264, 25—265, 3.
(обратно)420
Simpl. In de caelo. 265, 3–6.
(обратно)421
Arist. Phys. 8. 215a 15 и 10.267a 18. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что термин άντιπερίοτασις Аристотель в обоих этих местах сопровождает замечанием: «как говорят некоторые». Вероятнее всего, это обычная для Аристотеля ссылка на Платона. Однако в диалогах самого Платона мы этого термина не находим.
(обратно)422
Philop. In phys. 642, 5–9.
(обратно)423
Philop. In de gen. et corr. 169,32—170,8; 170,12–35.
(обратно)


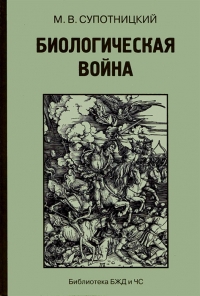

Комментарии к книге «История естествознания в эпоху эллинизма и Римской империи», Иван Дмитриевич Рожанский
Всего 0 комментариев