«Это во французском характере — преувеличивать, жаловаться и все искажать, если чем-то недоволен».
Наполеон Бонапарт. император Франции«В Париже они просто таращились на меня, когда я обращался к ним по-французски. Мне так и не удалось заставить этих идиотов понять свой родной язык».
Марк ТвенВступление
На лекциях и в ходе бесед меня чаще всего спрашивают: почему между французами и теми, кто имеет наглость считать английский родным языком, сложились отношения, очень напоминающие любовь, от которой до ненависти один шаг?
С любовью все понятно: что бы ни говорили на публике, мы находим друг друга невероятно сексуальными. С ненавистью проблем куда больше. Для начала хочу пояснить: все-таки это не столько ненависть, сколько недоверие. Но откуда ему браться, тем более в наши дни, когда в западном мире все вроде бы успокоилось?
Всем хорошо известно, что это недоверие уходит корнями в нормандское завоевание Англии, Азенкур[1], Ватерлоо и прочие неприятности, но меня заинтересовало, почему оно не исчезло. В конце концов, большинство наших баталий остались в таком далеком прошлом, что они уже не могут влиять на настоящее, не так ли? Вот почему я решил покопаться в прошлом и поискать там более точный ответ.
Теперь, завершив работу над книгой, я понимаю, откуда исходит нескончаемая напряженность в наших отношениях. Дело в том, что наша история — это вовсе не история. Все происходит здесь и сейчас.
Уильям Фолкнер имел в виду американский Юг, когда заметил: «Прошлое никогда не умирает. Оно даже не проходит». То же самое можно сказать и об англичанах с французами: что бы мы ни пытались предпринять в настоящем, прошлое всегда догонит и напомнит о себе звонкой пощечиной.
Приведу самый простой пример: когда в 2003 году Франция отказалась участвовать в военной акции против Ирака, американцев обуяла исторически сложившаяся неприязнь к французам: «Какая неблагодарность, и это после того, как мы освободили их в тысяча девятьсот сорок четвертом, и всего остального!» Бритты не замедлили присоединиться к этим воплям возмущения, добавив несколько собственных шуток о любовных похождениях Наполеона. Французы между тем ничуть не раскаивались в отказе: «Этих американцев хлебом не корми, дай только вторгнуться куда-нибудь. Они ведь и Голливуд придумали только для того, чтобы вести наступление на нашу древнюю французскую культуру, — и кстати, не забывают ли они о том, что именно мы помогли им во время их революции тысяча семьсот семьдесят седьмого года?» Конечно, спор этот разгорелся вовсе не вокруг свержения средневосточного диктатора — это взрывались заложенные историей мины.
Работая над книгой, я сделал интересное открытие: наши версии одних и тех же событий предстают в диаметрально противоположных ракурсах. Французы рассматривают историю сквозь призму триколора и обвиняют во всех неудачах, когда-либо постигших Францию, бриттов и американцев (после 1800 года). Иногда французы совершенно правы — в прошлом мы причинили им немало бед, — но зачастую наивно заблуждаются, и я попытался восстановить историческую справедливость.
Я отдаю себе отчет в том, что любая книга, автор которой представит взвешенный анализ исторических событий, вызовет у французов немалое раздражение. Поэтому прошу у тебя, Франция, прощения, но тысячелетняя история взаимных обид еще не окончена…
Стефан Кларк, Париж.Глава 1 Когда француз совсем даже не француз?
1066 год: нормандцы пересекают Ла-Манш, чтобы вдохновить англосаксов на тысячелетнюю вражду с французами
Французы очень гордятся тем, что были последними завоевателями Британских островов. Гитлер так и не смог пробраться дальше Кале, испанская «Непобедимая армада» вернулась домой побитой, и даже их собственному Наполеону удалось высадить на британскую землю лишь жалкую горстку потрепанных солдат. С другой стороны, Вильгельм Завоеватель не только вторгся в Англию, но и захватил всю страну и превратил ее во французскую колонию.
Однако французская версия этого исторического события, как и в случае со многими другими французскими версиями исторических событий, грешит неточностями. Или, если уж называть вещи своими именами, она практически во всем неверна.
Для начала внесем ясность: нидерландец Вильгельм Оранский успешно высадился в Британии с армией в 1688 году. Но эту акцию, совершенную без пролития крови, можно рассматривать скорее как ответ на мольбы бриттов прийти и спасти их от самих себя, но не как вторжение неприятеля в страну.
Впрочем, куда более важное другое. Если внимательно изучить факты Нормандского завоевания 1066 года, станет очевидно, что Франция, присваивая себе лавры последнего завоевателя Британских островов, очень сильно лукавит. Может показаться, что чересчур сурово начинать книгу с разоблачения одной из ключевых идей коллективного исторического сознания французской нации, но это необходимо сделать…
Полцарства за… скандинава [2]
До 1066 года жителей территорий, которые сегодня мы именуем Британией, волновали вовсе не вопросы типа «Получу ли я достойную пенсию?» и «Потяну ли я ипотеку?». Их тревоги сводились к напряженному ожиданию, когда из-за моря нагрянут полчища бандитов с топорами насиловать их женщин и воровать скот, — или наоборот, в зависимости от того, какое племя викингов предпримет набег.
Если люди не умирали голодной смертью из-за неурожая или мародерства, если им удавалось вовремя собрать урожай и съесть его, жизнь казалась райской. И они, чтобы наслаждаться этой роскошью, прежде всего нуждались в сильном короле. Том, кто душил бы их непосильными налогами, но при этом давал возможность жить подольше, чтобы платить эти самые налоги, — фактически, такую же политику проводят современные правительства.
В девятом веке в Британии был такой король, и звали его Альфред. Имея в своем распоряжении постоянный флот и хорошо обученную армию, он успешно защищал Англию — во всяком случае, ту часть, которой он правил и которая находилась южнее нынешних центральных графств, — от набегов викингов. Альфреда даже прозвали Великим, потому что благодаря нему эти рейды превратились для викингов из зверской охоты за добычей в походы, чреватые верной смертью.
Все кончилось тем, что викинги, понятное дело, раздраженные потерей внушительной доли своих доходов, решили направлять свои корабли чуть южнее и грабить Францию, где было чем поживиться, причем без особых усилий. Добыча оказалась настолько легкой, что викинги устроили по всему французскому побережью свои базы — нечто вроде мародерских курортов, — откуда совершали набеги вглубь страны. Вскоре регион настолько лихорадило, что королю Франции пришлось уступить этим «ребятам с севера», дабы утихомирить их, довольно большой кусок своей территории. И в 911 году эти земли официально стали Страной нормандцев, или Нормандией.
Короче говоря, Нормандия обязана своим существованием англичанину, который отвадил мародеров от набегов на Британию, заставив их взять курс на Францию. Многообещающее начало.
В те времена владения французских королей занимали территорию нынешней Франции и, напоминая лоскутное одеяло, состояли из легкоуязвимых герцогств, правители которых едва могли удержать собственные земли, не говоря уже о том, чтобы вторгнуться в чужие. На самом деле эти короли не называли себя французскими даже спустя почти сто лет после смерти Вильгельма Завоевателя, вплоть до 1181 года, когда Филипп Август впервые начал титуловать себя rex Franciae («король французов»), перестав использовать титул rex Francorum («король франков»).
И когда один из королей франков все-таки попытался подчинить себе беспокойных нормандцев, это обернулось полной катастрофой. В 942 году герцог Нормандский, грозно именовавшийся Вильгельм Длинный Меч, был убит, и ему наследовал десятилетний сын Ричард. Узнав об этом, король франков Людовик IV решил напасть на Южную Нормандию и захватить Руан, важный речной порт на полпути между Парижем и побережьем. Но юного Ричарда поддерживали могущественные члены клана — Бернард Датчанин, Харальд Викинг и Сигтрюгг Король Моря, так что вторжение утонуло в слезах франков. Людовик был взят в плен и освобожден лишь в обмен на заложников — одного из собственных сыновей и епископа. Короче говоря, нормандцы ясно дали понять, что не испытывают никаких симпатий к франкам, бургундцам и лотарингцам, так же как и ко всем остальным жителям страны, которой суждено было в один прекрасный день стать Францией. Они хотели, чтобы их оставили в покое.
Напрашивается вполне очевидный вывод: что бы ни говорил вам современный парижанин, нормандцы вовсе не были французами. Назвать французом нормандца десятого или одиннадцатого века — все равно что принять шотландца за англичанина, — такая ошибка в Глазго и сегодня может стоить вам разбитого носа.
На самом деле нормандцы считали франков шайкой безвольных парижан, которые вели себя как хозяева континента, а потому следовало пинками возвращать их домой, если они забирались слишком далеко от своего снобистского городишки. (Подобное отношение, кстати, с десятого века не так уж сильно изменилось.)
Франки в свою очередь презирали нормандских герцогов, видя в них опасных северных варваров, которые живут лишь охотой и войнами и практикуют языческую полигамию, окружая себя ордами любовниц и плодя незаконнорожденных детей.
Франки были совершенно правы, и именно в такой среде родился Вильгельм.
Вильгельм был бастардом
Поразительно, но будущий Завоеватель имел незавидно низкое происхождение. Поначалу, разумеется, Вильгельма не величали Завоевателем. Зато другое прозвище, Бастард, приклеилось к нему практически с рождения. Его не состоявшими в браке по христианскому обряду родителями были Роберт, младший брат правящего герцога Нормандского, и красивая девушка из маленького нормандского города Фалеза, которую в исторических книгах именуют по-разному. Во французских источниках она проходит как Херлева, Харлотта, Херлетта, Арло, Аллаива и Беллона [3].
История знакомства юной девы с Робертом тоже преподносится по-разному. В 1026 или 1027 году она то ли мыла шкуры в реке, то ли танцевала, а может, проделывала то и другое одновременно, когда через селение Фалез ехал верхом на лошади Роберт, направляясь в свой тамошний замок. Ему на глаза попалась милая девушка (давайте назовем ее Херлева, исключительно ради удобства произношения), и он тотчас стал планировать то, что его современники называли «датским браком», а мы сегодня попросту называем сексом.
По англосаксонским легендам более позднего времени, вероятно сложенным с целью позлить нормандцев, Роберт похитил Херлеву. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что он все-таки сходил к ее отцу, местному дубильщику, и поставил его в известность о своих планах. Отец Херлевы пытался настаивать на свадьбе, но Роберт отказался — главным образом потому, что девушка была не совсем аристократкой: кожевенных дел мастера стояли на низшей ступени сословной лестницы. Шкуры обрабатывали смесями из мочи, животного жира, мозгов и навоза (кстати, очень ценным сырьем считалось собачье дерьмо), так что от дубильщиков несло еще сильнее, чем от чистильщиков выгребных ям.
Однако свадьба вовсе не составляла проблему. Нормандских рыцарей никто не обязывал вести под венец своих избранниц, поэтому Херлеву отмыли от кожевенных запахов и уложили в постель к Роберту в его кремово-белом замке, где она стала его frilla, или местной любовницей.
Вскоре после этого старший брат Роберта, нормандский герцог Ричард, напал на Фалез и захватил замок (воинственные нормандцы частенько проделывали такие штуки со своими братьями). Чрезвычайно довольный собой, Ричард вернулся в свою штаб-квартиру в Руане, где очень быстро скончался при загадочных обстоятельствах, что было тоже в порядке вещей для нормандцев, особенно если они раздражали таких честолюбивых парней, как Роберт.
С присущей ему скромностью Роберт присвоил себе титул герцога Роберта Великолепного и истребовал обратно замок в Фалезе. И именно там, в конце 1027 или в начале 1028 года, Херлева родила ему сына. Французы знают этого младенца как Гийома, но даже французские историки признают, что настоящее имя новорожденного все-таки ближе к английскому Вильям, да и ковер из Байё [4] присваивает ему имя с явно нордическим звучанием: Вилельм.
Весь ход истории, казалось, с пеленок готовил этого маленького бастарда к его будущей роли завоевателя Англии. В 1035 году Роберт, который так никогда и не женился, объявил Вильгельма своим наследником, что определенно шокировало — ну, или, во всяком случае, привело в замешательство — нормандцев. Вот что говорит французский историк Поль Зюмтор в своей биографии Гийома: «…нигде больше в христианской Европе бастард не мог быть допущен к трону». [5] Мальчик Вильгельм был отослан на жительство к своему кузену, где его стали воспитывать в духе воинственного герцога.
Вскоре он приобрел репутацию очень серьезного молодого человека, а его единственными слабостями были охота и фокусы. Он никогда не напивался за столом, употребляя не больше трех бокалов вина (еще одно доказательство того, что его нельзя назвать истинным французом), и у него начисто отсутствовало чувство юмора. Однако он виртуозно оскорблял других, причем особенно крепко доставалось тем, кто имел неосторожность пройтись насчет его низкого происхождения.
Когда Вильгельму исполнилось двадцать четыре года, он решил упрочить свое политическое положение достойной партией. Старомодный «датский брак» его не устраивал, и он сделал предложение Матильде (так зовут ее французы), или Мае (что больше похоже на ее настоящее имя), дочери графа Фландрии и внучке правящего короля франков.
Однако Матильда не разделяла страстного желания Вильгельма и публично объявила о том, что не хочет выходить замуж за бастарда. Но Вильгельм ни одному человеку не спускал оскорблений в адрес своей матери, поэтому он тотчас оседлал коня и рванул верхом из Нормандии в Лилль, до которого было четыреста километров; он пересек долину Сены, оставил за спиной болотистые берега Соммы, все дальше углубляясь в потенциально опасные владения короля франков. Наконец после нескольких дней в седле, и уж, конечно, не отвлекаясь на остановки, чтобы освежиться или купить цветы, Вильгельм ворвался в замок графа Фландрии, швырнул Матильду на землю и, по легенде, «шпорами изорвал на ней платье», что, пожалуй, нельзя назвать метафорой «любезного предложения выйти за него замуж». Очевидно, высокомерная молодая леди «поняла, что наконец-то встретила своего хозяина, и согласилась на свадьбу».
Ее отцу, вероятно, тоже пришлось изменить свое мнение. Когда нормандец вторгается в твой замок и силой берет твою дочь, это более чем прозрачный намек на то, что подобное может произойти и в остальных твоих владениях. К тому же Вильгельм собственной персоной служил живым воплощением своего политического влияния: мускулистый мужчина ростом пять футов десять дюймов[6], он был гигантом для своего времени, уже имел опыт нескольких военных кампаний и, определенно, являл собой человека большого будущего. Короче, неплохой кандидат в зятья.
Лишь одна загвоздка мешала воссоединению пары. Вильгельм забыл или предпочел проигнорировать, что невеста приходилась ему кузиной и Церковь выступила против этого союза. Не привыкший отступать, Вильгельм решил идти напролом, и к концу 1053 года брак состоялся.
Отношения в этой семье можно назвать весьма бурными. Как мы уже знаем, Вильгельм мог внезапно прийти в ярость, и Матильда оказалась ему под стать, хотя многие источники утверждают, что росту в ней было всего четыре фута четыре дюйма[7]. Между супругами часто случались ужасные ссоры, и говорят, что во время одного семейного скандала Вильгельм тащил Матильду за волосы по улицам Кана, чтобы показать всем, кто в доме хозяин. Но, несмотря на эпизодические вспышки домашнего насилия, их брак считался образцовым. Вильгельм, пожалуй единственный из правителей своего времени, не наплодил бастардов и хранил верность жене [8], и за тридцать лет совместной жизни они произвели на свет десятерых детей — шесть девочек и четырех мальчиков.
Эта преданность идее создания династии, в сочетании с одержимостью Вильгельма делать все по-своему, не сулила ничего хорошего англосаксонским правителям, которые неплохо устроились в Англии.
Гобелен иллюзий
Мы только потому знаем так много о причинах, побудивших Вильгельма к вторжению в Англию и смещению короля Гарольда, что на ковре из Байё мастерски отображена хроника исторических событий.
Вышитое полотно длиной семьдесят метров, с его живыми картинами событий, предшествующих Завоеванию и заканчивающихся гибелью Гарольда в битве при Гастингсе, представляет собой удивительно красивое произведение искусства, и каждый, кто хоть немного интересуется историей, культурой, вышивкой или обладает простым человеческим любопытством, обязательно должен съездить в Байё, маленький городок Северной Нормандии, чтобы полюбоваться этим шедевром. То, что гобелен уцелел, само по себе чудо: в 1792 году, во время Французской революции, его чуть не порезали на куски, чтобы укрывать повозки с амуницией, а в годы Второй мировой войны Геббельс старался заполучить его всеми правдами и неправдами. Это единственное в мире вышитое полотно такого типа и возраста, сохранившееся до наших дней.
Единственный изъян гобелена, пожалуй, состоит в том, что представленное на нем изложение исторических фактов нельзя назвать достоверным.
В качестве современной параллели можно представить себе, как экс-президент Буш заказывал бы фильм об Ираке. Проследите, сказал бы он, чтобы фильм начинался сюжетом о саддамовском оружии массового уничтожения. Что значит, не было ничего отснято? Так снимите! Потом мы хотим, чтобы было много танков и взрывов — мне нравятся взрывы. Пытки заключенных? Нет, такой депрессив нам ни к чему. О, да, и в конце я лично ловлю Саддама, договорились?
Примерно так замышлялся и ковер из Байе. Но получился он не совсем таким, и в этом его прелесть.
Отчасти это связано с тем, что работу по воплощению Завоевания в картинах поручили англосаксонским вышивальщицам, которые славились по всей Европе качеством своей работы, и они, похоже, воспользовались возможностью добавить в общую картину изрядную порцию шуток. Еще большая путаница возникла из-за того, что историю Завоевания доверили рассказывать тому, кто хотел опорочить все деяния Вильгельма.
Чтобы разобраться в этих хитросплетениях, давайте попытаемся распутать все узелки этого полотна и сравнить франко-нормандское изложение истории Завоевания с другой, возможно более правдоподобной, версией событий. Будем продвигаться шаг за шагом…
Шаг 1. Герцог, имеющий виды на королевский трон
К началу 1050-х годов Вильгельм, теперь уже герцог Нормандии, выгнал бретонских и франкских захватчиков и подавил нормандские бунты. Возможно, наученный горьким опытом покойного дяди Ричарда, который захватил замок в Фалезе, но недоглядел за братом, вернувшимся, чтобы убить его, Вильгельм разработал простую, но эффективную стратегию борьбы с врагами. Вместо того чтобы крушить запертые ворота и брать приступом замки, а потом возвращаться домой и ждать, пока тебя отравят или отправят к праотцам каким-либо другим способом, Вильгельм преследовал агрессоров и тех, к кому испытывал неприязнь, добивал их или захватывал все их богатства, тем самым лишая своих противников всякой власти. Очень скоро стали говорить о том, что никому не стоит раздражать Вильгельма, если только нет уверенности в возможности одолеть его, а это было маловероятно, поскольку он имел в распоряжении личную армию хорошо обученных рыцарей, да и сам не знал страха в бою.
Вильгельм к тому же отличался неуемным честолюбием, и у него уже давно глаза загорались, когда он думал об Англии. При правлении англосаксов она стала богатой и стабильной страной, но все изменилось с кончиной Альфреда Великого: скандинавы снова совершали набеги, а король Англии, Эдуард Исповедник, был слаб и находился под влиянием враждующих эрлов [9]. Все благоприятствовало тому, чтобы в игру вступил такой сильный игрок, как Вильгельм, и взял власть в свои руки.
Более того, Вильгельм и сам знал, что вторжение можно осуществить малой кровью. Король Эдуард был женат на дочери одного из воинственных англосаксонских эрлов, но, поскольку дал обет целомудрия, прямого наследника не имел. Эдуард приходился кузеном отцу Вильгельма, так что теоретически Вильгельм имел права на английский престол. К тому же Эдуард был в долгу перед Нормандией, которая предоставила ему убежище в период датского правления. И точно так же, как бритты, пожившие во Франции, возвращаются домой с любовью к полусырым стейкам и непастеризованным сырам, Эдуард питал слабость ко всему нормандскому и даже окружил себя придворными-нормандцами. В общем, складывалась ситуация, которой амбициозный Вильгельм просто не мог не воспользоваться.
Вильгельм, как и положено, отправился с визитом к своему кузену, королю Эдуарду, и, по свидетельству нормандских летописцев, в ходе поездки утвердился в своих намерениях относительно Англии. «Когда Вильгельм увидел, какая это цветущая и благодатная земля, он понял, что хочет стать ее королем». Да, добавил бы циник, цветущая, благодатная, с несметными сокровищами, бескрайними пашнями, к тому же населенная зажиточными налогоплательщиками.
Именно во время этого государственного визита Эдуард, как полагают, и назначил молодого нормандца своим официальным преемником. И если вы посетите бывший монастырь в Байё, где по сей день хранится знаменитый ковер, то вам будет заявлено в категоричной форме, что именно так все и обстояло: Вильгельм был единственным законным претендентом на корону Эдуарда, потому что сам Эдуард сказал об этом.
Эту точку зрения впервые зафиксировал в 1070 году хронист Вильгельм из Пуатье, друг Завоевателя; правда, его свидетельства так же надежны, как биография Чингисхана, выпущенная монгольским издательством. Но именно эту версию событий навязывают нам современные нормандцы из Байё.
Однако это фальшивка, поскольку, согласно англосаксонскому законодательству одиннадцатого века, наследник английского престола должен быть одобрен «советом витанов», известным как Витангемот, куда помимо короля входили высшее духовенство и светская знать. Эдуард не имел права просто передать свою корону. Его обещание, если оно действительно имело место, возможно, было частью сделки: он, безусловно, хотел заручиться поддержкой Вильгельма на случай, если придется вступить в войну. Эдуард, нормандец по материнской линии, не мог похвастаться популярностью среди своих англосаксонских подданных. Он привез с собой из Нормандии не только нормандских придворных, но и шерифов, которых поставил на руководство отдельными областями Англии. Мало того, что эти иностранцы не говорили на англосаксонском языке, так они еще и понятия не имели о местных традициях. Англосаксонские эрлы, которые управляли обширными сельскими территориями, возмущались присутствием этих иностранных законодателей да к тому же еще враждовали друг с другом в борьбе за трон.
Самый могущественный из эрлов, Годвин из Уэссекса, имел серьезные виды на монарший трон. Годвин выдал свою дочь Эдиту замуж за Эдуарда, но время шло, а они не производили на свет принцев, и, понятное дело, это бесило эрла. Поговаривали даже, что Эдуард дал обет целомудрия исключительно для того, чтобы насолить Годвину.
Годвин был ярым противником нормандцев. В 1051 году в Дувре компания нормандцев ввязалась в драку, и, будучи не такими закаленными, как англичане, в потасовках на городских улицах после закрытия пабов, ребята вышли из боя с потерями. Несколько нормандцев приказали долго жить, и король Эдуард велел Годвину наказать горожан за то, что так негостеприимно обошлись с зарубежными гостями. Годвин не только отказался — ему вообще эта драчка с нормандцами показалась забавной, — он объявил войну дружкам Эдуарда с континента. После чего повел свою армию на Лондон, где был встречен жителями как герой, и быть нормандцем в Англии вдруг стало совсем не модным.
Годвин потребовал, чтобы придворные-иностранцы отправились восвояси, и Эдуарду пришлось подчиниться. Можно себе представить несчастного Короля, одинокого в своем дворце, оставшегося без верных нормандских приятелей, умоляющего менестрелей играть «Je ne regrette rien» [10]. Неудивительно, что именно в это время в его голове родился план передачи трона Вильгельму.
Впрочем, Эдуард нашел чем утешиться. У Годвина был очаровательный молодой сын, блондин Гарольд Годвинсон, — а Эдуард любил красивых юношей. (Есть и другие версии, объясняющие его бездетность, помимо набожности.) И вот в начале 1060-х годов, очевидно забыв о данном Вильгельму обещании, Эдуард выбрал Гарольда своим новым фаворитом. Храбрый, воинственный англосакс, снискавший благоволение короля и не вызывавший негативных эмоций у Витангемота и населения, виделся все более вероятным кандидатом на английский трон.
Однако по ту сторону Ла-Манша кое-кто был этому совсем не рад…
Шаг 2. Заложник — это всего лишь гость, который не может уйти домой по собственному желанию
Для выходца из семьи, которая годами поносила нормандцев, Гарольд Годвинсон совершил весьма безрассудный поступок. В 1064 году, в сопровождении всего лишь нескольких компаньонов и охотничьих собак, он отправился в Нормандию. Это равносильно тому, как если бы Мартин Лютер Кинг посетил загородную пирушку Ку-клукс-клана. И возникает вопрос: с чего вдруг человеку из такого политически дальновидного и активного семейства взбрело в голову пойти на столь откровенную глупость?
В музее «Ковер из Байё» вам дадут один из возможных ответов. Музейные аудиоплейеры, похожие на гигантские мобильники 1980-х, оказывают неоценимую помощь в прочтении гобелена всем, кто не силен в латыни и иконографии раннего Средневековья. Историю Завоевания рассказывает англичанин с голосом старомодного диктора Би-би-си, который, по идее, должен вызвать у вас полное доверие. Вы просто не имеете морального права не верить ему, когда он говорит, что Гарольд прибыл в Нормандию с посланием от стареющего короля Эдуарда Исповедника, в котором тот подтверждает свое желание видеть преемником именно Вильгельма.
Но вы, если на мгновение снимете наушники, оборвав гипнотический голос, возможно, зададитесь вопросом, за каким дьяволом Гарольду понадобилось это делать, когда он сам считался первым претендентом на английский трон.
Называется еще один возможный мотив этого поступка. Предполагалось, что Гарольд пересек Ла-Манш, чтобы вызволить двух членов своей семьи, похищенных нормандцами в 1051 году и с тех пор удерживаемых на континенте. Конечно, это объяснение представляется куда более правдоподобным. Если бы Гарольд стал королем Англии, что непременно разозлило бы жаждущего власти Вильгельма, двум несчастным Годвинам, томящимся в нормандских застенках, пришлось бы туго.
Так что первая картина на гобелене с таким же успехом могла бы представлять Гарольда, получающего от короля Эдуарда разрешение истребовать у нормандцев выдачи заложников, а вовсе не Эдуарда, приказывающего доставить унизительное для Годвинов подтверждение права Вильгельма на английский трон.
Так или иначе, но корабль Гарольда, как назло, попал в сильный шторм — кто бы сомневался — и потерпел крушение близ Понтьё (часть Нормандского герцогства), во владениях графа Видо, который прославился своей любовью к захвату заложников. Неожиданное появление Гарольда настолько обрадовало графа, что его впору было называть «очень веселой вдовой» [11], и он не преминул тотчас взять под стражу богатого англосакса.
К несчастью для Видо, его сюзерен, Вильгельм, прослышал о ценном трофее и объявил заложника своей собственностью.
С этим было не поспорить — Вильгельму, как герцогу Нормандскому, принадлежало все, что море выбрасывало на берег, включая многочисленные туши китов, которые служили ценным источником жиров и китового уса [12].
Став узником нормандского соперника, Гарольд должен был опасаться за свою жизнь, но его разве что пощекотали бы мечом — это максимум, что ему грозило. Вильгельм не имел привычки убивать своих родовитых врагов, если только они не становились совсем уж бесполезными для него или позволяли себе шутки насчет кожевенного производства. Он предпочитал принуждать их к присяге на верность ему как сюзерену, что означало для них пожизненное обязательство, под страхом смерти и/или вечного барбекю в геенне огненной, отдавать ему процент от всего заработанного и помогать защищать его территорию в случае необходимости. Короче говоря, бедных врагов он пускал на мясо, а богатых доил.
С Гарольдом он мог отхватить гораздо более жирный куш: присяга на верность вынудила бы семейство Годвинов отступить в борьбе за английскую корону, пропустив вперед своего сюзерена, Вильгельма. Согласно саксонским источникам, Гарольд, присягая, не знал, что под столом спрятаны мощи, что превращало простое обещание в священную клятву. Но Вильгельма и нормандцев неосведомленность Гарольда в происходящем ничуть не смущала. В те времена люди были очень богобоязненны. Если ты клялся на останках святых, то должен был сдержать клятву во что бы то ни стало, иначе на воинов твоей армии нападут полчища паразитов или еще какая напасть обрушится. В глазах нормандцев клятва Гарольда была освящена Богом как свидетелем.
Вильгельм еще туже закрутил гайки, обручив Гарольда со своей дочерью Аэлис, несмотря на то что она уже была официально помолвлена с местным аристократом — таким образом, доказав, что все нормандские клятвы священны, но некоторые священнее других.
Теперь, когда Гарольду, связанному по рукам и ногам, пришлось смириться с притязаниями Вильгельма на английскую корону, он наконец получил позволение отплыть домой, в Англию. На гобелене показано, как Гарольд виновато втягивает голову в плечи, рассказывая свою сказку королю Эдуарду, а тот с упреком смотрит на него, словно говоря: «Что, ты был в Нормандии и не привез мне камамбера?»
Аудиогид говорит об «унижении» Гарольда, но, если на самом деле миссия Гарольда заключалась в том, чтобы сообщить Вильгельму об его избрании королем, при чем здесь унижение? Он доставил послание по адресу и даже присягнул на верность будущему королю Вильгельму. Да, поездка несколько затянулась, и он забыл привезти подарки, но в целом все прошло так, как и планировалось.
С другой стороны, у Гарольда были все основания повесить голову, если его миссия по освобождению родственников провалилась, ведь он не только вернулся один, но еще и позволил заманить себя в ловушку, присягнув на верность Вильгельму, и это при том, что Эдуард видел в нем, Гарольде, своего наследника.
Мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать со всей определенностью: когда Эдуард Исповедник скончался 5 января 1066 года, Гарольд принял решение Витангемота и официально стал королем Англии. А по ту сторону Ла-Манша самодовольные ухмылки Вильгельма сменились угрозами оспорить это избрание. Гарольд присягал на верность в присутствии свидетелей и на останках святых, а потому не имел права претендовать на трон в обход своего сюзерена. Нормандцы тотчас принялись обвинять нового короля в нарушении клятвы, самом тяжком преступлении при феодализме.
Впрочем, Гарольду не было нужды нанимать дорогих адвокатов, чтобы выработать достойную линию защиты — какой заложник откажется давать клятву своему похитителю? И какими юридическими правами обладал иностранец Вильгельм в Англии?
Вероятно, чувствуя, что Гарольд может выиграть дело, герцог Нормандский Вильгельм решился даже обратиться за поддержкой к Церкви. (Да-да, к той самой Церкви, на чьи запреты он плевал, когда захотел жениться на своей кузине.) В качестве награды Вильгельму за вновь обретенное благочестие Папа послал ему освященное знамя, которое хорошо просматривается на гобелене, совсем как логотип спонсора на комбинезоне гонщика «Формулы-1», и словно бы говорит: «Бог благословляет тебя на борьбу» — ну или что-то в этом роде.
На гобелене так же отчетливо видно нечто напоминающее воздушного змея в форме яичницы. Это комета Галлея, которая появилась на небосклоне в конце апреля 1066 года и была, разумеется, объявлена нормандцами знаком Божьим, подтверждающим то, что Гарольд клятвопреступник и что его должен сместить с трона благочестивый и набожный Вильгельм, который именно это и намеревался сделать.
Те же самые толкователи знаков весьма кстати для Вильгельма проигнорировали шторм, вынудивший нормандский флот вернуться к родным берегам, где он был вынужден стоять на якоре две недели, прежде чем предпринять новую попытку пересечь Ла-Манш. И когда наконец нормандцы высадились на южном побережье Англии недалеко от местечка Гастингс 28 сентября 1066 года, их настигло еще одно дурное предзнаменование: решительно двинувшись к берегу, Вильгельм поскользнулся и упал лицом вниз, после чего ему пришлось успокаивать свое перепуганное войско. Он выкрутился, сказав: «Обеими руками держу я теперь землю Англии!»
Гобелен выглядит на удивление антинормандским, когда показывает высадку на берег. Так артельщики не столько строят первый форт Вильгельма, сколько дерутся между собой. Не менее красноречивы и картины мародерства: нормандские воины грабят замок, пастушок пытается дать отпор рыцарям-верзилам, которые воруют его овец, горит чей-то дом, а женщина молит о пощаде…
Мало что зная о Вильгельме Завоевателе, трудно поверить, что он когда-либо видел эти сцены на гобелене. Но возможно, он просто пропустил первую половину рассказа, потому что самое главное было впереди…
Шаг 3. Оружие массового поражения — к бою!
Четырнадцатого октября 1066 года — возможно, самая важная дата в британской истории, или, точнее сказать, в истории всего англоговорящего мира. Именно в этот день Вильгельм Завоеватель бросил вызов своему сопернику, королю Гарольду, в битве при Гастингсе. Результатом, как все мы знаем (хотя тем, кто не знает, следовало бы пропустить окончание этого абзаца), стало поражение англосаксов Гарольда. На первый взгляд это можно было бы считать победой франкоговорящей культуры (и французы до сих пор именно так это и трактуют), но, как мы увидим далее, англоговорящего мира вообще не существовало бы, если бы победил Гарольд — а он был очень близок к победе.
За две недели до битвы при Гастингсе Гарольд направил свою армию из Лондона в Йоркшир, чтобы отразить нападение войск другого претендента на английскую корону, свирепого викинга Харальда Сурового, короля Норвегии.
Два Харри встретились 25 сентября близ Йорка, у переправы через реку Дервент. Говорят, что сражение началось неудачно для англичан, когда один-единственный викинг заблокировал вход на мост, положив топором человек сорок из войска Гарольда при попытке прорваться. В конце концов английский солдат спустился вниз по реке в бочке, остановился под мостом, просунул копье меж досок и вонзил викингу в пах. Возможно, не очень спортивный прием, но чисто технически парень игру сделал.
За этим последовала ужасающе кровавая битва, которая стоила жизни многим лучшим воинам Гарольда, но в итоге он сокрушил врага, раз и навсегда положив конец истории вторжения викингов в Англию. Летописцы свидетельствуют, что бежавшие с поля боя уцелевшие викинги уместились всего на двух десятках из трехсот длинных кораблей, на которых приплыли.
После этой изматывающей бойни оставшимся войскам Гарольда вновь предстояла неделя тяжелейшего пешего хода — марш-бросок на юг, навстречу с Вильгельмом, который все это время жил припеваючи, грабя беспомощных крестьян Суссекса и устраивая пляжные пирушки, благо среди плодов его мародерства мяса и овощей было в избытке.
У нормандцев имелось еще одно превосходство перед изможденной армией Гарольда. На ковре из Байё четверть из семидесяти метров отведены картинам, изображающим нормандских рыцарей, объезжающих на лошадях окрестности Гастингса. Воины Гарольда сражались пешими; из лошадей в их распоряжении имелись лишь шетлендские пони, которых использовали исключительно как вьючных животных, а в бою от них не было никакой пользы, разве что отвлечь неприятеля, заставив его надрываться со смеху. Нормандцы же, хорошо обученные кавалеристы, привезли с собой на кораблях холеных боевых коней, которые получили достаточно времени на то, чтобы оклематься после морской болезни.
Гобелен изображает и поток стрел, выпущенных в Гарольда, одна из которых все-таки настигла короля. Кайма, обрамляющая четыре панели, показывает длинную цепочку нормандских лучников, поддерживающих конницу своими стрелами, в то время как маленькие группы храбрых англосаксов, иногда даже без доспехов и оружия, обороняют занимаемые ими высоты. Англосаксы обычно не прибегали к массированному обстрелу противника из луков, они исповедовали концепцию схватки «один на один», топор против топора, воин против воина, лицом к лицу в смертельном бою [13]. Вильгельм придерживался другой тактики: он предпочел осыпать англосаксов стрелами, а потом, отправив в атаку кавалерию, растоптать поверженных конскими копытами насмерть, ведь это куда менее утомительно и менее рискованно.
Короче говоря, битва при Гастингсе напоминала поединок двух боксеров-тяжеловесов за звание чемпиона Европы, после того как одному из них перед матчем пришлось бежать марафон и пятнадцать раундов рубиться с чемпионом мира, в то время как другой отдыхал у бассейна и разминался в легком спарринге со школьниками. И как только боксеры вышли на ринг, один из них достал гранату и разнес противника в клочья.
Конечно, малоприятное объяснение причин поражения англичан.
Но, между прочим, вопреки всему Гарольд был на удивление близок к победе. Пусть его воины и устали, но их переполняла решимость вышвырнуть новых пришельцев со своей земли. Нормандский хронист Вейс говорит, что перед началом битвы нормандцы кричали: «С нами Бог!», на что саксы отвечали: «Убирайтесь!» Хотя на самом деле англосаксы наверняка употребили гораздо более крепкие выражения.
Поначалу все шло не так, как планировал Вильгельм. У него было численное превосходство — около 8000 воинов против 7500 Гарольда, — но англосаксы заняли выгодную позицию на вершине холма. Первая волна нормандских стрел ударилась в стену из больших щитов, не нанеся англосаксам урона, а последующая атака пехоты Вильгельма захлебнулась: пешие нормандцы были сброшены с холма, получив многочисленные и страшные увечья. Даже первый навал кавалерии оказался неудачным: нормандские лошади боязливо шарахались от воющей толпы размахивающих длинными топорами англосаксов. Не удержался 6 седле и Вильгельм; как только он встал на ноги, ему пришлось приподнять свой шлем и открыть лицо воинам, чтобы те перестали паниковать.
Именно в этот момент, опять же согласно пронормандской легенде, Вильгельм сделал блестящий ход. Видя, что с холма спустились англосаксы, преследуя отступающую конницу, нормандцы изобразили ложное масштабное отступление, искушая врага ослабить оборону и покинуть занимаемые высоты. Как только англосаксы оказались в открытом поле, кавалерия развернулась и пошла в атаку.
Однако есть более правдоподобное объяснение тому, что произошло на поле боя. Верно то, что воины Гарольда действительно бросились вниз с холма, круша топорами отступающих нормандцев, и крови пролилось немало. Одна часть армии Вильгельма, состоящая в основном из бретонцев, начала беспорядочно отступать, вынуждая и своих нормандских коллег двигаться назад, чтобы остановить англосаксов и не дать им возможность окружить отступающее войско. И это, похоже, натолкнуло Вильгельма на удачную мысль. Раз множество англосаксов оставило высоту, значит, ряды обороны там значительно поредели; к тому же личные телохранители Гарольда, его доблестные хускарлы, которые смыкали свои щиты позади первой линии обороны, оказались уязвимыми. И Вильгельм приказал своим лучникам целиться выше, поверх щитов, прямо в хускарлов. Одновременно он вновь повел в атаку свою пехоту и кавалерию, и на этот раз нормандцы прорвали оборону.
Верные хускарлы погибли все до одного, а сам Гарольд упал на землю, то ли сраженный попавшей ему в глаз стрелой, то ли поверженный нормандским мечом. Под известной картиной, изображающей рыцаря со стрелой в глазу, вышито: Harold Rex Interfectus Est. «Король Гарольд убит». Что само по себе странно. В высшей степени сомнительно, чтобы Вильгельм придумал такую формулировку или поручил кому-то сочинить нечто подобное. Летописцы того времени были фанатично преданы своему правителю, так что с большей вероятностью нормандский комментарий выглядел бы примерно так: «Вероломный узурпатор Гарольд получает то, что заслужил: Бог пронзает его своей стрелой в самое уязвимое место в наказание за то, что он пытался украсть у благородного Вильгельма его законный титул». Конечно, это чересчур многословно для вышивки на гобелене, но уж Вильгельм, всегда считавший себя законным королем, а Гарольда — узурпатором, по крайней мере приказал бы исключить из надписи слово Rex — «король».
Вот еще одно доказательство того, что кто-то пытался разозлить Вильгельма лично или нормандцев всех скопом.
Шаг 4. Зов добычи
Примечательно, что на гобелене завоеватели названы не Normanni (нормандцы), a Franci (франки). В этой путанице нет ничего удивительного. Еще задолго до вторжения Вильгельма эрл Годвин предупреждал о том, что «французские дружки Эдуарда Исповедника имеют слишком большое влияние при дворе». Однако этот эпитет был неудачным с точки зрения как географии, так и этики. Годвин и компания, возможно, намеренно вводили всех в заблуждение, совсем как сегодняшние французы, когда хотят пожаловаться на происки англоговорящего мира. Забывая о существовании кельтов, афроамериканцев и многих других англоязычных наций, французы обвиняют именно англосаксов во всем, что их раздражает [14].
Впрочем, название «франки» куда более подходит армии Вильгельма, поскольку она состояла не только из преданных герцогу нормандцев. Планируя поход на Англию, Вильгельм распустил слух, что там есть чем поживиться. Это привлекло разношерстную компанию нормандцев, бретонцев, булонцев, анжуйцев и прочих «французских наймитов», жаждущих денег и секса с английскими женщинами, — примерно такие же мотивы до сих пор влекут молодых французов в Лондон.
Однако это не означает, что можно говорить о «французском вторжении». Для начала заметим, что ни нормандцев, ни бретонцев нельзя назвать франками: они были викингами и кельтами. Репутация Вильгельма как гаранта заполучения трофеев (в том числе и для плотских утех) была настолько прочной, что к нему поспешили воины даже из такой далекой нормандской колонии, как Италия. И что самое главное, Нормандское завоевание Англии инициировал вовсе не тогдашний король франков Филипп I. Согласно строгой феодальной иерархии, герцог Нормандский находился в вассальной зависимости от Филиппа I, и это означало, что он хранил верность французскому королю. Но Вильгельм был в высшей степени самостоятельным деятелем, и поход на Англию с точки зрения политики — это чисто нормандская акция, направленная на распространение личной власти Вильгельма за пределами Ла-Манша и захват земель для него самого и его родственников.
Приближенные Вильгельма поставляли ему корабли и солдат в обмен на обещания земель, капиталами помогали также нормандские епископы и аббаты, которые понимали, что в случае успеха Вильгельма им, возможно, обломится новый собор или аббатство. Каждый успешный удар мечом в битве при Гастингсе сулил золотой дождь сторонникам Вильгельма.
После битвы, когда мародеры обходили поле боя, отрубая конечности и головы поверженным, чтобы стянуть с мертвых (и полумертвых, пока их не обезглавили) ценные кольчуги, нормандцы, так же как и ненормандцы, уже знали, что самое интересное только начинается. Перед ними лежала «цветущая благодатная земля», на которую уже столько лет облизывался Вильгельм, ожидая, когда можно будет собрать с нее урожай.
Победитель направился вглубь страны, в Винчестер (бывшую столицу короля Альфреда), где намеревался захватить королевские сокровища, прежде чем взять курс на север. Он грабил все, что попадалось по пути, сея в Южной Англии хаос, какого она не видела со дня смерти Альфреда. Отчасти это было местью вотчине Гарольда, Уэссексу, но в то же время и демонстрацией силы для англосаксонских эрлов в Лондоне, которые еще ломали голову над тем, как реагировать на происходящее. Стоит ли поднимать войска и оказывать сопротивление Вильгельму или присягнуть ему на верность, сохранив тем самым хотя бы часть своих богатств?
Когда Вильгельм подошел к окраинам Лондона, местный люд показал эрлам, что, по его мнению, стоит делать: жители Саутуорка атаковали захватчиков, разозлив Вильгельма настолько, что он сжег город дотла и разграбил его окрестности, уничтожая недавно собранный урожай, убивая крестьян и лишая лондонцев их основного источника продовольствия.
Демонстрация силы, которую устроил Вильгельм, кажется, показала англосаксонским эрлам, с какой стороны их хлеб маслом намазан (к слову сказать, Нормандия была их единственным поставщиком сливочного масла), и они проголосовали за признание права Вильгельма на английский трон.
Коронация нового властителя Англии состоялась в Рождество 1066 года в Вестминстерском аббатстве. Место проведения мероприятия можно назвать политическим выбором: церковь построил Эдуард Исповедник, и именно здесь несколькими месяцами ранее был коронован узурпатор Гарольд.
Церемония, должно быть, несколько напоминала скоропалительную свадьбу в связи с интересным положением невесты. Вильгельма окружали его солдаты, в то время как подавленные англосаксы выступали свидетелями мрачно-торжественной передачи власти. И как только корона оказалась на голове Вильгельма, всем почему-то стало ясно: надо ждать беды. Но она пришла вовсе не по вине тех недовольных граждан, которые пытались сорвать празднование. Когда новый король получил поздравления от своих сторонников, нормандские стражники за воротами аббатства услышали гул голосов и предположили, что назревает бунт. Они ринулись в превентивную атаку на толпу и, прежде чем успели осознать собственную ошибку, порешили немало лондонцев и сожгли несколько зданий. Англии пора было привыкать к новым порядкам.
Чутко улавливая атмосферу нестабильности в своем новом королевстве, Вильгельм построил лондонский Тауэр: сначала деревянный форт, а потом, с прибытием знаменитого белого камня из Кана, заложил замок, который мы посещаем до сих пор.
Одновременно со строительством цитадели в Лондоне Вильгельм отправил свое войско в тур по Англии — и не только в порядке ознакомления с местными народными танцами, но и для того, чтобы англосаксы узнали, что отныне у них новые хозяева. Нормандцы доводили это до сведения весьма доходчиво: они строили замки практически в каждом крупном городе страны, при этом снося целые кварталы, чтобы расчистить место для возведения крепостей в пределах городских стен. Например, в Линкольне они разрушили 166 домов, в Кембридже — 27, в Глостере — 16, и этот список можно продолжить. При этом вы не найдете ни одной записи о том, что Вильгельм обращался за разрешением на перепланировку.
Решив, что ему необходимо пространство для отдыха и развлечений, Вильгельм изгнал из Нью-Форест две тысячи жителей, чтобы превратить 75 000 акров этого лесного массива в гигантские охотничьи угодья, свободные от каких-либо построек. Подобные спецоперации нормандцы провели в лесах по всей Англии, и суровые наказания ожидали тех англосаксов, кто осмеливался, в качестве компенсации за уничтоженные или украденные урожаи, подстрелить себе на прокорм королевского оленя, зайца или ежа: штрафом за браконьерство было оскопление или отсечение рук и ног.
Тем временем, пока его люди сносили дома и производили этнические зачистки лесов, Вильгельм с головой ушел в административную работу, взвалив на себя тяжелейшую задачу по конфискации — ни много ни мало — 1422 поместий, ранее принадлежавших Эдуарду Исповеднику и семейству Годвинов, а также всех земель Англии, которые его сподвижники полностью разграбили, очевидно, на том основании, что предыдущие владельцы неумело вели хозяйство.
Помимо этого он прибрал к рукам огромные запасы золота, драгоценностей, одежды и других сокровищ, так что когда в 1067 году он заскочил в Нормандию повидаться с женой и пересчитать выброшенных на берег китов, даже заносчивые парижане, увидев Вильгельма и его окружение, были «ослеплены красотой их расшитых золотом одежд».
Вильгельм трепетно относился к своим инвесторам — особенно к Богу. На месте битвы при Гастингсе он отстроил аббатство в качестве благодарности за победу, тупо окрестив его Бэттл («Битва»), дабы англосаксы никогда не забывали, почему оно здесь находится. Утонченностью он не страдал. И если сегодня вы прокатитесь по Нормандии, то непременно обратите внимание, что во многих маленьких городах стоят огромные аббатства и соборы, и все они оплачены английскими деньгами.
Брат Вильгельма, Одо, был епископом Байё. Его можно увидеть на гобелене, он участвует в сражении верхом на коне, размахивая жезлом, а не копьем или мечом: священнослужители имели дозволение лишь вышибать мозги врагам, а не рубить их на куски, что, видимо, было не по-божески. Благодаря готовности крушить вражьи черепа во благо брата и Господа Одо заработал состояние, которое по сегодняшним меркам составило бы 55 миллиардов. Большую часть богатства он, конечно, потратил на себя, но довольно внушительная сумма пошла на строительство самого передового по тем временам собора, который высится в центре нормандского городка Байё и напоминает золотой кирпич, вздымающийся из груды булыжника.
Другие нормандские священники получили более скромные, хотя все равно значительные, доходы. Может, Иисус и говорил, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в рай, но нормандской Церкви уже не стоило об этом беспокоиться — теперь у нее было достаточно наличности, чтобы строить гигантские иголки.
Шаг 5. От Гастингса до «Книги страшного суда»
Новому королю Вильгельму, в отличие от нынешних королей, некогда было ходить по ночным клубам и заниматься благотворительностью — ему приходилось мотаться по стране и усмирять своих подданных. В одном только 1067 году мощные бунты произошли в Нортумбрии, Херефорде, Эксетере и Дувре, важнейшем портовом городе, который восставшие чуть не отбили у нормандцев.
В конце концов новый король так рассердился на англосаксов, которые либо открыто восставали, либо сначала присягали на верность, а потом — совсем как Гарольд — нарушали свои клятвы, что издал указ о военных преступлениях, за которые сегодня сажают на несколько лет в комфортабельный тюремный комплекс в Гааге.
Вильгельм приказал своей армии убивать всех и уничтожать все от Ланкастера до Йорка, от Северного до Ирландского морей — а это территория площадью сто восемьдесят квадратных километров! Точные цифры убитых и лишенных крова местных жителей найти трудно, но летописцы рассказывают об обитателях целых деревень, которые предпочитали прятаться в лесах и гибнуть там от голода, нежели встречаться с бойцами штурмовых отрядов Завоевателя. Истребление приняло такой масштабный характер, что север Англии превратился в пустыню на целых пятьдесят лет. [15]
Количество тех, кто присягал на верность Вильгельму, а потом предавал его, уже зашкаливало, и процесс захвата земель становился все более запутанным. Споры о том, кто чем владеет, кто кому должен платить ренту, участились, так что в 1085 году Вильгельм созвал своих лучших юристов и счетоводов на совет по инвестициям в Глостере. Хотя практически каждый житель Англии был обязан выплачивать процент от своих доходов новоиспеченному королю, тому хотелось точно знать, кто его налогоплательщики и сколько они зарабатывают, чтобы исключить всякий обман с их стороны.
Советники подсказали выход: составить список всех объектов собственности в Англии, включая рабов — сервов. Итог этой работы, «Книга страшного суда» получилась на редкость занудной и перегруженной информацией, совсем как учетные записи трейнспоттера. [16]
В начале 1086 года по стране были разосланы ревизоры; когда они закончили сбор данных, их перепроверила другая команда. Будучи реестром всех земель, личной собственности и богатств, эта опись предоставляла сведения по всем фискальным долгам, начиная от самых мелких землевладельцев и живущих за пределами страны, но получающих доход лордов и заканчивая самим королем Вильгельмом.
Название «Книги», придуманное в двенадцатом веке, указывает на масштабность и важность проекта. В ней содержалось столько сведений, что люди сравнивали ее с «Книгой жизни», каталогом деяний, по которым Бог будет определять судьбу каждого в день Страшного суда.
И все это состряпали для человека, который практически не умел читать. Возможно, это объясняет, почему люди Вильгельма кое-что все-таки скрыли от него: есть огромные пробелы в данных по Лондону и дальнему Северу, регионам, которые считались неспокойными и где ревизоры не осмеливались задавать слишком много вопросов.
Так или иначе, у Вильгельма было не так много времени, чтобы насладиться перед сном чтением «Книги страшного суда», поскольку он умер в сентябре 1087 года, вскоре после того как работа над ней была завершена. И умер, прямо скажем, как подобает королю Англии — в борьбе с Францией.
Король франков Филипп I вторгся в Вексен, область Нормандии, расположенную к северо-востоку от Парижа. Вильгельм направил к нему своих гонцов с требованием отступить, однако Филипп, чувствуя свою силу перед лицом Завоевателя, уже старого и не в меру упитанного, ответил: «Когда наконец пузатый разродится?»
Вильгельм просидел на английском троне двадцать один год, но так и не приобрел чувства юмора, причем шутки, затрагивавшие лично его, просто-таки бесили Вильгельма, поэтому в ответ на реплику Филиппа он решил осадить и сжечь что-нибудь французское. После того как его войска штурмом взяли Мант, центр Вексена, Вильгельму вздумалось проехаться верхом по пожарищу. В какой-то момент, согласно легенде, его конь споткнулся об упавшую балку, и Вильгельм рухнул на землю, получив серьезную травму внутренних органов.
Шесть недель он страдал от жутких болей в животе, и его мучения, несомненно, усугублялись тем, что французские доктора постоянно переворачивали его, пытаясь впихнуть ему в задний проход целебные травы: обтекаемых, легких в применении суппозиториев еще не изобрели.
Англосаксонские летописцы, составлявшие «Англосаксонские хроники», древнейший исторический документ, превратили некролог Вильгельму в длинную оскорбительную поэму: в ней они перечислили беды, которые обрушил на Англию Завоеватель, и дали ему нелицеприятную характеристику: «Своих людей он убивал, без цели и без веры, и в пропасть жадности упал, он алчным был без меры».
Монахи, писавшие «Хроники», усматривают в смерти Вильгельма гнев Божий, говоря, что он умер после того, как сжег Мант и «все святые церкви города». Летописец с прискорбием отмечает, что «двое праведных служителей Бога были заживо сожжены», а потом, смакуя подробности, описывает предсмертные страдания Вильгельма и смерть, после которой осталось «ему, некогда могущественному королю и хозяину многих земель, всего семь футов этой самой земли». Чем не торжествующий смех англичан? И звучать ему предстояло еще очень долго…
Parlez-vous[17] по-английски?
Начиная с 1066 года, французский диалект нормандских завоевателей стал официальным языком поверженной Англии, и на этом языке предстояло говорить английским королям и правящим классам следующие триста лет. Но англосаксонские крестьяне были слишком многочисленны и необразованы, чтобы пытаться навязать им новый язык, и в любом случае среднестатистический англосакс использовал франко-нормандские слова только для того, чтобы продать свой товар аристократу или упросить солдата не кастрировать его за убийство ежика.
Со своей стороны, завоеватели, как правило, отказывались учить язык лузеров, или же у них попросту ничего не получалось (Вильгельм тоже пытался, но безуспешно). Между собой они общались на франко-нормандском пиджине [18], в котором смешались разные региональные диалекты. Так возник новый говор, который обходился без многих грамматических сложностей, сохранившихся на многие века в «чистом французском», языке франков.
И постепенно, как мы увидим в следующих главах, англосаксы и франко-нормандцы сблизились; стремление обеих сторон к лингвистическому выживанию привело к созданию гибкого, адаптированного языка, в котором можно было изобретать или частично заимствовать слова, при этом не беспокоясь о том, правильно ли в предложении расставлены глагольные окончания или соблюден порядок слов и выдержан стиль (вот как в этом предложении). В результате возникла первичная форма того языка, который впоследствии стал английским.
Все это лишний раз доказывает, что Нормандское завоевание Англии было столь же знаковым событием с точки зрения лингвистики, как момент выхода на сушу первых амфибий. Каждый, кому доводилось увязнуть в трясине современной французской грамматики, способен оценить степень свободы английского языка. Завидуя этой раскрепощенности, французские грамматисты обязательно скажут вам, что английский — это язык нечистый, язык бастардов. Они, конечно, правы, и самое забавное то, что он обязан своим созданием Вильгельму, нормандскому бастарду, рожденному на земле нынешней Франции.
Начало конца (начала)
В конечном итоге Нормандское завоевание Англии обернулось неприятностями для французов, и уж конечно его никак нельзя считать победой Франции над Англией. Вильгельм сокрушил англосаксонский порядок, но сформировал новую нацию, которая переросла свой первоначальный статус нормандской колонии и стала серьезной независимой силой в Европе. Впоследствии язык этой нации тоже вышел за пределы Европы и распространился по всей планете, эволюционировал в британских колониях и послужил созданию культуры, которую французы ошибочно (и зачастую с упреком) называют «англосаксонской» — и которую Франция по привычке обвиняет в попытках задушить французскую литературу, кинематограф и конечно же французский язык.
Для Вильгельма, умирающего в агонии от ран, полученных в результате войны с Парижем, возможно, было бы некоторым утешением знать, что, создавая Англию, он посеял семена боли, которая тысячу лет будет мучить французов.
Глава 2 Разминка перед боем
Под руководством великих — а подчас и откровенно ужасных — королей Англии (королевы все еще под запретом)
За те 250 лет, что разделяют смерть Вильгельма Завоевателя и Столетнюю войну, разумеется, произошло немало исторических событий. В конце концов, два с половиной века — это то время, что прошло между изобретением велосипеда и созданием атомной бомбы (да, по времени мы продвигаемся вперед, но это вовсе не означает, что мы прогрессируем).
В эти годы уместились и подписание Великой хартии вольностей [19], и убийство Томаса Бекета [20], и подвиги легендарных героев, таких как Ричард Львиное Сердце [21], Роберт I Брюс [22] и Робин Гуд (последний, конечно, в прямом смысле легендарный, поскольку существовал только в легенде).
Однако, помимо всего прочего, именно этого времени хватило Англии, в 1087 году представлявшей собой всего лишь нормандскую колонию, чтобы стать мощной державой, обладающей национальным самосознанием и способной отплатить и поражение не только своим бывшим колонизаторам, но и всей Франции.
Это был долгий процесс, поскольку англо-нормандские короли Англии по-прежнему считали себя герцогами Нормандии со вторым местом жительства в Лондоне, а Англию с ее крестьянами рассматривали как источник удовлетворения своих хобби, которые варьировались от уныло-привычной охоты за дичью и женскими телами до более экзотического времяпрепровождения вроде Крестовых походов в Средиземноморье (Ричард Львиное Сердце), архитектурных прихотей (Генрих III) и сооружения соломенных крыш (Эдуард II).
Но каждый король [23], правивший с 1087 по 1327 год, внес свой вклад в подготовку Англии к Столетней войне, хотя в некоторых случаях они делали это, казалось, неосознанно…
В борьбе за право на кутежи
События развивались ни шатко ни валко во многом из-за того, что наследник Вильгельма первого оказался совсем уж никчемным правителем.
После смерти Завоевателя его старший сын, Роберт, получил в управление родную Нормандию. Англию же Вильгельм завещал среднему сыну, Вильгельму II, или Руфусу, как его называли из-за красного цвета лица. Да, в семейной лотерее Англия оказалась всего лишь утешительным призом.
Вильгельм Руфус страдал от хронического синдрома избалованного обладателя громкой фамилии и был кем-то вроде средневековой Пэрис Хилтон, имея такое же пристрастие к макияжу, нарядам и маленьким визгливым собачкам. За время своего короткого правления (1087–1100) он прославился тем, что устраивал шумные вечеринки в замках по всей Англии и душил граждан налогами, чтобы оплачивать роскошный стиль жизни. Он был настолько непопулярен, что, когда стрела, выпущенная из лука, «случайно» попала ему в легкое, оставив его умирать там, где он и упал, никто даже не потрудился начать расследование. Было даже что-то символическое в том, что Руфус умер во время охоты в Нью-Форест, на земле, где его отец провел в свое время этническую зачистку англосаксов.
Ходили слухи, что роковая стрела полетела в Руфуса по приказу его младшего брата, Генриха, которому по завещанию Вильгельма Завоевателя достались лишь деньги на покупку кое-какой земли. Генрих участвовал в той фатальной охоте и поспешно, без всяких видимых причин, покинул место действия незадолго до «несчастного случая».
Воспользовавшись тем, что английский трон остался вакантным, а старший брат, Роберт, находился в крестовом походе, Генрих немедленно вступил на престол как король Генрих I. Он оказался совершенно другим правителем. Как и Руфус, Генрих обожал кутежи и развлечения и, говорят, наплодил на стороне чуть ли не двадцать пять детей, но при этом отличался ученостью и политическим умом — неслучайно ему дали прозвище Боклерк, Грамотей в переводе с французского. Он первым осознал важность объединения двух главных народов Англии и женился на англосаксонке Идгит (в модернизированном варианте Эдит), потомке Альфреда Великого. Что интересно, их бракосочетание состоялось 11 ноября 1100 года — дата, несомненно, резонансная с точки зрения нумерологии, призванная придать особую значимость союзу, тем более в эпоху суеверия.
Когда нормандская знать Англии пожаловалась на непроизносимость имени Идгит [24], Генрих I просто-напросто изменил его на англонормандское имя своей матери, Матильда.
Генрих пообещал исправить все ошибки, допущенные при правлении брата, и посадил за решетку главного советника Руфуса, богатого нормандского епископа Ранульфа Фламбара (по прозвищу Ранульф Горячая голова), который отвечал за сбор государственных доходов: эту задачу он исполнял блестяще, торгуя церковными должностями. Но Фламбар стал и первым узником, совершившим побег из нового лондонского Тауэра, откуда улизнул в Нормандию, где присоединился к герцогу Роберту, который только-только вернулся из крестового похода и ломал голову над тем, как бы вырвать английский трон из лап своего наглого младшего брата Генриха.
Роберт, к которому приклеилось прозвище Куртгёз (Короткие штаны) из-за его коротких и толстых ног, был такой же «горячей головой», как и Фламбар, и большую часть своей взрослой жизни воевал против собственного отца, Вильгельма Завоевателя. Эти двое даже встречались лицом к лицу в сражении: сын сбил с ног стареющего отца, но в последний момент пощадил его и оставил в живых. При подстрекательстве Фламбара, в 1101 году Роберт затеял новое нормандское вторжение в Англию, высадившись с небольшой армией в Портсмуте. Однако английские бароны, прежде обещавшие Роберту поддержку, не явились на подмогу, так как Генрих I становился все более популярным королем: одной из его наиболее дальновидных реформ стали налоговые послабления для баронов. В конце концов братья встретились за столом переговоров, и Роберт согласился отказаться от своих притязаний на трон в обмен на регулярный доход и некоторые земли, принадлежавшие Генриху в Нормандии.
Но Генрих не доверял брату и, чувствуя, что Англия стала уже достаточно сильной, чтобы противостоять любым вызовам, сам вторгся в Нормандию. Все прошло на удивление гладко. В 1105 году Генрих захватил Байё и Кан, на короткое время вернулся в Англию, дабы урегулировать спор о том, кому — ему или Папе — следует назначать английских епископов, и продолжил военную кампанию, наконец встретившись с Робертом в битве у замка Таншбре под Каном 28 сентября 1106 года. Генрих за час разгромил нормандцев и взял Роберта в плен.
Англия с блеском завоевала Нормандию ровно через сорок лет после того, как Вильгельм Завоеватель высадился на английскую землю: еще одно нумерологическое совпадение.
Теперь Генрих I был таким же могущественным, как и его отец, и, чтобы закрепить свое господство, он на всякий случай нейтрализовал старшего брата. Роберта отправили в тюрьму — по иронии судьбы, в нормандский замок в Кардиффе. А после неудачной попытки побега Генрих распорядился выжечь брату глаза и держать его за решеткой до конца его дней. Любовь к близким родственникам явно не присутствовала в этих англо-нормандских генах.
История «с душком» на земле Нормандии
В 1135 году королю Генриху Первому шел уже шестьдесят седьмой год, и он начинал подумывать о преемнике. Осенью того же года он отправился в Нормандию, желая навестить дочь Матильду, которая стратегически блестяще вышла замуж за француза Жоффруа, графа Анжуйского, который правил на соседних с юго-западными доменами Генриха в Нормандии землях. Несмотря на недавнее рождение двух внуков, отношения между отцом, дочерью и зятем носили напряженный характер — возможно, потому, что король настойчиво пытался втолковать Матильде, что она, даже будучи его единственной законной наследницей, стать королевой не может, именно в силу того, что наследница. В те времена необходимым требованием для претендентов на английский трон было наличие пениса.
Как бы то ни было, однажды после дневной охоты Генрих вернулся к Матильде и Жоффруа, в замок Шато де Лион в Нормандии (не путать с городом Лион в Центральной Франции), уселся за стол и принялся за свое любимое кушанье — жареных миног. Это уродливые, похожие на угрей существа с ртами-присосками и острыми зубами, которыми они прокалывают живот своих жертв и высасывают внутренности. Сегодня миноги уже почти вымерли из-за своего пристрастия к чистой речной воде, но в Средние века слыли деликатесом, и город Глостер на каждое Рождество присылал монарху пирог с миногами. Генрих обожал миног, несмотря на их уродство, и в тот вечер, 1 декабря 1135 года, говорят, так «переел миног», что умер от обжорства.
Интересно, что в официальной французской версии это событие представлено несколько иначе: вроде бы Генрих съел lamproies avariées, испорченные миноги. Похоже, французам просто не понять, как можно переесть деликатеса. Впрочем, учитывая особую жестокость тех времен, резонно задаться вопросом, не содержалось ли в еде Генриха лишних ингредиентов — скажем, небольшой дозы яда.
Как только отошел в мир иной ее отец, Матильда обратилась к английским баронам за разъяснением, можно ли решить гендерную проблему престолонаследия так, чтобы она могла занять трон — как королева или же как регент своего сына. Некоторые бароны присягнули на верность Матильде, но в конечном итоге против нее сыграл брак с анжуйцем — те всегда конфликтовали с нормандцами, — и трон получил один из племянников Генриха — Стефан, граф Блуа и Булони, французский внук Вильгельма Завоевателя.
Стефана уж никак нельзя назвать великим правителем. На самом деле ему удалось потерять не только связь Англии с Нормандией, но и английский трон. Похоже, ему недоставало той самой крови Завоевателя. Отец Стефана, Этьен-Анри, был известным трусом. Он дезертировал из армии крестоносцев во время осады Антиохии [25] в 1098 году, чем привел свою жену в такую ярость, что она тотчас отослала его обратно на Средний Восток, где его и убили в 1102 году. В общем, для средневекового короля не образец для подражания.
К несчастью для Стефана, Матильда и ее муж, Жоффруа Анжуйский, не собирались сдаваться без боя. В 1139 году Жоффруа начал планомерную кампанию по истощению Нормандии, в то время как Матильда собрала армию анжуйцев для похода на Англию, базируясь в Глостере — столице миног.
Жестокая борьба между дамой из Анжу и господином из Блуа развернулась на британской земле. Война между Матильдой и Стефаном, которая вошла в историю как период Анархии, дала авторам «Англосаксонских хроник» последний шанс (летопись завершалась 1154 годом) поупражняться в злобных выпадах против иностранцев. В записях, относящихся к 1139 году, хронист с грустью сообщает, что обе группировки французских политических дельцов похищали английских «крестьян и крестьянок, бросали их в тюрьмы, отнимали золото и серебро, подвергали неописуемым пыткам». Хотя он и называет пытки «неописуемыми», ему удается достаточно подробно изложить суть дела:
«Их подвешивали за большие пальцы рук или за голову, поджигали ступни; головы обматывали колючей проволокой, стягивая ее, чтобы шипы впивались в мозг… Некоторых помещали в ящик, короткий, узкий и полый, набивали его острыми камнями, вдавливая в них человека, чтобы они переламывали ему кости… Я не могу и не в силах перечислить все ужасы и пытки, которым подвергали несчастных на этой земле».
Конфликт уносил столько жизней, что в итоге обеим сторонам пришлось прийти к соглашению: Стефан продолжит править Англией, но после его смерти трон отойдет сыну Матильды, Генриху (внуку Генриха I). Это был хрупкий компромисс, мало кого он устраивал, и, как пишет в своей «Краткой истории Англии» Дж. М. Тревельян, «Англии несказанно повезло, что он [Стефан] умер на следующий год».
Хочешь поссориться с соседом — кради у него жену
Будущий Генрих II, едва родившись, автоматически стал наследником могущественного Анжуйского графства (благодаря тому, что имел отцом Жоффруа), а также Нормандского герцогства и английской короны. В девятнадцать лет он расширил свои владения новыми землями, женившись на Элеоноре Аквитанской. Опять же благодаря специфическому пункту в анкете соискателя престола о наличии выпуклого детородного органа, Генрих стал герцогом обширных и очень богатых французских территорий — Аквитании и Гаскони, — протянувшихся от Бордо до границы с Испанией.
Этот союз был не только выгодным — его можно считать удачным антифранцузским политическим маневром.
Всего несколькими неделями ранее Элеонора была королевой Франции, женой Людовика VII. Она добилась расторжения брака, мотивируя это тем, что Людовик не произвел на свет наследников мужского пола и, как ей подсказывало чутье, не собирался этого делать, поскольку, тонко заметила она, «он больше монах, чем муж». Как только брак был аннулирован, тридцатилетняя Элеонора сделала предложение юноше Генриху которого, как она точно предсказала, ожидало блестящее будущее. Несомненно, эта высокая, красивая, хорошо образованная женщина знала, чего хочет, и знала, как это получить. К тому же она успела проверить родословную Генриха, переспав с его отцом.
В результате в 1154 году, после того как король Стефан умер, Генрих (теперь уже двадцатиоднолетний) добавил новый титул — король Англии — в свою и без того перегруженную визитную карточку, и теперь под его властью оказалось больше «французских» земель, чем у Людовика VII. Если взглянуть на карту Франции того времени, можно увидеть, что домены Генриха и Элеоноры солидным пластом покрывали всю западную часть страны, захватывая почти все северное побережье и спускаясь вниз через центр Франции, оставляя за пределами разве что Париж. Для сравнения, территории Людовика VII на карте напоминали вытянутые лягушачьи лапки — от запада Кале, вниз через Париж и дальше к Средиземному морю. Становится совершенно понятным, кто правил Францией в те дни, и это был не французский король.
Генрих II — первый английский король из рода Плантагенетов, обязанного своим названием ветке дрока (латинское название растения planta genista), которой его отец Жоффруа имел обыкновение украшать свою шляпу. И как Плантагенет Генрих стал основателем династии, которой предстояло править Англией в течение 330 лет. Этого он знать, разумеется, не мог, но все равно действовал так, будто закладывал фундамент на века.
Он укротил капризных баронов как в Англии, так и во Франции, разрешая им откупаться от военной службы, что позволило ему содержать профессиональную армию наемников. Он ввел суды присяжных, и это означало, что, по крайней мере, на слушаниях будут учитывать доказательства, а не просто заставят обвиняемого ходить босиком по раскаленным углям и объявят виновным, если у него на ступнях вздуются волдыри. Возможно, памятуя о своем деде и миногах, Генрих был щедр к голодающим, перераспределяя в их пользу десятую часть всего продовольствия, что поставлялось в его замки.
Позор, конечно, что французы одержали одну из своих самых блестящих побед — хотя и малоизвестную, — когда опорочили доброе имя короля Генриха.
Убийство в соборе
Пятном на репутации Генриха II лежит убийство Томаса Бекета, архиепископа Кентерберийского. Впрочем, в защиту Генриха следует подчеркнуть, что не он один повинен в этой смерти. Об этом не так часто говорят, но отчасти вина лежит на Франции.
Обстоятельства убийства хорошо известны. В 1170 году Генрих во всеуслышание жалуется на Бекета, который отказывается уважать власть короля. Четверо королевских придворных воспринимают эту жалобу как руководство к действию и отправляются в Кентербери, где проламывают Томасу череп, забрызгивая его мозгами пол кафедрального собора.
Однако мало кто знает, что Томас Бекет провел предыдущие два года в ссылке во Франции, покинув Англию с тем, чтобы избежать подписания соглашения, которое могло бы ослабить влияние Церкви. Во Франции Томас был гостем Людовика VII, неудачливого любовника, которого отвергла Элеонора, ставшая женой Генриха. Можно себе представить, как Людовик коротал долгие средневековые вечера у камина, убеждая Томаса в том, насколько он прав в своем противостоянии безбожнику англичанину, укравшему чужую жену. Все это может объяснить, почему Томас по возвращении в Англию с еще большим рвением продолжает политическую борьбу с Генрихом.
Томас был настолько уверен в себе, что, по сути, сам спровоцировал собственное убийство. Ведь рыцари Генриха вошли в собор без оружия, они просто хотели, чтобы архиепископ пошел с ними и объяснился с королем. И только когда Томас, мягко говоря, «послал» их, они вышли из собора и вернулись с мечами.
Короче говоря, если бы Томас не провел два года за изучением искусства французской дерзости, он вполне мог мирно умереть в собственной постели — в конце концов, ему было уже хорошо за пятьдесят на момент убийства, — а Генрих II остался бы в памяти потомков исключительно как один из величайших английских королей, а не как убийца священника.
Фактически это убийство стоило Генриху больше, чем подмоченная репутация: оно стало одним из событий, приведших к его окончательному падению.
Генрих и Элеонора родили восемь детей, из них пятеро — сыновья. Но отношения супругов отличались напряженностью, они постоянно соперничали друг с другом в борьбе за власть в своей объединенной империи. Элеонора, похоже, подстрекала родную Аквитанию к независимости от власти короля Генриха, в то время как Генрих не стеснялся нападать на Тулузу и другие принадлежавшие семье Элеоноры города. Элеонору еще больше задевало и совсем не монашеское поведение Генриха, который не отличался супружеской верностью и даже не побрезговал вступить в связь с невестой собственного сына, Ричарда. И хотя обычно Элеонора закрывала глаза на похождения супруга, она отказалась проигнорировать Розамунду Клиффорд, красивую молодую любовницу, которую Генрих прозвал rosa mundi («роза мира»). Как только на сцену вышла Розамунда, Элеонора начала обрабатывать сыновей Генриха, призывая их покромсать отцовскую империю своими принценосными мечами. Пожилой Генрих все больше напоминал стареющего льва во главе прайда: молодые самцы кусали его за пятки, выискивая слабые места, постоянно наущаемые старшей львицей, Элеонорой.
Внезапно король Англии оказался атакован из Франции, причем своими собственными сыновьями. Самым дерзким смутьяном был его второй сын (но старший из выживших), тоже Генрих. Молодой Генрих давно точил зуб на отца. В детстве он воспитывался как приемный сын Томаса Бекета и, говорят, не раз заявлял, что в день Томас выказывал ему больше отцовской любви, чем король Генрих за всю жизнь; немудрено, что его глубоко опечалило убийство Бекета.
Ричард тоже был честолюбив сверх меры и не уставал предъявлять требования на землю, подкрепляя их постоянными набегами и нападениями. Так что бедняге королю Генриху II пришлось наблюдать за распадом собственной семьи.
Молодой Генрих умер от дизентерии после неудачной попытки завладеть отцовской собственностью — городом Лиможем в Центральной Франции. Вскоре после этого его брат Жоффруа, который отсиживался в Париже после провального бунта, лишился жизни там же в ходе рыцарского турнира.
Только Джон оставался верен отцу, хотя и был слабым утешением — в конце концов, именно он способствовал падению Генриха.
Летом 1189 года Ричард прослышал, что его отец хочет отдать Аквитанию Джону. Взбешенный перспективой потерять Такой лакомый кусок своего законного наследства — ведь он остался старшим среди сыновей, — Ричард положил начало очередной волне отцеубийственных восстаний в Анжу. И на л от раз нашел брешь в обороне Генриха — уговорил младшего брата Джона предать отца.
Капеллан Генриха II, уэльско-нормандский хронист по имени Джеральд Уэльский, описывает полотно, украшавшее одну из комнат королевского замка в Винчестере. На нем изображен орел, которого клюют три цыпленка, а со стороны за ними наблюдает еще один цыпленок, самый маленький. Говорят, Генрих, когда его спрашивали, в чем смысл этой странной сцены, объяснял, что цыплята — это его сыновья, а младший, «которого я сейчас окружаю самой большой заботой и нежностью, однажды доставит мне больше всего боли». Правда это или притча, придуманная уже по следам событий, сказать трудно, но страшное совпадение налицо.
Генрих отправился в Анжу, чтобы отстоять свою власть, но Ричард и его союзники (к которым примкнул и сын Людовика VII, Филипп Август) встали на дыбы, и Генрих решил уступить всем их требованиям. В любом случае, к этому времени сердце старого короля уже было в буквальном смысле разбито предательством Джона.
В считанные дни после капитуляции перед сыновьями и их французскими союзниками — 6 июля 1189 года — Генрих II умер в Шинонском замке (где когда-то держал в заточении свою супругу Элеонору). Говорят, что он умер от горя, и когда Ричард, явно лицемеря, пришел проститься с Генрихом, у мертвого короля из носа начала сочиться кровь, словно в доказательство того, сколько головной боли доставил ему блудный сын.
Но Ричард не страдал сентиментальностью: он тут же короновался как герцог Нормандии, после чего отправился прямиком в Лондон, чтобы вступить на престол в качестве короля Англии.
Продается столичный город, полный антиквариата
Ричард I (Львиное Сердце) вошел в историю как великий король Англии, но фактически из десяти лет владения короной всего семь месяцев провел в стране, которой должен был править. Он предпочитал буйствовать за границей, и чаще можно было видеть, как он защищает жителей Восточного Средиземноморья от любой свободы вероисповедания или вышибает потенциальных узурпаторов из обширных французских владений, унаследованных от родителей: Ричард был не только королем Англии, но и герцогом Нормандии, Аквитании и Гаскони, графом Анжуйским и Нантским, лордом Бретани.
Он не испытывал особой привязанности к Англии и даже говорил, что «продал бы Лондон, найдись покупатель», чтобы оплачивать свои крестовые походы.
Ричард как раз находился в одном из таких походов, когда его младший брат Джон продолжил семейную традицию заговоров против ближайших родственников, тем самым обеспечив себе роль злодея в бесчисленных фильмах о Робин Гуде, вместе с шерифом Ноттингемским. Во всяком случае, легенда пытается убедить нас именно в этом. Потому что, помимо заверений турагентов от Римского вала до Уилтшира [26], других доказательств существования Робин Гуда как не было, так и нет. Или, по крайней мере, существования одного-единственного Робин Гуда, каким мы его знаем. Дело в том, что в Средние века это было очень распространенное имя: Робин — как сокращенный вариант Роберта, а Гуд — как альтернатива Вуда [27]. Робин Гуд мог быть и собирательным образом героя разбойника, точно так же как слово «хулиган» обязано своим происхождением далеко не законопослушной семейке, которая промышляла в Лондоне в 1890-х годах.
Народные баллады, прославляющие героические подвиги Робин Гуда, относятся к тринадцатому веку. Их пронизывает идея сопротивления властям — тема привычная для того времени, когда простой люд работал до седьмого пота, но мог запросто оказаться на виселице по прихоти хозяина. В балладе «Подвиг Робин Гуда», записанной в конце пятнадцатого века, по вполне возможно, что и гораздо позже, «Робин разъясняет свои цели другу, Малышке Джону»:
Эти епископы и архиепископы, Их надо бить и вязать, А шерифа Ноттингемского Первым из них поймать…Епископы, архиепископы, шериф — все это столпы средневековой власти, и Робин Гуд призывает крушить их.
В балладах Робин помогает не только бедным, в одной из них он дает денег рыцарю, чтобы тот вернул долг аббату. А в ранних источниках практически не упоминается о том, как Робин помогает королю Ричарду в борьбе против брата Джона — похоже, это добавили позднее, чтобы возвысить Робина, отведя ему чуть более значимую роль, нежели простое перераспределение богатства. На самом деле для среднего англичанина Ричард был скорее финансовым бременем, нежели королем; в 1193 году его взял в заложники один из его многочисленных врагов, Генрих VI, император Священной Римской империи, который затребовал за него выкуп в размере 150 000 марок (что втрое превышало годовой доход английской короны). Деньги были собраны за счет массового и грабительского повышения налогов в стране, чему поспособствовал и Джон, предложивший 80 000 марок в качестве взятки за то, чтобы Ричарда попридержали в тюрьме.
Освобождение Ричарда и его возвращение в Англию для спасения страны от неэффективного управления Джона обычно преподносится как драматическая концовка сказки о Робин Гуде, но Ричард не стал надолго задерживаться среди своих английских подданных, даже из чувства благодарности, — зов войны и желание устроить порку французам оказались слишком сильны. Воспользовавшись временным заточением Львиного Сердца, старый союзник Ричарда, Филипп Август, ныне король Франции Филипп II, пытался прибрать к рукам удерживаемые англичанами земли в Нормандии и Анжу. Поэтому Ричард спешно прикарманил все деньги из государственной казны и снова покинул Англию, на этот раз навсегда.
Последние пять лет своей жизни он посвятил войне с французским королем-грабителем. И провел ее настолько успешно, что после битвы при Жисоре на севере Франции в сентябре 1198 года смог твердо заявить о своей независимости и от короля Франции и Англии. До этого, будучи герцогом или графом французских территорий, Ричард, как и все английские монархи, теоретически был феодальным вассалом Филиппа Августа. Отныне Ричард руководствовался дошедшим до наших дней королевским девизом Dieu et mon droit («Бог и мое право»), который весьма красноречиво, да еще и на французском языке, так чтобы Филиппу Августу было проще понять, объяснял, что король Англии присягает на верность одному только Богу. Но даже при этом имеет свои права.
И все-таки именно Франция окончательно добила Ричарда.
В марте 1199 года он подавлял мятеж в родной Аквитании, затеянный «мелкой сошкой», французским виконтом, и вел рутинную осаду замка Шалю, который защищали всего несколько рыцарей, причем один из них вместо щита использовал обычную сковороду. Ричард настолько был уверен в победе, что однажды вечером пошел побродить вдоль крепостного рва без лат, словно дразня неприятеля. К несчастью, тот самый рыцарь со сковородой отважился выстрелить из арбалета, и стрела попала Ричарду в шею. В результате неумелых действий хирурга [28], который вытаскивал стрелу, в рану попала инфекция, и вскоре Ричард оказался на смертном одре.
По легенде, к умирающему Ричарду привели для прощения того самого французского арбалетчика. Солдат оказался мальчишкой — вроде бы по имени Пьер Базиль, — и он сказал Ричарду, что выстрелил в него из мести, поскольку англичане убили его отца и брата. По английской версии, Ричард был настолько тронут, что благословил парнишку и даже щедро одарил его наличными.
Некоторые французские источники утверждают, что коварный Ричард приказал убить арбалетчика, но это не что иное, как антианглийская фальшивка. Похоже, дело было так: тотчас мосле смерти Ричарда 6 апреля 1199 года командир его наемников (кстати, француз) приказал казнить всех защитников замка Шалю через повешение на крепостном валу. А самую суровую кару он приготовил для юного Пьера Базиля, с которого заживо содрали кожу — не иначе как в наказание за убийство богатого работодателя.
Впрочем, французские историки скажут что угодно, лишь бы опорочить репутацию английского короля.
Плохой король Иоанн, случайный герой
Преемник Львиного Сердца, Иоанн (Джон) был действительно ужасным королем для Англии. Современники высмеивали его, придумав прозвища Безземельный и Мягкий меч: последнее он получил за свои военные поражения, но, очевидно, подразумевались и некоторые его физиологические особенности. Однако в том, что касается англо-французской истории, Иоанн обладал единственным неоспоримым качеством — он очень умело раздражал Францию.
В считаные месяцы после своего восшествия на престол он оказался впутанным во французский любовный треугольник, который непременно привел бы в восторг современные таблоиды. В 1200 году он встретил Изабель, дочь графа Ангулемского, и, ослепленный ее красотой (а также обширными землевладениями), похитил ее и женился на ней, несмотря на то, что ей было всего двенадцать лет и она уже была помолвлена с французским виконтом.
В те времена часто похищали несовершеннолетних девушек, но обманутый жених пожаловался французскому королю, заклятому врагу Ричарда, Филиппу Августу, и тот призвал Иоанна явиться ко двору. Иоанн ответил отказом, на том основании, что, будучи королем Англии, он сам себе голова и никому не подотчетен, — «Dieu et mon droit», n'est pas? [29]
Филипп Август возразил, что, невзирая на любые умные девизы, которые мог придумать Ричард, король Франции по- прежнему остается феодалом Иоанна в Аквитании, а потому имеет над ним власть. Он подкрепил свои слова тем, что лишил Иоанна всех его французских земель, кроме Гаскони, которая ему была и даром не нужна, поскольку там обитали беспокойные баски, и к тому же она находилась слишком далеко от Парижа, чтобы ее можно было удерживать под контролем.
Эта конфискация настолько ослабила Иоанна, что французы даже осмелились вторгнуться в традиционно принадлежавшую его семье Нормандию. Одним ударом империя Генриха Второго и Ричарда Львиное Сердце, покрывавшая запад Франции огромным английским флагом, съежилась до размеров Англии и Биаррица.
Затем Иоанн схлестнулся с Церковью в споре о том, кто имеет право выбирать архиепископа Кентерберийского — в продолжение все того же скандала, который спровоцировал отца Иоанна, Генриха Второго, на убийство Томаса Бекета. Папа именем Господа отлучил Иоанна от Церкви и объявил Филиппа Августа настоящим, Богом благословенным королем Англии. В целях самосохранения в 1213 году Иоанн отступился от своих требований и даже согласился, чтобы Папа стал феодалом Англии, и предложил платить ренту Риму. Унизительное поражение, но оно обернулось победой над Францией, поскольку поколебало уверенность Филиппа Августа в своих силах: он уже собирал армию на берегу Ла-Манша, чтобы отстоять свои права на Англию, а теперь у него не имелось достойного повода для вторжения. В то же время, по счастливому стечению обстоятельств, английский флот разбил французский, подлив соленой воды на рану Филиппа Августа.
С несвойственной ему, и безрассудной, смелостью Иоанн решил закрепить удачу, атаковав Францию. Но летом 1214 года сто армия была разбита, сначала в сражении под Ля-Рош-о-Муэн и Анжу (где Иоанн отличился, бежав с поля боя), а потом в битве при Бувене, на самом севере Франции, после которой Иоаннy пришлось принять унизительные условия мира, отказавшись от притязаний на Нормандию и Бретань.
К несчастью для короля Иоанна, история еще не могла подсказать ему, что англичанину лучше оставить в покое однажды с успехом разозленного француза — пусть дуется! — вместо того чтобы предоставлять ему шанс отыграться.
Англичане получают французского короля
Последствия этой череды унижений и недооценки противника обернулись тем, что собственные бароны Иоанна утратили к нему доверие и заставили его подписать Великую хартию вольностей, которая, по сути, защищала самих баронов от несправедливости любого будущего правителя, особенно такого неудачливого, как Иоанн.
Чтобы как следует подстраховаться, бароны пригласили узурпировать английский трон французского наследного принца Людовика, и в 1216 году он ненадолго стал Людовиком I, королем Англии. Кто-то назовет это деяние гнусным предательством английских баронов, но в нем была своя логика. Многие бароны владели землями как в Англии, так и в Нормандии, поэтому не считали себя обязанными хранить исключительную верность той или иной стороне Ла-Манша. Вполне возможно, они рассудили так: французский король, правящий Нормандией и Англией, феодал ничуть не хуже, чем любой английский король, а может, даже и лучше, если не станет ввязываться в затратные войны и душить подданных налогами.
Однако в октябре 1216 года, после того как Иоанн умер от дизентерии во время бегства от французских завоевателей, бароны сделали проанглийский выбор, отказавшись от присяги Людовику в пользу сына Иоанна, которого короновали как Генриха III. Не исключено, что это было сделано только потому, что Генриху в то время исполнилось всего лишь девять лет, а потому им было легко управлять — достаточно было забрать у него игрушечную лошадку, чтобы он согласился урезать налоги. Но это решение изолировало Англию от Франции и заставило самых влиятельных англичан, которые всегда считали себя нормандскими экспатами, примириться с тем, что после 150 лет пребывания на английской земле их семьям суждено остаться здесь навсегда.
Эта растущая англонизация стала еще более ощутимой с 1227 года, когда Генрих III достиг совершеннолетия и начал править без регента. Он пригласил ко двору кучу иностранных советников, включая французских членов своей семьи по материнской линии, а усугубил ситуацию женитьбой на двенадцатилетней графине, Элеоноре Прованской. Невеста-дитя прибыла в окружении вездесущих франко-итальянских кузин, дерзкое поведение которых при дворе сделало Элеонору настолько непопулярной, что лондонцы однажды попытались потопить ее баржу, когда она курсировала по Темзе.
Епископ Линкольна, Роберт Гросстест [30], был самым активным противником сложившегося положения и открыто критиковал короля Генриха, жалуясь, что французские придворные «иностранцы и худшие враги Англии. Они даже не говорят по-английски».
Французы, которым только дай повод, подлили масла в огонь этого националистического спора. В 1244 году французский король Людовик IX (сын наследного принца Людовика, которого приглашали править Англией) объявил: «Тот, кто живет в моей стране, но владеет землями в Англии, не может служить двум хозяевам. Он должен подчиняться либо моей власти, либо власти английского короля».
Раскол между Англией и Францией практически состоялся.
Англия покорно принимает наказание и извлекает уроки
Французам повезло, что Англия пока была не готова к атаке на Францию, поскольку короли Эдуард I и Эдуард II, которые правили в период с 1272 по 1327 год, всю свою мощь обрушили на шотландцев и уэльсцев. В ответ они получили немало болезненных ран, включая сокрушительное поражение английской армии в битве при Баннокбурне в 1314 году. Однако это избиение руками шотландцев и уэльсцев имело два положительных последствия, которым суждено было стать головной болью для французов.
Во-первых, англичане на собственной шкуре испытали смертоносную силу больших луков уэльсцев. Это оружие не шло ни в какое сравнение с тем луком, из которого (возможно) был убит Гарольд в битве при Гастингсе. Уэльский лук имел в длину пять-шесть футов — был даже выше, чем лучник, — и мог стрелять тяжелыми стрелами с железным наконечником, с предельной точностью поражая цель на расстоянии 250 ярдов. Разница между уэльским и обычным луками была примерно такой же, как между мушкетной дробью и снайперской пулей. Нужны была практика длиною в жизнь и недюжинная сила, чтобы оттянуть тетиву шестифутового лука, и после поражения от уэльсцев английские просторы вскоре наполнились звуком свистящих стрел. Недалек был тот день, когда этому звуку предстояло повергнуть в дрожь французских рыцарей в латах.
Во-вторых, в битве при Баннокбурне двадцатитысячная армия Эдуарда II уступила малочисленной шотландской пехоте Роберта Брюса, во многом из-за того, что англичане пытались сражаться в тяжелых доспехах на болотистом грунте. Они извлекли урок из своей ошибки и в следующем веке дважды заманивали французов в такую же точно ловушку.
Эдуард II был непопулярным королем. Мало того что он умел талантливо проигрывать сражения, так еще был откровенным геем, что пока не вошло в моду среди английской знати, несмотря на пионерский опыт Вильгельма Руфуса стодвадцатилетней давности, подхваченный, как утверждают, Ричардом Львиное Сердце.
В конце концов жена Эдуарда, французская принцесса Изабелла, за свой нрав прозванная Французской Волчицей, организовала его смещение с престола и убийство в 1327 году при ужасных обстоятельствах. Как сообщалось, Эдуарда, пребывавшего в заточении в замке Беркли под Глостером, пригвоздили к кровати, после чего в его задний проход вонзили рог или металлическую трубку. И словно этой жути было недостаточно, раскаленный докрасна железный прут, введенный затем в трубку, сжег внутренности Эдуарда и убил его.
Пока с ним творили это безобразие (если творили, поскольку другие источники утверждают, что Эдуарда задушили), Англия пребывала в состоянии депрессии. Нация была доведена до нищеты неурожаями и бесплодными попытками ее правителей одолеть кельтских соседей. К тому времени она успела лишиться еще одного из своих владений во Франции, Гаскони, которую французы захватили играючи. В общем, жуткая смерть Эдуарда II предстает символом Англии, к которой недавнее прошлое повернулось своим задним местом.
Неудивительно, что у страны возникло острое желание снова встать на ноги и обрести чувство собственного достоинства. Англия привела себя в боевую готовность перед Столетней войной, самым долгим в британской истории военным конфликтом с единственным противником. И таковым была выбрана Франция.
Глава 3 Столетняя война: огромная ошибка
«Сто лет» с 1337 по 1453 год: ошибка арифметическая, и не только
В ролях: Черный принц, Генрих V и много жертв со стороны французов…
Большинство из тех, кто пишет о Столетней войне, настойчиво обращают внимание читателей на очевидную ошибку в расчетах: конфликт, начавшийся в 1337 году и закончившийся в 1453 году, длился больше века. Особенно разочаровывает то обстоятельство, что название войне дали викторианцы, которые были сильны в математике, поскольку им приходилось делать много измерений, составляя карты их растущей империи.
Впрочем, причины этой ошибки коренятся гораздо глубже, так как уже в названии войны просматривается явная попытка очковтирательства. Для начала заметим, что это была не война как таковая: речь идет о цепочке конфликтов, которые то вспыхивали, то угасали, в зависимости от того, как скоро у английских королей пополнялись запасы сил и наличности для продолжения боевых действий. И хотя даты, которые у всех на слуху, связаны с известными битвами — Креси (1346 год) и Азенкур (1415 год), — не стоит обольщаться насчет того, что Столетнюю войну вели армии рыцарей и лучников, сражаясь за своего короля и свою страну на полях боевой славы.
Если не считать нескольких эпизодов рыцарских баталий, «война» была, проще говоря, ста шестнадцатью годами физического насилия, которому подвергалось гражданское население Франции. Этот период террора развязали бесчинствующие и неуправляемые английские бандиты, которые заявляли, будто защищают права короля, но на самом деле активно занимались личным обогащением, при этом убивая все больше и больше людей.
За этот более чем вековой период ни один город Северной Франции не избежал осады, крестьяне не могли спокойно работать на полях, если не размещали на вершинах холмов, колоколен или просто в кронах деревьев сторожевые посты. Когда на горизонте появлялось облако пыли, фермеры тотчас бросали орудия труда и бежали, поскольку знали: любой мужчина, пойманный живьем англичанами, будет, если он богат, содержаться под стражей до выплаты выкупа; тот же, кто не сможет заплатить выкуп, будет убит, причем, как правило, после жестоких пыток, признавшись, где спрятаны его скудные сбережения. Все это в равной мере относилось и к взятым в плен женщинам, с той лишь разницей, что их еще подвергали зверскому групповому изнасилованию. Можно сказать, что это была не столько Столетняя война, сколько век геноцида, санкционированного королем (а значит, по феодальной логике, самим Богом).
Франкоязычная Википедия так суммирует сведения о Столетней войне (La guerre de Cent Ans): «Годы: 1337–1453. Результат: победа Франции». Но это все равно что сказать: «„Черная смерть“ [31]: 1349–51. Результат: победа человека». В этих скупых записях нет и намека на огромные страдания и лишения, и в ходе Столетней войны все эти жертвы пришлось понести Франции.
Позлить французов ради забавы и барышей
Вопрос: с чего вдруг англичане решили развязать такую жестокую кампанию против своих соседей? Ответ, как всегда в подобных случаях, прост: потому что они могли это сделать. Или, точнее, потому что они не могли провести ее в любой другой стране. На востоке обитали фламандцы, союзники. Шотландцы и уэльсцы на севере и западе уже доказали, что они крепкие орешки, да и улов с них был не так уж богат. С другой стороны, Франция была, как вдова в Карибском круизе: богатая, доступная, удобная.
В начале 1300-х годов Франция, в сравнении с Англией, была очень зажиточной страной. Ее сельские угодья считались самыми продуктивными в Европе, страну вдоль и поперек пересекали торговые пути из Средиземноморья и с Востока. Неудивительно, что население не только росло численно, но и становилось все более искушенным: в то время как англичане все еще жевали репу, французы снобистски рассуждали о том, сколько перца следует класть в soupe à l'oignon [32].
Более того, король Филипп VI полновластно правил почти всей Францией. Однако его положение, если рассматривать его с английского берега Ла-Манша, было не только привилегированным, но и опасным. В качестве еще одной метафоры надвигающейся войны подошла бы такая: представьте себе, что свора английских мужланов с банками пива в руках вдруг видит загорающего на пляже французского плейбоя. Вот он, какой красавчик, и «ролекс» посверкивает на солнце, и глаза защищены супермодными «рэйбанами», а в ушах наушники, воткнутые в айпод лимитированной серии. Даже плавки у него с обложки модного журнала «Вог Ом». Искушение подойти и плеснуть пивом ему в лицо (или чем-нибудь покрепче) непреодолимо. Да к тому же есть шанс поживиться дизайнерскими шмотками и выбить французу пару его чересчур ровных зубов. А потом прижечь его сигаретами, пока не скажет ПИН-код своей кредитки. Короче говоря, война обещала быть жестокой, расистской и бандитской. Но главное, она обещала быть веселой.
Новый английский король, Эдуард III, был не то чтобы деревенщиной и любителем пива, но этот пятнадцатилетний отпрыск только что вырвался из беспокойного детства. Как мы уже видели в главе 2, его отца, вероятно, сожгли изнутри раскаленным докрасна суппозиторием, и Эдуард знал, что это было сделано с молчаливого одобрения его матери, королевы Изабеллы. Молодой принц, вероятно, догадывался и о том, что ему удалось избежать такой же участи исключительно потому, что его существование позволяло Изабелле править Англией с регентом — ее любовником, эрлом Роджером Мортимером. Но когда Изабелла забеременела от Мортимера, Эдуард, скорее всего, почувствовал задним местом жар раскаленного металла и октябрьской ночью 1330 года проломил дверь материнской спальни топором и выволок оттуда Мортимера — на виселицу, на дыбу, на четвертование, — а Изабеллу посадил под арест в Норфолке, где, как говорят, у нее случился выкидыш. «Помог» ли ей в этом кто-то из сподвижников Эдуарда, неизвестно, но достаточно сказать, что король очень кстати лишился еще одного потенциального соперника в борьбе за трон.
Теперь Англией правил переживший других наследников подросток, который так и рвался в бой. И для начала он рванул на север и прошелся огнем по Южной Шотландии, выпустив пар, скопившийся после Баннокбурна. Эдуард лично возглавил армию лучников в победоносной битве против шотландских копьеносцев при Халидон-Хилле близ Берика в 1333 году и вернулся в Лондон, приветствуемый восторженными жителями как «новый король Артур». Он вкусил не только победы, но и мести.
Именно тогда король Франции Филипп VI совершил роковую ошибку, раззадорив молодого и дерзкого правителя.
В мае 1334 года Филипп пригласил к себе десятилетнего короля Шотландии, Давида II, чтобы мальчик мог укрыться от англичан, и предупредил Эдуарда III, чтобы тот прекратил запугивать малютку Дэйви. Это была провокация чистой воды, поскольку посредством такого предупреждения Филипп напомнил старую французскую дразнилку о том, что король Англии является вассалом короля Франции. Заявление Ричарда Львиное Сердце, будто король Англии подчиняется одному только Богу, похоже, совсем не убедило французов. И словно подливая масла в огонь, епископ Руана прочитал проповедь, радостно объявляя о том, что шеститысячная французская армия готова выступить на защиту Шотландии от английских завоевателей.
Так что король Эдуард сделал то, что на его месте сделал бы любой здоровый и энергичный англичанин: он заявил о своих правах на французский трон.
Все королевы незаконны, но некоторые менее незаконны, чем остальные
Мать Эдуарда, Изабелла, уже пыталась истребовать для себя французский трон в 1328 году. Она была сестрой недавно скончавшегося короля Франции Карла IV, который оставил после себя единственного наследника — малышку дочь. Изабелла не замедлила объявить себя наиболее подходящей кандидатурой на роль преемника. Однако ассамблея, собравшаяся на дебаты о наследовании трона, отказала Изабелле, ссылаясь на то, что, как записал хронист Жан Фруассар, «Французское королевство настолько величественно, что не должно попасть в женские руки».
Между тем вакантный трон захватил Филипп VI, тридцатипятилетний чемпион рыцарских турниров, в распоряжении которого имелась большая армия — весьма веский аргумент в спорах о том, кому быть средневековым правителем. И Эдуард III, казалось, уже забыл о притязаниях своей матери на французскую корону, когда в 1334 году Филипп совершил ту самую ошибку, объявив себя сторонником Шотландии.
Раздувал ссору и близкий ко двору Эдуарда французский аристократ и интриган, пятидесятилетний бонвиван по имени Робер д’Артуа. Робер, приходившийся шурином королю Филиппу VI, сбежал в Англию, после того как, по слухам, отравил свою тетю при попытке украсть ее наследство. Если даже так, то это мелочь по тем временам, конечно, но Робер был приговорен к смерти и изгнан из страны. Когда Филипп VI объявил о том, что любой, кто приютит Робера, станет его заклятым врагом, Эдуард с радостью принял изгоя, жаловал ему титул эрла и предоставил три замка. Если это был вызов, то недвусмысленный.
Классический шурин и француз до мозга костей, Робер не мог избежать соблазна постоянно жаловаться на Филиппа и подталкивал Эдуарда к тому, чтобы тот предъявил свое законное «право на наследство». В поэме того времени «Клятва цапли» можно прочесть, что Робер обострил тему на банкете в 1338 году, когда сказал, что Эдуард III боится вторгаться во Францию, и склонил влиятельных гостей званого обеда к обещанию помочь Эдуарду отвоевать французский трон. Робер добился этого, принеся клятву над отварной цаплей (робкой птицей, символизирующей трусость [33]) и заставив гостей придумывать вариации этой клятвы — такие забавы на банкетах были в моде в начале четырнадцатого века.
Не успели гости высказаться, кто из них хочет вытянуть грудную кость цапли, как Эдуард объявил, что намерен сражаться за французскую корону, и даже придумал себе новый герб, в котором сочетались английские львы, стоящие на задних лапах, и французская лилия. Новое англо-французское знамя, вместе с таким же щитом, шлемом, камзолом и униформой оруженосца, было самым грубым и провокационным оскорблением, какое только мог придумать Эдуард — ну, что-то вроде того, как переспать с женой нынешнего француза и выложить это видео на «Ю-Тьюбе». Всего одним штрихом Эдуард дал понять, что надвигающаяся война будет действительно очень жестокой.
Где взять денег на войну
Эдуард III был уже далеко не беспокойный юнец. К своим двадцати с небольшим он стал по всем меркам хорошо воспитанным и образованным мужчиной, который даже умел писать. Его родным языком был англонормандский, как и у всех представителей его класса, но он мог свободно говорить по-английски, как коренной англичанин (кем он, разумеется, и был), понимал латынь, немецкий и фламандский языки. К тому же он обладал, как выразился один из его современников, «лицом Бога» и использовал это по максимуму, соблазняя бесчисленных поклонниц золотыми кудрями, королевской улыбкой и, несомненно, эксцентричной фламандской шуткой.
Впрочем, он не растрачивал свое обаяние исключительно на сексуальные объекты и, как только настроился на войну, принялся довольно ловко обхаживать богатых банкиров и торговцев из Италии, Голландии и Англии, формируя с их помощью военный бюджет. Позже почти все они обанкротились, когда он не смог с ними расплатиться.
Эдуард заложил не только собственную английскую корону, но и ту, которую приказал изготовить с оптимистическим настроем на будущую коронацию во Франции.
Филипп VI, напротив, испытывал серьезные трудности с финансированием своей военной кампании. Даже в те времена французы предпочитали игнорировать законодательство, и многие из них отказывались платить налоги. Филиппу пришлось прибегнуть к таким непопулярным мерам, как повышение пошлин на соль и девальвация национальной валюты, выведя из обращения серебро и заместив его монетами из дешевого металла. В конечном итоге он был вынужден пополнить свой военный бюджет, заняв миллион золотых флоринов у Папы [34].
Филипп направил вырученные средства на мобилизацию шестидесятитысячной тяжелой кавалерии, большую часть которой составляли аристократы, мечтающие быть произведенными в рыцари. Эдуард предпринял нечто более или менее противоположное, разослав английским констеблям и судебным приставам указание прислать к нему наиболее подходящих для войны кандидатов в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет. Наряду с отбором лучших лучников местные чиновники воспользовались возможностью отправить на войну воров и убийц.
Так что, в то время как французские аристократы примеряли тяжелые доспехи и проверяли друг друга на знание рыцарского устава, тысячи английских уголовников обменивались советами, как лучше протыкать этих щеголей.
Резня с красивым названием
Если нужно хоть какое-нибудь оправдание тем ужасам, каким подверглась Франция, тогда стоит заметить, что первыми начали французы.
В 1337 году они повадились устраивать набеги на побережье Англии, а в течение следующего года напали на Рай, Гастингс, Портсмут, Саутгемптон, остров Уайт и Плимут и устроили там грабежи. Французы захватили английские торговые суда, а французские корабли даже заходили в устье Темзы. Поползли слухи о массированном французском вторжении, и говорили, что взятых в плен кентских рыбаков пытали, а потом прогнали по улицам Кале.
Англичане быстро сообразили, что этот разбойный бизнес — неплохая идея, и вскоре нормандские и бретонские порты на себе испытали все прелести мародерства. Иногда английским налетчикам даже удавалось украсть то, что недавно было вывезено из их родных городов. С тех пор для любого корабля воды Ла-Манша стали опасным местом.
А потом состоялось настоящее вторжение. В сентябре 1339 года Эдуард III атаковал Францию силами пятнадцати тысяч воинов, многие из которых были нидерландскими и германскими наемниками, которым он платил взятыми в долг деньгами. Филипп VI поджидал их в местечке под названием Ла-Фламангри в Северо-Восточной Франции с тридцатипятитысячной армией. И хотя Филипп имел численное превосходство, он предложил провести вместо битвы нечто вроде спортивного состязания, турнир между французскими паладинами — самыми доблестными рыцарями — и лучшими воинами английской армии. Это вполне могло быть насмешкой над Эдуардом, который и сам когда-то был паладином, пока Филипп не конфисковал его французские земли.
Эдуард рвался в бой, и не только потому, что обладал воинственной натурой: к этому подталкивали и наемники, которые жаловались, что им не хватает еды, и угрожали отправиться восвояси. Так что он согласился встретиться с Филиппом на его условиях — будь то жестокая схватка двух армий или рыцарский поединок. Но все кончилось тем, что Филипп попросту не явился.
Трусость, вы скажете? Возможно, но зато эффект был достигнут. Словно английский пенсионер, застигнутый врасплох растущим курсом евро, Эдуард просто не мог себе позволить задерживаться во Франции, и ему пришлось вернуться домой. Денег катастрофически не хватало, и ему даже ради новых кредитов пришлось оставить свою жену Филиппу в Генте в качестве залога. Его вторжение, задуманное как быстрая атака, которая приведет к падению Парижа и захвату французского трона, длилось месяц, но за это время он не продвинулся дальше окраин Кале.
Однако, с учетом предстоящей войны, эту акцию нельзя назвать совсем уж провальной, поскольку Эдуард и его войско неожиданно придумали совершенно новую концепцию вторжения, удачно дав ей французское название, чтобы скрыть факт английской интервенции.
Французское слово chevauchée («шевоше») прежде означало безобидную прогулку верхом — скажем, по сельским просторам, — но Эдуард III наполнил его куда более зловещим смыслом. Его люди, марширующие по Франции, получали от него приказ крушить все на своем пути. Он даже хвастался этим в письме своему сыну, Черному принцу, как бы между прочим замечая: «Мы продвинулись вглубь страны на двенадцать — четырнадцать лье, сжигая и разрушая все вокруг» — и добавляя, что окрестности города Камбре «опустошены, нет ни корма, ни скота, ничего». При этом он не стал уточнять, что «опустошение» подразумевало выжигание города дотла и принуждение его жителей спасаться бегством, а то и полное их истребление.
Схожими методами действовал в Англии Вильгельм Завоеватель — главным образом с целью наказания бунтующих граждан. Но Эдуард планировал вести так всю войну, пытаясь истощить Францию кровавой резней, чтобы принудить к капитуляции. Подобные же аргументы приводились в 1945 году, в оправдание бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Если бы в четырнадцатом веке существовали ядерные боеголовки, то удержать Эдуарда от их использования могли только перспектива лишиться выгодных заложников и страх перед тем, что французский трон окажется слишком радиоактивным, чтобы сидеть на нем.
Тактика французов как объект для шуток
Эдуард III был, несомненно, жестоким человеком, но уж чего у него не отнять, так это упорства. Не успел он вернуться в Англию, как убедил парламент проголосовать за введение налогов на шерсть, кукурузу и баранину, а также — в доказательство того, что он вовсе не противник сельского хозяйства, — принять закон об отчислении в казну девятой доли имущества каждого горожанина. Вырученные деньги он потратил на освобождение своей жены из кабалы и подготовку новой антифранцузской кампании. И на этот раз его ожидал ошеломляющий успех.
Зная о том, что Филипп готовил к вторжению флот, Эдуард решил нанести удар по французам в море. В июне 1340 года он вывел в Ла-Манш около 200 кораблей, большинство из которых представляли собой переоборудованные торговые суда.
Со стороны это выглядело полным безумием. Корабли Эдуарда были, по сути, грузовыми, в то время как французы арендовали оснащенные таранами и катапультами высокоманевренные генуэзские военные галеры, командовал которыми старый морской волк, генуэзец Барбанера, или Черная Борода. И эти красавицы галеры, как и корабли с тяжеловооруженными воинами [35], gent d'armes, теперь стояли на якоре в большой гавани Слёйса (нынешняя Голландия), создавая мощный оборонительный рубеж.
План Эдуарда был прост: двигаться прямо на французские корабли и брать их на абордаж. Воины в средневековых доспехах, карабкающиеся на планширь? Скептически настроенный военачальник решил бы, что это не слишком практично. Однако Эдуард не знал, что на него работает мощный фактор — одна слабость, присущая французам, которая жива и по сей день.
Может, в распоряжении Филиппа VI и был великий флотоводец, но Барбанеру превосходили по рангу двое французов, Хью Кирэ и Николя Бегюше, причем ни один из них не был моряком. Бегюше в прошлом занимался сбором налогов. И когда Барбанера посоветовал им покинуть гавань и выйти в открытое море, где его юркие галеры могли бы играючи потопить неповоротливый английский флот, эти двое отказались.
Что ж, очень по-французски. Сегодня крупная производственная компания, если у нее начинаются трудности, обращается за консультацией к выпускнику одной из престижных французских школ, к кому-нибудь из тех, кто лет десять изучал теорию бизнеса и математику, но ни разу не посещал завод. Для французов важнее всего не опыт, а лидерство — или, если точнее, французский стиль лидерства, который подразумевает игнорирование советов людей знающих, но не имеющих в своем резюме ссылки на диплом французской высшей школы.
Так что Кирэ и Бегюше благополучно оставили флот стоять на якоре, а Эдуард тем временем медленно, но уверенно вошел в гавань и, к своему удивлению, обнаружил брешь в обороне противника: крайние корабли оказались незащищенными от атаки с флангов. Более того, остальные корабли стояли борт к борту и просто не могли прийти к ним на помощь.
Пока французские адмиралы судорожно просматривали учебники в поисках подсказок, что делать дальше, английские ребята уже высаживались на палубы их кораблей и, перебегая с одного на другой, осыпали французов шквалом стрел (британские стрелки из длинных луков впервые демонстрировали свое мастерство за пределами родной стороны), захватывали в плен тех, кто побогаче, остальных швыряли за борт, и тяжелые доспехи тянули несчастных ко дну. Правда, легко одетым французам, которым все-таки удавалось доплыть до берега, тоже не везло: они тут же попадали под топоры местных фламандских мстителей.
Барбанера, генуэзский ветеран, быстро сообразил, что грядет катастрофа титанического масштаба (хотя до гибели «Титаника» оставалось целых 572 года), и спешно увел свои галеры, чтобы его люди еще успели повоевать за тех хозяев, которые прислушиваются к его советам.
Ошеломленные происходящим французские военачальники Кирэ и Бегюше попытались применить на практике свои теоретические знания о средневековой войне, надеясь, что их возьмут в плен и станут требовать выкуп, но то был не их день. Кирэ успешно отрубили голову, а Бегюше повесили на рее флагманского корабля Эдуарда III, так чтобы вид покачивающегося на ветру трупа деморализовал уцелевшую часть французского войска. Эдуарду, конечно, не помешали бы выкупы заложников, но он вел тотальную войну, так что в битве участвовал даже корабль, на борту которого находилась его жена со своими придворными, и печальным итогом стала гибель одной фрейлины. Это был последний раз, когда королева приняла приглашение Эдуарда «прокатиться на его яхте».
Результатом стычки на море стало практически полное уничтожение французских военно-морских сил вторжения, и Франция потеряла десятки тысяч солдат. Придворные Филиппа IV так нервничали, не зная, как подать ему плохие новости, что решили доверить эту миссию придворному шуту.
— Наши рыцари куда храбрее англичан, — сказал шут.
— С чего ты взял? — спросил Филипп.
— Англичане не осмеливаются прыгать в воду в полном снаряжении…
Как многие французские шутки, эта тоже требовала пояснений и не вызвала заразительного смеха.
Креси — битва из-за какого-то бекона
Был еще один французский предатель, который подтолкнул Эдуарда к продолжению войны, и это позорное пятнышко коллаборационизма обернулось оглушительным поражением Филиппа VI.
Жоффруа д’Аркур — нормандский рыцарь, который присягнул на верность Филиппу VI. Однако когда Жоффруа решил жениться на богатой нормандской наследнице с очень сельским именем Жанна Бекон, он обнаружил, что у него есть серьезный соперник — влиятельный друг короля Филиппа, Гийом Бертран. Король, ясное дело, объявил, что Жанна должна выйти замуж за Гийома (саму Жанну, разумеется, не спросили), а потому Жоффруа затеял маленькую частную войну против семейства Бертранов. Все могло бы ограничиться поджогом нескольких ферм и убийством десятка коров и стольких же крестьян, но Бертраны пожаловались королю, и тот в качестве наказания конфисковал земли Жоффруа и обезглавил четверку его лучших друзей.
Жоффруа, естественно, затаил злобу и отправился в Англию, где предложил свои услуги Эдуарду III. Более того, он снабдил короля Англии бесценной информацией секретного свойства. Согласно хронисту Фруассару, Жоффруа сказал Эдуарду: «…Нормандия — одна из самых богатых стран в мире… и если вы там высадитесь, никто не окажет вам сопротивления… Там вы найдете крупные города, не защищенные крепостными стенами, и ваши люди награбят столько, что им хватит лет на двадцать вперед». Эдуард даже не стал спрашивать, как выглядят местные женщины: он спешно собрал корабли и вояк, столько, сколько смог, и 5 июля 1346 года все они отплыли в Нормандию, уже через неделю высадившись в Ля Аге, возле Шербура, где не так давно Франция (не иначе как в память о событии далекого прошлого) построила завод по переработке ядерных отходов.
Армия Эдуарда отправилась в кровавое шевоше по стране, и сам Жоффруа д’Аркур во главе отряда из пятисот человек занимался грабежами в личных целях. В Кане местные жители, защищаясь, взбирались на крыши своих домов и сбрасывали оттуда все что можно на головы захватчиков. Это настолько взбесило Эдуарда, что он приказал своим людям сжечь весь город и перебить его обитателей. После трех дней мародерства и трех тысяч смертей армия награбила столько, что пришлось сплавлять трофеи вниз по реке на баржах. Вскоре корабли, груженные драгоценностями, золотой и серебряной посудой, мехами, богатыми одеждами и конечно же заложниками, двинулись обратно в Англию.
Французы утверждают, что после этого Эдуард планировал пойти на Париж и сместить с трона Филиппа VI. Если это так, тогда его миссия провалилась. Но более вероятно то, что английский король просто хотел вынудить трусоватых французов вступить в бой. Так что, пройдясь огнем по парижским пригородам Сен-Клу и Сен-Жермен-ан-Лэ (по иронии судьбы, оба они сегодня плотно заселены общиной британских экспатов), Эдуард вновь устремился на северо-восток. И, переправившись через Сомму, бритты остановились у маленького города под названием Креси.
Сегодня поле битвы при Креси, возможно, выглядит почти так же, как в 1346 году, если не считать одной современной постройки с угла, небольшой вырубки в лесу и бетонного туалетного блока у парковки. Ветряная мельница, которая стояла на вершине холма, была заменена деревянной наблюдательной вышкой, откуда можно увидеть… ну, ту же непролазную грязь.
Хотя не стоит так пренебрежительно о ней говорить — это самая знаменитая в английской истории грязь.
У подножия наблюдательной вышки можно увидеть побитую временем табличку, на которой представлено краткое, типично французское, описание битвы. Практически это список оправданий собственного поражения: «…войска [французские, разумеется] были ослеплены солнцем, которое снова вышло из-за туч» [36], а французская кавалерия, которой пришлось долго добираться до поля битвы, сравнивается с «лучниками [английскими], отдохнувшими и хорошо подготовленными».
О массовом истреблении цвета французского рыцарства упоминается вскользь: «Французская кавалерия столкнулась с трудностями и была разбита». Да уж, шквал стрел, какого континентальная Европа никогда прежде не видела, был всего лишь «трудностью».
В самом Креси, в бывшей сельской школе, есть очаровательный маленький музей, экспозиция которого занимает два переоборудованных класса прямо напротив пяти туалетных кабинок — четыре из них с низкими дверцами для детей и одна с полноценной дверью для учителей.
Из экспонатов музея наибольшее впечатление производит ящик с точными копиями стрел. Одно можно сказать наверняка: несладко пришлось французским рыцарям, оказавшимся мишенями для таких монстров. Стрела длиною в ярд и толщиною в большой палец руки, имеет острый металлический наконечник длиною с указательный палец. У некоторых стрел четырехгранные наконечники — «дыроколы», которые пробивали доспехи; есть и стрелы с зубьями, которые вонзались в тело лошади, и она, обезумев от боли, уносилась с наездником неизвестно куда.
В битве при Креси участвовало около 7000 английских лучников, которые могли выпускать из своих длинных луков десять стрел в минуту с предельной точностью. В первые шестьдесят секунд битвы передовой фланг войска Филиппа VI принял на себя около 70 000 стрел. Нет ничего удивительного в том, что сражение началось для французского короля не лучшим образом.
В августе на французских дорогах творится сущий ад
Прежде чем вдаваться в чудовищные подробности самой битвы, пожалуй, следует вооружиться некоторой справочной информацией.
Эдуард III, чьи войска только что закончили высокорентабельное шевоше по северу Франции, сам выбирал место будущей битвы, и, понятное дело, присмотрел наиболее удачный для себя вариант. Его люди разместились на длинном склоне холма, защищенном с одной стороны рекой, а с другой — густой лесополосой.
Армия Эдуарда насчитывала от 11 000 до 16 000 воинов, среди которых были все те же лучники (как английские, так и уэльские), около 2000 вооруженных пехотинцев, тысячи полторы молодцев с ножами и кинжалами (из тех самых уголовников) и несколько сотен конных рыцарей. Его силы уступали по числу армии Филиппа, но были хорошо обученными, правильно расположенными и — пожалуй, это самое главное — кровожадными.
Французская армия представляла собой серьезного противника, включая 15 000 генуэзских арбалетчиков, 20 000 тяжеловооруженных воинов, несколько тысяч конных рыцарей и несчетные толпы крестьян, вооруженных камнями, косами и всем, что позволило бы им отомстить за разорение своих угодий. Филипп привел с собой и музыкантов — в основном трубачей и барабанщиков, — призванных нагнать страху на врага. Даже в те времена французская музыка действовала пугающе на англичан.
Да, у Эдуарда действительно было время на подготовку. Он выстроил свои войска в атакующем боевом порядке, в форме буквы V: в центре расположились тяжеловооруженные воины, а два крыла образовали лучники. Перед боем лучники спустились по склону и выкопали в поле маленькие ямки, чтобы лошади, попадая в них ногами, падали на всем скаку. Они также разбросали по земле большие четырехгранные металлические «ежи», способные проколоть копыта лошадей и подошвы солдатских сапог. Английскими подразделениями командовали опытные ветераны, а нормандскому перебежчику Жоффруа д’Аркуру король Эдуард поручил охранять своего сына, шестнадцатилетнего Черного принца, собиравшегося увидеть первое в своей жизни сражение.
Закончив приготовления, Эдуард III распорядился выдать своим войскам вина и мяса (поставки свежих продуктов были «организованы» из близлежащих деревень), после чего дал им возможность отдохнуть. Субботнее утро 26 августа 1346 года было для бриттов на редкость безмятежным.
Французы, что вполне типично для них, опоздали к началу сражения: когда Филипп VI добрался до Креси, большая часть его армии еще не подтянулась. Один из советников подсказал королю, что не стоит драться в этот день, поскольку войска будут уставшими, к тому же шел дождь, вода заливалась под доспехи рыцарей, что доставляло неудобство. Филипп, который, как мы уже видели, всегда был не прочь уклониться от боя, если имелась такая возможность, отдал приказ встать лагерем.
Вот только он не учел — поскольку в те времена летние каникулы еще не изобрели, — что в последний уик-энд августа на французских дорогах творится сущий ад. Толпы рыцарей, пехотинцев, крестьян тянулись по проселочным дорогам в сторону Креси, и возникла такая «пробка», что передовая часть армии Филиппа, генуэзские арбалетчики, была вынуждена вырваться вперед, чтобы не застрять в заторе.
Эти бедные итальянцы (которых, по всей видимости, не предупредил их соотечественник, моряк Барбанера, о безобразной французской организации) стали первыми жертвами английских лучников и с тех пор несли на себе бремя французского негодования.
Они шагали под дождем, поднимаясь на холм, навстречу английским лучникам, вынужденные то и дело останавливаться, чтобы перезарядить свои громоздкие арбалеты. Более того, на время долгого пути к месту сражения генуэзцы погрузили свои щиты в багажные повозки, что следовали сзади, и теперь не имели возможности вернуться за ними. Английские и уэльские лучники увидели первую волну атакующих и попросту смели ее своими стрелами.
Генуэзцы были наемниками, и, так же, как у Барбанеры в битве при Слёйсе, у них, похоже, возникло коллективное желание «послать к черту эту работу». Они развернулись и побежали — или, во всяком случае, попытались. Потому что бежать было некуда, поскольку следом за ними наступали ряды французской кавалерии.
Некоторые французские источники прощают генуэзцев — один из хронистов заметил даже, что они оказались бесполезными, так как тетива их арбалетов размокла под дождем, — но большинство все-таки клеймит их позором. Хроники передают ярость брата Филиппа, Карла де Валуа, который, видя это постыдное бегство, приказал своей кавалерии «давить этот сброд». Кое-кто даже обвиняет генуэзцев в том, что они пошли против французов, вынув ножи и пытаясь резать конские сухожилия и рыцарские глотки. Впрочем, одно можно сказать наверняка: лучники Эдуарда теперь попросту расстреливали в свое удовольствие беспомощную толпу паникующих арбалетчиков, спотыкающихся лошадей и высокомерно фыркающих французских рыцарей. Брат короля Карл лично пошел в атаку на генуэзцев, увяз в гуще солдат и был убит в считаные минуты.
Полыхая гордостью, подгоняемые напирающей сзади толпой, да еще под аккомпанемент «брутальной» музыки, французские рыцари упрямо шли вперед. В полном беспорядке они — кто на коне, кто пешком — продвигались под градом стрел, который, по свидетельству хрониста Фруассара, был таким плотным, что затмевал вечернее солнце.
Эдуард и его армия, видимо, находились в недоумении, не понимая, что происходит. Жители Кана хотя бы забрасывали их камнями и черепицей. А эти рыцари, «цвет Франции», просто выстроились в очередь на бойню.
Черный принц и белые перья
Одна из самых известных историй, рожденных во время той битвы, рассказывает о слепом рыцаре, который настоял на том, чтобы умереть в бою. Король Богемии Иоанн, союзник Филиппа, лишился зрения из-за глазной инфекции, которую подхватил, сражаясь в Литве, но никак не хотел пропустить такое волнующее событие, как битва при Креси. Он приказал своим людям привязать поводья его коня к поводьям коней оруженосцев и тащить его в направлении английских рядов. Остается только гадать, что он намеревался сделать, поднявшись на холм — возможно, попросить лучников подать голос и предоставить ему шанс выстрелить в них. Как бы то ни было, отряду Иоанна каким-то образом удалось добраться до вершины холма, где их всех и порешили английские воины.
Французы раз десять атаковали холм, но даже их соотечественник, хронист Фруассар, отмечает полное отсутствие у них дисциплины. Только с наступлением темноты Филипп наконец признал поражение и, заметив рану — по одним источникам, его ранили в шею, по другим — в бедро (собственно, слова cou (шея) и cuisse (бедро) отчасти созвучны), — поскакал в ближайший замок, где крикнул сторожу, чтобы тот открыл ворота «несчастному королю Франции». Хотите — верьте, хотите — нет, но это была шутка, поскольку до той поры он был известен как Филипп Счастливый. Судя по всему, Филиппу, как и его придворному шуту шестью годами ранее, не удалось никого рассмешить.
И лишь на следующее утро англичане смогли оценить масштаб своей победы. Изможденные после боя, они так и уснули, сохраняя боевые порядки, а когда проснулись, увидели, что долина затянута густым туманом. Ночь вряд ли была тихой — раненые воины и лошади наверняка громко стонали, — но даже Эдуард испытал потрясение, когда его скауты принесли известие о том, что поле завалено грудами мертвых французов (поверх генуэзцев).
Эдуард тотчас отправил дополнительные силы для идентификации убитых. Это был молчаливый приказ добить тех, кто недостаточно богат, чтобы требовать за него выкуп, или слишком тяжело ранен, чтобы брать его в плен. Для этого использовали «мизерикорды», кинжалы милосердия, узкие и длинные лезвия которых можно было просунуть между пластинами доспехов в незащищенные подмышечные впадины или в щели для глаз, чтобы проткнуть сердце рыцаря или мозг.
Черный принц отправился оценить кровавый результат своей первой битвы, и ему показали слепого короля Иоанна в связке с телами его оруженосцев. Принц был так тронут, что украл (или, возможно, правильнее сказать, позаимствовал) плюмаж Иоанна из трех белых перьев и его девиз: Ich dien — «Я служу…» [37]
Закончив пересчет убитых, англичане подвели итог: 1542 французских аристократа и около 10 000 представителей других сословий.
Вот эти десять тысяч не слишком-то печалили Францию, но в списке убитых аристократов оказалось много знатных рыцарей — всякие там Генрихи, Людовики, Карлы, — которые составляли цвет цвета нации. И больше всего французов шокировало то, что почти все они пали от стрел лучников или бойцов с ножами — тех, кого один из хронистов без всякого смущения называет gent de nulle valeur — ничтожествами. Это как если бы французская сборная по футболу проиграла пятерке пьяных английских хулиганов. Как и следовало ожидать, во всем дружно винили тренера команды, Филиппа VI. Но его кошмарный игровой сезон только начинался.
Передышка на бургеры
«Бургеры из Кале» [38], каков бы ни был смысл этого названия, не значатся в ресторанном меню парома через Ла-Манш. После битвы при Креси они — герои Франции. Однако, как и в случае со многими другими героями, включая появившуюся вскоре Жанну д’Арк, существует французская версия событий и версия правдивая.
По французской версии, в 1347 году шесть жителей Кале спасли свой город от англичан. Правда же заключается в том, что они его сдали.
Французы стараются уверить нас в том, что бюргеры предложили себя Эдуарду III в качестве жертв в обмен на обещание, что город оставят в покое. При этом никто не обмолвился о том, что те самые бюргеры, представители богатого сословия города Кале, уже успели пожертвовать сотнями городских бедняков ради собственного спасения.
Рискуя вызвать недовольство французских читателей, позволю себе обратиться к фактам.
После Креси Эдуард III решил не закреплять свой успех маршем на Париж. Ему не хватало людей даже для полноценной оккупации Северо-Восточной Франции. Поэтому он направился к побережью и, через неделю после битвы, достиг ближайшего порта, Кале. Он взял город в осаду и даже построил большой крытый лагерь, который постепенно превратился в настоящий город, с рынком, где местные могли продавать продукты, еще не разграбленные англичанами. К весне 1347 года в лагере у стен Кале находилось около 30 000 человек, и даже были отстроены фортификационные сооружения по внешнему периметру на случай, если Филиппу VI удастся собрать войско и повести его на спасение города.
Английский флот стоял на якоре в прибрежной зоне, преграждая путь поставкам продуктов с моря, и к июню жители Кале уже вовсю голодали. В отчаянии главы общины, в числе коих были известные бюргеры, приняли решение изгнать пятьсот горожан, которых сочли балластом. В основном это были старики и дети, и, разумеется, самые бедные горожане. В осажденном городе вся имеющаяся еда распределяется правящей верхушкой, и прежде всего достается тем, кто может за нее заплатить, так что неимущим приходится труднее всего.
Прежде король Эдуард был снисходителен и даже разрешал мирным жителям покидать город, чтобы избежать голодной смерти, но теперь, после девяти месяцев осады, его позиция ужесточилась, и он отказался выпустить пять сотен бедняков, требуя полной капитуляции города. Горожане не впустили этих несчастных обратно, и они остались умирать голодной смертью под городскими стенами, с высоты которых на них наверняка взирали шесть бюргеров, жующих отварную собачатину.
В июле король Франции Филипп VI наконец решил, что неплохо было бы освободить свой стратегический порт, поэтому привел армию, остановился в миле от английских укреплений и бросил вызов Эдуарду. Однако Эдуард сознавал, что находится в куда более выигрышном положении и что город долго не продержится. Поэтому просто позволил Филиппу атаковать.
Верный себе, Филипп приказал своим людям отступить и, говорят, даже заткнул уши, чтобы не слышать криков горожан, которых он бросил на произвол судьбы. Воины городского гарнизона сняли с флагштока французский флаг — с личным гербом Филиппа — и в знак презрения сбросили его с крепостной стены.
На следующий же день командующий гарнизоном Кале, рыцарь Жан де Вьен, подал сигнал, что готов сдаться. Эдуард согласился, но предупредил, что пленные будут освобождены за выкуп или убиты — как это принято на войне. Короче говоря, богатые останутся в живых, а бедных ждет смерть. В конце концов английский рыцарь, сэр Уолтер Мауни, убедил Эдуарда принять в жертву жизнь всего шести бюргеров.
Один из старейших и богатейших горожан, Эсташ де Сен- Пьер, первым предложил себя, и его примеру последовали еще пятеро добровольцев. Подчиняясь приказу короля Эдуарда, они сняли с себя дорогие одежды и вышли из города лишь в рубашке и коротких штанах (читай, в исподнем) и с петлей на шее. Именно так представил их в своей известной групповой скульптуре Огюст Роден, скульптор XIX века, — истощенными, затравленными жертвами, не побоявшимися выйти навстречу собственной смерти. Верно то, что, наслышанные о шевоше Эдуарда, бюргеры не рассчитывали умирать, они надеялись, что их ценность как богатых заложников гарантирует им жизнь.
В большинстве версий этой истории рассказывается, что Филиппа, беременная жена Эдуарда, умоляла мужа не убивать бюргеров, дабы не навлечь несчастья на их еще не родившегося ребенка. Говорят также, что сэр Уолтер Мауни предупреждал короля о том, что хладнокровная казнь богатых пленников, которых в иных обстоятельствах оставили бы в живых, создаст плохой прецедент и в будущем обернется для англичан множеством смертей.
Как бы то ни было, Эдуард не привел в действие свою угрозу. Он изгнал из города всех богатых граждан и отдал их дома и должности англичанам, которых вызвал с английского берега Ла-Манша. Все это лишний раз доказывает, что, как бы ни старались французы представить бюргеров Кале героями патриотами, правда заключается в том, что они были причастны к катастрофическому поражению и стали символами самопожертвования после того, как попытались спасти самих себя, бросив бедняков умирать в осажденном городе.
Роден, похоже, кое-что угадал. Когда в 1884 году городской совет Кале заказал ему скульптурную композицию, он нарушил традицию и, вместо того чтобы изобразить бюргеров в героической позе, показал их поверженными. Он настаивал и на том, чтобы его скульптура стояла на земле, а не на подиуме. Нет нужды говорить о том, что Кале проигнорировал его требование, и скульптуру водрузили перед ратушей на богато украшенный каменный пьедестал.
Англичане, впрочем, торжествовали. В 1911 году британское правительство купило один из двенадцати слепков роденовской скульптуры и установило его прямо у здания парламента, в саду перед башней Виктории. И по сей день любой британский парламентарий, выходя в парк подышать свежим воздухом, имеет шанс столкнуться лицом к лицу с символом французского малодушия и покорности.
«Черная смерть» — не так уж плохо для Англии (в конечном итоге)
И, словно Филиппу было мало напастей, в 1348 году во Францию пожаловала чума, «Черная смерть».
Эта азиатская болезнь пришла в страну из Италии и распространилась к северу. В ней видели еще один знак того, что Бог отвернулся от Франции. Смертность в Авиньоне была столь высока, что Папа (который обосновался здесь, а не в Риме) освятил реку Рону, чтобы в нее могли сбрасывать трупы, и разрешил умирающим исповедоваться мирянам и «даже женщине». Вот уж поистине чрезвычайные меры.
В попытке остановить распространение чумы король Филипп ввел суровые наказания за богохульство. За первое прегрешение отрезали губу, повторный проступок карался отсечением второй губы, а потом и языка. Между тем жители Страсбурга обвинили во всем иудеев и вырезали целую общину — две тысячи человек. Разумеется, это не помогло справиться с болезнью, и в течение года чума свирепствовала по всей Франции.
Вполне естественно, что англичане довольно ухмылялись тому, что Бог покарал их врагов — но радость длилась до тех пор, разумеется, пока эпидемия не перекинулась на другой берег Ла-Манша.
Численность населения в четырнадцатом веке определялась весьма условно, но полагают, что за три года умер каждый третий житель Западной Европы. Больше всего пострадали плотно заселенные крупные города, в одном только Лондоне с его 70 000 жителями умерла половина населения. Примерно в таком же по размерам Париже уровень смертности составил 50 000 жителей или около того.
Хроники того времени по обе стороны Ла-Манша повествуют о заброшенных деревнях, притихших городах и (что повергло бы в ужас современных бриттов) резком падении цен на недвижимость — не было никакого смысла покупать что-либо, потому что выжившие просто могли заселяться в покинутые дома. Некогда особо ценные объекты, такие как ветряные мельницы, теперь никем не использовались, поскольку нечего было молоть, да и городские обитатели не стремились превращать их в летние домики для уик-эндов.
В общем, это была катастрофа для всего человечества, и страданий хватило всем. Разве что, по странному капризу судьбу «Черная смерть» пошла на пользу Англии в ее противостоянии с французами. Или, точнее сказать, на пользу английскому языку, поскольку эпидемия вынесла (черный) смертный приговор нормандскому языку в Англии.
И тому было несколько причин. Прежде всего, с резким снижением численности населения феодальная система Англии рухнула. Целые деревни остались без лордов, лорды лишились сервов, и это означало, что уцелевшие после эпидемии работники были нарасхват, так что вполне могли найти себе работу где угодно, причем как вольные труженики. Парламент попытался было ввести ограничение предела заработной платы и запретить освобождение сервов, но это привело лишь к открытому бунту. Воздвигнутый англонормандской знатью стеклянный потолок богатства, власти и привилегий еще не был разбит вдребезги, но уже пошел глубокими трещинами, по мере того как угнетенные низшие слои англосаксов расправляли плечи, все активнее проявляя себя как настоящий средний класс. Перемещаясь по стране, они распространяли свой язык — искаженную смесь англосаксонского и нормандского, — который сегодня мы называем английским.
Этот лингвистический тренд усилился также тем, что англонормандские монахи, которые прежде жили как хозяева поместий в своих монастырях, во время чумы массово вымерли — ведь это к ним шли больные в надежде на исцеление или, по крайней мере, на соборование перед смертью. Теперь этих монахов, говорящих на нормандском языке и латыни, заменили англоговорящие собратья, которые были куда скромнее своих предшественников и к тому же не брезговали просветительской миссией, обучая простой люд читать и писать… по-английски.
Вот почему период после нашествия «Черной смерти» ознаменован полным и окончательным триумфом английского языка в Англии. В 1362 году при открытии парламентской сессии впервые прозвучала речь на английском. В том же году вышел закон, обязывающий проводить судебные слушания на английском, поскольку большинство населения уже не понимало нормандско-французский диалект. Это уж парламентарии загнули, конечно, но такие проанглийские преувеличения явно были в моде. Как сообщают хроники, два английских дипломата того времени отказались говорить по-французски на том основании, что этот язык для них «такой же малопонятный, как иврит»…
Английский, со своими англосаксонскими корнями и гибридной англосаксонско-нормандской грамматикой, прораставший, словно плесень, под подошвами англонормандской знати, наконец-то обрел статус и уважение, перестав быть грубым диалектом, на котором переругивались крестьяне. В 1385 году ученый Джон Тревиза писал: «in alle the gramere scoles of Engelond, children leveth Frensche and lerneth in Englische»[39]. Обратите внимание, насколько его орфография сходна с правописанием современных английских школьников.) Он пошел еще дальше, заявив, что английские дети знают французский так же, как «их левая пятка». (То же самое можно сказать о современных детях.)
Как нам уже известно, король Эдуард III знал английский язык, и всех приятно удивляло то, как свободно он им владел. Особенно ему удавалось сквернословие, ведь он с самого начала обнаружил, что английский язык гораздо лучше, чем французский, подходит для ругательств. Прибавляя англосаксонский «офф», англичанин может с легкостью превратить любое агрессивное или резкое слово в оскорбление, так же как и поиграть (грубоватыми) англосаксонскими и (искаженными) нормандско-французскими словечками. Французский язык слишком привязан к латыни и излишне щепетилен в грамматике, чтобы позволить себе такие вольности.
Эдуард, может, и был силен в английском, но он все-таки учил его как второй язык, а первым освоил французский — тот самый язык, на котором говорил его заклятый враг король Филипп. К тому же изъясняться на французском языке в суде все еще считалось шиком, как это продемонстрировал Эдуард в знаменитом эпизоде, связанном с «оброненной подвязкой» 1348 года.
На балу в Виндзоре, танцуя с королем Эдуардом, графиня Солсбери уронила подвязку. Король поднял ее и повязал на собственную ногу, а когда заметил удивленные взгляды придворных, не задумываясь, произнес по-французски: Honi soit qui mal y pense, что в грубом переводе звучит примерно так: «Позор тому, кто думает, будто я сделал это с намеком на секс» [40]. Эту фразу приняли в качестве девиза его нового Ордена Подвязки, и теперь она красуется на британском монаршем гербе поверх девиза Dieu et mon droit.[41].
Однако до времени произнесения Генрихом V пламенной речи перед битвой при Азенкуре, случившейся всего лишь шестьюдесятью семью годами позже, английский оставался первым языком короля, и никаких переводов его высказываниям не требовалось.
Короче говоря, крохотные блохи, занесшие в Европу «Черную смерть», одновременно освободили Англию из тисков иностранного языка как государственного. Весьма символично, поскольку flea («блоха») — англосаксонское слово.
Генрих V — это не только прикольная стрижка
Война шла ни шатко ни валко, когда в 1377 году в почтенном возрасте скончался Эдуард III, и стороны продолжали ее лишь потому, что многие англичане стремились попасть на континентальный берег Ла-Манша и сколотить себе состояние.
Да и Франция созрела для того, чтобы ее вновь пощипали. Французский король, Карл VI, был законченным лунатиком. По ночам он бегал вокруг замка, завывая волком, и был убежден в том, что сделан из стекла, а люди хотят его разбить. Однажды в приступе безумия он убил четверых своих придворных.
Слабость верхушки расколола Францию на два воюющих за власть семейства — бургундцев, возглавляемых кузеном Карла V, Жаном Бургундским, и арманьяков под предводительством Людовика, брата Карла. Вскоре обе эти команды творили такие злодеяния, что даже превзошли все шевоше англичан. Арманьяки породили новый террор, который впору было называть «экорше» (в буквальном смысле «освежеванный»), и насаждали его на родных просторах недобрых тридцать лет.
Кто реально выиграл от этой долголетней внутренней борьбы, так это Англия, которая услужливо продавала свою поддержку то одной фракции, то другой, сначала обещая вмешаться в конфликт, но потом перепродавая свою верность другой стороне, если та предлагала больше денег и территорий. И самую крупную выгоду от этого противостояния получал новый английский король, Генрих V, в 1414 году заключивший договор с Арманьяками, даровавший ему провинции Пуату, Ангулем и Перигор на юго-западе Франции, тем самым хотя бы частично восстанавливая былые позиции Англии в этой части мира.
Генриха V, которому шел всего двадцать шестой год, когда он взошел на престол, окружали весьма конкурентоспособные родственники мужского пола, и ему просто необходимо было доказать, что он сильный монарх. Прирожденный воин, он даже носил военную стрижку «под горшок», в отличие от своих недавних предшественников, предпочитавших пышные королевские локоны. Говорят, он был высок и настолько силен, что в тяжелых доспехах передвигался так, будто надел всего лишь легкий плащ — и это неудивительно, если учесть то, что его с раннего возраста облачали в походную форму. В отрочестве, гоняясь за уэльсцами, он был ранен стрелой в лицо (уэльские лучники к тому времени не утратили своего мастерства) и на всю жизнь остался со шрамом — вот почему на всех его самых известных портретах он запечатлен в профиль.
К несчастью для французов, Генрих был фанатично религиозен и убежден в том, что Бог желает видеть его королем Франции. Ко всему прочему, он первый со времен Вильгельма Завоевателя английский монарх, который не только не имел гомосексуальных наклонностей, но и не содержал гарема любовниц — и это было еще одним дурным предзнаменованием для его врагов по ту сторону пролива.
Между тем французы продолжали напрашиваться на трепку. В 1414 году представители двух; воюющих сторон, бургундцев и арманьяков, прибыли в Англию просить у Генриха помощи. Генрих ответил требованием руки французской принцессы и, соответственно, французской короны. Встретив отказ, он заявил, что у него не остается иного выбора, кроме как готовиться к войне, забыв упомянуть о том, что вот уже год как пополняет армию рекрутами и заряжает пушки.
Он тщательно спланировал детали своего вторжения и, как союзные войска в 1944 году, решил пойти вглубь Франции через Нормандию, а не привычным маршрутом через Кале. В солнечное воскресенье августа 1415 года его флот из 1500 кораблей, на которых разместилось десятитысячное войско, лошади, скот и пушки, вышел из пролива Солент. Можно себе представить, какой это был красочный спектакль: рыцарские знамена развевались на ветру, а флагманский корабль Генриха, 540-тонный «Тринитэ Рояль» (непонятно только, почему он не дал ему английское название), дразнил провокационным королевским штандартом, похожим на тот, что придумал Эдуард III: английские львы соседствуют с французской лилией.
Солдаты с оптимизмом вглядывались в горизонт, тем более что корабль Генриха сопровождали лебеди — и это был добрый знак, поскольку его личный штандарт изображал, в геральдической терминологии, «лебедя с раскинутыми крылами».
Флот держал курс на Арфлёр в устье Сены. Генрих высадился там числа четырнадцатого августа и, по легенде (еще одна параллель с Вильгельмом Завоевателем), оступился и упал на колени. Как и Вильгельм, он не растерялся, принял позу молящегося человека, и хор на борту его корабля поддержал его песнопениями (не иначе чтобы заглушить причитания короля: «О, нет, только не это, мне песок набился в доспехи»).
Флот был настолько велик, что разгрузка кораблей заняла целых два дня [42]. Только когда на берег ступил последний солдат, Генрих сообщил своему войску плохую новость: шевоше не будет. Грабежи, убийства и изнасилования под запретом. Разочарованный стон англичан донесся до самого Парижа.
Генрих тотчас приступил к осаде Арфлёра, но, к своему крайнему неудовольствию, обнаружил, что нормандцы извлекли кое-какие уроки из прошлых рейдов Эдуарда III, которые не встречали никакого сопротивления. Нормандцы возвели укрепления вокруг города, и осада этого маленького порта затянулась, причем английская сторона несла ощутимые потери, и не только от пушечных ядер и стрел, но еще и от болезни.
Вода оказалась зараженной, и хронист Джон Кэпгрейв писал, что «много людей полегло после употребления в пищу фруктов». Видимо, французские сезонные фрукты оказались слишком большой экзотикой для привыкших к мясу и репе англичан, и они стали умирать от недуга, который один из современников образно назвал «кровавым поносом», то есть, скорее всего, от дизентерии.
Лишь 22 сентября Арфлёр наконец сдался, и англичане смогли войти и пленить богатых заложников. Генрих пощадил бедняков, с которых нечего было взять, и даже позволил некоторым остаться в городе, хотя все лучшие дома пожаловал англичанам.
Проблема Генриха состояла в том, что за месяц, проведенный в Нормандии, треть его армии полегла от болезни, многих солдат пришлось отправить на лечение домой, несколько сотен оставить для защиты Арфлёра. Он был вынужден отказаться от похода на Париж, как планировал, и вместо этого решил закрепить позиции англичан в Кале, куда рассчитывал добраться без осложнений, поскольку его предшественники проделали отличную работу по разорению тамошних земель и искоренению ростков всякого противодействия.
Однако на пути Генриха поджидали два серьезных препятствия: проливной дождь, который замедлил его продвижение к намеченной цели, и французский король Карл VI, пока еще номинальный хозяин своей страны. Беглецы из осажденного Арфлёра доложили Карлу, что английские силы вторжения заметно поредели, и тот быстро поднял свою армию, которая вышла из Парижа наперерез отступающим англичанам. Тем временем несколько отрядов французов успешно партизанили на маршруте следования войск Генриха, и бритты раз за разом с ужасом обнаруживали, что переправы через реки либо разрушены, либо блокированы. Им приходилось воевать за каждый мост и брод, и в конечном итоге они были вынуждены сделать семидесятикилометровый крюк вглубь страны, прежде чем смогли пересечь Сомму.
И вот, когда припасы и боевой дух поредевшей армии англичан истощились до предела, появилась огромная французская армия. Шекспир оценивает ее численность в 60 000 («три раза по два десятка тысяч») солдат, хотя он явно преувеличил, чтобы приукрасить успех Генриха; французов было, скорее всего, тысяч двадцать или тридцать, не больше. Тем не менее войско Карла в четыре раза превосходило по численности изнуренных вояк Генриха.
Французские гонцы прибыли к Генриху с сообщением — совершенно никчемным — о том, что французский король Карл VI намеревается дать ему бой и «отомстить за его поведение». Но, вместо того чтобы привести в свое оправдание недавнее помилование простых смертных Арфлёра (конечно, это не аргумент для высокомерной французской знати), Генрих, в свойственной ему манере, ответил: «Пусть все будет так, как угодно Богу».
В ту ночь его люди разбили лагерь в залитом дождем поле — возможно, даже не догадываясь о том, что такие мокрые поля уже приносили англичанам удачу в соседнем Креси полувеком раньше. Со своих неуютных позиций они оглядывали простиравшийся до самого горизонта бивак французов, горящие костры. Ароматы искусно зажаренных на огне французских колбас не давали покоя бедным англичанам, измученным сырым хлебом, гнилыми фруктами и дизентерийными палочками. В глубине души Генрих и его солдаты настроились умирать.
Азенкур, затерянный во мгле веков — и на карте мира
Впервые оказавшись в Азенкуре, я не мог сдержать горькой ухмылки от попыток французов уничтожить память об их втором [43] знаменитом военном поражении. Это бросалось в глаза еще явственнее, чем в Креси. Там хотя бы действовало некое подобие музея, пусть даже втиснутое в пространство двух маленьких классов старой школы. Здесь, в Азенкуре, не было вообще ничего.
Впрочем, ничего удивительного, потому что на самом деле я попал совсем не по адресу. Дело в том, что я остановился в деревне Аженкур по дороге в Нанси на востоке Франции. А сражение, как все мы знаем из одноименного романа Бернарда Корнуэлла [44], состоялось при Азенкуре (с буквой «з»), почти в пятистах километрах в сторону, неподалеку от Кале.
И это, пожалуй, больше всего раздражает французов. Мало того что мы неправильно произносим названия мест, близ которых произошли сражения (Креси, Ватерлоо), так Азенкуру (Agincourt) досталось еще и с точки зрения орфографии.
Но Генрих, вступая в битву, вообще не знал, где находится, и поинтересовался названием местечка только после победы. (И это вполне понятно, ведь в случае поражения он был бы мертв или постарался бы поскорее забыть этот позор.) Кто-то из его людей знал название ближайшего замка — Азенкур, — и, поскольку вокруг не было ни одного дорожного указателя, в хрониках записали его с ошибкой: Аженкур. Строго говоря, сражение не стоило бы называть так, потому что на самом деле армия Генриха дислоцировалась у ближайшей деревушки Мезонсель. Но и это не имеет значения, англичане все равно исковеркали бы и это название, придумав что-нибудь вроде Мезонетт или Манчестера.
Музей в деревне Азенкур не сравнить со скромной переоборудованной школой в Креси. Это внушительное современное здание из стекла и бруса, а его изогнутую крышу поддерживают балки в форме английского длинного лука. Внутри посетителям раздают аудиогиды с сенсорами, которые активируют наушники, как только вы проходите перед интерактивными экранами. Возникает ощущение, будто идешь и слушаешь голоса мертвых. И то, что они рассказывают, удивительным образом напоминает истории из Креси: это все тот же перечень французских оправданий.
«Говорящие головы» (в буквальном смысле, поскольку вещают манекены с телевизорами на плечах) поведают вам, что французские рыцари провели в седле целую ночь, что шел дождь и лошади утопали в грязи, а ряды пехоты были такими плотными, что воины даже не могли вскинуть на плечо оружие. Вам предложат сунуть голову в шлем, чтобы вы могли убедиться в том, какое небольшое пространство могли охватить взором марширующие в строю французские солдаты. Вы даже сможете поднять меч и булаву, прочувствовав их тяжесть. И фоном прозвучит монолог из Шекспира, в котором отважный Генрих призывает своих людей идти в бой за Англию и святого Криспина, а читает его мрачный, похожий на жабу актер, с таким выражением лица, будто он вот-вот умрет от горя [45].
Вопрос в другом: как удалось французам превратить верную победу в национальную катастрофу? «Цвет Франции», который уже успел прорасти со времен Креси, став самым что ни на есть пышным, и французские рыцари были настолько уверены в победе, что их заботило лишь то, хватит ли на каждого англичан для расправы. Никто не сомневался в том, что эта битва станет легкой победой для Франции.
Уже смирившийся с неминуемым поражением, Генрих освободил всех заложников и отправил их обратно во Францию с тем, чтобы они передали его последнюю просьбу обеспечить ему свободный проход в Кале в обмен на возвращение Арфлёра. Он даже предложил возместить весь ущерб, который его люди нанесли Франции. Нет нужды говорить о том, что французы ответили отказом.
В пьесе Шекспира «Генрих V» король под видом рядового воина бродит по своему лагерю, шутит с солдатами, приветствует их, как говорит автор, «со скромною улыбкой». На самом деле в ту ночь король запретил всякий шум в лагере — возможно, во избежание пораженческих разговоров — и даже пригрозил отрезать уши всем, кому захочется поболтать. Исключение он сделал лишь для тех, кто желал исповедаться капелланам.
На следующее утро капелланы Генриха трижды отслужили мессу (береженого Бог бережет), и англичане заняли позиции, выстроившись примерно в том же боевом порядке, что и при Креси: тяжеловооруженная пехота по центру и два фланга лучников. У Шекспира Генрих произносит перед сражением речь, в которую вошли знаменитые слова об его маленькой армии — «…о горсточке счастливцев, братьев». Король также говорит: «И проклянут свою судьбу дворяне, что в этот день не с нами, а в кровати». Впрочем, на самом деле Генрих напомнил своим людям о том, что находится во Франции с целью истребовать свое законное наследство (имея в виду, что в этом споре на стороне англичан сам Господь), и, как утверждает хронист Жан ле Февр, призвал своих лучников стоять насмерть, предупредив их о том, что французы грозились отрубить пальцы каждому пойманному стрелку. Сомнительно, что лучники поверили в это, поскольку все знали о том, что незнатных пленных в любом случае убивали, не задумываясь, но, вполне возможно, слова короля вдохновили и раззадорили лучников, которые стали показывать французским рыцарям неприличные жесты и грозить пальцами, подстрекая врага к атаке. Генрих наверняка в душе молился о том, чтобы французы совершили ту же ошибку, что в Креси, и начали штурмовать превратившийся в гору грязи холм. Но те извлекли кое-какие уроки из истории и спокойно выжидали, надеясь, что обреченные англичане спустятся со своих высот и получат свое.
Но именно эта игра в ожидание и обернулась роковой ошибкой.
«Цвет Франции» затоптан в грязи
Часам к девяти утра 25 октября 1415 года, в день святого Криспина, Генрих, уже уставший от безделья, приказал своим лучникам начинать. И они на глазах у французов медленно спустились с холма, по грязи, с тяжелыми луками со стрелами и длинными деревянными кольями, остановившись всего в 250 метрах от врага.
Тут бы французам атаковать — лучшего момента и не придумаешь, так как лучники не имели ни лат, ни щитов, а громоздкие колья лишь стесняли их движения. Защищали этих ребят лишь шлемы из вареной кожи. Как отмечает один из очевидцев, французский солдат по имени Женан де Ваврен, англичане «даже останавливались несколько раз, чтобы перевести дух». Однако — возможно, из-за фиаско в Креси — французы держали своих арбалетчиков в арьергарде и потому упустили шанс обстрелять англичан. Более того, многие французские рыцари, заранее уверенные в победе, которую запланировали на вторую половину дня, отправились покататься верхом.
Заняв позицию для стрельбы, английские лучники соорудили так называемую рогатку из выставленных под углом кольев, после чего обрушили на передний фланг французских рыцарей шквал стрел, точно так же, как в Креси. Конница, по указанной выше причине, не досчитывалась многих рыцарей, но те, что были в строю, оказались перед выбором: ждать, пока стрела угодит в лошадь или пробьет шлем, или идти в атаку. И они пошли в атаку.
Невероятно, но с этой минуты сражение пошло чуть ли не по сценарию Креси. Французская кавалерия ринулась вперед, но была скошена градом стрел или попросту натыкалась на заграждение из кольев. Покалеченные лошади сбрасывали всадников, и те барахтались, беспомощные, в грязи, придавленные тяжестью собственных доспехов. Жить упавшим оставалось недолго, потому что теперь по их телам бежали в атаку пешие воины, а английские лучники все продолжали обстрел.
Почва в Азенкуре тяжелая и липкая. Я прошел всего несколько шагов по полю в легких туфлях, и они тотчас отяжелели вдвое. А если к этим оковам на ногах добавить железные доспехи, можно себе представить, каково пришлось французским тяжеловооруженным воинам: они двигались так, словно пробирались по зыбучим пескам. Мешало их мобильности еще и то, что они двигались очень тесным строем. Заметив это, с холма спустились новые отряды английских лучников и начали расстреливать французскую колонну с флангов.
К тому времени как французские тяжеловооруженные воины подошли к боевым позициям армии Генриха, они совершенно выбились из сил и почти ничего не видели: из-за постоянного обстрела им приходилось идти с опущенным забралом и смотреть на происходящее сквозь узкие щели.
Кому-то удалось прорваться сквозь линию обороны англичан по центру, но Генрих приказал лучникам закончить стрельбу и идти врукопашную. Теперь плотная колонна французов столкнулась с мобильными бойцами, которые могли свободно передвигаться, деревянными дубинками нанося смертельные удары по подмышкам и бедрам или просто сбивая с ног неповоротливых, закованных в железо солдат.
Вскоре, точно так же, как в Креси, поле было усеяно мертвыми или покалеченными французами, которые лежали, распластавшись на спине, похожие на раненых черепах. И как всегда, аристократов оттащили, чтобы взять в заложники, а незнатных добили ударом мизерикорды в глаз, сердце или горло.
Главным вельможам пришлось хуже всех. Командир отряда, герцог Алансонский, схватился с самим Генрихом, который в этом бою потерял венец со своего шлема. Но герцога быстро окружили, и он снял с головы шлем и протянул перчатку в знак признания поражения, как это принято у рыцарей. К несчастью для него, какой-то англичанин увидел в нем легкую добычу и проломил голову герцога топором.
Герцог Брабантский, который опоздал, но не хотел пропустить сражение, не стал тратить время на то, чтобы облачаться в доспехи. Он бросился в атаку в одеждах герольда, его ранили, он попытался сдаться, и его просто убили, приняв за обыкновенного герольда.
Впрочем, не факт, что плен стал бы для герцога спасением. Когда речь заходит об Азенкуре (или Аженкуре), французов как раз шокирует не столько трагедия доблестных рыцарей, которые трижды поднимались в атаку и, утопая в грязи, упорно шли навстречу смерти, в точности повторяя ошибки Креси, сколько судьба пленных.
Данные о количестве взятых в плен французах в течение первых двух часов битвы разнятся, но французские источники говорят о 1500 человек. Сдавшись, они уже не могли вернуться на поле боя, так что, вероятно, очень надеялись на то, что отправятся домой, как только их родственники соберут с местного крестьянства достаточно налогов, чтобы заплатить за них выкуп.
Однако хозяин соседнего замка, некий Исамбар Азенкур, заслышав шум на дороге, вышел с толпой из шестисот местных жителей, чтобы отбить неохраняемые повозки англичан с награбленным в Арфлёре добром. Заметив эту атаку и опасаясь, что французские заложники, если их освободить, снова вступят в схватку, Генрих приказал каждому казнить своего пленника.
Этот приказ не встретил энтузиазма у солдат, которые завладели столь ценным трофеем и мысленно уже подсчитывали барыши, поэтому Генриху пришлось отрядить на выполнение этой задачи двести своих самых кровожадных и нечистоплотных лучников. Вскоре безоружные, а многие к тому же и связанные, французские джентльмены были зверски убиты — заколоты ножами или заживо сожжены.
Даже сегодня в каждом французском источнике, повествующем о той битве, угадывается ярость и возмущение этой кровавой расправой, хотя кто-то может и возразить: мол, у самих рыльце в пушку. Разве не эта страна с упоением гильотинировала своих аристократов в конце восемнадцатого века? Да, убийство пленных было дикостью со стороны короля, который мнил себя благородным рыцарем, и противоречило всем правилам ведения войны в пятнадцатом веке, но оно было совершено в тот момент, когда исход битвы был еще не до конца ясен. Хотя все определенно складывалось в пользу Генриха, в округе было достаточно много французских солдат, которые могли бы напасть на англичан с тыла или флангов и одержать победу. Или, что более разумно, дождаться, пока армия Генриха тронется в путь — а это было неизбежно, поскольку запасы провианта иссякали, — и пощипать ее по дороге в Кале.
Но французские хронисты говорят, что выживших в той битве «тошнило от кровавого месива» (а кто-то скажет, что их, лежавших в грязи, попросту воротило от ожидания, когда их прикончат ударом копья), и уцелевшие рыцари решили не атаковать противника. Многие развернулись и отправились восвояси — один из них, Жан, герцог Бретани, по пути домой вместе со своим бретонским отрядом устроил весьма непатриотичное шевоше по Северной Франции.
Войска Генриха переночевали в Мезонселе, а утром вернулись на поле битвы «прибраться». Как всегда, мертвых освободили от ценного оружия и украшений, раненых же опрашивали на предмет того, значатся ли они в справочнике «Кто есть кто», и, если нет, присоединяли к списку убитых.
В целом французы потеряли около десяти тысяч, включая — опять — «цвет Франции» (кажется, у них было несколько букетов этих аристократических растений). Достаточно сравнить с английскими потерями: около трехсот человек, и среди них с десяток знатных имен.
Генрих и его измотанное войско с трудом преодолели восемьдесят километров до Кале, где многим солдатам удалось спустить все свои трофеи, заплатив грабительские цену за еду и питье. Генрих затребовал себе самых ценных пленников и погрузил их на корабли, чтобы везти в Англию.
Несмотря на бушующий шторм, все корабли благополучно добрались до английского берега, и уверенность Генриха в том, что Бог все-таки на его стороне, была сильна, как никогда. А как еще король мог объяснить полную, безоговорочную победу над элитной французской армией, одержанную потрепанной бандой английских простолюдинов, измученных дизентерией?
Чего не мог знать Генрих, так это что вскоре Англии предстоит схлестнуться с таким же, из низов, да еще фанатично верующим французским противником, который повернет вспять ход истории…
Глава 4 Жанна д’Арк как жертва французской пропаганды
Публичное сожжение французской святой, или Что на самом деле произошло в 1431 году
«Что касается леди Жанны, которую называют Девственницей, сегодня в Руане была прочитана проповедь, в то время как она стояла на эшафоте, чтобы все видели, что она в мужском платье, и были перечислены все беды и несчастья, которые она принесла христианскому миру… и упомянуты страшные грехи, которые она совершила или собиралась совершить, призывая простых людей к идолопоклонству, и они, обманутые, шли за ней как за святой девой…»
Кто-то скажет: типично тенденциозный, антифранцузский взгляд на Жанну д’Арк, также известную как Орлеанская ведьма.
Но на самом деле это перевод с французского статьи из парижской газеты «Журналь де Буржуа», хроники городских новостей и событий, издававшейся в период с 1405 по 1449 год. Причем анонимного автора, который явно не симпатизировал Жанне, нельзя назвать и проанглийским коллаборационистом. Чуть дальше, в этой же статье, он пишет, что его шокируют англичане, которые «сжигают тех, за кого нельзя получить выкуп, насилуют монахинь и едят мясо по пятницам», и язвительно замечает, что «англичане по природе своей драчуны, так и норовят повоевать с соседями, а потому всегда плохо кончают».
Современная Франция, безусловно, относится к Жанне д’Арк совсем по-другому. Ей в заслугу ставят победу в Столетней войне, «изгнание англичан из Франции», и воздают ей почести как героине: французский флот начала двадцатого века имел в своем составе боевой броненосный крейсер «Жанна д’Арк», а во время Второй мировой войны лотарингский крест (Лотарингия — родина Жанны) стал символом французского Сопротивления. Ее статус иконы был настолько силен, что вдохновил братьев Люмьер на создание в 1899 году фильма о Жанне — одного из самых первых фильмов в истории кинематографа. (Хотя можно себе представить, как тяжело было снимать немое кино о девушке, которая слышит голоса.)
Но, прежде всего, Жанну рассматривают как мученицу, жертву les Anglais (англичан), святую, которую в 1431 году жестокие английские захватчики сожгли на костре в Руане. В годы Второй мировой войны эту идею активно эксплуатировала пропаганда профашистского правительства Виши, и, когда союзники бомбили стратегические нацистские объекты в Нормандии, на улицах Руана появились плакаты с надписью: «Они всегда возвращаются на место своих преступлений».
Но, как это часто случается в подобных ситуациях, французы представляют совершенно искаженный взгляд на историю, когда речь заходит о Жанне. Если вам в руки попадутся современные французские источники с не столь романтическими оценками этой девушки, вы узнаете, что Жанне не только не удалось выбить англичан из Франции (в самом деле, как она могла это сделать, если к тому моменту уже была сожжена ими в Руане?) — к концу ее жизни в ней видели вредителя ее же собственный король и его военачальники. И, помимо всего прочего, она вовсе не была жертвой английской тирании — фактически, ее предали и обрекли на смерть именно французы.
Так, выходит, Жанна д’Арк жертва? Да, французской пропаганды.
Жанна не была, как принято считать у французов, бедной пастушкой. Она родилась примерно в 1412 году в относительно благополучной крестьянской семье. Ее отец, Жак, владел участком земли площадью примерно двадцать гектаров и слыл уважаемым членом общины деревеньки Домреми в Северо-Восточной Франции, на границе Лотарингии и Шампани. Д’Арки делали щедрые пожертвования в пользу бедных, так что их вполне можно назвать зажиточным семейством.
Однако Жанна являла собой крайне редкий тип девушки: простолюдинка, мечтавшая спасти свою страну. И к тому времени, как в ее голове зазвучали первые патриотические голоса — году эдак в 1425-м, — Франция отчаянно нуждалась в герое освободителе.
После Азенкура король Англии Генрих V, многому научившийся у своих лучников, нанес смертельный удар по французам, пока они не успели оправиться от поражения. Он колонизировал Нормандию — повторив то же, что сделал Вильгельм Завоеватель с Англией, — высосал из нее не только деньги, но и все, чем она была богата. Ему удалось хитростью навязать безумному Карлу VI, королю Франции, унизительный договор, который лишал сына Карла, дофина [46], права на французский престол и гарантировал, что после смерти Карла трон перейдет к Генриху V и его наследникам. Чтобы скрепить эту сделку, Генрих женился на дочери Карла, Екатерине, и в медовый месяц воинственный английский король повез свою невесту на осаду одного из городов.
В ту пору Генрих усиленно разжигал пламя гражданской войны во Франции, объединившись с герцогом Бургундским против арманьяков (сторонников обездоленного дофина). Вскоре англо-бургундские армии уже оккупировали Париж и активно промышляли грабежами и брали в осаду города по всей Франции к северу от Луары. Генрих V лично принимал участие в сражениях и во время осады города Mo, к северо-востоку от Парижа, подхватил дизентерию и умер в 1422 году, прожив всего тридцать пять лет. Сын Генриха, как и положено, стал королем Англии и Франции под именем Генрих VI и продолжил семейную традицию — стал грабить и осаждать французские города.
Примерно тогда же англо-бургундцы разоряли Домреми, родную деревню семьи д’Арк. Угнали весь скот, сожгли церковь, и семье Жанны пришлось бежать в соседний город Нёфшато, чтобы не погибнуть от рук мародеров. И именно во время этого вынужденного переезда, в 1425 году, тринадцатилетняя Жанна впервые услышала голоса, которые призывали ее освободить Францию и посадить на трон дофина.
Три года Жанна слушала голоса и наконец ушла из дому вместе с одним из своих братьев, чтобы исполнить священную миссию. Однако своим родителям эта типичная Шестнадцатилетняя девушка объяснила, что едет повидаться с кузиной, которая была на сносях.
Впрочем, себя Жанна не обманывала: она знала, что делает. Воспитанная глубоко религиозной матерью, которая не раз совершала паломничества к святым местам, Жанна, должно быть, искренне верила в то, что голоса идут от Бога, а не собственный разум подсказывает ей, что хватит терпеть англобургундских мародеров.
Жанна отправилась прямиком к местному капитану (должность наподобие шерифа), аристократу Роберу де Бодрикуру, и объявила, что послана Богом спасти Францию. Неудивительно, что он приказал своим слугам надавать тумаков этой «сумасшедшей» и отправить ее домой. В конце концов, он увидел перед собой обычную крестьянку, и подумал, что мозгов и предприимчивости у нее вряд ли больше, чем у скотины на ферме ее отца.
Однако Жанна не сдалась. Она, похоже, обладала врожденной убежденностью в правоте своего дела, и ее слова о священной миссии нашли отклик в душах простых людей, которые отчаянно искали хоть какой-то знак, подсказывающий, что там, наверху, кто-то о них думает. Слухи о голосах в голове Жанны быстро распространились, и даже говорили, что она воплощает в себе пророчество мистика, Марии Авиньонской, будто «из Лотарингии явится девственница, чтобы спасти Францию». (Кстати, Жанна и сама наверняка знала об этом пророчестве.)
Надежда, угасшая за сто лет войны и чумы, возродилась в сердцах французов и теперь была связана с невысокой девушкой, носительницей великой идеи. Бодрикур наконец уступил давлению сторонников Жанны и выделил ей вооруженный эскорт, который сопровождал ее пятьсот километров пути до Шинона, где обосновался дофин.
К этому времени имя Жанны уже гремело по всей стране, и солдаты с радостью присоединялись к процессии. Юная дева превращалась в символ освободительного движения, и с каждым обретенным сподвижником в ней крепла уверенность в том, что Бог на ее стороне. Новость о скором прибытии Жанны дошла до дофина, который сомневался, что ему требуется «помощь» от кого-то, кто слышал голоса: его отец, если помните, был буйнопомешанным. Поэтому целых два дня он держал Жанну за стенами замка, где она томилась в ожидании официального приема.
Дофин нарочно прибегнул к этой тактике, чтобы показать выскочке-крестьянке, что звезда он, Карл, а вовсе не она. Впрочем, Жанна не замедлила показать себя в деле. Как только ей позволили войти в замок, случилось первое «чудо»: когда она проходила по подъемному мосту, один из стражников с едкой иронией произнес: «Это и есть знаменитая девственница? Клянусь Богом, если бы мне дали ее на одну ночь, она бы к утру перестала быть девственницей».
Жанна, должно быть, уже привыкла к таким «остротам», потому что в ответ сказала что-то вроде того, что опасно поминать имя Господа всуе, когда находишься на пороге смерти.
Позже этот стражник свалился в ров и умер. «Пророчество сбылось!» — кричали сторонники Жанны. «Кто из этих фанатиков столкнул меня?» — успел пробормотать умирающий стражник.
Те, кто верит в святость Жанны, приводят подробности ее первой встречи с дофином как еще одно доказательство ее божественной проницательности. Желая испытать девушку, дофин подстроил так, чтобы Жанна вошла в переполненную приемную, где ее приветствовал выдававший себя за принца человек. Без малейшего колебания Жанна отвернулась от самозванца и подошла к настоящему дофину, который стоял в толпе придворных, поцеловала его колени и обратилась к нему со словами «милостивый государь».
Чудо? Возможно. Но Жанне наверняка рассказали, как выглядит дофин: маленький рост, вывернутые внутрь колени, косящие глаза, срезанный подбородок. Учитывая то, что придворных, как правило, отбирали по признаку приятной наружности, распознать среди них дофина было не так уж сложно.
Чтобы проверить, действительно ли Жанна — девушка из пророчества Марии Авиньонской и послана Богом, а не дьяволом, дофин с помощью комиссии священников устроил ей допрос, а группа респектабельных дам должна была подтвердить ее девственность. Жанна сдала оба экзамена, и дофин, судя по всему, посчитавший искреннюю набожность и сексуальную неопытность достаточной квалификацией для военной карьеры, тут же приказал выдать девушке латы и шлем, выделил армию численностью 4000 солдат и отправил в Орлеан, который вот уже полгода находился в изнурительной осаде англичан.
Скептики, сомневающиеся в Жанне, и тут принялись чинить ей препятствия. Англичане стояли лагерем на северном берегу Луары, а французские командиры отправили Жанну на южный берег. Ей объяснили, что было бы желательно ее солдатам сопровождать лодки, доставляющие по Луаре провизию в Орлеан: осада не означала полную блокаду, скорее это была долгая и непрерывная атака. Поначалу придя в ярость оттого, что ей мешают сразиться с англичанами, Жанна все-таки уступила, и ее отряд вошел в город, где жители устроили им восторженный прием — и не только потому, что появление Жанны означало, что на столах опять будет вино. В сопровождении местной знати, при свете факелов, она прошла торжественным шагом по улицам, и толпы горожан рукоплескали ей как спасительнице. Празднество не омрачило даже то, что от одного из факелов загорелось ее знамя. Напротив, когда она быстро затушила огонь, это было воспринято как очередное чудо.
Кульминация всеобщего помешательства случилась, когда Жанна, в своем белом плаще, атаковала противника, закрепившегося в небольшом бункере за городскими стенами. Мало того что ее воины дрались так вдохновенно, будто Господь Бог и его святые посулили им победу, — сами англичане, наслышанные о Жанне, пришли в совершенный ужас. Либо ее направляли ангелы, рассудили они, либо она сама была ведьмой, посланной дьяволом.
Когда перепуганные англичане бросились наутек, в святость Жанны уверовали все французы. И с тех пор одного только ее появления на поле битвы было достаточно, чтобы обратить англичан в бегство; за неделю было одержано четыре победы, включая снятие осады Орлеана. Теперь даже самые отъявленные скептики из числа французских военачальников хотели иметь при себе Жанну в качестве талисмана.
Все это лишь разжигало огонь ее одержимости, и Жанна с еще большим рвением служила своему делу. Она продиктовала письмо дофину, напрямик сообщая ему о том, что собирается короновать его в Реймсе. Хотя этот город — столица шампанского, а стало быть, отличное место для послекоронационного торжества, дофин колебался. Возможно, он боялся, что окажется в тени Жанны или станет уязвимым как политик, если вдруг она будет дискредитирована. А что же Жанна? Она написала в Реймс, призвав жителей города готовиться к коронации. И наконец, под давлением толпы религиозных фанатиков, желающих вступить в армию Жанны, дофин согласился.
Коронация состоялась 17 июля 1429 года; правда, следует признать, что корону использовали ненастоящую — настоящая хранилась в соборе Сен-Дени, в пригороде Парижа, который контролировали англичане. Но даже несмотря на бутафорскую корону, для принца это было событие, о котором он еще недавно даже мечтать не смел. Вот он, король Франции Карл VII, официальный соперник фальшивого английского монарха, на гребне волны народной поддержки, и его армии побеждают захватчиков в одной битве за другой.
Но ему, наверное, казалось, что эту сияющую картинку портит единственное пятнышко — невысокая простушка в шелковом белом плаще, что стояла рядом и поглядывала на него с усмешкой, как будто его новый трон на самом деле принадлежал ей.
Сжигая мосты Жанны
Сразу же после коронации Жанна начала требовать у нового короля идти маршем на Париж и выбивать оттуда англичан и герцога Бургундского. Карл сомневался — речь шла о массированном наступлении, с чем не шли ни в какое сравнение одиночные сражения, в которых до сих пор участвовала Жанна — и, видимо, она не имела представления, что армию необходимо кормить и оплачивать, и никто не знал наверняка, сколько продлится осада.
Карл договорился о двухнедельном перемирии с Бургундией и пришел в ярость, когда Жанна написала открытое письмо гражданам Реймса, в котором заявляла, что «недовольна этим перемирием и не уверена, что будет его соблюдать».
После этого звезда Жанны начала стремительно закатываться. Ей все-таки удалось лестью склонить Карла к походу на Париж, но за ее спиной он не прекращал тайные переговоры с бургундцами, в то время как ее солдаты массово дезертировали из полуголодной и нищей армии. Жанна предприняла наступление на Париж, но была ранена стрелой в бедро, и ее, несмотря на протесты, унесли с поля боя. Чтобы отрезать ей путь к возвращению, Карл приказал сжечь подъемный мост.
Но Жанна все равно не сдавалась, и в мае 1430 года Карл послал ее в Компьень под Париж, убедив в том, что этот город идеально подойдет для атаки на столицу. Жанна прибыла в Компьень всего с двумя сотнями солдат и обнаружила, что рядом стоит лагерем бургундская многотысячная армия. Любой другой догадался бы, что Карл отправил ее на безнадежное дело. Жанна не была бы Жанной, если бы отказалась идти в атаку, но, потерпев неудачу, она поспешила вернуться в город. Однако горожане подняли мост и отрезали ей путь к возвращению. Так же, как и Карл, они говорили ей «спасибо, не надо».
Она пыталась прорваться, но была захвачена в плен, после того как лучник (француз из Пикардии, северного региона Франции) стрелой сбил ее с лошади. При обычных обстоятельствах ей как простолюдинке попросту перерезали бы горло, но Жанну пощадили. В конце концов, она была другом нового короля, который непременно пожелает заплатить за нее огромный выкуп. Разве не так?
Французы бросают Жанну на произвол судьбы
Бывший дофин, коронованный как Карл VII усилиями Жанны и армии ее сподвижников, повел себя очень по-мужски, бросив ее сразу, как только получил то, что хотел. Наверное, это звучит грубовато, но все это очень похоже на правду. С момента пленения Жанны до ее казни, случившейся годом позже, Карл и пальцем не пошевелил, чтобы ей помочь.
И кстати, вопреки укоренившемуся среди французов мнению, ее страдания были делом рук французов, а не англичан (хотя англичане и выполнили самую грязную работу в финале драмы).
Поначалу Жанну держали в плену у местного предводителя бургундцев, Жана де Люксембурга, который, несмотря на свое имя, был французом, родом из Пикардии. Жан, видимо, рассчитывал получить щедрый выкуп за знаменитую заложницу. Но его ожидания не оправдались: вместо предложения о выкупе он получил декларацию от (французского) архиепископа Реймса, Рено де Шартра, о том, что в Лангедоке отыскали пастушка, который заменит Жанну в роли божественного посланника.
Затем последовал запрос от Инквизитора Франции, Мартена Биллори, который требовал передать Жанну духовенству для проведения судебного процесса на том основании, что она совершила «страшные грехи против святой веры» и привела к гибели «простых христиан». Вот вам и француз, который хотел бы сжечь Жанну как еретичку, и от этой участи ее спасло лишь то, что Инквизитор забыл предложить выкуп.
Тем временем еще один французский священник, Пьер Кошон, епископ Бове (пригорода Парижа), упрашивал герцога Бургундского позволить ему попытать Жанну (в юридическом смысле, разумеется). Не получив ответа, он начал надоедать герцогу Бедфорду, регенту Генриха VI Английского, убеждая его в том, что Жанна «принадлежит» англичанам и они должны судить ее за ересь. Или же пусть дадут ему, Кошону, разрешение сделать это от их имени.
Бедфорд вовсе не испытывал симпатий к Жанне, которая сначала лишила его Орлеана, а потом забрасывала злопыхательскими письмами, хвастая, будто «послана Царем Небесным вышвырнуть его из Франции», и угрожая, что он, если не отправится домой, в Англию, «будет иметь дело с Девой, и тогда ему не поздоровится».
Бедфорд заплатил выкуп в размере 10 000 турских ливров (фунтов серебра) — примерно десять процентов своего годового дохода, — и Жанну, крепко связанную, передали англичанам. Вот так будущую святую покровительницу Франции соотечественники продали врагу.
Однако англичане были всего лишь ее охранниками, но не обвинителями. Кошон так стремился стать инквизитором Жанны, что бросился подавать прошение о наделении его соответствующими полномочиями в епархию Руана, где должен был состояться процесс. Вторым судьей он назначил своего приятеля, враждебно настроенного к Жанне, Жана ле Мэтра, который носил устрашающий титул викария Инквизитора по делам ереси.
Обвинений против Жанны накопилось много, около семидесяти, и самых разных: колдовство, богохульство, ведение боевых действий по воскресеньям и самое страшное — ношение мужской одежды. Все они тянули на смертную казнь. Жанна, хотя и была слишком юна и по-прежнему убеждена в том, что выполняла Божью волю, наверняка трезво оценивала свое положение и сознавала, что у нее нет никаких шансов на оправдательный приговор.
Тем не менее она вдохновенно защищалась все время процесса, который длился несколько месяцев. Из Парижского университета специально привезли профессоров теологии, которые пытались загнать ее в угол своими коварными вопросами. Так, Жанну спросили, считает ли она, что находится в состоянии благодати Божьей. Положительный ответ был бы истолкован как богохульство, поскольку только Богу известно, кому даровано состояние благодати, в то время как отрицательный ответ сочли бы признанием в смертных грехах. Но Жанна ответила: «Если я не нахожусь в состоянии благодати, да дарует мне его Бог, а если я лишена благодати, да утвердит меня в ней Бог». Она попала в точку: это было равносильно тому, как если бы обычный парнишка увернулся от удара олимпийского чемпиона по боксу, а потом опрокинул бы того на пол встречным хуком.
Жанна ловко ушла от вопроса о том, только ли она слышала голоса и видела ангелов или же чувствовала их запах и прикасалась к ним. Казалось бы, вполне логическое продолжение ее дара, но ответ «да» означал бы признание в идолопоклонстве, что само по себе считалось смертным грехом, ведь божественное можно было только «смотреть и слушать, но не прикасаться». Жанна настолько грамотно формулировала ответы, была настолько осторожна в своих высказываниях, что временами казалось, будто у нее есть шанс избежать смерти.
Как ни печально для Жанны, но французы обожают интеллектуальные дебаты, и уж одну тему судьи никак не хотели оставлять без внимания: это мужская одежда Жанны, хотя она и объяснила, что надевала ее, чтобы вести священную войну. В те времена считалось непристойным, чтобы женщины носили доспехи. Это шокировало так же, как если бы современную армию возглавлял трансвестит в платье [47].
В Средние века смертным грехом считалось для женщины коротко стричь волосы, надевать шлем и воевать — ее участие в войне ограничивалось ролью жертвы изнасилования и/или убийства.
Есть мнения, что Жанна любила носить мужскую одежду, потому что была лесбиянкой. Я слышал и такую версию, будто у нее были большие груди и она изнывала от сексуальных домогательств со стороны мужчин. Впрочем, какими бы соображениями ни руководствовалась Жанна, одно можно сказать наверняка: к началу суда она так боялась быть изнасилованной (английскими) тюремными охранниками, что отказалась сменить свои штаны на юбку. Однако охранники, хотя нам это и покажется дикостью, сами, похоже, остерегались прикасаться к одетой в мужские одежды девице — вдруг она и впрямь ведьма или сам дьявол?
Судьи знали о страхах Жанны и с их помощью пытались загнать ее в ловушку; они предложили сохранить ей жизнь и перевести в религиозную тюрьму, подальше от ее охранников, если только она признается в своих грехах и переоденется в женское платье. Жанна, которая все еще верила в то, что Бог изгонит англичан из Франции и восстановит на троне ее доброго друга Карла VII как законного короля, согласилась на сделку, нисколько не сомневаясь в том, что выйдет на свободу, как только политический маятник вновь качнется в сторону Карла.
Церемония — возможно, та, которая упоминалась в парижской «Журналь де Буржуа», — состоялась на Руанском кладбище, где Жанна, впервые за последние два года надевшая платье, публично подписала признание — или скорее поставила крестик, поскольку в тюрьме образования не давали, а писать она не умела.
Но и тут французы ее предали. Как только она подписала документ, ее вернули в ту же тюрьму, все к тем же охранникам, потенциальным насильникам. Ужаснувшись, она снова надела штаны, к несказанной радости судей, которые поспешили объявить ее «закоренелой еретичкой» и приговорили к сожжению на костре на рыночной площади Руана.
Тридцатого мая 1431 года Жанну, обрив ей голову, провели по улицам города, мимо улюлюкающей (французской) толпы, и судьи, когда ее доставили на место казни, отказали ей в утешении принять смерть с распятием. Кто-то из английских солдат вынул два сучка из приготовленного для костра хвороста и, сложив их в виде креста, подал ей.
Французы по сей день шутят, что Жанна — это «единственное блюдо, которое англичане правильно приготовили, да и то пережарили». После того как огонь погас, экзекутор сгреб золу, чтобы достать сожженное тело и доказать толпе, что Жанна и впрямь была женщиной. Парижская «Буржуа» пишет, что «открылась ее нагота, а с ней и все секреты, которыми обладает женщина… Когда толпа увидела все, что хотела, экзекутор снова разжег огонь, и пламя поглотило жалкий скелет».
Да, англичане виноваты в том, что Жанну д’Арк казнили. Они сожгли ее, а потом сожгли еще раз, для верности. Но кто постарался, чтобы она закончила свою жизнь на костре, так это французы, которые сотрудничали с английскими захватчиками. Короче говоря, французы заставили англичан сделать грязную работу, а все последующие 500 лет упорно это отрицали. Но голая правда этой истории заключается в том, что Франция погубила свою будущую святую покровительницу лишь за то, что та носила штаны. А это, пожалуй, камень в огород пресловутого французского стиля.
После казни Жанны Столетняя война пошла на спад, и англичане постепенно сдавали свои позиции.
Французы наконец достигли мастерства английских лучников, только в использовании нового оружия — пушек. Англичане имели на вооружении пушки, но они чаще использовались скорее для создания шумового эффекта: так, еще в Креси, пушечные залпы, говорят, пугали французских лошадей (еще одно оправдание). К середине 1400-х годов французские артиллеристы научилась прицельно стрелять, и любому, кто намеревался взять в осаду город, следовало готовиться к тому, что его лагерь подвергнут бомбардировкам горячим свинцом. Как и следовало ожидать, это остудило пыл английских мародеров, промышлявших в поисках легкой добычи, и золотой век для любителей шевоше закончился.
Некий сэр Джон Фальстоф — вдохновивший Шекспира на создание образа Фальстафа — попытался найти поддержку для организации ежегодных сезонов шевоше с июня по ноябрь. По его плану два отряда численностью 750 человек каждый должны были отправляться на другой берег Ла-Манша на лето и осень, чтобы жечь дома, уничтожать урожай, скот и крестьян, тем самым обрекая Францию на голод. Но к этому времени шевоше уже исчерпали себя, и желающих подхватить эту идею не нашлось.
Французы отвоевали Париж и Нормандию, а вскоре и Аквитанию, где у англичан были традиционно сильные позиции. 19 октября 1453 года капитулировал Бордо, и англичане наконец были изгнаны из Франции — пусть не Жанной, но она это предсказывала.
И, как только война окончилась, французы стали спешно хоронить неприятные воспоминания. К великому раздражению Карла VII, народ продолжал грезить Жанной д’Арк, и многие утверждали, что она жива. Родные братья Жанны мотались по Франции с женщиной, которая выдавала себя за Жанну, и собирали «пожертвования» в ее пользу.
Справедливый аргумент, выдвигаемый Карлом: «Если она жива, тогда что же вы все ноете?», — не находил понимания, и, уже не в силах откладывать неизбежное, спустя несколько лет он все- таки удостоил Жанну посмертного пересмотра дела.
Результаты новых слушаний тоже подтасовали, но на этот раз в пользу Жанны. Среди судей были личный духовник Жанны и враги тех епископов и профессоров, которые участвовали в первом процессе. Мать Жанны сделала душещипательное заявление (написанное для нее священниками) о целомудрии своей дочери, и ей даже удалось упасть в обморок на свидетельской трибуне. Никто не заикался о переодевании в мужское платье, голоса, которые слышала Жанна, были признаны настоящими, потому что она сама верила в их подлинность, и в 1456 году, спустя двадцать пять лет после ее смерти, Жанну оправдали. Нельзя сказать, чтобы ей это здорово помогло.
В продолжение темы забвения щекотливых эпизодов французской истории, протоколы первого судебного процесса были публично сожжены на том самом месте, где в огне погибла Жанна.
Впрочем, это не означало, что Церковь немедленно канонизировала Жанну — напротив, Карл надеялся, что память о ней будет уничтожена так же бесследно, как и письменные свидетельства нечестного судебного разбирательства. Он делал все что мог, лишь бы воспрепятствовать ее превращению в икону и остановить паломничества в Руан и Орлеан. Было запрещено даже выставлять ее образы [48].
Впрочем, французского короля амнистия еретички мало заботила, главное для него было то, что теперь он прочно сидел на троне и ничто не угрожало его статусу монарха. В официальной версии войны Креси и Азенкур оказались всего лишь досадными промахами, и после нескольких удачных прорывов в начале боевых действий англичане были с позором изгнаны из Франции королем Карлом VII. И в этом была исключительно его личная заслуга. Ну, ладно, может, немного помогла подружка Жанна, которую предательски убили эти «варвары».
А что думают об этом англичане? Простой народ лишь посмеялся над повторным судом над Жанной и его «непредвзятостью». Англичане по-прежнему считали ее ведьмой, дьяволом в женском обличье, которую ненавистный французский враг использовал в качестве секретного оружия.
Разумеется, поражение в Столетней войне пробило огромную брешь в национальном самосознании англичан, но многие наверняка лишь пожали плечами, узнав финальный счет этой битвы. В конце концов, дивиденды, полученные в ходе военного конфликта, были несоизмеримо огромными. Очень многие сколотили себе состояния — начиная от лучников, поживившихся за счет выкупов, и заканчивая торговцами французским подержанным воинским снаряжением (в самом деле, бывший владелец только один, и в латах всего несколько дыр от стрел). Практически каждый достойный дом и замок, построенный в Англии в период с 1330 по 1450 год, был хотя бы частично оплачен деньгами, выкачанными из Франции.
Если отойти от материальной стороны дела, Столетняя война принесла Англии осознание национальной идентичности. Ее монархи наконец начали говорить на английском языке как родном, бритты выиграли сражения при Креси и Азенкуре, и эти победы навсегда отпечатались в народной памяти.
Было еще одно важное завоевание, о котором французы удобно забыли, празднуя в 1453 году «полную победу»: Англия по-прежнему владела Кале, одним из стратегически важных городов Франции, и это продлилось еще одно столетие, в течение которого порт использовался как торговая база и аванпост для продолжения набегов на соседние территории. Иногда полная победа оказывается не такой уж безоговорочной…
Глава 5 Мария, королева Шотландии: Французская голова на шотландских плечах
Никого так не задела ее казнь, как французов. Разумеется, помимо самой Марии
Никто не спорит, что Мария, королева Шотландская, родилась в Шотландии и потому была, строго говоря, шотландкой. Но даже самый патриотично настроенный шотландец не станет отрицать, что годы формирования личности, с пяти до девятнадцати, Мария провела во Франции. Ее мать была француженкой, и всю свою жизнь Мария писала письма в основном на французском языке, даже своей английской кузине, королеве Елизавете I. Более того, она всегда подписывалась так: Marie, несомненно, предпочитая эту орфографию английской, поскольку в те времена во французском языке слово mary обозначало «мужа» (сейчас это mari). В течение нескольких лет Мария даже была королевой Франции. Проще говоря, женщина, которую сегодня мы знаем как Марию, королеву Шотландскую, была креатурой французов. Можно сказать, что она была такой же шотландской, как хаггис [49] с ароматом фуа-гра.
Если бы в последние годы ее жизни, проведенные английской пленницей, Марию спросили, что она думает о Шотландии, она бы, скорее всего, дала безупречно дипломатический ответ (по-французски) о вечной любви к родной земле. Но за политическим фасадом наверняка осталось бы скрытым то, что она подумала в этот момент, а именно: «Merde [50], не говорите мне про эту чертову Ecosse[51]».
Не стоит винить Марию, ее горечь вполне обоснованна, поскольку за тот короткий срок, что она пробыла правящим монархом Шотландии, ее предала практически вся шотландская знать, ее едва не убили, ее похитили и изнасиловали. И когда убийство все-таки состоялось, большинство шотландцев даже не поморщились, ведь она давно уже перестала быть для них полезной. На самом деле, отрубая ей голову, англичане вовсе не пытались провоцировать Шотландию: они наносили удар по французам.
Давайте же взглянем на трагическую историю жизни Марии (или Мари), французской королевы шотландцев.
Продается: один королевский отпрыск
В наше время члены британской королевской фамилии часто жалуются на то, что они слишком рано — или же слишком часто — оказываются в центре общественного внимания. Марию эта участь постигла с самого рождения.
Она родилась 8 декабря 1542 года в 30 километрах от Эдинбурга, во дворце Линлитгоу, неподалеку от одноименного озера. Дата была знаковой: праздник Непорочного зачатия Девы Марии. А вот место рождения подкачало: рожденным в Линлитгоу обычно присваивали прозвище Черная Сука из-за собаки, изображенной на гербе города.
Мать Марии, Мария де Гиз, была второй женой короля Шотландии Якова V. Его первая жена, скончавшаяся от туберкулеза, тоже была француженкой, и благодаря браку с Марией Яков рассчитывал упрочить франко-шотландский альянс. Этот союз всегда раздражал англичан; Генрих VIII, очевидно чувствующий себя одиноко после казни Анны Болейн, тоже участвовал в конкурсе на руку Марии де Гиз.
Мария испытала облегчение, когда ее семья отклонила предложение Генриха. Ужасаясь той участи, какая постигла Анну Болейн, она якобы сказала: «Может, я и высокая женщина, но шея у меня короткая». Это была шутка, обернувшаяся горькой трагедией, когда спустя пятьдесят лет дочь Марии, королева Шотландии, положила свою изящную шею под английский топор по приказу дочери Анны Болейн, Елизаветы Первой.
В конечном итоге Мария де Гиз вышла замуж за шотландца и переехала в Эдинбург, прихватив с собой коллекцию французских безделушек, призванных скрасить этот переезд, — грушевые деревья, кабанов, портных и, разумеется, докторов.
Довольно быстро, один за другим, у Марии и Якова родились двое сыновей, которые умерли в младенчестве, а следом на свет появилась принцесса Мария. Но король, вконец измотанный войной с Англией, к тому времени уже находился на смертном одре и спустя шесть дней после рождения дочери потерпел поражение в борьбе за жизнь, скончавшись в возрасте тридцати лет. Новорожденной Марии еще не было и недели, когда она стала королевой Шотландии, а регентство досталось ее матери-француженке. Как правнучка Генриха VII, Мария к тому же оказалась следующей в очереди на английский престол после принцессы Елизаветы. Как видим, довольно серьезная ответственность легла на плечи столь юной особы.
В результате еще задолго до того, как Мария научилась фокусировать взгляд, на нее уже были устремлены взоры всех европейских монархов. В одиннадцать дней от роду она получила первое предложение о замужестве, когда Генрих VIII попытался компенсировать неудачу с Марией де Гиз обручением новорожденной Марии со своим сыном Эдуардом, которому тогда было пять (лет, разумеется). Последовал отказ, возможно, все-таки из-за разницы в возрасте: в конце концов, Эдуард был в 150 раз старше Марии.
Но, как известно, женитьба была весьма щекотливой темой для Генриха VIII, и он, во второй раз получив от ворот поворот, пришел в такую ярость, унять которую смог, лишь совершив несколько разрушительных набегов на Шотландию, которые в шутку окрестили «ухаживанием с применением грубой силы» (можете себе представить, чего стоило добиться расположения девушки в те времена), и в итоге вынудил шотландцев подписать соглашение о помолвке между Марией и Эдуардом.
Мария де Гиз, должно быть, вздохнула с облегчением, когда в 1547 году Генрих VIII скончался, не успев привести в исполнение свои планы, но его смерть не означала, что давление прекратится, потому что практически каждый шотландский вельможа предлагал в женихи своего сына или кузена. Мария знала, на что способны шотландские лэрды [52], и понимала, что эти предложения могут сопровождаться и попытками заточения маленькой Марии в фамильном замке с передачей регентства лэрду, а потому обратилась за помощью к своей родине.
Ей повезло, что король Франции Генрих II с детства был другом семейства Гизов, да еще к тому же ярым противником англичан. Он с радостью взялся за разрешение конфликта и обручил шотландскую инфанту со своим сыном Франциском, который был на год моложе Марии. Дабы ни англичане, ни шотландцы не смогли разлучить двух королевских отпрысков, Генрих послал за Марией собственный корабль — за малышкой Марией, но не за ее матерью, которая осталась в Шотландии с французской армией, чтобы защищать французское влияние на шотландскую корону.
Шел июль 1548 года, Марии было пять лет, а ее уже разыгрывали как козырь, пусть и крохотный, в большой политической игре.
Маленькая королева оказалась настоящей морячкой и во время долгого путешествия во Францию сквозь бурю и шторм не уставала высмеивать своих изнывающих от морской болезни компаньонов — сводных братьев, охранника, гувернантку, четырех молоденьких фрейлин (все по имени Мария) и многочисленных слуг. Корабль сильно потрепало, и даже сломался штурвал, но в конце концов Мария благополучно высадилась в стране, которой предстояло стать ее домом на все годы детства.
Поначалу у прибывших шотландцев, наверное, возникло смутное ощущение дежавю, ведь они сошли на берег Западной Бретани, дождливой, одетой в гранитные скалы сестре Шотландии, где местные жители говорили на языке, родственном гэльскому языку шотландцев. Сама Мария ни слова не понимала по-гэльски — в Эдинбурге говорили на южно-шотландском диалекте английского, — но Бретань и ей показалась уютно-знакомой.
Впрочем, постепенно все обретало более французские очертания, пока длился их двухмесячный вояж к востоку, в королевский замок в Сен-Жермен-ан-Лэ, в пригороде Парижа, где придворные уже изнывали в ожидании новой принцессы, а поэты слагали оды красоте Марии, еще ни разу не видев ее в глаза.
Когда же она наконец прибыла, парижане, судя по всему, испытали легкий шок. Малышку они нашли довольно изысканной, но вот ее шотландских слуг и придворных сочли дикарями — причем дикими в прямом, животном, смысле, а не в том, что касается их светскости.
Будущие родственники Марии решили, что ей срочно требуется французское воспитание, чтобы она могла достойно исполнять роль королевы Франции — гораздо более важную, чем роль королевы Шотландии.
Теперь, когда можно было не бояться войны и похищения, у Марии началось идиллическое французское детство, как и у всего подрастающего поколения при дворе короля Генриха II. Одним из новых товарищей по детским играм был и ее будущий муж — хилый заика Франциск, который, похоже, страдал врожденными пороками из-за того, что его мать, Екатерина Медичи, увлекалась снадобьями для удачного зачатия — а в шестнадцатом веке противопоказаний на упаковках не писали (главным образом потому, что упаковок не существовало).
Веселая королевская компания перемещалась из одного роскошного замка в другой — Сен-Жермен-ан-Лэ, Фонтенбло, Блуа, — и Мария, очаровательная живая девчушка, приводила всех в полный восторг. Ее, как любимицу Генриха, взяла под свое крыло его гламурная любовница, Диана де Пуатье, которую в сегодняшней Франции считают секс-символом шестнадцатого века. Диана была на двадцать лет старше Генриха, но настолько соблазнительна, что жена Генриха, Екатерина Медичи, просверлила дырки в потолке королевской спальни, чтобы подглядывать за любовными играми мужа и Дианы и, разумеется, кое-какие хитрости брать на вооружение.
Нигде не упоминается о том, что юная Мария, королева Шотландии, получила такого рода образование у Дианы, которая, ко всему прочему, была высокообразованной женщиной и великолепным собеседником. Но Мария провела немало времени в любовном гнездышке Дианы, романтическом замке Анэ в Нормандии, который незаслуженно обойден вниманием иностранных туристов, вероятно, потому, что находится слишком далеко от Луары. Минутой славы стало для него появление в первых кадрах фильма «Шаровая молния», четвертой серии бондианы, как места встречи агентов злодейского СПЕКТРА. Забавно наблюдать, как враги Бонда строят планы уничтожения мира с помощью атомных бомб, зная о том, что когда-то в залах замка Анэ играла Мария, королева Шотландии.
При королевском дворе Мария быстро приобрела французский стиль и лоск, стала носить яркие платья, чулки и туфли, питая особую любовь к перчаткам из лайковой кожи. Разумеется, ее образование распространялось и на интеллектуальные материи. По прибытии во Францию Мария говорила в основном на шотландском диалекте, который для французских ушей звучал слишком варварски [53], но вскоре стала бегло говорить по-французски, а помимо этого выучила итальянский, испанский, латынь и греческий.
Будущая королева должна была освоить и придворные искусства, так что Мария старательно разучивала французские танцы и песни, а помимо этого начала писать стихи, когда эмоции закипали в ее гэльской душе. Кстати, поэзия превратилась в ее настоящую страсть в более поздние годы.
Но, несмотря ни на что, Мария не забывала своих корней, хотя ее воспоминания о Шотландии стали совсем размытыми. Когда однажды она решила позабавить двор, нарядившись шотландкой, на ней оказался костюм из небрежно наброшенных животных шкур. Судя по всему, в ее представлении соотечественники больше походили на неандертальцев.
Марии исполнилось пятнадцать, когда в 1558 году она получила известие о том, что порт Кале отбит у англичан одним из ее дядей по линии Гизов. Подвиг родственника еще больше возвысил ее при французском дворе. И дабы закрепить эту победу, следовало поторопиться выдать ее замуж за молодого принца Франциска: этот брак должен был стать последним франко-шотландским гвоздем, забитым в английский гроб.
К пятнадцати годам Мария уже стала настоящей француженкой и принцессой ослепительной красоты. Да и было чем восхищаться. Шесть футов роста, лебединая шея, которую она унаследовала от матери, модная по тем временам бледная кожа, несмотря на любовь к активному времяпрепровождению на свежем воздухе, в частности к охоте. Ее волосы, в детстве светлые, постепенно приобретали богатый темно-рыжий тон, а в карих глазах появлялось все больше блеска. Она обладала обаянием, остроумием и мелодичным голосом (теперь, когда избавилась от грубого шотландского акцента).
И Мария была достаточно самоуверенна, чтобы настоять на том, что ее красоту лучше всего способно подчеркнуть белое свадебное платье. Кто-то скажет, что это довольно традиционное желание целомудренной невесты, но в то время это был смелый, даже вызывающий выбор, поскольку белый цвет считался цветом траура для французских королев. Если бы Мария знала, какая участь постигнет трех ее будущих мужей, она определенно согласилась бы с тем, что слегка искушает судьбу своим капризом.
Как бы то ни было, ее просьбу удовлетворили, но лишь потому, что, выигрывая с замужеством, она проигрывала во всем остальном. Брачный контракт между французским и шотландским королевскими дворами был вопиюще неравноценным. Начать с того, что Мария должна была передать свои права на английский трон Франциску, своему французскому мужу. Кроме того, Шотландия обязалась расплатиться за всю помощь, полученную от французов в течение нескольких столетий: злодейская уловка, направленная на то, чтобы шотландская казна перекочевала в карманы Генриха II. И в довершение ко всему, Франция и Шотландия должны были объединиться под короной короля Франциска. Да-да, Шотландии предстояло стать французской колонией. Если бы все это осуществилось, сегодня Шотландия вполне могла быть спа-курортом для парижан, а Франция предъявляла бы свои права на изобретение виски. Хуже того, французы были бы вызывающе хороши в гольфе, как и во всех других индивидуальных видах спорта.
Мария была еще только подростком, но, похоже, знала, на что шла, когда выводила подпись «Мари» под брачным контрактом. Проще говоря, это было чистой воды предательство суверенитета ее родины.
Ох, уж эти родственники
Это был очень насыщенный событиями период жизни Марии. После захвата Кале и собственной свадьбы Мария узнала о смерти своей двоюродной тети, тоже Марии. В ту пору примитивной медицины потеря родственника никого не удивляла, но та, другая Мария, была не просто родственницей — она была королевой Англии.
Трон немедленно отошел к Елизавете I, но католики, включая французское королевское семейство, настоящей наследницей считали Марию, королеву Шотландии. Дело в том, что Елизавета была дочерью Анны Болейн, второй жены Генриха VIII, на которой тот женился после развода, а потому считалась незаконнорожденной, в то время как Мария была бесспорно законной внучкой Маргариты Тюдор, сестры Генриха VIII.
Король Франции Генрих II ухватился за вытекающую из этого положения возможность надавить на Англию от имени Марии — а, стало быть, и своего сына — и даже приказал изготовить провокационный королевский штандарт с изображением английского и шотландского гербов. (Внимательный читатель вспомнит, что веком ранее к такой же стратегии прибегали английские короли Эдуард III и Генрих V, стремясь разозлить Францию. Вот еще одно доказательство того, что французы никогда не забывают оскорблений.)
Отныне Мария, королева Шотландии, была живым символом католической оппозиции новой и в высшей степени здравомыслящей королеве Англии, Елизавете I. Но этим дело не ограничилось — Мария стала также оружием в религиозных конфликтах, которые разгорались по всей Европе. И, к несчастью для нее, не успела она оказаться на передней линии огня, как ее покровитель был убит — по иронии судьбы, шотландцем. Генрих II, в свое время спасший Марию от опасности, которая угрожала ей в Шотландии, и обеспечивший ей беззаботное счастливое детство в своих замках, был настоящим рыцарем. Он обожал рыцарские турниры, где демонстрировал удаль и отвагу, скрещивая копья с лучшими бойцами Европы.
30 июня 1559 года Генрих участвовал в поединке в Париже, в Шато де Турнель, на том месте, где сейчас раскинулась живописная площадь Вогезов. Турнир был организован в ознаменование бракосочетания дочери Генриха, Елизаветы, с королем Испании Филиппом II, недавно овдовевшим мужем королевы Англии Марии. Эта свадьба стала еще одним серьезным антианглийским выпадом и, значит, достойным поводом для праздника.
Несмотря на то что событие было семейное, король выступал в черно-белых цветах своей любовницы, Дианы, на глазах у собственной жены, Екатерины. День клонился к закату, и король уже сломал не одно копье, но решил все-таки провести еще один, заключительный поединок, бросив вызов нормандско-шотландскому рыцарю, графу Монтгомери (предку генерала Монтгомери, который руководил высадкой союзников в Нормандии в 1944 году). Граф вежливо отказался, но король приказал ему садиться на коня и выезжать на позицию.
Предположительно, Екатерина умоляла Генриха угомониться, потому что ей якобы приснилось, будто он умрет от удара копья в глаз. (Хотя это не помешало ей спокойно наблюдать за ходом предыдущих поединков. Так что с таким же успехом это могло быть запоздалым пророчеством, чем-то вроде упрека из серии «Я же предупреждала», которым можно было бы позлить его на смертном одре.) Словно напрашиваясь на неприятности, король собирался оседлать коня с неудачной кличкой Le Malheureux — Несчастливый или Невезучий.
Рассмеявшись над нелепыми предрассудками, Генрих II выступил против Монтгомери. Как всегда, копья ударились о щиты, но на этот раз копье Монтгомери треснуло, и деревянный осколок влетел в прорезь шлема Генриха и пронзил глазное яблоко.
Короля отнесли в замок, и десять дней он метался в муках и бреду, умирая от инфекции. Его взбешенная вдова Екатерина приказала разрушить замок и — хотя Генрих получил смертельное ранение случайно, да к тому же в ходе поединка, который сам затеял, — заточила Монтгомери в тюрьму. Диану де Пуатье она отлучила от двора и заставила жить в уединении в Нормандии. Веселью настал конец — так повелела королева.
Спустя два месяца, все еще скорбя по своему покровителю, Мария, Шестнадцатилетняя девушка, была коронована в Реймском соборе вместе со своим пятнадцатилетним мужем, королем Франциском II, застенчивым парнишкой препубертатного возраста, про которого современники-хронисты писали, что у него «запор в гениталиях». Новый король был настолько хилым, что без посторонней помощи не мог держать на голове корону, а это, как вы понимаете, не слишком обнадеживающий знак.
Подростки брыкаются и получают сдачи
Ставшая королевой сразу двух стран, Мария своим поведением крайне разозлила гостеприимных французских хозяев. Она потребовала провести ревизию королевских драгоценностей и попросила свекровь, Екатерину Медичи, вернуть ей все, что принадлежит правящей королеве. Но если даже Мария хотела устроить демонстрацию силы, то о катастрофических последствиях она явно не задумывалась, ведь одной единственной просьбой она нажила себе пожизненного врага в лице самой могущественной — и мстительной — женщины Франции.
Тем временем по Европе быстро распространялись слухи о том, что у Франции новый и слабый король. В Шотландии лорды-протестанты выступили против матери Марии, Марии де Гиз, и вторглись в Эдинбург, требуя изгнать из страны французских интервентов. Англичане, естественно, с радостью влезли в драку и взяли в осаду порт Лейт, под Эдинбургом, где укрывалась Мария со своим войском. Во избежание катастрофы ей пришлось уступить давлению лордов и отослать французские войска на континент. В одночасье старый альянс рухнул, а следом за этим вскоре рассыпалась вдребезги и жизнь самой Марии: 11 июня 1560 года ее мать, Мария де Гиз, умерла от водянки, страшной болезни, вызванной скоплением жидкости в тканях организма. Жестокое доказательство того, что ожирение для француженки смерти подобно.
Мария все еще горевала, когда лестницу на французский престол вышибли у нее из-под ног раз и навсегда. В декабре, за три дня до восемнадцатилетия Марии, умер ее муж, король Франциск, — предположительно, из-за осложненной инфекции уха. Всего за несколько коротких месяцев Мария прошла путь от покоя и стабильности при дворе Генриха II до состояния, которого французы боятся больше всего на свете — неуверенности, шаткости и неопределенности будущего.
У Марии оставался один, довольно привлекательный вариант: в свое время ей был дарован титул герцогини Турена, престижной области в долине Луары, и она вполне могла бы обосноваться в каком-нибудь роскошном замке эпохи Ренессанса, вроде Амбуаза или Шенонсо, и жить там припеваючи в ожидании, пока не подвернется добропорядочный жених-католик из влиятельного французского или испанского рода.
Но Екатерина Медичи ясно дала понять, что во Франции Марии больше делать нечего. Уже через сутки после смерти Франциска Екатерина отомстила своей безутешной невестке, потребовав возврата всех королевских драгоценностей, которые Мария заполучила, став королевой Франции. Куда злым мачехам до таких-то свекровей!
От родственников, Гизов, Марии тоже не приходилось ждать помощи. Когда она отправилась искать утешения у своих дядей и кузенов в Лотарингию, область на востоке Франции (родина Жанны д’Арк), они посоветовали ей вернуться в Шотландию. Что и говорить, суровый совет одинокой восемнадцатилетней девушке, но родственники явно хотели с ее помощью удержаться в королевской обойме. В конце концов, большинство шотландцев по-прежнему видели в Марии свою королеву. Вернувшись в Эдинбург, как уверяли ее Гизы, она могла бы попытаться наладить контакты с Елизаветой, чтобы пресечь потенциальные попытки проникновения в страну клана Медичи. В типично средневековой манере мешать семейные и патриотические ценности, эти французские католики толкали Марию к объединению с английской королевой, которая была протестанткой [54].
Конечная цель Гизов, несомненно, заключалась в том, чтобы посадить на английский трон кого-то из своих. Если бы Мария стала союзницей Елизаветы, английская королева вполне могла бы принять ее как наследницу. И поскольку в обозримом будущем над французским троном нависала Екатерина Медичи (ее сын Карл IX стал новым королем Франции, а в очереди на корону стояло еще пятеро ее наследников), у Гизов было гораздо больше шансов получить власть и влияние в Англии.
О чем Гизы не могли не знать, но предпочли умолчать, так >то о том, что англичане резко настроены против Марии. Будучи французской католичкой и племянницей человека, который отвоевал Кале, она даже прокаженная вряд ли вызвала бы у англичан больше отвращения.
Короче говоря, французские родственники отдавали юную Марию на растерзание львам, и только потому, что это могло пригодиться в их политической игре.
Неприветливый дом
Летом 1561 года послушная Мария отправилась в Шотландию из вновь ставшего французским Кале, со всхлипом приговаривая «Прощай, Франция!» и провожая взглядом исчезающий вдали берег (можно лишь предполагать, что в те времена Кале был гораздо живописнее, чем сегодня). Она уже догадывалась о том, что ее ждет вовсе не такая легкая жизнь, как рисовали Гизы, так как королева Елизавета отказалась гарантировать ей безопасный проезд по территории Англии. В результате Марии пришлось идти рискованным маршрутом по Северному морю, где хозяйничали английские пираты. И, словно мало ей было волнений из-за шторма, пиратов и перспективы враждебного приема в родной стране, путешествие омрачалось еще одним обстоятельством: в те времена на французских галерах в качестве гребцов использовали рабов (в основном из числа осужденных преступников), и Марии всю дорогу приходилось умолять капитана не избивать их плетками.
Она прибыла в Шотландию 19 августа, и, когда ее корабль причалил к пристани в порту Лейт, местные жители встречали ее как красавицу принцессу, пожаловавшую с королевским визитом: все восхищенно разглядывали ее шикарное платье и шумно восторгались, когда она произнесла речь по-шотландски (разве что с легким французским акцентом).
Но в душе Мария чувствовала себя чужестранкой; французские летописцы того времени, вероятно, передавали и впечатления Марии о Шотландии середины шестнадцатого века, когда писали, что это была бесплодная, враждебная земля, населенная неотесанными, вероломными людьми, которые занимались только междусемейными вендеттами. Добро пожаловать домой, Мария.
Ее поселили в Холируде, королевском дворце в центре Эдинбурга. Выписанные ее матерью из Франции каменщики и декораторы украсили внутреннее пространство дворца орнаментальными потолками и восхитительными настенными панно из ткани. Мария сразу влюбилась в место своей ссылки: Холируд, несмотря на то что он находился в черте города, окружали сады, где она могла практиковаться в стрельбе из лука, а в парке водилось много животных, пригодных для охоты. Мария любила выходить на пустошь и играть в гольф: эту игру она помнила еще со времен своего шотландского детства. Ей приписывают авторство термина «кэдди» [55]; клюшки для гольфа ей подносили молодые сыновья французских аристократов — кадеты, и от этого французского слова произошло слово «кэдди».
В замке же Мария предпочитала французские развлечения. Она привезла из Франции музыкантов и шутов и стала устраивать музыкальные званые обеды и танцы, и это пришлось не по нраву местным пуританам.
По своей наивности, или, возможно, благодаря французским родственникам, Мария не догадывалась о том, насколько серьезно здесь стоит вопрос религии. Шотландия не так давно стала протестантским государством, и католичка Мария, хоть она и объявила о своем намерении не вмешиваться в официальную религию страны, пришла в ужас, когда ее первая попытка отслужить обедню едва не вызвала бунт. Ее священникам угрожали жестокой расправой, а уж о музыке во время службы вообще речи быть не могло. Бедная Мария, должно быть, чувствовала себя еще большей иностранкой — и еще больше француженкой.
Но вот что она точно обрела во Франции, так это шарм. Как настоящая парижанка, уверенная в том, что очарует любого, она ездила по Шотландии, встречаясь со своими подданными. И действительно, народ таял, пусть даже не всегда понимал ее странноватый французский юмор. При посещении маленького монастыря Больё (весьма распространенное название в Британии того времени, рожденное скудным воображением жителей Средневековья, которые так и норовили окрестить все вокруг «красивым местом») Мария заметила: «Oui, c’est un beau lieu» [56]. Это примерно то же самое, как приехать в гавань Портсмута и воскликнуть: «Ага, это, должно быть, рот порта» [57].
Если шотландцы постепенно и проникались любовью к своей королеве, то чувство это не было взаимным. Как пишет Антония Фрейзер в биографии Марии, королева называла северных шотландцев знатными дикарями, а южан — дикой знатью; она догадывалась, что враждующие фракции лордов-католиков и лордов-протестантов строят самые разные козни против нее, в том числе и с похищением, чтобы потом силой выдать замуж за старшего сына клана.
Но Мария и ее родственники имели куда более серьезные амбиции. Гизы активно искали ей мужа, который был бы приемлем не только для шотландцев, но — прежде всего — для вездесущей соседки, Елизаветы I.
Казалось, обе королевы в душе сожалели о том, что они обе женщины, потому что их брак стал бы идеальным с точки зрения политики. Если бы только однополые браки были разрешены, история сложилась бы совсем по-другому, и многих страданий (особенно Марии) можно было бы избежать. Разумеется, женщинам пришлось бы усыновлять детей, но это было бы гораздо проще, чем сегодня, поскольку в те времена королевы сами создавали законы [58].
Но это все больше из области фантазий, а в реальности будущего mary (мужа) Марии приходилось искать исключительно среди европейских католиков, пока она не остановила свой выбор на англичанине, своенравном юноше, девятнадцатилетнем Генри Стюарте, лорде Дарнли. Он приходился кузеном Марии (у них была общая английская бабушка) и был очень хорош собой. В 1565 году он приехал на север навестить Марию и весьма предусмотрительно «заболел», так что был вынужден остаться в Стерлинг-Касл, где она его выхаживала. Двадцатидвухлетняя и, видимо, невинная Мария воспылала страстью к Генри, и, несмотря на крайнее недовольство Елизаветы и шотландских лордов-протестантов, они поженились. Церемонию, в ходе которой Генри стал королем Шотландии, лорды обошли полным молчанием.
Если в предыдущие годы жизнь Марии была полна неопределенности, то после этой свадьбы все прояснилось. Отныне ее ожидали лишь заточение и казнь.
Первый скандал разразился из-за франко-итальянского секретаря Марии, Давида Риччо, уродливого коротышки, который развлекал королеву — теперь уже беременную — карточной игрой и музыкой, в то время как ее молодой муж гонялся за сифилисом. Шотландские интриганы убедили откровенно тупого Генри Дарнли, что Риччо — любовник Марии, и как-то вечером в марте 1566 года эта шайка ворвалась в ее покои, вытащила визжащего секретаря в коридор и нанесла ему более пятидесяти ударов ножом. Генри спокойно взирал на эту сцену, а один из лордов прижимал дуло пистолета к животу Марии.
Хотя интриги и убийства были нормой повседневной жизни королевского двора шестнадцатого века, да и Францию терзали религиозные войны, пока там жила Мария, только сейчас до нее, похоже, дошло, какой жестокий мир ее окружает. Она подозревала, что коварные лорды пообещали Генри шотландский трон как правящему монарху, и, возможно, догадывалась, что нападение на Риччо должно было закончиться и ее убийством, а в живых она осталась лишь потому, что убийцы в последний момент попросту струсили.
Она постаралась побороть чувство отвращения к мужу и даже сумела убедить его в том, что простила недоразумение с Риччо. И ее стратегия сработала; как только лорды-интриганы увидели, что Генри принял сторону жены, их заговор рассыпался. По крайней мере, на какое-то время.
В июне 1566 года в Эдинбурге Мария родила сына Якова и решилась крестить его по католическому обряду (хотя и отказалась от существующей традиции, чтобы священник плевал в рот младенца). Торжества по случаю рождения мальчика включали представление в виде пантомимы, которое организовал лакей Марии, француз Бастиан Паж. Французские клоуны показывали английским гостям столь неприличные жесты, что это едва не стоило Бастиану жизни.
Лишь одна знаменитость отсутствовала на празднике — отец ребенка, Генри; он все больше отстранялся от своей жены, которую едва не убил, а теперь вынашивал планы похищения собственного сына.
Но Марии не пришлось долго терпеть нерадивого мужа. В феврале 1567 года, оправляясь в доме под Эдинбургом после очередного обострения сифилиса, Генри был убит группой шотландских заговорщиков во главе с харизматичным эрлом Ботвеллом. Их план едва не сорвался. Они как раз закладывали в подвал дома порох, когда Генри проснулся и, почуяв неладное, выпрыгнул из окна в ночной сорочке. Впрочем, заговорщики тут же его схватили и задушили, после чего все равно взорвали дом.
Пусть и с ребенком на руках, да еще с набором нервных болезней, Мария, королева Шотландии, вдруг снова стала очень желанной вдовой. Сознавая, какой непредсказуемой в очередной раз стала ее жизнь, она отправилась навестить своего сына Якова, надежно запертого в замке Стерлинг. Однако на обратном пути в Эдинбург кортеж Марии перехватил эрл Ботвелл, который убедил королеву в том, что ей грозит опасность и необходимо спрятаться — и почему бы не у него? Она приняла приглашение, и Ботвелл отвез ее в замок Данбар под Эдинбургом, где и изнасиловал.
Это был, конечно, брутальный, но политически точный ход: шотландский лорд, показавший себя настолько беспощадным, что смог силой овладеть королевой, был как раз тем героем, которого ждала страна, отчаянно нуждавшаяся в стабильности (а что вы хотите — шестнадцатый век). Бракосочетание состоялось спустя три недели — задержку вызвало то, что Ботвелл был женат, и ему пришлось спешно оформлять развод. Собственно церемония представляла собой скучное формальное мероприятие, и Мария сделала своему новому мужу единственный, наспех подобранный, подарок: шкурка меха из старой мантии своей матери.
Если и наступила хоть какая-то стабильность, то несправедливо кратковременная. Всего месяц спустя шотландские лорды, которые все приходились друг другу родственниками и, казалось, меняли свои политические приоритеты каждую неделю, подняли армию против Ботвелла и его сторонников. Пока две силы собирались на поле битвы у стен Эдинбурга, французский посол пришел умолять Марию оставить Ботвелла и выступить на стороне повстанцев, которые, по его словам, были преданы лично ей и обещали восстановить ее статус единственной королевы Шотландии (что, как бы невзначай, вновь превращало ее во французскую марионетку).
Мария отказалась, заметив, что многие из восставших еще недавно заключали заговоры вместе с Ботвеллом. К этому времени она уже пришла к печальному выводу о том, что в Шотландии не может доверять никому, кроме своего ближайшего окружения из французских слуг. И разумеется, о доверии французскому послу речи быть не могло, поскольку он служил ее заклятому врагу, Екатерине Медичи, которая хотела сохранить франко-шотландский альянс, но предпочла бы видеть на троне инфанта Якова, а не взрослую королеву Марию.
В конце концов великой битвы так и не состоялось, поскольку большая часть армии Ботвелла попросту дезертировала, когда он вышел на поединок «один на один» с противником. Марию, оставленную в одиночестве на вершине холма, взяли под стражу новые «союзники», солдаты которых приветствовали ее криками «Сжечь суку!» и «Утопить ее!».
Взаперти на озере
Вдруг оказавшаяся, как никогда, беззащитной и беспомощной, Мария — по-прежнему королева Шотландии — была помещена в замок Лохлевен, уединенную крепость посреди озера. Здесь ее заточили в башню и полностью отрезали от внешнего мира. Тем временем недруги распространяли по стране слухи об ее причастности к убийству Генри Дарнли, желая лишить ее какой бы то ни было поддержки народа. Убийственным доказательством ее вины представляли то, что после смерти мужа она пошла играть в гольф — очевидно, увлечение спортом считалось уголовно наказуемым.
И, на случай провала пропагандистской кампании, Марии пригрозили тем, что, если она не подпишет отречение в пользу своего годовалого сына Якова, ей перережут горло. Это было предложение, от которого она не могла отказаться.
Куда большим потрясением стало для нее известие о том, что регентом Джеймса выбрали Джеймса Стюарта, эрла Морея. Он был сводным братом Марии, одним из незаконнорожденных сыновей ее отца, и прежде входил в число ее ближайших советников. Нанеся такой блистательный удар в спину, Морей не только захватил власть, но и присвоил все драгоценности Марии. Когда-то у нее отобрали французские украшения, а теперь она лишилась всех фамильных ценностей. Это была последняя шотландская капля, переполнившая чашу ее терпения. Мария пресытилась этими северянами, она хотела вернуться во Францию.
Хотя ей было всего двадцать четыре года, она решила навсегда оставить политику и уединиться во французском монастыре или поселиться у Гизов и вести тихую жизнь. Ей даже удалось пересилить себя и написать Екатерине Медичи, умоляя прислать за ней французские войска и освободить ее. Наверное, ответ ее не удивил, потому что это было решительное «нет». Мало того что Екатерина отказала в помощи, она немедленно послала Морею официальное требование вернуть часть конфискованных ценностей.
В отчаянии Мария написала (по-французски) королеве Англии Елизавете, теперь уже у нее вымаливая поддержку. Но в тот самый день, когда она выводила пером свой крик о помощи, кузина Лиз любовалась украшениями Марии, которые ей продал Морей.
Так что Марии пришлось полагаться только на свою волю и хитрость, если она хотела сбежать из замка. После десяти месяцев заточения, в мае 1568 года, ее чарам (больше-то у нее ничего не осталось) поддался молодой кузен хозяев Лохлевена, который вывез ее из замка, спрятав в лодке. Узнав о том, что Мария на свободе, еще одна армия так называемых верных шотландских аристократов предложила ей выступить на ее стороне, но лишь для того, чтобы опозориться в самом разгаре битвы и прямо у нее на глазах, как это уже произошло однажды.
Мария, наверно, чувствовала себя безумно одинокой, преданная или покинутая абсолютно всеми, кто когда-то обещал ей помощь. Она стояла перед выбором: жизнь или смерть?
Стоило ли возвращаться «домой», во Францию? Нет, это было невозможно, поскольку Екатерина Медичи — слишком мстительный враг. Более того, в это время во Франции бушевали кровавые религиозные войны, в которых ее родственники, похоже, играли зловещую роль.
Или все-таки следовало остаться в Шотландии, доказать, что отречься пришлось под давлением, и попытаться силой отнять власть у регента? Да нет, пожалуй, она и это не могла сделать без надежных сторонников, и велика была вероятность, что их с сыном попросту убьют.
И Мария повернула на юг, в Англию, отдавая себя на милость собственной кузины, королевы Елизаветы. Хорошо известно, сколь неудачным оказался этот шаг…
Мария: экскурсии по замкам Англии
Здесь начинается история, всем хорошо знакомая, от заточения Марии в 1568 году до ее казни в 1587 году. Сначала ее держали в Карлайле, потом в Болтонском замке в Северном Йоркшире, и наконец самый продолжительный период, растянувшийся на пятнадцать лет, она содержалась в замке Татбэри в Стаффордшире [59].
Начало первой и последней поездки Марии в Англию оказалось зловещим: она отправилась в Камбрию морем и, сходя на берег, оступилась, упав на колени так же, как когда-то Вильгельм Завоеватель и Генрих V. Приближенные Марии, по-видимому, знали, что королевские особы генетически не способны правильно сходить с корабля, и знали, как принято комментировать это предзнаменование, а потому поспешили назвать его добрым знаком: мол, Мария держит в руках землю Англии.
Однако на английской земле произносить такие слова, пусть даже на шотландском или французском, было опасно, поскольку Елизавета I весьма нервно воспринимала притязания Марии на английский трон. Поэтому, вместо того чтобы отправить ее на свидание с кузиной, Марию тотчас заточили в замок, а тем временем в спешном порядке приняли закон, карающий за измену не только тех, кто строит козни против Елизаветы, но и тех, кто от этих заговоров выигрывает.
Мария признала закон и обещала отказаться от своих претензий на английскую корону. Она даже поклялась в том, что никогда не будет пытаться создать новый франко-шотландский альянс и что объявит вне закона католическую мессу в Шотландии. Но ни одна из этих уступок не гарантировала ей свободы.
Хуже того, Елизавета, похоже, поверила в ту ложь, что распространял о Марии в Шотландии эрл Морей, особенно с тех пор, как в Эдинбурге весьма кстати обнаружились новые «доказательства» участия Марии в заговоре с целью убийства Генри Дарнли. Ими послужили так называемые «Письма из ларца», послания, которые, как полагали, Мария писала Ботвеллу (человеку, который похитил и изнасиловал ее), и если так, то они прямо указывали на то, что она знала о заговоре и к тому времени уже состояла в любовной связи с Ботвеллом. Тот факт, что в некоторых письмах стояла подпись «Mary» — а Мария не подписывалась так никогда — и что одно письмо на французском кишмя кишит ошибками, которых Мария, свободно владевшая этим языком, не сделала бы никогда, казалось, никого не волновал.
Мария забрасывала Елизавету письмами, умоляя хотя бы об одной встрече — кузины с кузиной, женщины с женщиной, — чтобы разобраться в этом потоке лжи и решить все политические вопросы. Одна из этих просьб представляла собой поэму, в которой Мария сравнивала себя с утлым суденышком, брошенным дрейфовать в штормовом море судьбы. (Разумеется, поэму она написала на французском языке.)
Мария отправила послание также королю Франции Карлу IX, младшему брату своего первого мужа, короля Франциска: она просила у него помощи в память о давней дружбе. Без толку. Напротив, под влиянием Екатерины Медичи Карл лишил Марию денежного содержания, причитающегося ей как экс-королеве Франции, и даже конфисковал ее земли в Турене.
Так что Марии пришлось смириться со своим заточением и попытаться хоть как-то наладить новую жизнь, создав собственную мини-Францию с тридцатью слугами, в числе которых были личный секретарь-француз и конечно же французский доктор. Ей удалось добиться разрешения на спа-процедуры в термах Бакстона, неподалеку от Татбери, кроме того, она — как любая французская девочка, приезжающая погостить в английской семье, — брала уроки английского, точнее, пыталась совершенствовать свой английский, который до этого у нее явно хромал.
Но Мария вовсе не была старым добрым французским экспатом. Пока она принимала термальные ванны и практиковалась в разговорном английском, Папа настойчиво призывал Испанию вторгнуться в Англию, освободить Марию и выдать ее замуж за брата испанского короля Филиппа, который затем смог бы занять английский трон и вернуть страну в лоно католической церкви. Тем временем Франция всерьез рассматривала возможность альянса с Англией посредством женитьбы на Елизавете другого брата короля Карла IX, герцога Эркюля-Франсуа Анжуйского. В этой большой политической игре Мария становилась, в лучшем случае, расходным материалом, а в худшем — опасной угрозой для Англии.
В свете этого вполне логично, что ее окончательное падение планировалось английской разведкой, и французский посол в Лондоне принимал весьма активное участие в этом заговоре. Секретные письма, предназначенные для Марии, скапливались в посольстве, ожидая того дня, когда ей следует получить их. Некоторые из них были предательскими, но Марию можно было бы обвинить по действующему закону, если бы она действительно их прочла и, еще лучше, на них ответила. Так что потенциальный почтальон, английский католик по имени Гилберт Гиффорд [60], пришел в посольство и предложил свои услуги по доставке писем в Татбери, на что французы с радостью согласились.
И так случилось, что началась переписка между Марией и ее французскими сторонниками, причем все корреспонденты пребывали в счастливом неведении относительно того, что каждое письмо прочитывается мастером шпионажа, сэром Фрэнсисом Уолсингемом, главой секретной службы королевы Елизаветы. Уолсингем все ждал, когда проскользнет хоть слово, которое можно использовать в качестве доказательства государственной измены, и не мог поверить своей удаче, когда в игру вступил новый друг по переписке, английский джентльмен по имени Энтони Бэбингтон, который увидел в Марии католическую святую и решил предпринять дерзкую попытку ее освобождения.
В июле 1586 года Бэбингтон прислал письмо, в котором объявил о своем намерении убить Елизавету и посадить на трон Марию. Как будто ведомая судьбой-злодейкой, Мария ответила, что, если ее хотят видеть королевой Англии, без французской помощи не обойтись. Антония Фрейзер в биографии Марии намекает на то, что она, возможно, и не одобряла идею убийства Елизаветы и что ее ответ содержал лишь предположения «что, если…», как это принято у французов, которых хлебом ни корми, дай пофилософствовать. Но для Уолсингема этого было вполне достаточно. Мария одобрила убийство Елизаветы, и, стало быть, факт государственной измены налицо.
Мария тщетно твердила о том, что, являясь главой иностранного государства, не может предстать перед английским судом. И собственно, так оно и было, но принятый Елизаветой закон о судебном преследовании за организацию заговоров против нее распространялся даже на иностранных королев.
Сознавая, что находится в смертельной опасности, Мария разыграла последнюю карту, козырнув влиятельными связями, и сделала одно из своих знаменитых заявлений, в котором содержался намек на то, что если ее обидят, то Англии грозит франко-испанская интервенция. «Вспомните, — предупредила она судей на первичных слушаниях, — что сцена мирового театра обширнее королевства Англии». Прозвучало очень по-французски, и одного этого уже было достаточно, чтобы отправить Марию на встречу тет-а-тет с топором. Что?! Предположить, что есть нечто более обширное, чем елизаветинская Англия? А ну-ка, голову ей с плеч!
Екатерина Медичи, мягко говоря, недолюбливала Марию, но не могла допустить, чтобы экс-королеву Франции казнили, как обычную уголовницу, тем более англичане. Так что французский король — теперь трон занимал уже Генрих III, еще один из бывших родственников Марии по линии мужа, — пообещал, что впредь не будет поддерживать никакие заговоры против Елизаветы, если Марию пощадят. К сожалению, англичане не нуждались во французских обещаниях, да и не доверяли им, а Генриха попросту игнорировали.
Между тем Шотландия хранила молчание — и неудивительно, если учесть то, что сын Марии, король Яков, теперь уже способный мыслить самостоятельно двадцатилетний монарх, успел подписать альянс с Елизаветой. И когда английские послы спросили Якова, нарушит ли он альянс, если его мать обезглавят, он ответил: «Нет».
Бедная Мария была обречена.
Мария, похоже, с оптимизмом воспринимала неотвратимую гибель, смирившись с тем, что игра проиграна. Она объявила, что готова стать мученицей за веру — «с Божьей помощью я умру в католической вере», — и даже призвала Филиппа Испанского захватить английский трон и покончить с протестантством.
Но, даже несмотря на этот дерзкий политический вызов со стороны Марии, Елизавета I все не решалась подписать смертный приговор. Похоже, ей совсем не хотелось своими руками лепить образ мученицы, да и побаивалась она репрессий со стороны католических стран. Она даже пыталась убедить тюремщиков втихомолку расправиться с Марией — в самом деле, история знает немало несчастных случаев, произошедших с королевскими особами в заключении: скажем, кто-то нечаянно проткнул себя раскаленным железным прутом, ну и тому подобные страшилки. Когда тюремщики отказались (чары Марии еще действовали), Елизавета якобы случайно подписала приговор: она попросила секретаря положить его к остальным бумагам, а потом просто сказала, будто «не заметила», что подписывает. Как только дело было обстряпано, она устроила целое шоу — сделала вид, что не хочет расставаться с документом, но почему-то не остановила своих помощников, когда те с приговором отправились к последнему месту заточения Марии, замку Фотерингей в Нортгемптоншире.
Вечером 7 февраля 1587 года в замок Фотерингей к сорокачетырехлетней Марии прибыли с визитом графы Кентский и Шрусбери, чтобы сообщить о том, что утром ее ждет казнь. Мария уже была готова к этому, но поклялась на Библии в том, что невиновна в организации заговоров с целью убийства Елизаветы. Граф Кентский заявил, что ее клятва ничего не значит, потому что Библия католическая. Мария с убийственной французской логикой сказала: «Если я клянусь на книге, которую считаю достоверной, то неужели ваша светлость поверит моей клятве больше, если я поклянусь на переводе, который не понимаю?» Пока бедный граф пытался разобраться в сказанном, ее уже казнили.
Последнюю ночь Мария провела за составлением завещания и письмами. Она просила, чтобы мессу отслужили во Франции, а наследство оставляла монахам Реймса. Потом составила официальную просьбу похоронить ее во Франции, в одном из королевских соборов Сен-Дени или Реймса, — в этом французы нелюбезно ей отказали.
Утром она смело двинулась к плахе и велела своим слугам рассказать ее друзьям, что она «умерла верной своей религии, настоящей шотландской женщиной и настоящей француженкой». Когда ее слуги запричитали, она попросила их — по-французски, разумеется, — замолчать.
После того как дело было сделано (говорят, все обошлось двумя ударами мясницкого топора), палач поднял голову Марии, схватив ее за знаменитые рыжие волосы, и в его руке остался парик. Голова упала на землю, и все увидели настоящие волосы, преждевременно поседевшие за долгие годы заточения.
Франция скорбела в лучших традициях политического лицемерия. В соборе Нотр-Дам отслужили заупокойную мессу, на которой присутствовали Генрих III и его мать Екатерина Медичи, которая, смеем надеяться, воздержалась надевать украшения, конфискованные у Марии. Архиепископ прочитал проповедь, яростно прошипев, что «топор варвара-палача изуродовал тело, которое украшало постель короля Франции». В глазах французов было, конечно, вдвойне недопустимо казнить красивую женщину.
А в Шотландии сын Марии, король Яков, отреагировал на известие об ее смерти со стоицизмом, который кто-то назовет равнодушием. Он лишь произнес: «Теперь я единственный король». Спустя некоторое время он сказал, что ее казнь была «нелепой и странной процедурой». Но это, согласитесь, мало похоже на всплеск сыновнего или патриотического негодования.
И все-таки напрашивается вопрос: Мария — королева Шотландская?
Ну, строго говоря, да, хотя с учетом того, что ее предал каждый мало-мальски влиятельный шотландец, неудивительно, что перед смертью она видела себя исключительно француженкой. Именно во Франции она хотела быть похороненной, и последнее в своей жизни письмо адресовала французскому королю Генриху III, в котором сказала, что ее убивают как французскую угрозу английскому трону. Она как будто забыла, что ее родственники по материнской линии, Гизы, рисковали ее жизнью, втягивая в свои религиозные политические игры, и что Екатерина Медичи была, прошу прощения, такой сукой по отношению к ней.
А в смысле политики именно французы, а не шотландцы, потеряли многое, когда Мария потеряла голову. С ее смертью Франция лишилась единственного в Европе человека, который мог реально занять английский трон, не заставляя изощряться французского посла. Сын Марии, король Яков Шотландский, слишком сдружился с Елизаветой, что не могло понравиться Франции, но даже в свои сорок четыре Мария теоретически вполне могла выйти замуж за француза, унаследовать английскую корону после смерти Елизаветы (неважно, насколько естественной) и приструнить своего заблудшего сына Якова. Для Франции мог бы получиться фантастически удачный расклад: с Марией на английском троне и Яковом в Шотландии, всей Британией вновь можно было бы управлять с французской стороны Ла-Манша, как это было во времена Вильгельма Завоевателя.
Но всего одним ударом английского топора, точнее — двумя ударами, эта французская мечта была разбита. Франция потеряла потенциальную колонию, а все из-за упрямого нежелания стать опорой для человека, который наилучшим образом представлял ее интересы. Эта тенденция нашла продолжение в разных уголках земного шара…
Глава 6 Французская Канада, или Как потерять колонию
Французские короли позволяют бриттам украсть полконтинента
Французы видят в своих канадских братьях причудливое напоминание о прошлом. Жители Квебека говорят с акцентом, который большинство французов находят примитивным, даже комичным, чем-то вроде крестьянского говора семнадцатого века. Квебекцы употребляют забавные слова, как, например, char вместо car (автомобиль), blonde (блондинка) вместо girlfriend (подружка), а ругательствами у них служат древние религиозные термины — sacrament (таинство) и tabernacle (молельня)! Когда у жителя (или жительницы) Квебека берут интервью для французского телевидения, его (или ее) речь обычно сопровождают субтитрами на «нормальном французском», словно язык, на котором говорят во франкоязычной Канаде, настолько варварский, что парижане его попросту не поймут. Короче, французы относятся к квебекцам примерно так же, как нью-йоркцы к алабамцам. Разве что слегка отдраить — тогда сойдет.
Но в то же время любое упоминание об истории Квебека тотчас разжигает в сердце каждого француза антибританский и антиамериканский огонь, как если бы кто-то заикнулся о превращении их любимого кафе в «Старбакс». Канаду украли у Франции, станут уверять вас французы, и, если в разговоре вдруг всплывет Акадия, вам придется выслушать гневную речь по поводу британского геноцида. (Ну, это если собеседник знает об Акадии. Многие французы понятия не имеют, что это за штука — может, имя поп-звезды или уменьшительно-ласкательное прозвание Французской академии?)
Акади (Акадия) — так по-французски называлась нынешняя Новая Шотландия, полуостров на северо-востоке Канады, который в 1713 году, после полуторавековой конфронтации, наконец отошел Британии по Утрехтскому договору; после этого французских жителей Акадии, отказавшихся подчиниться британской короне, изгнали. В 1750-х годах около 12 600 жителей Акадии были насильно вывезены из Канады морем, и большинство из них осели как беженцы в Новой Англии, Британии, Франции и Луизиане (слово «каджун», которым обозначают франкоязычных жителей Луизианы, есть не что иное, как искаженное «акадиец»).
Если вы посетите остров Бель-Иль-ан-Мэр, неподалеку от побережья Бретани, то в его столице, Ле-Пале, найдете постоянную выставку, посвященную поселенцам из Акадии. На официальном веб-сайте острова есть трогательная страничка об акадийских беженцах, где рассказывается о «диаспоре этих скромных, миролюбивых людей, чья цивилизация была построена на вере в Бога, уважении к своим предкам и трудолюбии». Если коротко, Акадия, наряду с такими именами, как Жанна д’Арк, ассоциируется в памяти с подлым британским предательством и бессердечной франкофобией.
Однако, как это уже было с Жанной д’Арк, французы, похоже, забывают о своей далеко не выдающейся роли в этом деле…
В Новом Свете не нашлось места для Франции
Как только Колумб вернулся из своего первого трансатлантического плавания, король Испании и король Португалии попросили Папу даровать им в собственность открытые земли. Что он и сделал, позволив этим странам прочертить на имеющейся карте Западного полушария перерезающую Атлантику пополам линию от полюса до полюса. Все, что оказалось к востоку от этой линии — побережье Африки, обширные пространства океана и выступающая часть Бразилии, — отошло Португалии. Открытые земли к западу от линии были переданы Испании. Грубо говоря, 7 июня 1494 года, по Божественному повелению, Северная и Южная Америка почти целиком стали испанскими.
Францию крайне возмутило это обстоятельство, хотя все было ожидаемо, поскольку действующий Папа, Александр VI, он же Родриго Борджиа (да-да, из тех самых Борджиа [61]), стал понтификом по итогам выборной кампании, в которой были задействованы и политические лобби, и истеблишмент, и высокие обещания, и — как полагают — не обошлось без взяток. А Франция поддерживала конкурента Борджиа, расщедрившись аж на 200 000 золотых дукатов (по нынешним меркам, громадная сумма). Что ж, нет ничего удивительного в том, что Франция пролетела мимо одобренной Папой карты Нового Света.
Французы считали все это вдвойне несправедливым, поскольку, по их утверждению, именно они открыли Новый Свет задолго до Колумба. (Почему-то никому в голову не приходило, что коренные жители Америки могли открыть эти земли, а не прорасти в них, словно кактусы, да и никто не знал об экспедициях викингов в одиннадцатом веке. Они упоминались лишь в исландских сагах, но «Сага о гренландцах» еще не стояла на полках французских публичных библиотек. Может, просто потому, что во Франции пятнадцатого века публичных библиотек не было вовсе.)
В «Истории французской колонизации» издания 1940 года Анри Блэ ссылается на то, что церковь в Дьеппе еще в 1440 году была украшена мозаикой с изображением американских индейцев и что в городских архивах хранились записи моряков, которые бывали в Южной Америке, по крайней мере, за пятьдесят лет до Колумба. Мсье Блэ пишет, что по трагическому стечению обстоятельств все эти доказательства были уничтожены во время бомбежки Дьеппа англичанами в 1694 году. В общем, как всегда, виноваты англичане.
Тот же автор пишет, что «рыбаки из Байонна» (город на юго-западе Франции) издавна вели промысел китов на острове Ньюфаундленд у берегов Канады, но тут же все портит, упоминая, что они называли остров Баккалаос, а это название — производное от испанского названия трески. На самом деле эти рыбаки были басками, а не французами: это баски веками вялили и солили там рыбу, по понятным причинам сохраняя в секрете сведения о богатых рыбных запасах.
Мсье Блэ добавляет, что рыбаки из Нормандии, Бретани и Ля-Рошели тоже добирались до Канады за десятки лет до того, как Колумб пересек Атлантику, и делает вывод о том, что «французы приложили руку к этим великим открытиям. Только они держали в тайне свои путешествия…». Признаемся, что это был первый (и последний) случай в истории, когда французы не трубили о своих достижениях.
Как бы там ни было, синьор Борджиа, он же Папа Александр VI, издал буллу, признававшую за Португалией и Испанией право на владение Новым Светом. Можно усмотреть в этом легкую иронию судьбы, поскольку одной из диковин, привезенных обратно Колумбом, был сифилис — болезнь, которую потом подхватит греховодник Папа.
Генрих VII Английский, презрев недовольство Папы, снарядил экспедицию мореплавателя Джованни Кабото (тоже итальянец, как и Колумб), изменив его имя на Джон Кэбот, чтобы его открытия более убедительно звучали по-британски. В 1497 году Кэбот исправно «открыл» Северную Америку (Колумб не продвинулся севернее Карибского моря), хотя, наверное, помахал рукой баскам, когда прибыл на Ньюфаундленд — если вообще доплыл туда. Его карты были не настолько точны, чтобы кто-нибудь смог в них толком разобраться. Что, возможно, объясняет и его внезапное исчезновение во время второй экспедиции в 1498 году.
Тем временем французы развлекали себя жалобами на правление Папы. Все тот же Анри Блэ пишет, что король Франциск I ограничивался лишь нотами протеста в адрес испанцев, взывая к их совести: «Солнце светит для меня точно так же, как и для всех других людей, и я бы хотел увидеть тот пункт в завещании Адама, который исключает меня из дележа». Может, и остроумно, но не очень продуктивно, поскольку испанцы попросту его проигнорировали.
Позовите мистера Дарси!
В последующие два столетия английские и французские монархи только и делали, что отправляли через Атлантику исследователей и поселенцев, чтобы завладеть рынком бобровых шкур и трески. Французы, прибывающие на восточное побережье Америки, обычно бывали биты, но не бриттами, а дрязгами и склоками в своих же рядах. Все это время Францию раздирали религиозные войны, которые тормозили ее попытки колонизировать мир: дело в том, что крупнейшие судовладельцы были протестантами, в то время как страной обычно правили католики. Все, что требовалось от бриттов, это поддерживать огонь религиозных разборок и отправлять свои полупиратские корабли грабить французские колонии, которым удалось выжить в отсутствие внимания или должного управления со стороны метрополии.
По этой причине к концу 1600-х годов французские территории оказались в основном спрятанными в глубине материка, вдоль реки Сент-Лоуренс, в крепко укрепленных поселениях вроде Квебека и Монреаля, в то время как британские колонии протянулись от Вирджинии вверх до самого Мена, и на этой территории проживали тысяч двести плантаторов и торговцев. Население французских колоний едва дотягивало до двадцати тысяч, и все из-за того, что французы настаивали на отправке в поселения монахинь и священников-иезуитов, а ни те, ни другие не отметились в истории как группы с высокой рождаемостью.
Была и другая проблема: в 1590-х годах французский король Генрих IV постановил, что французские поселения должны располагаться выше сорокового градуса северной широты, подальше от вездесущих испанцев. Принимая такое решение, он полагал, что климат на сороковых широтах в Северной Америке такой же, как в Европе. И когда французские колонисты умирали от холода в Канаде, их стоны — «Но разве мы не на той же широте, что и Венеция?» — заглушали арктические ветры.
Но даже при таком раскладе к началу восемнадцатого века французы с завидным упорством продолжали осваивать Нувель Франс (Новую Францию, как они называли французские территории в Канаде) и Акадию, свою полоску канадского побережья. Что ж, тем более позорно, что в итоге Франция отдала эти земли бриттам.
В 1713 году король Людовик XIV подписал Утрехтский договор, согласно которому, помимо всего прочего, отказывался от притязаний на Ньюфаундленд и Акадию в обмен на снижение пошлин на французские товары, импортируемые Британией, а также от обладания Эльзасом, областью в восточной Франции. Короче говоря, канадское побережье было принесено в жертву более ценным и близким к дому интересам. Вот за что квебекцы до сих пор ненавидят Францию.
В Акадию тут же хлынул поток англоговорящих колонистов и солдат. В 1749 году бритты основали город Галифакс, намереваясь превратить его в новую, не франкоговорящую столицу. И акадийцы совсем не обрадовались, когда в 1754 году губернатором Новой Шотландии стал Чарльз Лоуренс, человек того типа, который описала в своих произведениях Джейн Остин: высокомерный английский фанатик, уверенный в том, что закон на его стороне, а потому он имеет право на любые отвратительные деяния. Джейн Остин наверняка призвала бы мистера Дарси [62], чтобы тот сбил спесь с губернатора, но, к сожалению, место действия находилось слишком далеко от сельской английской глуши, на диком полуострове в отдаленной части мира, где смерть была делом привычным, и целые общины стирались с лица земли или бесконечно переселялись с места на место на памяти одного поколения.
Лоуренс, человек военный, был садистом, наделенным неограниченной властью. Ко всему прочему, он чрезвычайно подозрительно относился к акадийцам и одним из первых актов потребовал, чтобы все они присягнули на верность Британии и дали согласие нести активную военную службу, отражая вторжение любого неприятеля — например, Франции. Акадийцы, естественно, отказались, и не только потому, что не хотели стрелять в своих бывших соотечественников. Им не хотелось, чтобы их отрывали от работы на земле и охоты каждый раз, когда какой-нибудь самовлюбленный парижский командир решит сунуть нос в их владения.
Лоуренс ответил введением абсурдно суровых наказаний за любые проявления нелояльности. Скажем, если акадийцу было приказано доставить в британское поселение дрова, а он тянул с исполнением, его дом разбирали на растопку. Лоуренс распорядился конфисковать у акадийцев ружья и каноэ — жизненно необходимые инструменты для охоты и рыбалки, он также планировал обратить всех французских поселенцев в англиканскую веру. Неудивительно, что акадийцы стали искать убежища подальше от этого английского сумасшедшего, благо Новая Шотландия была обширным и неосвоенным полуостровом с множеством рек и речушек, способных прокормить опытного рыбака и охотника.
Понятное дело, взбешенный коварством французов, подрывающих его авторитет, 28 июля 1755 года губернатор Лоуренс отдал приказ о начале депортации.
Он запросил Новую Англию прислать ему флот из двух десятков грузовых кораблей, с трюмами, переоборудованными в тюремные камеры без окон и удобств (колонизаторы из Новой Англии давно освоили такой вид транспорта, поскольку успешно практиковали работорговлю). Тем временем возле деревни Гран-Пре в Новой Шотландии расположились лагерем солдаты — тоже из Новой Англии; до поры они, согласно приказу, не предпринимали никаких действий, так как стояла пора сбора урожая, и губернатор хотел, чтобы акадийцы оставили после себя хорошие запасы свежих продуктов.
Не догадываясь о том, что на уме у солдат, мирные поселенцы продолжали жить, как раньше, но заподозрили неладное, когда к берегу подошли пять порожних грузовых кораблей, и Чарльз Лоуренс распорядился, чтобы все совершеннолетние лица мужского пола собрались в три часа пополудни 5 сентября в церкви Святого Чарльза в деревне Гран-Пре. (Трудно сказать, был ли выбор места шуткой. Возможно, нет. Чарльз Лоуренс не страдал несерьезностью.) Было объявлено, что тем, кто проигнорирует распоряжение губернатора, грозит «конфискация движимого и недвижимого имущества».
В тот день в церкви собралось 400 мужчин и юношей, которым некий полковник Уинслоу изложил «окончательную резолюцию Его Величества по дальнейшей судьбе французских обитателей Его провинции Новая Шотландия, которые до сих пор пользовались большей благосклонностью Его Величества, нежели остальные доминионы». Полковник Уинслоу сказал, что ему «весьма неприятно» делать то, что он намерен сделать, «и это так же печально для вас, потому что вы тоже представители рода человеческого». (Что ж, по крайней мере, он признал в акадийцах людей.) Далее он объявил: «Земли и постройки, домашний скот всех видов конфискуются в пользу Британской короны со всеми вашими личными вещами, сбережениями, деньгами и хозяйственной утварью, а вы сами перемещаетесь из этой провинции».
Это было, мягко говоря, шокирующее заявление, но Уинслоу сказал, что бритты играют по-честному, и прибавил: «От лица Его Величества я разрешаю вам взять с собой столько денег и утвари, сколько вы сможете унести, но так чтобы не перегрузить корабли». Учитывая то, что корабли могли вместить строго определенное количество пассажиров, это было заведомой ложью.
Он также пообещал, что «семьи в полном составе последуют на одном корабле», и это еще одна ложь, подтверждаемая приказом, который Лоуренс отдал одному из организаторов погрузки, некоему полковнику Роберту Монктону: «Я бы на вашем месте не стал дожидаться, пока подтянутся жены с детьми, отправляйте мужчин без них».
Поначалу объявление, сделанное в церкви, акадийцы встретили недоумением, поскольку по-английски знали только пару слов: «треска» и «бобер». Судя по всему, единственным лингвистом среди собравшихся был акадиец Пьер Ландри, который перевел британскую резолюцию, как только сам оправился от потрясения.
Тотчас зазвучали мольбы акадийцев о смягчении наказания. Некоторые предлагали заплатить выкуп за свое освобождение и переселиться на французские земли вглубь материка, но им было отказано. Другие умоляли разрешить им пойти домой и рассказать своим женам о том, что происходит, чтобы те могли собрать вещи. В конце концов малочисленную делегацию выпустили, а остальных Уинслоу оставил в качестве заложников, отправив 250 молодых людей в трюмы стоящих на якоре пяти кораблей.
Лишь к 8 октября подошла основная часть грузового флота, и Уинслоу мог начинать массовую депортацию. А за это время с кораблей спрыгнули двадцать четыре человека, причем двоих застрелили при попытке к бегству. Подходили женщины и дети, чтобы присоединиться к мужьям; они несли с собой столько скарба, сколько могли поднять, но, несмотря на обещания британцев, им пришлось бросить вещи на берегу, где они и оставались, пока их не обнаружили английские поселенцы, которые прибыли спустя пять лет.
Двадцать седьмого октября в море вышли четырнадцать кораблей с 3000 мужчин на борту, запертыми в трюмах, как рабы, и полуголодными. Если бы на кораблях имелись бортовые иллюминаторы, акадийцы увидели бы пламя и дым, поднимающиеся над их поселениями, где солдаты поджигали дома и амбары, обеспечивая полную зачистку территории.
В других местах Новой Шотландии депортация проводилась так же жестоко, но менее эффективно. Мужчины сбегали, многие семьи уходили в леса, скрываясь от поисковых отрядов, и, как могли, пытались выжить в суровом климате и без еды. Кое-где целые деревни снимались с насиженных мест и мигрировали вглубь материк в надежде создать новые поселения, где их не нашли бы бритты.
Чтобы акадийцы не могли получить помощь от дружелюбных индейцев, Лоуренс посулил местному племени микмаков щедрое вознаграждение: 0,30 пенсов (небольшое состояние) за каждого мужчину и 0,25 пенсов за женщину или ребенка, пойманных живыми, и — страшно сказать — 0,25 пенсов за скальп мужчины (хотя не очень понятно, как он собирался определять принадлежность скальпа).
Шла масштабная этническая зачистка, которую бритты не практиковали со времен Столетней войны, с той лишь разницей, что жертвы множились от давки в корабельных трюмах и голода и редко кто погибал от удара меча.
Всего, за период с 1755 по 1763 год, было депортировано около 12 600 акадийцев из тех 18 000, что составляли общину. Полагают, что 8000 умерли, включая тех, кто сбежал или спрятался.
Нельзя сказать, что Франция очень уж переживала за судьбу своих колонистов. Никто не поперхнулся, когда злой на язык Вольтер выразил словами то, что думали парижане о Канаде, написав в письме после разрушительного лисабонского землетрясения 1755 года: «Лучше бы землетрясение проглотило эту убогую Акадию». Вольтера часто поминают (по крайней мере, в Квебеке) также из-за того, что в 1757 году он сокрушался по поводу вражды между Британией и Францией за «несколько акров [63] снега в Канаде». И французские канадцы, у которых припасен целый список подобных цитат, нередко вспоминают еще одну декларацию Вольтера 1762 года: «Я бы предпочел выбрать мир, а не Канаду».
Нельзя сказать, что депортация акадийцев была звездным часом Британии или Новой Англии. Вот почему эти события упоминаются в книгах по английской истории гораздо реже, чем героические сухопутные операции на материке…
Волк в шкуре Вольфа [64]
В 1756 году, спустя год после начала депортации Акадии, разразилась Семилетняя война, и, вместо того чтобы размениваться на мелкие стычки, Франция и Британия вступили в официальную широкомасштабную битву за военное присутствие в своих колониях в Северной Америке и других частях земного шара.
Акадию более или менее оставили в покое, бросив на произвол судьбы, но для защиты своих интересов в остальной Канаде Франция отрядила опытного солдата — Луи-Жозефа де Монкальм-Гозона, маркиза де Сен-Веран (в наше скупое на слова время его обычно именуют просто Монкальм). Он участвовал в нескольких европейских конфликтах и был ранен мечом и мушкетной пулей. Весной 1756 года он пересек Атлантику с 1200 солдатами, чтобы поддержать четырехтысячное войско, уже базировавшееся в Нувель Франс. В его распоряжении имелись также около 2000 местных ополченцев, хотя он и знал, что вояки из них никудышные: их гораздо больше занимало потрошение животных, а не международные войны.
Поначалу Монкальм провел ряд успешных рейдов против бриттов, с захватом крепостей и столь необходимых пушек и амуниции. Но помощь, обещанная Парижем, запаздывала, поскольку британцы перехватили большую часть французских конвоев, и в сентябре 1759 года Монкальм укрылся в надежно укрепленном Квебеке.
И вот тут в игру вступил английский генерал Джеймс Вольф, который и должен был нанести решающий удар. Тринадцатого сентября 1759 года Вольф прибыл в Квебек, сумев пройти 450 километров вверх по реке Сент-Лоуренс с огромной армией из 9 000 солдат и 18 000 матросов на 170 ботах, — во многом благодаря тридцатилетнему капитану Джеймсу Куку, обладавшему талантом навигатора и картографа, который спустя годы сослужил ему хорошую службу.
Французы весьма комфортно чувствовали себя в городе-крепости на вершине неприступной скалы, им казалось, что долгий речной круиз Вольфа — совершенно напрасное предприятие. Но генерал категорически отказывался признавать поражение и послал отряд на штурм прибрежных скал. В иных обстоятельствах это ничуть не обеспокоило бы Монкальма, но бритты выгрузили на берег пушки, и он опасался, что британцы подвергнут город бомбардировкам, поэтому лично вывел из крепости 5000 солдат, чтобы сбросить противника в реку.
Вольф тоже вел в атаку свои войска, и у него был свой, смелый и хладнокровный стиль лобовых атак. Он позволил французам подойти совсем близко, так что между противниками оставалось метров сорок, а потом приказал своим солдатам открыть шквальный огонь из мушкетов, убийственным залпом опрокидывая оборону и вынуждая уцелевших французов — многие из которых были те самые ополченцы — мгновенно отступить. Сражение окончилось через четверть часа, и Квебек был взят.
Но оба командующих остались лежать на поле боя, смертельно раненные. Когда Вольфу доложили, что враг отступает, он сказал: «Слава богу, я умру спокойно» — и не замедлил это сделать. Тем временем Монкальму сообщили, что он не оправится от полученных ран, и он простонал: Tant mieux — «тем лучше». Казалось, он уже знал, что битва за Канаду проиграна.
Ступайте домой (если знаете, где дом)
Другой важный для Франции город материковой Канады, Монреаль, капитулировал годом позже. Бритты не тронули мирных жителей, и они там и остались, отрезанные от Франции, со своим архаичным акцентом и католическими большими семьями, благодаря которым большинство квебекцев следующего поколения имели по десять братьев и сестер.
Акадийцев лишили такой роскоши. Для тех, кто пережил тюрьму и изгнание, страдания еще не закончились.
Британские колонии не были предупреждены о надвигающейся волне беженцев, хотя губернатор Новой Англии Уильям Ширли активно участвовал в процессе депортации. Около 1500 акадийцев высадились в Вирджинии и Новой Каролине, но им отказали во въезде и вынудили жить на берегу или на кораблях в ожидании дальнейшей отправки в Англию.
Когда они снова покинули Америку, два судна затонули в Атлантике, а с ними и 300 человек, хотя тем, кто выжил, вряд ли пришлось слаще. Годами акадийцы жили в хижинах у Саутгемптонской гавани, в заброшенных гончарнях Ливерпуля и разрушенных зданиях Бристоля, и все они считались военнопленными.
Около 2000 беженцев прибыли в Массачусетс; многие умерли там от оспы, остальным пришлось идти в прислуги. А ниже вдоль побережья, в Нью-Йорке, 250 человек были брошены в тюрьмы или отданы в рабство.
В Мэриленде к акадийцам относились немногим лучше, чем к рабам, и если они немедленно не находили работу, пусть даже самую черную, то их сажали в тюрьму. При попытках покинуть колонию их убивали. Между тем в Пенсильвании всех акадийцев сначала запихнули в грязный вонючий городишко под Филадельфией («город братской любви»), а потом отказывали им в праве на работу. Многих подталкивали к эмиграции на Гаити, где французский губернатор острова использовал их как рабов на строительстве военно-морской базы.
Bienvenus en France [65]
В 1763 году Франция и Британия подписали Парижский договор, согласно которому вся Канада, за исключением пары крохотных островков неподалеку от Атлантического побережья, Сен-Пьер и Микелон, переходила к Британии. Одной из целей этого договора было улучшение франко-британских отношений, что позволило бы Франции вернуть своих военнопленных, акадийцев. Или, если посмотреть с другой стороны, теперь, когда война окончилась, у бриттов и американских колонистов появилась возможность избавиться от проблемных франко-канадских беженцев.
Соответственно, почти всем акадийцам, которым удалось выжить в эти годы заточения, рабства, лишений и уроков плохого английского, «разрешили» эмигрировать из американских колоний и Англии. Несколько сотен «счастливчиков» отправились на Гаити, но вскоре пожалели об этом: как и раньше, французы относились к ним не лучше, чем англичане, и половина умерла от недоедания и болезней. Несколько десятков эмигрантов были вывезены на Фолкленды, но очень скоро отправлены обратно, когда Франция уступила эти острова Испании. Около 1500 акадийцев пробрались во французскую Луизиану, где их имя исковеркали, и они стали каджунами.
И почти 4000 акадийцев выехали во Францию, из которых семьдесят восемь семей поселились на острове Бель-Иль. Эти новые беллильцы теперь имеют собственный музей в крепости Ле-Пале. Постоянная экспозиция показывает их в душераздирающих сценах депортации из Канады или благодарно взирающими на свои маленькие коттеджи на новой родине.
На Бель-Иль им дали землю и скот (не всякий французский крестьянин мог похвастаться таким богатством), и, как уверяет веб-сайт туристического бюро острова, «они довольно быстро ассимилировались среди местного населения, и в первый же год был всплеск смешанных браков».
Помимо того, что странно слышать о «смешанных браках» среди людей одинакового этнического происхождения (этот термин вообще-то всегда режет слух, но в данном случае особенно), владеющих одним языком, это к тому же и не вся правда. Акадийско-каджунский веб-сайт рассказывает, что «из-за эпидемий среди скота, неурожаев, засухи и сопротивления местных колония за семь лет вымерла».
Так что похоже, и во Франции акадийцы не чувствовали себя как дома. Ведь если вдуматься, они забирали землю, еду и работу у бедствующих французских крестьян. Более того, они заводили шашни с местными блондинками. Да и наверняка ставили ловушки на бобров, в которые попадались собаки и кошки островитян. И — что уж совсем недопустимо! — говорили со смешным акцентом.
За пару лет более 1500 акадийцев, «репатриированных» во Францию, снова покинули ее берега. Большинство отправилось к своим бывшим соседям, обосновавшимся в Луизиане. Впрочем, и новое прибежище оказалось временным, поскольку Франция уже собиралась продавать эти земли все тем же добродушным американским колонистам.
Сакраменто и табернакль!
Глава 7 Шампанское: дом Периньон всё не так понял
«Женщина — это все равно что шампанское: …во французской упаковке — дороже стоит»
(М. Агеев, «Роман с кокаином»)Доказано, что французы не изобретали свой национальный напиток
Франция — чрезвычайно протекционистская страна, особенно в том, что касается ее культуры. А вот частью культуры, о которой Франция больше всего печется и которую тщательнее всего охраняет, является вовсе не кино, не живопись и не великая французская литература, а еда и питье. И нет ничего удивительного в том, что во французском языке слова culture («культура») и agriculture («сельское хозяйство») одного корня: и то, и другое и есть французская la culture.
Чем больше всего гордится Франция в (агро) культуре и что приносит ей доход, равно как и мировой престиж, так это шампанское. Или Champagne, с заглавной буквы «С», поскольку, это, разумеется, имя собственное.
Франция настолько трепетно относится к Champagne, что даже настояла на внесении пункта об исключительном праве на это наименование в Версальский договор, который официально положил конец Первой мировой войне. Да-да, целое поколение молодых французов полегло на полях сражений, несколько сотен тысяч мирных граждан были убиты, едва ли не десять процентов французского населения получили ранения, а у Франции нашлось время озаботиться винными этикетками.
Озабоченность была вызвана тем, что во время войны окрестности Реймса серьезно пострадали от бомбежек и выкопанных траншей, так что объемы производства шампанского резко сократились. Оно и понятно: довольно непросто собирать урожай винограда под минометным обстрелом. Франция справедливо опасалась, что образовавшуюся на рынке брешь могут заполнить другие игристые вина — из Америки, Италии, Испании или даже Германии. В результате появилась статья 275 (всего их 440) Версальского договора, в которой говорилось, что «Германия обязуется… сообразоваться с законами… действующими в Союзной или Объединенной стране… определяющими или регламентирующими право на обозначение по названию местности вин или спиртных напитков, произведенных в стране, к которой принадлежит местность» и что «ввоз, вывоз, производство, обращение, продажа или выпуск в продажу продуктов, обозначенных по названию местности, в нарушение упомянутых законов будут воспрещаться германским правительством и пресекаться им».
Иными словами, мир во всем мире — да, это важно, но не важнее, чем эксклюзивное право называть французское игристое вино шампанским.
В результате международное законодательство запрещает сопровождать фирменное название продукта прилагательным с указанием национальной принадлежности, вроде «английское» или «испанское». А уж использование в одном предложении слов «шампанское» и «цветок бузины» — это практически нарушение прав человека. Только Америка смогла противостоять всемогущему Межпрофессиональному комитету шампанских вин (CIVC). Американское правительство настаивает на том, что вино, производимое в Калифорнии с использованием тех же сортов винограда и теми же методами, может маркироваться как «Калифорнийское шампанское». Что ж, позиция вполне правомерная, поскольку Америка подписала Версальский договор, но так его и не ратифицировала (не дураки все-таки эти американцы).
И все равно кто-то скажет, что французские виноделы абсолютно справедливо защищают свой уникальный продукт. В конце концов, шампанское изобрел французский монах дом Периньон в 1668 году, не так ли?
Ошибаетесь.
Извини, Франция, но шампанское — это английский продукт во всем, кроме названия.
Человек с кое-какими заслугами
Во французской версии истории создания шампанского фигурирует полуслепой монах-бенедиктинец Пьер (он же дом — почетный титул, производный от латинского dominus — «господин») Периньон, уроженец провинции Шампань, который в 1668 году стал счетоводом и смотрителем винных погребов аббатства Отвильер в Эпернэ и изобрел то самое шампанское, известное нам и поныне, доведя процесс ферментации до совершенства и превратив спокойное вино в шипучку.
Впрочем, на самом деле большую часть карьеры в монастыре он посвятил решению другой проблемы: как сделать шампанское менее шипучим, потому что бутылки в его погребах постоянно взрывались. Вина, разлитые осенью, отправлялись, как и положено, в зимнюю спячку, но весной дрожжи просыпались и превращали погреба в раннюю версию полигонов для подземных испытаний французского ядерного оружия.
Дом Периньон задался целью сделать вино чище, чтобы предотвратить избыточное брожение. Во-первых, он собирал виноград рано утром, когда гроздья были прохладными, и выбрасывал поврежденные ягоды; во-вторых, он разработал особый способ мягкого прессования, чтобы сок из мякоти винограда как можно меньше соприкасался с кожурой. Так ему удалось получить белое вино из красного винограда, что принесло аббатству огромные барыши: красный виноград гораздо лучше сопротивлялся плохой погоде, а белые вина продавались дороже.
Теперь аббатство производило более чистые вина и получало более высокую прибыль, но со взрывами надо было что-то делать, потому что положение только усугублялось: когда дом Периньон начал весьма эффективно закупоривать бутылки древесной корой вместо деревянных колышков, вино попросту пробивало себе дорогу через днище бутылки.
Часто можно услышать байку, будто дом Периньон, сделав первый глоток шипучего шампанского, воскликнул: «Я пробую звезды!» Но это всего лишь рекламный слоган, придуманный в девятнадцатом веке, а монах, скорее всего, пробурчал что-нибудь нелестное насчет этих «чертовых пузырьков».
Однако чуть севернее Шампани проживали люди, которые искренне радовались взрывающемуся вину и чувствовали себя счастливыми задолго до того, как дом Периньон начал очищать его. Нет, самих взрывов они старались не допускать, но им нравился игристый характер вина.
Это были англичане.
Все началось сразу после эпидемии чумы 1665 года и Великого лондонского пожара. Британия только что избавилась от Кромвеля с его пуританами, запрещавшими танцы, музыку, театр и все, что может вызвать у человека здоровый смех, и получила себе в короли Карла II, который вырвался из тисков суровой и недостойной монарха жизни. Короче говоря, британцы созрели для веселья. Они всей душой полюбили французскую шипучку и были безумно счастливы оттого, что им снова разрешили кутить.
Вино из провинции Шампань популяризировал в Англии в начале 1660-х годов французский солдат, писатель и бонвиван по имени Шарль де Сен-Эвремон, которому пришлось искать убежища в Лондоне, после того как в Париже он попал в переплет за критику всемогущего кардинала Мазарини. Сен-Эвремон импортировал из Франции спокойное вино в бочках, но в больших контейнерах оно сильно вспенивалось и при розливе так и норовило взорваться. Однако для английских виноторговцев это перестало быть проблемой с развитием промышленного производства стекла, благодаря появлению угольных печей в Ньюкасле. Теперь появилась возможность делать куда более толстые и прочные бутылки, не чета французским, и лондонцы могли в полной мере наслаждаться процессом откупоривания шампанского, вместо того чтобы искать укрытия под столом.
На случай, если французские читатели захотят опровергнуть все это, добавлю, что существует документальное подтверждение моих слов: доклад, представленный Королевскому научному обществу в 1662 году ученым-самоучкой по имени Кристофер Меррет. Он родился в Глостершире то ли в 1614-м, то ли в 1615 году (похоже, шампанское отшибло ему память), учился в Оксфорде (общеизвестный учебный полигон для алкоголиков) и в 1661 году перевел и расширил итальянский трактат о производстве бутылок. Похоже, в процессе его осмысления он и заинтересовался проблемой взрывающихся бутылок шампанского, потому что уже в следующем году опубликовал работу под названием «Некоторые наблюдения, касающиеся упорядочения вина». В ней он попытался объяснить, почему вино становится газированным, и главной причиной назвал вторичную ферментацию в бутылке. Он также описал метод добавления сахара или патоки в вино с целью намеренно вызвать это вторичное брожение. Меррет писал, что игристость — ценное качество, и его можно придать любому вину, тем более теперь, когда Англия производит бутылки, способные выдержать любое давление пузырьков. Выходит, что пока дом Периньон боролся с пузырьками, бритты требовали добавки.
И они были не одиноки в этом. Современные производители шампанского используют метод Меррета, добавляя сахар, чтобы придать винам характерную игристость, — технология, которую они называют «метод шампенуаз». Хотя, строго говоря — если исходить из концепции, что открытие принадлежит тому, кто первый опубликует научную работу по теме, — технологию все- таки следует называть «метод Меррета», или «метод мерретуаз». В конце концов, если не уважать этот подход, что может помешать мне объявить себя автором теории относительности? (Разумеется, не считая того, что я в ней ни черта не смыслю.)
Champagne (или Champaigne, как пишут современные британцы, продолжая традицию коверканья французских наименований, так славно начатую Азенкуром и Кале) прославилось и в британской литературе семнадцатого века: ирландский драматург Джордж Фаркар, например, находясь в лондонской ссылке, после того как едва не убил актера настоящим мечом, репетируя сцену поединка, воспевает этот напиток в своей пьесе 1698 года «Любовь и бутылка».
«Шампанское, — говорит один из персонажей пьесы, — изысканный напиток, который пьют все ваши великие денди, чтобы добрать остроумия». А другой персонаж, описывая «остроумное вино», восклицает: «Как оно каламбурит в бокале!»
Именно эта популярность шампанского в британском светском обществе озадачила французов — они никак не могли понять причину такого ажиотажа — и убедила короля Людовика XIV назначить шампанское королевским вином: так оно стало обязательным к употреблению среди французов вскоре после того, как вошло в моду у лондонских франтов. И разумеется, как только «королю-солнцу» стало безопасно его пить благодаря прочным английским бутылкам, импортируемым во Францию.
Тем временем дом Периньон все совершенствовал свои Технологии и наконец изобрел метод хранения бутылок шампанского с наклоном горлышек по диагонали вниз, чтобы осадок собирался возле корковой пробки и его можно было легко удалить. Но опять же, все это были меры, призванные остановить взрывание бутылок, а не добавить напитку шипучести.
Ну, так что же у нас в сухом остатке? Шампанское — это вино, которое обязано своей игристостью методу, подсказанному английским ученым. Пригодным для продажи шампанское сделала английская технология создания бутылки, а популярность ему обеспечили охочие до кутежей денди Лондона семнадцатого века.
Разумеется, французы могут предъявлять права на название местности, поскольку Шампань — тут уж не поспоришь — это все-таки Франция. Но при всей справедливости такого требования можно возразить (если кому-то уж очень хочется позлить французов), что напиток следует называть Champagne а l'anglaise, «Шампанское по-английски», исключительно ради того, чтобы отличать его от того спокойного, без пузырьков, вина, которое мечтал производить дом Периньон. Кто-нибудь даже может обратиться к компании «Моэт э Шандон» с предложением изменить название торговой марки «Дом Периньон» на «Меррет». Возможно, звучит не так романтично, зато более точно.
Конечно, защищенные Версальским договором, регламентом Евросоюза и (возможно) малоизвестной статьей Декларации прав человека, французы гневно отвергнут подобные предложения. Но, в силу исторических причин, им действительно нет никакой необходимости возражать против этикеток «Американское шампанское» или «Английское шампанское». Если французы обеспокоены качеством продукции, тогда уж точно нечего волноваться: игристые вина, производимые в США, уже давно имеют высокую репутацию, да и английские шипучки тоже на подъеме.
Улучшение качества английского продукта, очевидно, связано с глобальным потеплением, из-за которого идеальные климатические условия, характерные для Шампани, складываются к северу от Франции, по ту сторону Ла-Манша, где виноград произрастает на схожих по составу почвах. Вот вам и историческая, с ароматным привкусом, ирония: все крупные индустриальные державы, подписавшие Версальский договор (включая Францию), загрязняют атмосферу углекислым газом и возвращают шампанское на его настоящую родину, в Англию.
Ваше здоровье!
Глава 8 Кто посмел затмить «Короля-Солнце»
Людовик XIV (1638–1715), французский король с гигантским мочевым пузырем и таким же эго
Людовик XIV нарек себя «королем-солнцем», ослепительно ясно давая понять подданным, что он сам и есть источник жизни во Франции. Да уж, демократом его не назовешь.
Людовик не стеснялся величать себя также Юпитером, верховным божеством римлян, богом неба, стражем закона и порядка на Земле, хотя последнее скорее было призвано убедить его подданных мужского пола в том, что ему дозволено спать с их женами. «С Юпитером делиться не стыдно», — сказал он, уводя молодую невесту герцога в свою опочивальню в первую брачную ночь.
Людовик XIV до сих пор удерживает пальму первенства в истории как самый долго правящий европейский монарх — семьдесят два года на троне, — обойдя королеву Елизавету Вторую и даже королеву Викторию. И хотя современные французы, может, и не признаются в своих монархических убеждениях, они почитают Людовика с не меньшим благоговением, чем Жанну д’Арк, Наполеона и Джонни Холлидея.
Однако всемогущество «короля-солнца» не спасло его от ошибок. И именно из-за слепой веры в свою неограниченную власть, дарованную Богом, Людовик недооценил двух великих лидеров, которым, еще до окончания его правления в 1715 году, удалось закрепить ведущую роль Британии в мировой политике — а значит, в прямой оппозиции Франции.
И всему виной был его кишечник…
Повседневная жизнь бога
Людовик XIV запросто спал с женами своих придворных, это был всего лишь один из способов демонстрации его божественной силы. Впрочем, свое превосходство он доказывал и образом жизни. Двор подчинялся строгому распорядку, установленному королем: Людовик действительно был, как солнце, и его окружение всегда знало, где он находится в ту или иную минуту. Но еще важнее то, что придворные знали, где должны находиться они.
В 1682 году Людовик перевез двор в старый замок своего отца в Версале, в 16 километрах к юго-западу от Лувра, хотя масштабная реконструкция дворца еще велась полным ходом. Около 20 000 рабочих разбивали сады, строили новые крылья дворца, декорировали интерьер.
Людовик сделал это, желая заставить французский аристократический истеблишмент оторваться от Парижа. В столице враждовали сильные группировки, распрям и интригам не было конца, и это грозило закончиться бунтом. А в уединенном замке посреди леса аристократы могли находиться либо при дворе, либо вне его — других вариантов не предусматривалось. И поскольку Людовик был средоточием всей власти во Франции и распределителем благ, в интересах знати было мелькать у него перед глазами, если они хотели отхватить денег или обрести влияние.
Вскоре вокруг дворца вырос целый новый город: придворные отстраивали дома — одни для себя, если были недостаточно влиятельны, чтобы удостоиться приглашения поселиться у Людовика, другие для своих слуг, которым запрещалось жить во дворце.
Каждое утро, ровно в половине девятого, «король-солнце» просыпался, выпивал чашку чая или бульона, готовясь к утреннему приему посетителей. Это был целый спектакль, разыгрываемый в присутствии petites entrées, особо приближенных, которым дозволялось видеть короля в ночной сорочке. Обычно в число petites entrées входили доктора, слуги и porte-chaise d'affaires — «носитель стула для дел». Этот придворный (чтобы получить такую хлебную, к тому же наследную должность, ему наверняка пришлось заплатить взятку, равноценную небольшому состоянию) заносил в королевскую спальню богато украшенный стул с отверстием в середине, на котором Людовик сидел, пока парикмахер выпрямлял его утренний парик (чуть менее пышный, чем дневной и вечерний) и брил короля. Тем временем Людовик справлял нужду — «делал свои дела», — после чего доктора осматривали результаты на предмет выявления признаков нездоровья.
Как только церемония оканчивалась и королевская задница была подтерта ватой, Людовик начинал прием избранной группы придворных — только мужчин, — которым дозволялось наблюдать процесс его одевания. Этой чести удостаивались примерно сто человек, и в спальне бывало не протолкнуться, так что карманные кражи часов и кошельков были не редкостью. Жизнь в Версале обходилась недешево, и бедные аристократы не брезговали пополнять свои доходы с помощью ловких рук.
В десять утра Людовик посещал получасовую мессу, во время которой зачастую звучала новая хоральная музыка, написанная для него лучшими композиторами Франции. По пути в часовню и обратно король дотрагивался до больных — им разрешалось войти во дворец, — чтобы они могли ощутить на себе самопровозглашенную целительную силу божественного монарха.
Потом, после двухчасового совещания с министрами и выслушивания ходатайств тех, кому удалось всеми правдами и неправдами (через уговоры, взятки и постель) добиться аудиенции, Людовик садился обедать. Начинался обед ровно в час пополудни. Король ел один, обычно сидя лицом к окну, выходящему на сады. Тут требуется уточнение: ел-то он один, а вот следила за процессом огромная толпа зрителей, которые с вожделением смотрели на то, как король управляется с неслабым набором блюд, включающим тушку фазана, целую утку, кусок баранины и нарезанную ломтиками ветчину плюс салаты, выпечка и фрукты. Так же, как и спектакль с утренним пробуждением, поглощение королем пищи представляло собой захватывающее действо, наблюдение за которым считалось высшей привилегией.
В два часа начиналась послеполуденная программа королевских развлечений. Она отличалась некоторым разнообразием и могла включать прогулку в парке с дамами, стрельбу на территории Версаля или охоту верхом на лошадях в лесу. Сопровождая Людовика в мероприятиях на свежем воздухе, придворные имели возможность привлечь его внимание и добиться особого королевского расположения — скажем, приглашения на утренний прием, получение должности в одном из министерств, повышение по военной службе или грант на обустройство собственного замка.
Выделиться из толпы можно было изысканными нарядами (вот почему придворные меняли туалеты несколько раз на дню), остроумной репликой в момент прохождения короля (например, какой-нибудь пряной сплетней об одном из его врагов), а женщине достаточно было просто иметь красивую внешность.
Единственное, что не дозволялось никому из придворных, так это нарушать строгий распорядок таких прогулок. Скажем, если монарх ехал верхом, никто не мог остановиться или спешиться, прежде чем это сделает его величество. Людовик же, надо отметить, обладал беспощадным чувством юмора и большим мочевым пузырем, а это опасная комбинация. Он мог часами скакать верхом, не останавливаясь, чтобы справить нужду, что было нелегким испытанием для его придворных. Можно называть это верхом раболепия, но лакеям Людовика приходилось мочиться под себя, лишь бы не нарушить королевский протокол.
В шесть вечера начинался soirée d'appartement (домашний суаре): Людовик «непринужденно» обходил свои апартаменты, останавливаясь поболтать с придворными, которые играли в карты, в бильярд, танцевали или просто вели светские беседы. Каждый, разумеется, был обязан веселиться, и легко представить, как шутки становились все более смелыми, а смех звучал нарочито заразительно, по мере того как приближалось «солнце».
В десять вечера подавали ужин, или souper. Теперь ел не только король, и присутствовали несколько сотен придворных и слуг. Все они стояли, кроме членов королевской семьи, сидевших за столом, и герцогинь, которым дозволялось наблюдать трапезу со стульев. И вновь все проходило по строгим правилам; Людовик ненавидел, когда его отвлекают во время еды, так что ото всех требовалось соблюдение тишины, пока король и его семейство отведывали приготовленные блюда, коих было немало — около сорока. Еду из кухонь подносила к столу процессия из слуг, и каждый, кто оказывался на пути этого каравана, должен был кланяться или делать реверанс перед счастливыми блюдами, которым предстояло исчезнуть в божественной утробе.
Наконец, в одиннадцать часов, наступал официальный заход «солнца», couchée (проще говоря, отход ко сну), церемония, прямо противоположная утреннему пробуждению. Король снова делал свои дела на том самом стуле, снимал парик, облачался в ночную сорочку и ложился в постель. Хотя он не всегда там оставался, чаще предпочитая нырнуть в потайную дверь, ведущую в соседнюю опочивальню, где появления Юпитера дожидалась одна из его фавориток, а под кроватью наверняка прятался муж, нашептывающий: «Не забудь спросить насчет судостроительного контракта».
Короче говоря, на протяжении всего дня на Людовика были устремлены восхищенные взоры примерно десяти тысяч человек, большинству из которых приходилось — если, конечно, они хотели сохранить свой статус — тратить огромные деньги на жизнь при дворе. Им приходилось покупать новые платья, парики, драгоценности и экипажи, участвовать в обязательных политических играх, подкупать особо приближенных к королю придворных, чтобы добиться даже самых малых услуг. Это была вежливо навязываемая тирания, диктатура скуки и лизоблюдства, нескончаемая пантомима, разыгрываемая с целью держать в узде потенциально опасную французскую аристократию.
Тем временем нижним слоям населения продолжали внушать идею благочестия короля посредством гравюр, памфлетов, картин, гобеленов и медалей, которые штамповались в ознаменование каждого высочайшего деяния. Монархия была настолько уверена в себе, что об оппозиции никто даже не заикался.
Или все-таки?..
Вильгельм Оранский показывает зубы
Вильгельм Оранский, который в конце концов узурпирует трон Якова II и станет королем Англии Вильгельмом III, поначалу был всего лишь феодалом крохотного независимого государства в Южной Франции. Княжество Оранж, территорию площадью всего нескольких квадратных километров с древним одноименным городом в центре, можно назвать чем- то вроде мини-Лихтенштейна, унаследованного голландским родом Нассау в середине шестнадцатого века.
И хотя это был крохотный феод, его правители требовали называть себя принцами Оранскими — возможно, в качестве компенсации за то, что в родной стране, Голландии, у них был куда менее звучный титул: статхаудер, то есть наместник государя — так прозаично называли там наследных правителей.
Вильгельм еще даже не родился, когда на него уже легла эта ответственность — его отец умер от оспы за неделю до его появления на свет в 1650 году, — и поначалу его голландскими территориями управляли регенты, в том числе его мать, Мария, сестра английского короля Карла II.
В 1650 году семья Вильгельма лишилась титула статхаудера — из-за диктаторского стиля правления, — и все шло к тому, что Вильгельма, как и юного Карла II, ожидает участь безработного принца. Его перспективы выглядели еще более мрачными, когда в 1660 году умерла его мать — тоже от оспы — в Англии, куда она поехала навестить брата: ее смерть ослабила семейные королевские связи. Все могло рухнуть окончательно, когда в 1672 году дядя Карл напал на Голландию, заключив секретный англо-французский пакт с Людовиком XIV.
Тот год до сих пор называют в Голландии rampjaar — «ужасный», но для Вильгельма это худо было не без добра: он оказался на коне. Теперь, когда враги его семьи были повержены, он взял бразды правления армией в свои руки и даже выступил с вошедшим в историю Голландии знаменитым предложением. На угрозы со стороны англо-французского альянса стереть его страну с лица земли, если он не сдастся, Вильгельм ответил: «Для меня есть лишь один верный способ никогда не увидеть свою страну побежденной. Я умру в последнем окопе». Эта остроумная реплика стала настолько популярной, что выражение «последний окоп» перешло и в английский язык, обозначая отчаянное и безнадежное положение.
После этого Вильгельм приказал своим гражданам открыть дамбы (еще одно знаменитое предложение) и затопить обширные участки земли, что, конечно, не благоприятствовало выращиванию тюльпанов, зато разом остановило наступление французской армии.
Людовика XIV, понятное дело, взбесила неудачная попытка сокрушить каких-то рыбаков-селедочников, и он отомстил аннексией крошечного владения Вильгельма, Оранжа, куда вторгнуться было гораздо легче, ведь княжество находилось во Франции и ему не грозили никакие потопы. Он отдал эту территорию вместе с титулом французскому аристократу, своему тезке Людовику, маркизу Нельскому и де Майи [66].
К началу 1674 года, когда был восстановлен мир, так и не сломленный двадцатитрехлетний, некогда безработный принц Вильгельм не только вернул себе титул статхаудера и контроль над землями своих предков в Голландии, но еще и получил в управление некоторые маленькие независимые голландские государства.
Но гораздо интереснее другое: отныне он твердо решил портить жизнь главному зачинщику войны, высокомерному Людовику XIV.
Людовик давит оранжевых
Вильгельм решил укрепить свои позиции в европейском покере, сделав предложение своей кузине Марии, племяннице короля Англии Карла II. Говорят, красавица Мария пролила немало горьких слез по этому поводу, и не из-за перспективы до конца своих дней жевать эдамский сыр и пребывать в статусе статхаудерфрау, а потому, что Вильгельм лицом не вышел и к тому же, ходили такие слухи, предпочитал мужчин-солдат.
Отец Марии, будущий король Яков II, хотел бы выдать свою дочь за представителя французской королевской семьи, но ее дядя, Карл II, усмотрел шанс задобрить английских протестантов и вдобавок заполучить союзника в противостоянии Людовику XIV, так что чаша весов склонилась в пользу англо-голландского союза. Всю брачную церемонию Мария заливалась слезами.
Задетый за живое этим новым антифранцузским альянсом, Людовик совершил две фатальные ошибки. Во-первых, в 1685 году он отменил Нантский эдикт, защищавший от преследования во Франции протестантов, что привело к их массовой эмиграции в Голландию. Затем, явно недооценивая воинственного статхаудера, Людовик подписал морской договор с Яковом II, как только тот стал королем Англии, и издал указ об аресте всех голландских торговых судов, стоящих на якоре во французских портах. Сразу две французские перчатки были брошены к ногам голландца.
К великому удивлению Людовика, а уж тем более Якова, Вильгельм не только принял вызов — он ухватился за него обеими руками и сделал блестящий ответный ход. Вместо того чтобы вывести в Ла-Манш несколько кораблей и досаждать английскому и французскому флотам, чем в прошлом и ограничивалась агрессия голландцев, он сам отплыл в Англию и захватил трон.
При этом он справедливо заявил, что был приглашен некоторыми парламентариями-протестантами и епископом Лондона. Поводом для приглашения послужило то, что вторая жена Якова II, итальянская католическая принцесса Мария (в те времена действовал указ, согласно которому все королевские особы женского пола должны были носить имя Мария, чтобы путать будущих читателей исторических книг), только что родила сына. До этого момента, несмотря на то что Яков принял католичество, следующими в очереди на английский трон были его дочери-протестантки от первого брака, старшая из которых, тоже Мария, приходилась женой Вильгельму Оранскому.
В то время один только вопрос религии мог стоить трона английскому королю — все уже натерпелись репрессий, прокатившихся по стране в последние десятилетия, — но Яков был деспотичным правителем, во многом брал пример с Людовика XIV и, очевидно, забыл, что произошло, когда его отец, Карл I, продемонстрировал такое же презрение к собственному народу и парламенту.
С гениальной дерзостью (и диктаторской беспощадностью, скажет кто-то) в ноябре 1688 года Вильгельм собрал армию из голландцев, французских беженцев-протестантов и наемников со всей Европы и двинул ее морем вдоль южного побережья Англии, намереваясь высадиться в Торбее, на крайнем юго- западе страны. Из-за ошибки рулевого флот из почти 250 кораблей едва не проскочил мимо Англии и не вышел в открытый океан, но так называемый «протестантский ветер» вернул корабли к северо-востоку, и им наконец удалось пристать к берегу.
Тем временем из-за сильного шторма флот короля Якова задержался в устье Темзы, потом попал в штиль и дрейфовал у побережья Суссекса и наконец отступил, причем кое-кто из капитанов в это время успел перейти на сторону протестантов. Не лучше обстояло дело и на суше, когда Яков повел армию на встречу с Вильгельмом. Массовое дезертирство буквально доконало его, у Якова случился нервный срыв, и он бежал во Францию.
Разношерстная армия Вильгельма успешно промаршировала до самого Лондона, где ее — о, чудо! — встречали как освободителей, и вдруг, без единого выстрела, английский престол занял правитель Нидерландов. Справедливости ради стоит отметить, что у него была английская королева, но никто всерьез не рассматривал ее как политическую фигуру. Бескровная, или Славная, революция 1688 года свершилась.
Людовик XIV спонсировал попытку Якова вернуть корону, когда против англичан восстала Ирландия, но затея провалилась: Вильгельм лично возглавил ирландскую экспедицию и разгромил католическую армию в битве на реке Бойн под Дублином в июле 1690 года. Это обернулось катастрофой не только для Якова, но и для ирландских католиков, которым пришлось готовиться к трехсотлетнему господству английских протестантов.
Однако Людовик XIV не терял надежды вернуть Якову трон, чтобы иметь марионеточного правителя в Англии, и спланировал еще одну военную кампанию от его имени. В меню на этот раз значилась битва на море, призванная сокрушить английский флот, и последующее франко-ирландское вторжение в Англию.
Но все пошло по отвратительному сценарию. Не обращая внимания на то, что плохая погода в сочетании с худшей стратегией лишили французский флот потенциальной мощи, Людовик упрямо приказывал своему несчастному адмиралу (мужчине, несмотря на женское имя Анн-Илларион де Турвилль) превентивно атаковать мощные англо-голландские силы, направляющиеся к Нормандии.
За несколько дней ожесточенных боев и преследований в густом тумане англо-голландский флот вынудил де Турвилля обратиться в бегство; пушечным огнем англичане добили севшие на мель французские военные корабли, между тем как на берег высадился десант для поджигания кораблей, укрывшихся в порту. За несколько дней, с 29 мая по 4 июня 1692 года, с угрозой французского вторжения в Англию было покончено, и во многом благодаря необдуманным приказам Людовика, который гнал свой истощенный флот в атаку.
В числе французских потерь оказался корабль с названием «Святой Людовик» и, что самое болезненное, красавец флагман «Король-солнце», который был подожжен с помощью брандера, после чего взорвался: сверхновая звезда, погубившая всех матросов, кроме одного.
Людовик предложил Якову польский трон в качестве утешительного приза, но Яков отказался и предпочел вернуться в свое французское прибежище, дворец в Сен-Жермен-ан-Лэ — заметим, не в Версаль, где ковалась политика. А 20 сентября 1697 года Людовик уже официально закрепил за Яковом статус лузера, подписав Райсвикский мирный договор, в котором признавал Вильгельма и Марию правителями Англии и обещал впредь не оказывать никакой помощи сторонникам Якова И.
Сидя в то сентябрьское утро на красивом стуле с отверстием в середине, Людовик, возможно, размышлял о том, что если он потерял влияние над своим соседом по ту сторону Ла-Манша, свел к нулю свои шансы стать «королем- солнцем» всей Европы, способствовал укреплению мощи протестантов, своих врагов, то во всем этом виноват только он один. И если эти рефлексии действительно омрачили пробуждение короля, его доктора наверняка отметили некоторые признаки стресса в результатах его больших утренних дел.
А пищеварению французского монарха уже угрожали новые опасности…
Перенесемся в 1650 год. В этот год родился Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, генерал, которому предстоит разгромить сухопутные войска Людовика XIV и заставить «короля-солнце» умолять о мире. Имя его отца: сэр Уинстон Черчилль.
Нет, это не фокус машины времени. Сэр Уинстон — вовсе не премьер-министр двадцатого века, телепортировавшийся и прошлое, чтобы противостоять Людовику XIV в качестве исторического Терминатора. Этот Уинстон был представителем мелкопоместного дворянства Юго-Западной Англии, который сражался в рядах роялистов во время Гражданской войны и едва не обанкротился из-за огромной суммы мировой, которую ему предстояло выплатить по окончании боевых действий.
После Гражданской войны, в признание лояльности Черчиллей, старшего сына Уинстона и Елизаветы, Джона, взяли пажом к брату Карла II, Якову (будущему Якову II). Подросток часто сопровождал своего хозяина на военных парадах, и, говорят, однажды, когда Яков поинтересовался у впечатлительного Джона, чем тот планирует заниматься, когда вырастет, парнишка упал на колени и умолял отправить его на службу в армию.
Желание Джона было удовлетворено, когда ему исполнилось семнадцать. Как свидетельствует биограф девятнадцатого века Чарльз Бакке, жена Якова, Анна, «выказывала больше доброты и расположения к молодому кандидату, чем находил целесообразным ее муж». Выражаясь современным языком, Яков попросту подозревал их в сексуальной связи. Посему Джон был отправлен служить прапорщиком в королевскую гвардию в Марокко, где он понюхал пороха в стычках с арабами, которые вовсе не радовались тому, что англичане поселились на их побережье.
Джон избежал участи быть кастрированным ятаганом, на что втайне наверняка надеялся Яков, и по возвращении на родину бравый молодой офицер с ходу бросился в бой — на этот раз в постель к одной из любовниц короля Карла II, Барбаре Вилльерс. Та не только занималась сексом с Джоном, но и осыпала его наличностью, что было весьма кстати при его нищенском армейском довольствии. Забавная параллель: денежные подарки Джону от королевской пассии составили точно такую же сумму, какую его отец выплатил в качестве мировой после Гражданской войны.
Между Джоном и Барбарой вспыхнул скандальный роман, и они настолько утратили бдительность, что однажды были застигнуты в постели самим королем Карлом. Когда молодой Джон спрятался в шкафу, Карл выволок его оттуда и рассмеялся, сказав, что прощает мальчишку, поскольку тот так «зарабатывает себе на хлеб».
Шутки шутками, а Карл все-таки хорошенько задумался и решил последовать примеру своего брата Якова и отправил прыткого молодого офицера в очередную опасную заграничную командировку — и вот тут-то на сцену выходит Людовик XIV.
Сражаясь за французов
Джон Черчилль оказался в числе 6000 солдат, отправленных Карлом II во французскую армию, вторгшуюся в Голландию в 1672 году, под командованием герцога Монмаута, одного из незаконнорожденных сыновей Карла, который был всего на год старше Джона Черчилля. В паре эти молодцы заметно выделялись на общем фоне, и они лихо промчались по Голландии, зарабатывая себе имя и репутацию в многочисленных битвах и осадах. Храбрость Джона настолько впечатляла его французских товарищей по оружию, что при осаде городка Неймеген французский маршал, виконт де Турен, заключил пари, что Джон выиграет сражение. Французские солдаты только что потеряли контроль над важным командным пунктом, и Турен сказал: «Ставлю ужин и дюжину бутылок кларета на то, что мой красавец англичанин отвоюет командный пункт вдвое меньшими силами, чем имелись в распоряжении офицера, который его сдал».
Конечно, нельзя исключать того, что молодой Черчилль спал с любовницей Турена, и француз попросту хотел от него избавиться, но пари состоялось, и виконт его выиграл, а Черчилль стал героем в солдатской среде.
При осаде Маастрихта Джон заявил о себе еще эффектнее, вызвавшись участвовать в сражении в составе так называемого отряда «потерянной надежды» — подразделения из обреченных на гибель солдат, которые первыми шли в атаку. В том бою он не только спас жизнь герцогу Монмауту, но и первым прорвался сквозь линию вражеской обороны и лично водрузил над крепостью победный флаг. (Французский, разумеется.)
Людовик XIV был настолько впечатлен, что поздравил Черчилля и произвел его в генерал-лейтенанты англо-французской армии в Голландии. После войны Черчилль остался служить у французов вместе с Туреном и, добавив к своей храбрости тактическое умение, быстро превратился в кумира, боготворимого войсками.
Людовик, конечно, поступил весьма неблагоразумно, когда спустя несколько лет настроил этого вояку против Франции.
Мальборо богатеет
Быстрая перемотка к 1701 году: во время Славной революции Джон Черчилль мудро предпочел поддержать Вильгельма Оранского, а не своих давних покровителей, Карла и Якова. И не только потому, что обладал острым политическим чутьем. За это время Джон успел разочароваться в своем короле, ведь он служил дипломатом Карла и полагал, что отстаивает интересы Англии, в то время как на самом деле король за его спиной вел двойную игру с Францией. В благодарность за поддержку Вильгельм и Мария даровали Черчиллю титул графа Мальборо.
И вот теперь Людовик XIV разворошил осиное гнездо, которое построил своими руками.
После смерти Якова II в Париже в 1701 году Людовик XIV признал младшего сына беглого короля как Якова III, короля Англии, тем самым грубо нарушив мирный договор, который он подписал с Вильгельмом Оранским четырьмя годами ранее. Естественно, это привело в ярость англичан, которые начали готовиться к войне — с небольшой задержкой, вызванной падением Вильгельма с лошади во время охоты в Хэмптон-Корте.
Умирая от полученных травм, Вильгельм наказал своей преемнице, королеве Анне (одной из дочерей-протестанток Якова II), привлечь Мальборо в качестве главного советника в предстоящей борьбе против Людовика. Она так и сделала, и большинство экспертов сходятся во мнении, что именно тактический гений Мальборо сыграл решающую роль в будущей победе. Его как опытного дипломата отправили на переговоры с союзниками Англии — Австрией, Голландией (часть которой аннексировали испанцы), Португалией и большинством независимых государств Германии. Все эти страны уже находились в состоянии войны с Францией, поскольку внук Людовика XIV, Филипп, только что унаследовал корону Испании, и тем самым создавался мощный и потенциально опасный альянс. Сегодня у нас вызывает лишь умиление тот факт, что король Испании Хуан Карлос — потомок Людовика XIV и австрийских эрцгерцогов, но 300 лет назад эти сложные королевские переплетения стали источником для целой энциклопедии войн.
Начинающийся конфликт принес немалые выгоды для обеих сторон в Голландии и Германии, и королева Анна на радостях жаловала Джону Черчиллю, графу Мальборо, герцогство. Тем временем Франция определила для себя самого опасного противника и решила, что победить можно, если удастся сдержать армию Мальборо на севере, а в это время захватить Австрию с ее союзниками-баварцами. Мальборо разгадал этот замысел и предпринял марш-бросок на юг по Рейнской равнине в Германию, сохраняя свою тактику в таком секрете, что даже союзники не знали его маршрута.
Через пять дней он подошел к берегам Дуная. Расстояние, которое он преодолел, составляло 250 километров; нас это не слишком впечатляет — подумаешь, во время каникул можно на велосипеде и больше намотать, — но военных историков эта цифра приводит в полный восторг. Тогда, в начале восемнадцатого века, столь быстрое продвижение пешком и верхом на лошадях обычно изматывало армию, солдат косили усталость или болезни, вызванные сырой водой. Впрочем, Мальборо строго следил за тем, чтобы его войска были постоянно накормлены и напоены, так что, по свидетельству одного из офицеров-очевидцев, «солдатам ничего не оставалось, кроме как ставить палатки, кипятить воду в чайниках и ложиться отдыхать».
Между тем французы здорово тормозили в попытках преследования Мальборо, потому что каждое изменение в тактике и направлении маневров требовалось согласовывать с королем-самодуром Людовиком XIV, а до Версаля было несколько дней пути. Хуже того, депеши из-за границы можно было зачитывать Людовику только в определенные часы, где-то в промежутках между расчесыванием париков и другими, более интимными церемониями.
На берегах Дуная Мальборо встретился с австрийской армией Евгения Савойского, еще одного врага, которого себе нажил Людовик XIV. Евгений родился в Париже от одной из любовниц Людовика и мог бы служить во французской армии, если бы «король-солнце» его не отверг. Тогда Евгений отправился в Австрию и вместо французской возглавил армию Габсбургов — ту самую, которой предстояло объединиться с Мальборо и нанести Франции величайшее в истории военное поражение.
Бленхейм: повторение Азенкура
Состоявшаяся в 1704 году битва при Бленхейме, так же как и другая знаменитая победа над французами, при Азенкуре, стала жертвой искаженного наименования. На самом деле сражение произошло у баварской деревни Блиндхейм, и англичане, исковеркав ее название, разозлили не только французов, но и баварцев.
Для человека невоенного это сражение покажется ничем не примечательным, в истории немало примеров, когда войска шли в атаку, невзирая на огонь пушек и мушкетов противника, и победа доставалась тому, кто демонстрировал больше самоубийственной храбрости. В этой битве около 52 000 англо-австрийцев противостояли 56 000 франко-баварцам, которые заняли, как им казалось, непробиваемые позиции на подступах к деревне Блиндхейм и в самой деревне, окруженной болотами и густыми лесами. Французский только-только отправил королю Людовику донесение о том, что враг ни за что не осмелится атаковать, когда на рассвете 13 августа 1704 года армии Мальборо и Евгения показались на горизонте.
Самоубийственные атаки продолжались весь день, и в конце концов сражение было скорее проиграно французами, нежели выиграно англо-австрийцами. Если точнее, победа стала возможной благодаря умению Мальборо подмечать ошибки французов и тотчас их использовать. Когда французы сосредоточили слишком большие силы в деревне, он отвел своих солдат и накрыл деревню артиллерийским огнем, поджигая дома и вынуждая противника выйти на открытое пространство. Когда французские командиры разошлись во мнениях относительно стратегии и оставили брешь в обороне, Мальборо немедленно нанес удар в самое слабое место. В итоге 30 000 французских солдат погибли, включая 3000 кавалеристов, утонувших при попытке отступления через быстрый Дунай, а более 10 000 солдат из лучшей пехоты Людовика XIV пришлось сдаться, когда их оставили отрезанными от главных сил перессорившиеся генералы.
Это поражение не только заставило выйти из войны союзника Франции — Баварию, но и сделало Мальборо еще более знаменитым во Франции, так что он даже стал героем популярной песенки «Мальбрук в поход собрался» (французы тоже постарались исковеркать его имя). Но куда важнее то, что поражение стало жестоким ударом по самолюбию Людовика XIV.
Никто из придворных не осмеливался явиться к нему с докладом, пока его любовница, мадам де Мантенон, не собралась с духом и не сообщила ему страшную новость о том, что про него больше нельзя сказать «непобедимый».
В этой затянувшейся войне Людовик то искал мира, то вновь гнал свою армию в наступление, в то время как Мальборо маршировал по континенту, одерживая одну за другой блестящие победы над французами. Он даже взобрался на такую ступень, откуда можно было бы атаковать даже Париж, будь на то политическая воля самых верхов.
Но уже была запущена и обратная реакция. Мальборо оказался в роли поп-звезды, у которой слишком много хитов, и британский военный истеблишмент ополчился на него, обвиняя в коррупции и стремлении к величию. Его отстранили от командования.
Впрочем, даже это не спасло Францию от поражения в войне, и в 1713 году Людовик подписал Утрехтский договор, согласно которому признавал новую династию на британском троне, уступал англичанам большие территории Французской Канады и, что самое унизительное, соглашался на то, что короны Франции и Испании никогда не объединятся, даже если их будут носить члены одной королевской семьи. По сути, Людовик подписывал отказ от своей мечты о мировом господстве.
Солнце зашло
Людовик XIV умер 1 сентября 1715 года от вызванной нарушением кровоснабжения гангрены, которую доктора поначалу диагностировали как ишиас, а потом пытались лечить лекарствами от оспы. И хотя по сей день его вспоминают как блистательного «короля-солнце» — главным образом те, кто обалдевает от размеров Версальского дворца и завидует количеству королевских любовниц, — в то время его уход был чем-то из серии «Бон вояж, и не возвращайся». Толпа встречала насмешками и улюлюканьем похоронную процессию, которая двигалась к собору Сен-Дени на севере Парижа, где находится королевская усыпальница. (Хотя, может, это местная традиция, поскольку французский президент, если проедется сегодня по этому северному пригороду, живой или мертвый, встретит такой же прием.)
На смертном одре Людовик, похоже, признал собственные ошибки и обратился к своему пятилетнему преемнику, будущему Людовику XV, со словами: J'ai trop aimé la guerre («я слишком любил войну».) Возможно, он просто пытался упростить положение вещей, потому что даже ребенку было понятно, что в словах отца кроется нечто большее. Людовик XIV растратил государственную казну на бездарные войны и огромный, как город, дворец, вдохновлял аристократию на пижонство и праздность, душил налогами простой народ, который все-таки потерял терпение и принялся рубить привилегированные головы спустя семьдесят четыре года. Хуже того, способствовав сплочению двух самых амбициозных и смелых солдат Европы — Вильгельма Оранского и герцога Мальборо, — Людовик лишил Францию шанса распространить свое влияние на весь континент.
И словно мало было нанесенных Людовику оскорблений, «Мальбрук» собрал все богатство, нажитое за годы своей блистательной карьеры, и отстроил собственный Версаль, грандиозный замок в английской провинции, названный (пусть и с ошибкой) в честь французского поражения: Бленхейм. Это здание представляет собой монумент французскому унижению, а его вход украшает скульптура герцогской короны на пушечном ядре, сокрушающем геральдическую лилию, гербовую эмблему французской монархии. И это еще не все. Дворец был построен на земле, дарованной герцогу благодарной нацией, и по сей день род Мальборо выплачивает британской монархии ежегодный символический взнос в виде флага с геральдической лилией.
Если коротко, родовое поместье Черчиллей-Мальборо служит вечным напоминанием об исторических «проколах» Людовика XIV, трехсотлетней антифранцузской шуткой, над которой ежегодно посмеиваются полмиллиона посетителей, включая членов британской королевской семьи.
Глава 9 Почему America[67] не стала l’Amérique[68]?
Что вполне могло произойти, если бы французы не угрожали британской корове…
В голове каждого француза есть крохотная жилка, которая никогда не перестает пульсировать.
Это вовсе не область мозга, связанная с сексом, о котором французы на самом деле довольно легко забывают — когда, например, обсуждают еду, болезни или права рабочих. И это не колония бактерий, которая проникла в череп из какого-то на редкость живого сыра.
Нет, речь идет о мозговых клетках, обдумывающих идею о том, что Барак Обама должен был родиться французом. И что Нил Армстронг, ступивший на Луну, должен был говорить о «гигантском прорыве для человечества» на французском языке. И вместо глобальной сети гамбургеров мир должен быть опутан «говядиной по-бургундски» на вынос. Согласен, все мы обкапались бы соусом, но французский инженер изобрел бы гениальное устройство для его сбора.
Короче говоря, эти пульсирующие нейроны неустанно твердят о том, что Америка на самом деле должна была стать заморским департаментом Франции, вроде островов Карибского бассейна — Мартиники и Гваделупы.
Ответ на это предложение вполне очевиден и сам по себе содержит вопрос, почему английские слова debacle, disaster, calamity, defeat (все так или иначе означающие катастрофу) изначально заимствованы из французского языка [69]. Как ни грустно это признавать, но у Франции был шанс в Америке, и она его упустила. Причем, не единожды, но на каждом этапе войны, в течение всего столетия полной неразберихи.
Дело в том, что в какой-то момент у французов был готов мастер-план по колонизации не только Канады, но и всей Северной Америки, и, как мы увидим, у них имелись все возможности претворить его в жизнь. Но они проиграли или распродали все, что можно, за исключением разве что пары островов и названий некоторых улиц в Новом Орлеане.
Французы могли бы возразить на эту наглость, сказав: «Oui, mais [70] вы, бритты, потеряли еще больше, поскольку Северная Америка была вашей колонией, пока вас бесцеремонно не выперли оттуда революционеры, которые вдобавок скинули в Бостонскую гавань целый груз с вашим драгоценным английским чаем». Туше!
Oui, mais, даже если считать в квадратных километрах, это некорректное замечание, поскольку Британия всегда владела колониями лишь на относительно узкой полоске восточного побережья.
И гораздо важнее то, что в британских мозгах напрочь отсутствуют эти пульсирующие нейроны. (Во всяком случае, если они и пульсируют, то уж точно не по поводу Америки: у нас есть гораздо более существенные поводы для головной боли.) Мы, бритты, не рвем на себе волосы из-за «утраты» наших американских колоний. Нас вполне устраивают независимые американцы, мы видим в них дальних родственников, которые разве что коверкают наш язык. Мы довольно успешно сотрудничали с Америкой в таких проектах, как освобождение Европы и изобретение поп-музыки. И у нас нет ни малейшего желания править Техасом.
Между тем французы по сей день нервничают из-за Америки, как если бы она улизнула из-под носа — ну, вроде как отлучилась в туалет, а сама шмыгнула на улицу через черный ход ресторана, или, скажем, повела себя, как неизвестный актер, который уехал из Франции, а потом прославился на весь мир. Их подсознание сходит с ума, и неслучайно они постоянно стонут из-за того, что французский не стал языком международного общения.
Трагикомизм ситуации заключается в том, что поражение Франции в Америке спровоцировали французские солдаты, которые угрожали жестокой расправой безоружной англо-американской корове…
Франция на прогулке по дикой стороне
Сегодня среднестатистический француз или такая же француженка даже не знают, как много они потеряли. Они смутно припоминают, что Франция владела Луизианой даже некоторое время после провозглашения независимости Америки, и в редкой критике Наполеона Бонапарта нет-нет да и проскочит упрек в том, что он продал этот последний уголок Юга США тем, кто говорит по-английски.
Только вот современным французам невдомек, что Луизиана изначально была вовсе не уголком, а гораздо более крупным и лакомым куском. Когда все только начиналось, французская территория Луизианы, своим названием призванная польстить Людовику XIV, занимала практически треть территории нынешних США. По площади она была сопоставима со всей Европой, просторы этой неизведанной земли тянулись от Великих озер до Мексиканского залива, от Иллинойса до границ на полпути к Тихому океану.
Луизиана задумывалась как барьер, защищающий от бриттов и испанцев, исследующих Запад, но была также попыткой взять в кольцо нефранцузские колонии на Атлантическом побережье, от Новой Англии вниз к испанской Флориде, и — pourquoi pas?[71] — спихнуть их в океан и предъявить права Франции на весь североамериканский континент. Смелый был план — и он мог бы осуществиться.
Начало разыграл, совсем как в мольеровской пьесе, лишенный духовного сана священник в кудрявом парике. Рене-Робер Кавелье де Ла Саль, сын нормандского купца, учился в иезуитском колледже, но был исключен по причине, как он сам писал, его «моральной нетвердости». Решив попытать счастья в дальних краях, в середине 1660-х годов он отправился из Франции в Канаду, и вскоре его можно было встретить странствующим по рекам и озерам в поисках кратчайшего пути в Китай. Он так загорелся этой идеей, что, когда получил кусок земли под Монреалем, соседи-поселенцы в шутку стали называть его la Chine (Китай).
Впрочем, Ла Саль не давал сбить себя с пути и объединил усилия с Тонти, сыном итальянского банкира, могучим мужиком, у которого гранатой оторвало кисть; Тонти заменил ее железным кулаком, который часто использовал в качестве биты.
В первый же день нового, 1682 года Ла Саль и Тонти оделись потеплее и отправились из Форта Майами, что на юго- западном берегу озера Мичиган, неподалеку от нынешнего Чикаго, искать Китай.
Эти пограничные «форты», зачастую размером чуть больше бревенчатой хижины, окружал высокий частокол, призванный убедить недружелюбных индейцев в том, что нападать опасно. Индейцы были храбрыми воинами, но не самоубийцами: как заметил один иезуитский священник, «они воюют, чтобы убивать, а не для того, чтобы быть убитыми». Но все равно, покидая крохотный форт, Ла Саль сознавал, что оставляет позади последнюю опору и вступает в мир дикий и непредсказуемый. Кстати, это была одна из причин, почему, помимо двадцати двух вооруженных французов и восемнадцати индейцев, он взял с собой в поход также священника. Ла Саль подумал, что ему, возможно, понадобится кое-какая помощь свыше.
Экспедиция начала медленно продвигаться сквозь снежные заносы к югу и 6 февраля вышла к берегу Миссисипи. Ее воды были ледяными, поскольку верховье находилось в 400 километрах к северу, но река была широкой и быстрой и выглядела судоходной.
Поэтому Ла Саль сотоварищи построили плоты и двинулись вниз по реке: они дрейфовали до самого Мексиканского залива, преодолев в итоге тысячу с лишним километров к югу. Надо думать, Ла Саль тогда догадался, поскольку буддистских храмов по пути так и не встретилось, что река не ведет в Китай, но зато это путешествие позволило открыть вполне плодородные земли, не утопающие в снегу, — и это было в новинку для французских исследователей, привыкших бороздить просторы Канады.
Ла Саль был настолько доволен своим открытием, что решил закрепить господство Франции над этим обширным регионом — вдоль всей Миссисипи (хотя и не знал, откуда эта река берет начало) и ее притоков, 1500-километровой реки Огайо, вплоть до северо-восточной границы с английскими колониями. Так что он надел красный плащ с золотой вышивкой, который прихватил с собой на случай встречи с китайским императором, и провел церемонию наречения. На картине, изображающей эту сцену (признаемся, написанной после события), он даже, кажется, красуется в кудрявом парике.
В присутствии адвоката изготовленная из расплавленного котелка пластина была прибита гвоздем к гигантскому кресту, и так Ла Саль информировал мир (ну, или, по крайней мере, его франкоговорящих граждан) о том, что отныне здесь проходит официальная южная граница новой территории — Луизианы.
Ла Саль вернулся на север и самонадеянно постановил, что одна из территорий, по которой он путешествовал — Иллинойс, к западу от английских колоний, — должна стать новым эпицентром французской колонизации. Он справедливо рассудил, что здешний климат куда милосерднее, чем в Канаде, а потому земля будет гораздо плодороднее. К тому же она изобиловала бобрами.
Регион издавна служил охотничьими угодьями для ирокезов, но они были в хороших отношениях с французами, так что Ла Саль не видел препятствий для немедленного запуска программы колонизации. Его первоначальный замысел состоял в том, чтобы переселить сюда 15 000 человек, которым, как он предсказывал, будет гораздо легче обосноваться в этих краях, чем бедным замерзающим рыбакам и охотникам на севере. К тому же Франция была самой густонаселенной страной Европы, девятнадцать миллионов в сравнении с британскими восемью, и пожертвовать 15 000 крестьян могла безболезненно.
Впрочем, амбициозный план так и не стронулся с места, и по самой французской из всех причин.
Священник, который всегда сопровождал Ла Саля в его путешествиях и благословлял его открытия, не принадлежал к лагерю иезуитов (самому могущественному католическому ордену во Франции), а был реколлетом, монахом реформированного францисканского духовного ордена. Иезуиты очень активно занимались колонизацией Канады и на коренных жителей, индейцев, смотрели примерно так же, как светские поселенцы — на бобровые шкуры: короче говоря, они хотели быть монополистами. Для Ла Саля ситуация осложнялась тем, что иезуиты имели влияние на губернатора Нувель Франс, шестидесятилетнего Ла Барра, который уже готовился к встрече с Создателем, и все вместе они написали Людовику XIV прошение, чтобы вездесущего Ла Саля отстранили от дальнейшей колонизации. К огорчению Ла Саля, Людовик согласился и в ответном письме губернатору написал, что исследования земель за границами Канады «совершенно бессмысленны, и подобные экспедиции следует запретить».
Негативную волну подняли и франко-канадские купцы, которые не желали конкуренции со стороны новых южных территорий. Какой-то странный антиамериканский ген, казалось, помешал французским купцам задуматься: «Супер, мы можем открыть новые торговые центры в Иллинойсе!»
В общем, реакцию соотечественников на идею Ла Саля можно описать так: «Нет, нам не нужен твой выигрышный лотерейный билет. Во-первых, ты вписал цифры авторучкой не той марки. Во-вторых, нам совсем не улыбается идти за выигрышем целый километр пешком».
Все в проигрыше
Поразительно, но Ла Саль не опустил руки. Он вернулся во Францию разрабатывать план захвата на побережье Мексиканского залива и в Техасе испанских колоний, чтобы те не мешали французской колонизации в регионе. Все, что ему нужно, сказал он, это 200 солдат. Основные же силы он собирался сформировать из дружественных ирокезов, которые наверняка прониклись еще большей симпатией к французам теперь, когда их охоте в Иллинойсе ничего не угрожало.
Этот доклад Людовик XIV выслушал с удовольствием: больше всего на свете ему нравилось посылать французские войска в атаку. Так что король план поддержал, и в июле 1684 года Ла Саль отбыл из Франции на пяти кораблях, с двумя сотнями солдат и сотней гражданских колонистов. Впрочем, что неудивительно, вместо того чтобы поручить руководство экспедицией человеку, знающему местность (Ла Салю), морское ведомство назначило своего командующего, моряка-аристократа по имени Танги ле Галуа де Божё, сына королевского камердинера. В те времена считалось, что француз, не имеющий в своем имени хотя бы одного «де», способен возглавить разве что поход на мусорную свалку.
Конфликт между Ла Салем и Божё вызревал в течение всего трансатлантического вояжа и обострился, когда один из кораблей пал жертвой пиратов в Карибском море. И, то ли из-за того, что Ла Саль не смог найти устье Миссисипи, то ли потому, что Божё отказался следовать его указаниям, уцелевшие суда не пристали к показавшемуся берегу, а продолжили двигаться на запад, выискивая удобное место для швартовки, пока не случилась катастрофа. Один из кораблей подхватило подводное течение, и он затонул, унося с собой на дно груз продовольствия.
Когда Ла Саль наконец ступил на сушу, он в ярости послал Божё «обратно во Францию», а может, куда подальше. Если так было на самом деле — другие источники обвиняют Божё в том, что он просто-напросто вышвырнул колонистов на берег, а сам удрал, — то жалеть об этой вспышке гнева Ла Салю оставалось недолго.
Он построил форт и выгрузил провиант с единственного оставшегося корабля, «Ла Белль», трюмы которого были набиты сушеным мясом (2000 кило), вином и бренди (10 бочек), порохом (4500 кило) и ружьями, большими запасами соли, уксуса и растительного масла (видимо, они планировали найти картофель и начать производство чипсов). Вскоре был сооружен безопасный аванпост, и жизнь, похоже, стала налаживаться — пусть даже без Миссисипи.
Оставив часть солдат и поселенцев в форте, Ла Саль отплыл на восток искать устье реки. Несколько его людей двигались по мелководью на каноэ, а «Ла Белль» шла на глубине. Неудачи не замедлили себя ждать: капитан «Ла Белль» умер от удушья, уколовшись колючками опунции[72], а вскоре местные индейцы убили группу путешественников, среди которых был и помощник капитана корабля, когда те спали на берегу.
Ла Саль решил, что единственный выход — поставить корабль на якорь, оставить на борту двадцать семь мужчин, а также женщин и детей, а самому с отрядом солдат идти дальше на каноэ. Он обещал вернуться, как только найдет устье Миссисипи. Но Ла Саль пропал на несколько недель, и вскоре запасы питьевой воды на корабле стали подходить к концу. Пятеро мужчин сели в баркас и отправились на поиски пресной воды, но не вернулись, так что тем, кто остался на борту, пришлось утолять жажду вином и бренди. Как ни печально, но даже французская печень не выдерживает длительную алкогольную диету, и, когда люди стали умирать от обезвоживания, моряки решили возвращаться в форт. Однако среди них не было опытного капитана или штурмана, так что вскоре корабль потерял управление, его вынесло на топкий берег, где он увяз в трясине. Только шестерым из двадцати семи мужчин удалось спастись и добраться до форта.
Когда Ла Саль вернулся в форт и узнал о том, что произошло, он принял единственное логичное решение — идти пешком в Канаду за помощью, то есть 1500 километров, по дикой местности, — на этом фоне современные телешоу а-ля «Игры на выживание» выглядят вальяжными интервью знаменитостей в креслах.
Он взял с собой тридцать шесть мужчин, обещая остающимся в форте людям, что вернется и спасет их.
Впрочем, к этому времени его авторитет лидера пошатнулся, что неудивительно, и он стал первым убитым в Техасе европейцем, получив пулю в голову от одного из своих людей — не иначе как в ходе спора о дележе мяса. Французы никогда не были поклонниками вегетарианства и, похоже, от американской голубики попросту озверели.
По жестокой иронии судьбы, карьеру одного из самых целеустремленных и дальновидных французских исследователей оборвала одна-единственная пуля, выпущенная из мушкета, который он с таким трудом тащил из Франции. Если у Ла Саля было время на последнюю мысль перед тем, как его мозг навсегда отключился, он, наверное, пожалел о том, что не послушался Людовика XIV и не прекратил свои «бессмысленные открытия».
А тем временем через дебри Техаса, все дальше к северу, пробиралась группа выживших французов, но их становилось все меньше: ни дикая природа, ни враждебные индейцы их не щадили. В конце концов только пять человек добрались до французского поселения в Канаде, и, разумеется, каждый из них божился, что не убивал Ла Саля. Никого из тех, кто остался в форте на берегу Мексиканского залива, больше не видели.
А сахар-то не так уж и сладок
Смерть Ла Саля не остановила Францию в попытках колонизировать Северную Америку. Французы по-прежнему устраивали набеги из Канады, доставая колонистов Новой Англии, и в 1689 году даже предприняли поход на большую и процветающую колонию Нью-Йорк, которую бритты только что выменяли у голландцев на Суринам. К счастью для ньюйоркцев, французский флот заблудился в тумане и вернулся в Канаду.
Французы не утратили интереса и к побережью Мексиканского залива. Похоже — спасибо Ла Салю! — они все-таки поняли, что Миссисипи может стать грандиозным торговым путем между Канадой и островными колониями Карибского моря, которые становились все богаче благодаря плантациям сахарного тростника.
С тех самых пор, как европейцы впервые ступили на землю Америки, они рассматривали ее как Эльдорадо, а сахар стал для них жидким золотом. К тому же его не надо было выкапывать из-под земли или платить за него — он рос на деревьях. Ну, хорошо, содержался в сахарном тростнике.
Бритты особенно полюбили этот экзотический натуральный сладкий продукт, который вдруг оказался таким доступным и относительно дешевым. Помимо использования сахара в десертах и выпечках, они стали применять его для изготовления спиртов и даже добавлять в чай, свой новый национальный напиток. Французы не так активно применяли сахар в выпечке и производстве алкоголя — у них было вино, — но обожали продавать его, вот почему сахар в гораздо большей степени, чем табак, финансировал войны в Америке и укреплял бриттов в их решимости до конца бороться за свои американские колонии. Сахар, который покупали или производили бритты, не весь отправлялся в Старый Свет — он был важной составляющей в высокодоходной торговле между колониями и Англией. Хотя эту схему обычно называют трехсторонней торговлей, на самом деле все было гораздо сложнее. Товары английского производства, такие как ткани, отгружались в Африку, где на вырученные за них деньги закупали рабов. Этот живой груз везли через Атлантику, и тех, кто выжил, продавали сахарным плантаторам. Прибыли делали на сахаре, который либо отправляли в Европу, либо развозили по всему Атлантическому побережью изнывающим от ромовой жажды колонистам. Колонисты, в свою очередь, загружали те же корабли своей соленой треской, которую Африка охотно обменивала на рабов, поставляя их в северные колонии для работы на табачных плантациях или же продавая французам.
За всем этим стояло величайшее человеческое унижение, но прибыли были баснословные, так что все предпочитали закрывать на это глаза: получая огромные барыши, бритты с французами даже забывали о том, что находятся в состоянии войны. Между тем на море буйствовало взаимное пиратство, предпринимались попытки захватить друг у друга Карибские острова, но к концу семнадцатого века в бизнесе установился некоторый порядок, и можно было не переживать, что кто-то перекроет канал поступления легких денег. Бритты стали крупнейшими работорговцами, французы — главными покупателями рабов, поскольку нуждались в постоянном притоке рабочей силы на свои сахарные острова — Сан-Доминго (Гаити), Мартинику и Гваделупу.
Так, за период с 1687 по 1701 год численность рабов, закупленных французскими плантаторами, возросла с 28 000 до 40 000, и производство сахара, а также последующие прибыли увеличились прямо пропорционально.
Пусть Франции не удалось (пока что) вытолкать бриттов в Атлантику, и Луизиана развивалась болезненно медленно, все шло к тому, что Америка должна была стать источником солидных доходов для безденежных французов.
И тут в дело вмешался шотландец, утопив их надежды в долговой трясине.
Опасайтесь доверять банкиру управление экономикой
Джон Ло из Лористона запомнился французским историкам как человек, ответственный за миссисипский «пузырь». Звучит, как заразное тропическое заболевание, но фактически это то же самое, что и британский «пузырь Южных морей» [73], и такая же финансовая пирамида способствовала обвалу мировой экономики в 2008 году.
Ло родился в Эдинбурге в 1671 году, в семье ювелира, который, как и многие ювелиры того времени, выступал и в роли банкира. Джону шел только семнадцатый год, когда он унаследовал отцовское состояние и тут же решил посвятить свою жизнь его растранжириванию. Он вел себя, как молодой денди, волочился за дамами высшего света, был завсегдатаем модных игорных домов Эдинбурга. И вскоре обнаружил, что, вместо того чтобы терять деньги, накапливает их, и все благодаря своему блестящему математическому уму и нюху на удачные аферы.
Если верить Уильяму Харрисону Эйнсуорту, автору художественной биографии девятнадцатого века с броским названием «Джон Ло: Прожектёр», Ло пристрастился к карточной игре с высокими ставками «фараон», которую особенно любили понтёры, имевшие в ней лучшие шансы на выигрыш. Однако игра была популярна и среди бывалых игроков, поскольку банкир/дилер мог легко и незаметно жульничать; по этой же причине позже игра прославилась на Диком Западе как быстрый способ облегчения кошельков золотоискателей и ковбоев.
Эйнсуорт защищает Ло от нападок и обвинений в мошенничестве и цитирует французского аристократа, который говорит, что Ло был «настолько искусным игроком, что без всякого шулерства добивался невозможного, выигрывая баснословные суммы». Но по мере того как Ло колесил по Европе со своими мастер-классами по игре «фараон», его все чаще вежливо просили покинуть некоторые крупные города, в том числе Париж, где король Людовик XIV лично подписал ордер на высылку. Тем более странно, что в 1715 году, когда Ло вернулся во Францию, почти сразу после того, как Людовик упокоился в гробу, регент, герцог Орлеанский, назначил его своим главным экономическим советником.
Герцог вовсе не планировал пополнять государственную казну за счет организации турниров по «фараону» (хотя правительства более позднего времени смекнули, что можно проделывать то же самое с помощью лотерей). Ло, приятель герцога по игорным суаре еще при жизни Людовика XIV, вернулся в Париж со свежей идеей — у него был готов надежный план обогащения, и не только личного, но и целой страны. Герцога Орлеанского ничуть не смутило то обстоятельство, что другие европейские монархи уже вежливо отказали прыткому деятелю. Франция находилась в отчаянном положении — Людовик XIV своими военными авантюрами едва не разорил страну, — и новому правителю страны требовалось чудо.
Система Ло была простой, оригинальной и очень убедительной, основываясь на том, что деньги генерируют богатство, переходя из рук в руки. Особенно если речь идет о его руках, разумеется, но чем больше рук, тем лучше — это дает возможность каждому продать свои товары или услуги. Например, у богатого парижанина А есть 1000 ливров (французская денежная единица того времени), и он тратит их на высококлассную проститутку. Проститутка на эти деньги покупает кольцо с бриллиантом у ювелира, тот покупает на вырученные деньги шампанское у виноторговца, тот приобретает себе парик и костюм у портного, который испытывает на себе новый метод лечения сифилиса, и так далее, пока деньги опять не оседают в кармане богатого парижанина А. Все в выигрыше.
Это было прямо противоположно тому, что происходило в то время с французскими деньгами. Богатые аристократы обычно сидели на своей наличности, предпочитая жить на проценты. Им приходилось тратить огромные средства на поддержание красивой жизни, но все-таки куда большие суммы лежали без дела. Ло со своим планом надеялся пробудить спящую наличность и запустить ее в оборот. Как заверял он регента, это снова сделает Францию процветающей страной.
Герцог всей душой поддержал идею, из-за которой плутоватого шотландца уже вышвырнули менее доверчивые страны, и в 1716 году Ло получил разрешение на открытие «Банк женераль», и тот начал выпускать банкноты, ценность которых обеспечивало королевское золото и серебро. Банк оказался таким успешным предприятием, что в 1718 году его переименовали в «Банк рояль» («Королевский банк»), и это было еще одним подтверждением его надежности со стороны верховной власти. Однако к этому времени он выпускал уже гораздо больше банкнот, чем могло обеспечить казенное золото и серебро, и уверенность в его репутации держалась лишь на высочайшем одобрении герцога.
Тем временем Ло создал компанию под названием Compagnie d’Occident («Западная компания») и благодаря связям в самых влиятельных кругах добился эксклюзивных прав на ведение торговли между Францией и Луизианой. Одновременно он начал выкупать землю на берегах Миссисипи по смехотворно низким ценам: заболоченные участки площадью в тысячи квадратных метров торговались за одну шкурку бобра. Он не собирался ничего делать с этой землей — это была чистой воды спекуляция, — но одна только новость о том, что сам Ло покупает земли, резко повысила уверенность в надежности его компании, и она начала продавать свои акции загоревшимся идеей быстрого обогащения французам по стремительно растущим ценам. Ло взимал с каждой сделки свои личные четыре процента.
На волне этого успеха Ло получил контроль над всеми колониальными компаниями, торгующими с Африкой, Китаем и Индией и в 1719 году объединил их в монстра с оптимистичным названием Compagnie perpétuelle des Indes orientales («Вечная компания Индий»), Как и следовало ожидать, он установил новую цену акций, вынуждая инвесторов отдавать четыре старые акции в обмен на одну новую. Столь жестокую инфляцию он обосновал, расписав в красках несметные богатства этих неразвитых стран: тут вам и золото, и алмазы, и древесина, и меха и специи, не говоря уже о треске.
Он неустанно потчевал Францию сказками об огромных запасах полезных ископаемых в бассейне Миссисипи [74], пытаясь привлечь туда новых поселенцев. Желающих, впрочем, не нашлось, и тогда он (или его представители) прибегли к более циничной тактике вербовки, отлавливая бродяг, проституток, уголовников и сумасшедших, похищая детей. В общей сложности около 4000 будущих франкоамериканцев были посажены на корабли и вывезены в «форты», построенные вдоль всего северного побережья Мексиканского залива, в том числе в печально известном Билокси, разрушенном ураганом «Катрина» в 2005 году, но и тогда, в 1719 году, не менее гостеприимном местечке, поскольку французы построили свое поселение практически над деревней индейцев.
Вскоре начал отчетливо проявляться чисто спекулятивный характер колонизации, и все поселения Луизианы, числом около сорока — в долинах Миссисипи и Огайо, в Техасе и прериях, — оказались на грани вымирания, главным образом из-за того, что Компания имела дурную привычку не расплачиваться за меха и другие товары, которые закупала. В результате почти все иммигранты новой волны умерли или подались в другие края, чтобы обустраивать собственные независимые общины.
Между тем во Франции ловкость и самоуверенность Ло еще позволяли ему удерживаться на плаву. Он произвел слияние Компании и Банка, в январе 1720 года добился своего назначения на должность главного финансиста Франции и даже организовал кредитование государства на сумму свыше миллиарда ливров — кредит, разумеется, был предоставлен в его собственных банкнотах. Всего за какие-то три месяца стоимость акций его новой компании выросла с 500 ливров до умопомрачительных 20 000 ливров, а это рост в 4000 процентов, что, согласитесь, великолепно по всем нормам расчета доходности.
И в этот момент некоторые хитрые акционеры изъявили желание обналичить свои инвестиции, s’il vous plaît[75], и начали продавать акции. Другие попросили обменять милые сердцу банкноты «Банк рояль» на твердые слитки ценного металла — они имели на это полное право, — но с изумлением обнаружили, что у банка миллиард ливров в банкнотах находится в обороте, а всего 300 миллионов обеспечено золотом и серебром.
Система затонула так же быстро, как тот грузовой корабль в болотах Миссисипи, потянув с собой на дно всех ее участников. Ну, или почти всех: Ло, капитан корабля, в декабре 1720 года бежал в Венецию, бросив Францию на произвол судьбы. За время своей деятельности он убедил около миллиона французских семей купить акции его компаний, и все эти люди в итоге остались с ничего не стоящими бумажками на руках. То же самое случилось с теми, кто держал его банкноты в сейфах или под матрасами. «В январе прошлого года у меня было шестьдесят тысяч ливров в ценных бумагах, — писал в 1721 году один французский адвокат. — Сегодня мне даже не на что купить рождественские подарки своим слугам». Это лишний раз доказывает, насколько болезненным было падение.
Британия подхватывает французский вирус
Как ни комично это выглядит, но, когда уже лопался «пузырь Миссисипи» Джона Ло, бритты решили надуть собственный «пузырь Южных морей». Такое впечатление, будто они хотели превзойти французов в глупости.
«Компания Южных морей» в течение десятилетия или около того делала деньги на работорговле с Южной Америкой (название «Южные моря» связано с контролируемой испанцами частью Атлантики) и обещала сумасшедшие прибыли, но, слава богу, обходилось без банкротств, вплоть до начала 1720 года. И примерно в то же время, когда система Ло тайком направилась в туалет, всех охватила инвестиционная лихорадка, подогреваемая бравурными речами коррумпированных английских политиков (получавших за это акции) о том, как «Компания Южных морей» вот-вот обогатится на перуанском золоте, и тому подобных бреднях в духе Ло. Цена акций выросла со 120 до 1000 фунтов: абсурдный рост, хотя и довольно скромный в сравнении с французскими четырьмя тысячами процентов.
Тут же, как черт из табакерки, появилось множество таких же мошеннических схем. Британские компании чего только не обещали — развивать вечный двигатель, страховать граждан от нанесенного слугами ущерба, «совершенствовать искусство мыловарения», «торговать волосами» и даже — о, ужас! — «создать самое выгодное предприятие, но никто не должен знать, что это такое». Автор этого мудреного проекта предлагал 5000 акций по цене 100 фунтов с гарантированным дивидендом в 100 фунтов за год на каждую акцию. Все, о чем он просил, это внести депозит по 2 фунта на каждую акцию. Однажды утром, в девять часов, он открыл двери своего лондонского офиса и обнаружил огромную толпу у входа. К трем пополудни он принял 1000 депозитов, а ровно в одну минуту четвертого исчез, так что больше о нем никто не слышал, зато всего за шесть часов аферист успел «наварить» 2000 фунтов (за вычетом дневной аренды офиса и кое-каких расходов на печать) — и это в то время, когда честный торговец мог заработать за год лишь 200 фунтов.
Сценарий повторялся в Лондоне сотни раз, разве что с меньшим размахом. Утром акции выбрасывали на рынок, обезумевшая публика кидалась к брокерам скупать их, директора компаний тут же продавали акции, чтобы ухватить свою прибыль, а к ночи компания уже сворачивалась. Это было всеобщее помешательство, и можно, конечно, задаваться вопросом, почему люди так легковерны и охотно предлагают себя в качестве добычи. (Хотя ответ, конечно, простой и очевидный: как показало недавнее крушение «инвестиционной» схемы Мэдоффа, мы, люди, наделены почти безграничной доверчивостью, стоит только кому-то пообещать нам нереальные доходы от наших же вложений.)
Когда британский «пузырь» лопнул, что было неизбежно, многие инвесторы разорились, а целый ряд видных политиков лишился постов. Некий лорд Моулсворт обратился к парламенту с предложением проголосовать за то, чтобы изобретателей и исполнителей преступной схемы «Южных морей», которые заварили всю эту кашу, «сунуть в мешки и утопить в Темзе». Только-только назначенный первый лорд казначейства, Роберт Уолпоул, язвительно заметил, что сначала с них следует взыскать убытки, и у директоров «Компании Южных морей» конфисковали все активы. Урон экономике был нанесен колоссальный, доверие к правительству полностью утрачено, но — важно отметить — кризис не подорвал имперских амбиций Британии. Поразительно, но «Компания Южных морей» была реструктурирована и просуществовала до 1850-х годов.
Джону Ло повезло меньше. Его, конечно, не бросили в реку, но в чем-то его судьба оказалась похожей: он умер в Венеции в 1729 году от пневмонии, которую подхватил, катаясь на гондоле. Никто не оплакивал его кончину ни по ту, ни по эту сторону Атлантики — уж слишком много вреда он причинил, а такое не забывается. Он не только обанкротил Францию, но и поставил крест на французском будущем Луизианы.
Как ни иронично это прозвучит, но единственные, кто этого не понял, были бедные французские колонисты, которые пытались там выжить.
Далеко в Новом Орлеане
В 1721 году, спустя год после крушения коррупционной схемы Джона Ло, на берегах Миссисипи развернулось строительство нового поселения. Его собирались назвать Нувель-Орлеан в честь регента, герцога Орлеанского, и колонисты решили: надо бы соорудить нечто более грандиозное, чем надоевшие хижины, окруженные частоколом. И тогда из Франции в Луизиану был откомандирован инженер Адриан де Поже, которому предстояло построить настоящий город по строгой решетчатой схеме, с перпендикулярным расположением домов.
Впрочем, с самого начала Де Поже столкнулся с проблемами. И не из-за финансового урагана, который захлестнул Францию, а по причине того, что поселенцы, казалось, были совершенно не способны придерживаться его четкого плана: они постоянно пытались строить дома под другими углами и посреди размеченных улиц. Это страшно бесило вспыльчивого Де Поже, и он начал серьезно конфликтовать с французскими колонистами, многие из которых жаловались, что он строит город не в том месте, и предлагали сдвинуть его ниже по течению.
Впрочем, как ни странно, город постепенно строился по плану Де Поже, и попутно развивался новый архитектурный стиль — французский колониальный, с элегантными деревянными фасадами и классическими колоннами. Де Поже также построил первую дамбу для защиты города от непредсказуемых вод Миссисипи. Конечно, он не своими руками все это строил — работы растянулись на 4231 человеко-дней рабского труда.
Когда в 1723 году Нувель-Орлеан был официально провозглашен столицей Луизианы, казалось, что колония и впрямь может выкарабкаться из политической и финансовой трясины. Пока французы в очередной раз сами все не испортили. Впрочем, следует заметить, не без некоторой помощи бриттов.
В то время у французских колонистов в Америке сложились добрые отношения с самыми крупными и сильными племенами индейцев — ирокезами и гуронами, которых они убедили сражаться против англичан. Маленькие французские поселения — форт Розали и форт Арканзас — на восточном берегу Миссисипи могли рассчитывать на выживание только благодаря доброй воле племени натчезов. Натчезы создали весьма развитое общество аграриев и жили не в вигвамах одной большой деревней, как представляли себе европейцы, а на семейных фермах, и даже имели собственную столицу, отстроенную на церемониальном холме. Они изготавливали замечательные ткани и керамику, имели четкую классовую систему и обожали межплеменные турниры по лакроссу. В общем, натчезы были гораздо более цивилизованными в сравнении с большинством европейских поселенцев и даже помогали отстраивать форт Розали, поставляя древесину.
Британские агенты-провокаторы постоянно пытались испортить эти дружеские взаимоотношения, науськивая натчезов на французов и пугая индейцев страшилками о том, что будет, если Франция закрепится на их землях: да-да, эти травянистые поляны для лакросса засыплют гравием и превратят в площадки для игры в петанк. И вот однажды, в 1729 году, командующий французским гарнизоном в Розали, будто в поддержку британской пропаганде, выстроил себе дом на земле фермера-натчеза.
Натчезы, как и положено, атаковали форт Розали, убив 60 рабов и 183 французских поселенца (в основном мужчин) и захватив в плен женщин. Французская армия отреагировала молниеносно и вторглась на территорию натчезов, горя желанием отомстить. В ходе первой экспедиции французам удалось вернуть 50 женщин и 100 рабов. Второе вторжение можно назвать чистой воды геноцидом: едва ли не 1500 натчезов из шеститысячного племени было вырезано. Пятьсот человек из оставшихся в живых сослали в рабство на сахарные плантации Сан-Доминго, остальным удалось сбежать, и их приютили как беженцев другие индейские племена — крики, чероки и чикасо.
Слухи о геноциде быстро распространялись, и прежде нейтральные индейцы ополчились на Францию. В 1736 году чикасо начали готовиться к войне, подстрекаемые беженцами-натчезами.
Французы проведали об этих планах и отправили два отряда на территорию чикасо. Первый отряд, состоявший из 400 мужчин, был атакован индейцами и сожжен заживо. Наступление второго отряда индейцы отбитли, и он вернулся на побережье.
Помимо этнической зачистки территории натчезов, это противостояние имело далеко идущие последствия. Король Людовик XV объявил всю Луизиану зоной свободной торговли, подорвав тем самым статус Нувель-Орлеана как обязательного перевалочного пункта для товаров, ввозимых и вывозимых за пределы региона. Положение молодого города стало еще более шатким, поскольку основные потребители — французские поселенцы — вдруг запаниковали и начали массово его покидать.
Вот так, из-за несогласованного плана индивидуальной жилой застройки и некоторого вмешательства со стороны бриттов, Франция потеряла влияние на огромной территории Восточной Луизианы.
А корова готовилась и вовсе выселить французов отовсюду.
Сказка о двух Джорджах
В 1752 году некий двадцатилетний юноша присягнул на верность своему монарху, королю Англии Георгу II, и был принят на военную службу. Молодой солдат честно служил британскому губернатору Вирджинии, и вскоре его репутация настолько окрепла, что ему поручили важнейшую миссию, связанную с борьбой с французами.
Звали этого пламенного английского патриота Джордж Вашингтон. Да-да, Джордж Вашингтон, первый президент США. Американцы излагают историю его жизни и деятельности так своеобразно, что в памяти остается лишь эпизод со сломанным вишневым деревом в отцовском саду и участие в антибританской революции; но если заглянуть в начало 1750-х годов, то Джорджа можно увидеть распевающим «Боже, храни короля» (гимн стал хитом в 1744 году) и салютующим «Юнион Джеку» (который официально стал государственным флагом Великобритании в 1707 году).
Вашингтон, сын плантатора и рабовладельца, начал работать в шестнадцать лет, землемером у своего дальнего родственника, лорда Фэрфакса, единственного английского наследного лорда, проживающего в Северной Америке, убежденного роялиста, который сохранил верность Британии даже после революции. Спустя некоторое время перед молодым Джорджем открылась перспектива другой работы, уже с политическим окрасом.
В 1752–1753 годах губернатор Вирджинии, Роберт Динвидди, всерьез обеспокоился активностью французов в строительстве фортов по берегам реки Огайо, к западу от его колонии. Франция заявляла эту территорию как часть Луизианы, но она находилась также в зоне интересов недавно созданной компании «Огайо», которая приобрела эти земли для себя с видом на пушную торговлю. Случилось так, что губернатор Динвидди оказался в числе акционеров этой компании, поэтому он поручил молодому Вашингтону, майору Вирджинского ополчения (местной британской гражданской армии), особое задание — пойти и сказать французам, чтобы убирались из Огайо. Ну, или что-то в этом роде.
Вашингтон явился с ультиматумом в форт Ле Беф в Пенсильвании, который оказался хорошо укрепленным аванпостом с пушками и гарнизоном из сотни солдат под командованием опытного франкоканадского офицера. Французы, как доложил Вашингтон по возвращении, явно не собирались сдавать своих позиций.
Эта новость обеспокоила Динвидди, хотя он и не слишком удивился тому, что его ультиматум французы попросту проигнорировали и продолжили строительство форта как ни в чем не бывало. Но, когда услышал, что французы обустраивают поселение на месте бывшего британского форта и собираются назвать его форт Дюкен, в честь губернатора Нувель Франс, он решил, что французы в своих провокациях зашли слишком далеко. Динвидди повысил Вашингтона, присвоив ему звание подполковника, и поручил ему доставить еще одно уведомление французским нарушителям границ.
Вашингтон выполнил задание: будучи вежливым сыном плантатора, он по-хорошему попросил французов покинул, форт. Будучи французскими солдатами, те, разумеется, отказались.
Версия последующих событий довольно спорна; вообще все, что связано с жизнью будущего первого президента, зачастую сильно приукрашено [76].
Так вот, по версии французов, когда Вашингтон увидел, что форт Дюкен не собирается сдаваться, он решил построить базу для себя, дипломатично назвав ее форт Несессити («Необходимость») — мол, «не обижайтесь, мсье французы, вы сами нас вынудили». Начальник гарнизона форта Дюкен не мог сидеть сложа руки, поэтому отправил сорок или пятьдесят солдат, чтобы те вынудили британцев убраться.
Этой диверсионной группой командовал офицер Жюмонвиль (на самом деле его имя гораздо длиннее, но мы не станем тормозить интригу этими подробностями), который начал кружить по окрестностям, угрожая расправой всем встречным, говорящим по-английски. Одной из жертв оказался фермер по имени Кристофер Джист. В ночь на 23 мая 1754 года он пришел в лагерь Вашингтона и пожаловался на то, что французские солдаты ворвались к нему в хижину и пригрозили, что убьют его корову, если он не уберется с занимаемой земли.
Да уж, над дойной коровой англичанина нависла реальная опасность превратиться во французский стейк. Разумеется, у британцев не было иного выхода, кроме как объявить войну. Взяв проводником местного индейца по имени Таначарисон (они с коровой были друзья по несчастью, поскольку, как утверждал индеец, французы сварили и съели его отца), Вашингтон немедленно выступил в поход и обнаружил отряд Жюмонвиля расположившимся лагерем на весьма живописной поляне. Сорок вирджинцев и двенадцать соплеменников Таначарисона окружили лагерь французов, и на рассвете 24 мая 1754 года Вашингтон отдал приказ открыть огонь. Через несколько минут десяток французов остались лежать на земле, испустив дух, а двадцать три сдались в плен, в их числе раненый командир, Жюмонвиль.
Сражение окончилось, и стороны убрали оружие, но Таначарисон, видимо решив, что Жюмонвиль очень похож на того парня, который сварил его отца, вышел вперед и томагавком зарубил бедного француза, а потом вымыл руки мозгами своей жертвы.
Как офицер и джентльмен, Вашингтон вряд ли одобрил такое поведение, но то были жестокие времена — в конце концов, и его люди только что прикончили десяток спящих французов, чтобы предотвратить серьезное преступление в отношении животного. Так что, отбросив сантименты, мешающие выполнению его миссии, Вашингтон двинулся дальше и отстроил-таки форт Несессити.
Это название слишком сильно льстило хлипкому сооружению, состоящему из одной хижины в кольце из двухметровых бревен, а потому у него не было никаких шансов противостоять семистам французам, которые пришли отомстить.
Французских мстителей возглавлял брат Жюмонвиля, Луи де Вилье (полное имя гораздо длиннее, но хотя бы одна его составляющая указывала на связь с родственником), и он приказал своим людям беспрерывно обстреливать форт Несессити из мушкетов. Все шло к тому, что Вашингтон вот-вот капитулирует или превратится в сыр «Грюйер», но де Вилье не терпелось свершить правосудие, и он отправил к бриттам гонца с предупреждением, что если они не сдадутся, то дружественные французам индейцы снимут скальп со всех, кто уцелеет.
Пока Джордж размышлял над этим ультиматумом, группа вирджинцев воспользовалась временной передышкой, распечатала гарнизонный ромовый паек и напилась до чертиков. Это обстоятельство, вместе с проливным дождем, надмочившим британский порох, убедили Вашингтона в необходимости принять предложение французов. Он и его люди согласились покинуть форт и вернуться в Вирджинию.
Однако прежде де Вилье дал Вашингтону подписать один документ. Джордж, как истинный бритт своего времени, не читал по-французски, но все равно поставил подпись. Да и что мог значить клочок вражеской бумаги? Дело происходило в девственных лесах Огайо, где де Вилье был нелегальным чужаком (во всяком случае, так считали бритты), так что любые его документы ровным счетом ничего не значили.
К сожалению, в документе речь шла о том, что он, Джордж Вашингтон, признавал себя полностью виновным в убийстве Жюмонвиля. Да-да, по нормам французского права седовласый добродетельный гражданин, Отец нации, был убийцей, признавшим свою вину.
Четвертого июля, в день, который позже будет ассоциироваться с подписанием куда менее компрометирующего документа, Вашингтон вывел своих людей из форта, отчаянно стараясь не обращать внимания на гогот и насмешки торжествующих французов и индейцев, которые тут же присвоили себе ружья и провиант отступающих солдат. Это было, как старательно подчеркивают американские историки, единственное военное поражение Вашингтона.
Между тем его признание в убийстве было опубликовано и использовано как доказательство того, что британцы — жестокая раса хладнокровных убийц, хотя, как мы уже видели в истории расправы, учиненной над племенем натчезов, уж на эту монополию британские колонисты точно не претендовали. И в конце концов, в деле Вашингтона имелись смягчающие обстоятельства, ведь он все, что предпринимал, осуществлял с благородной целью — защищал невинную корову.
Скальпы перед использованием следует дезинфицировать
К 1756 году Франция и Британия уже официально находились в состоянии войны, а не просто обменивались отдельными выпадами. Что тогда, что сейчас, есть техническая разница между этими двумя понятиями. Так же, как и в футбольном матче, Семилетняя война (разумеется, военный конфликт еще не получил этого названия) была объявлена только после того, как на поле собрались игроки всех команд. После некоторой суеты и толкотни определились две противоборствующие стороны: Британия и Пруссия против Австрии, Испании и Франции. На кону, как всегда, стоял вопрос, кому быть самой могущественной нацией Европы.
Поначалу все вроде складывалось для французов очень неплохо, особенно за пределами Америки. В апреле 1756 года огромные силы, морские и сухопутные, вторглись на контролируемый британцами остров Менорка. Несоизмеримо меньшие по численности британские войска пошли на освобождение Маона, столицы острова, но потерпели неудачу: им даже не удалось открыть огонь по врагу. Франция отпраздновала победу изобретением нового соуса, майонеза, с намеренно сложным рецептом, чтобы английские шефы не смогли его правильно приготовить.
Британия так рассердилась, что адмирал, посланный для спасения гарнизона Маона, сэр Джон Бинг, был отдан под трибунал за то, что «не сделал все возможное», и расстрелян. Его казнь настолько шокировала Вольтера, что он описал этот эпизод в своем романе «Кандид».
В еще большую ярость поверг Британию август 1757 года, когда 6000 французов и 2000 индейцев атаковали британский форт Уильям-Генри на севере колонии Нью-Йорк, который защищали около 2200 солдат британской регулярной армии и колонистов-ополченцев. Французы повторили тактику, испытанную во время выкуривания Вашингтона из форта Несессити: они изрешетили укрепления и после этого предложили бриттам сдаться.
Французский военачальник, Монкальм, пообещал бриттам, что и военные, и гражданские лица могут покинуть форт, не опасаясь за свою жизнь. Поэтому большим сюрпризом стало то, что дружественные французам индейцы напали на уходящих бриттов. Мужчин, женщин и детей краснокожие зверски убили, а ружья и скальпы захватили как трофеи. Очевидно, у воинственных индейцев сложилось впечатление, будто их позвали убивать и грабить, и великодушие победителей их совершенно не устраивало.
Цифры разнятся, но, похоже, погибло около 200 человек, прежде чем Монкальм смог оправдать свою фамилию [77] и успокоить кровожадных союзников. От него, конечно, никто и никогда не требовал подписать признание в массовом убийстве, но история обошлась с ним куда более сурово, чем с Вашингтоном. В 1826 году события в форте Уильям-Генри увековечил в романе «Последний из могикан» Джеймс Фенимор Купер, рассказав историю попытки двух индейцев спасти дочерей британского командира.
История мстила и по-другому, причем по горячим следам: после бойни индейцы вернулись на место преступления и вырыли погребенные тела, желая раздобыть еще больше скальпов. Но что они точно раздобыли, так это оспу. Началась страшная эпидемия, которая буквально косила французов и их союзников. Одной из жертв вполне мог оказаться обвинитель Вашингтона, Луи де Вилье, который умер от оспы в Квебеке в 1757 году.
Америка в подарок бриттам
Официально Семилетняя война оправдала свое название и длилась до 1763 года, но в действительности затухла уже через три года. К этому времени Франция потеряла Квебек, а невоспетый герой Англии, флотоводец сэр Эдуард Хоук, нанес такой урон французскому флоту, что Франции уже почти не на чем стало переправлять солдат и оружие через Атлантику. Поэтому в конце 1759 года Париж начал прощупывать почву на предмет переговоров о мире.
Разумеется, французы никому в этом не признавались, вот почему один бедняга бретонец все продолжал пыжиться, пытаясь добиться процветания Луизианы.
Как губернатор этой территории Луи Биллуар, шевалье де Керлерек, изо всех сил старался хоть как-то упорядочить царящий повсюду хаос. В Нувель-Орлеане, казалось, все только и делали, что спорили друг с другом — военные с купцами, духовенство с присяжными, иезуиты с конкурирующими религиозными орденами, — а уж когда в колонию стали стекаться нищие акадийские беженцы из Канады, они стали источником новых расходов и споров.
Керлерек опасался, что бритты просто войдут в Нувель-Орлеан и без всяких усилий захватят город, поэтому он приказал возвести частокол по всему периметру, а посреди Миссисипи поставил на якорь старый корабль, который можно было бы затопить, чтобы блокировать британскому флоту подходы с реки. Он также обратился к Парижу и Канаде с просьбой прислать дополнительные войска, но его никто не услышал. В общем, он остался в одиночестве.
У Керлерека был единственный выход — попытаться убедить индейцев в том, что французы не все сплошь варвары, как те, что истребили натчезов. И поначалу его переговоры имели успех: ему удалось уговорить племя чероки помочь в защите Нувель-Орлеана в случае вторжения бриттов.
Впрочем, Керлереку не пришлось прибегать к помощи индейцев, потому что, как пишет французский историк Анри Бле, на Нувель-Орлеан «никто не нападал. От кого он должен был защищаться, так это от самого себя». Другими словами, Франция была готова потерять колонии и без вмешательства англичан.
Проблема Керлерека заключалась в том, что он был довольно консервативным морским офицером, которому поручили управление огромной территорией, населенной трапперами, торговцами пушниной, рабовладельцами — людьми, которые существовали на грани банкротства и лютой смерти, а потому практиковали мошенничество и коррупцию. Керлерек если и давал взятки, то только индейцам, причем делал это охотно. Вождей племен приходилось задабривать, чтобы поддерживать их профранцузский настрой, а потому губернатор регулярно проводил церемонии вручения подарков. Он приглашал представителей племен на грандиозный банкет, во время которого официально вручал им порох, патроны, секаторы, топоры и красную краску (индейцы обожали раскрашивать себя и свои деревни в красный цвет), а вожди потом распределяли все это добро среди соплеменников.
Бюджетом этих мероприятий распоряжался не губернатор, а его распорядитель кредитов, или финансовый контролер: в нашем случае это еще один флотский офицер, Винсент де Рошмор. Но финансы всегда были больным вопросом для Рошмора. Еще до приезда в Нувель-Орлеан он постоянно жаловался на то, что его жалованья недостаточно для него и его семьи и что ему приходится тратить собственные деньги на поддержание достойного образа жизни. Финансист без денег — это всегда неудачная комбинация, и вскоре поползли слухи, что Рошмор крадет подарки для индейцев и продает их, забирая себе выручку. Но Керлерек знал, что чероки, если его лишить французского топора или краски, вполне может отправиться на поиски более щедрых союзников.
Губернатору ничего не оставалось, как отправить Рошмора во Францию, где разжалованный распорядитель кредитов тотчас принялся интриговать против Керлерека, задавшись целью подмочить его репутацию. Он, например, ставил в вину губернатору проведение церемоний вручения подарков в Нувель-Орлеане, в то время как безопаснее было бы делать это в крупном французском форте-городе Мобиле. С чего бы Керлереку устраивать церемонии поближе к дому, если не для того, чтобы украсть немного красной краски для своих нужд?
Результат оказался плачевным для Керлерека: его отозвали и посадили в Бастилию, потом изгнали из Парижа с предписанием не селиться ближе чем в 30 лье от любого королевского дворца (не иначе как власти опасались, что он разрисует стены их замков красными граффити).
По сути, Луизиана лишилась последнего шанса остаться французской из-за конфликта вокруг подарков. Чем не семейная грызня в Рождество, которая заканчивается поджогом дома?
Тем временем французский форт Дюкен, который так потрепал нервы Джорджу Вашингтону, был сдан, и британцы построили на его месте новый аванпост — форт Питт, который позже стал Питсбургом, названный в честь британского премьер-министра.
Парижский договор 1763 года, который официально свидетельствовал об окончании войны, был крайне унизительным для Франции. Король Людовик XVI отказался от всяких притязаний на Новую Францию (Канаду), предпочитая оставить в своих руках сахарные острова Гваделупу и Мартинику. В войне участвовала также Испания, так что в порядке обмена территориями Британия получила Флориду, Франция отдала Испании свои земли на западном берегу Миссисипи, в том числе Нувель-Орлеан. (Хотя никто не осмеливался преподнести горожанам эту печальную новость до самого сентября 1764 года.) Тем временем Британия получила восточный берег Миссисипи, и это означало, что Луизиана была поделена строго посередине и потеряна для Франции. Унижение Франции не ограничилось потерей заморских территорий — в Европе ей пришлось разобрать фортификационные сооружения в собственном порту Дюнкерк, чтобы Англия не опасалась вторжения.
Вы можете прочувствовать эту вечную боль, зайдя на веб-сайт французского правительства. «Парижский договор перечеркнул два столетия усилий колонистов, исследователей и государственных деятелей. Это был конец мечты о Французской Америке».
Но виноваты в этом были сами французы, и никто другой. Как однажды признался Наполеон, «главным врагом нашего успеха и славы являемся мы сами, и в этом наш национальный позор». Другими словами, французам не стоило провоцировать Джорджа Вашингтона угрозами убить ту корову. Ни один стейк еще не обошелся французам так дорого.
Глава 10 Американская независимость… от Франции
1776 год: бритты были не единственными, кого вышвырнули из Америки
Уж если в чем и нельзя упрекнуть французов, это в том, что они так и не отказались от попыток перехитрить бриттов. Даже после подписания унизительного Парижского договора, который лишал Францию каждого квадратного сантиметра земель, которыми она владела в Америке, французы не оставили надежду испортить англичанам жизнь по ту сторону Атлантики. Прежде всего они помогли американцам добиться независимости (хотя те и поскупились на благодарность), после чего пошли еще дальше и попытались превратить Америку в главного врага Британии в мировой политике — и все мы знаем, что из этого получилось.
И финальный аккорд в американской игре Франции обернулся такими бедами, что даже сегодня в этой стране мало кто знает всю правду…
Мерси, премного благодарны
Американская независимость на самом деле началась не с Бостонского чаепития, а с губительной, и совсем не характерной для британцев, ошибки: довольно удачно отстрелявшись в Семилетней десантно-диверсионной войне, бритты размякли.
И американцы быстро показали им, что мягкость — это удел хлюпиков и неудачников.
Первые признаки слабины продемонстрировал король Георг III, своей Прокламацией 1763 года запретив строительство европейских поселений к западу от Аппалачей, горной цепи, которая тянется параллельно Атлантическому побережью от Канады до Алабамы. Это было неожиданное и прямо-таки новаторское предложение: бритты объявляли, что большая часть американского континента должна принадлежать законным владельцам, американским индейцам.
Однако это спровоцировало немедленный всплеск негодования в американских колониях, поскольку Прокламация била по их интересам гораздо больнее, чем это когда-либо делали французы. Хуже того, приказы о выселении касались колонистов, живущих к западу от Аппалачей, включая долину реки Огайо, где собственно и вспыхнула Семилетняя война. Видные американцы, такие как Джордж Вашингтон, пришли в ужас: они сражались и умирали за эту землю, изгоняли оттуда французскую армию — а теперь им предлагали отдать ее индейцам?
Британия продемонстрировала полное отсутствие воли, когда приняла еще один жалостливый закон, Квебекский акт, составленный в пользу других врагов американских колонистов — франкоканадцев, которые в свое время старательно помогали французам. Квебекский акт окончательно отделял Канаду от американских колоний, гарантировал проживавшим там французским католикам право исповедовать свою религию и даже предоставлял некоторую независимость в пределах новой британской территории Квебека. Англо- американцы, многие из которых были убежденными пуританами, отнеслись ко всем этим нововведениям, мягко говоря, без энтузиазма.
Так что американский патриотизм, некогда сплотивший разрозненные колонии в борьбе против французов, теперь обратился против британцев, особенно после того, как Лондон начал предпринимать попытки возместить военные затраты введением повышенных колониальных пошлин. Одна из таких пошлин спровоцировала Бостонское чаепитие 1773 года, знаменитая акция протеста бостонцев, переодетых в индейцев, как будто этим маскарадом они надеялись доказать, что хулиганы ирокезы и чероки не достойны того, чтобы владеть целым континентом.
Франция не могла противостоять искушению. Она увидела брешь в твердыне Британской империи и решила заделать ее французским порохом.
В войну вступают громкие имена
Министр иностранных дел при дворе Людовика XVI, Шарль Гравье де Верженн, непримиримый противник Британии, горел желанием отомстить Англии за Семилетнюю войну и Парижский договор. Когда между бриттами и американцами наметились разногласия, он увидел свой шанс. «Провидение, — сказал он, — выбрало этот момент для того, чтобы Англия тоже испытала унижение».
В это же время в Европе находился Бенджамин Франклин, якобы как представитель североамериканских колоний в Лондоне, но втайне налаживающий еще и дружеские связи с Францией. Французы сразу же влюбились в этого добродушно- веселого, простосердечного американца, хотя он и практиковал вегетарианство. Франклин был из тех, кто сам себя сделал; успешный писатель и изобретатель, подавшийся в политику, и парижский снобизм он рубил своими манерами и словом, будто томагавком.
Французы, возможно, видели в нем родственную душу еще и потому, что он, как и они, имел тягу к эксцентричным и совершенно бесполезным изобретениям; так, он изготовил усовершенствованный вариант стеклянной гармоники — замысловатого музыкального инструмента, издающего нежный и приятный звук, когда исполнитель прикасается пальцами к влажным краям полусферических чашечек. Франклину принадлежат и весьма полезные разработки, особенно в области электричества, и хотя он был мужчиной довольно тучным, лысеющим (при этом париков не носил) и одевался просто, его чудаковатость импонировала парижанам. Возможно, именно этот успех у парижского бомонда подвел его к разработке теории о том, что лучшая защита от болезней, передающихся половым путем, это обильное посткоитальное мочеиспускание. Безусловно, не лучшая из его научных идей.
Как бы то ни было, когда в конце 1776 года Франклин приехал в Париж просить французов помочь защитить недавно провозглашенную независимость Америки, министр иностранных дел встретил его с распростертыми объятиями. Правда, Верженн поставил одно условие: никто не должен знать о том, что Франция поддерживает Америку. Вот почему министр озаботился поисками доверенного лица, неофициального посредника в этих переговорах.
Таким человеком стал Пьер Огюстен Карон де Бомарше. Сегодня он известен как автор комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро», однако, прежде чем добиться литературной славы, этот бывший часовщик и учитель игры на арфе королевских дочерей занимался довольно сомнительными делами. Две его первые жены умерли при загадочных обстоятельствах, оставив ему в наследство свои состояния, и однажды он был отправлен в Лондон поддержать репутацию одной из любовниц Людовика XV. Теперь Верженн предлагал Бомарше стать оружейным бароном. Комедиограф — поставщик оружия для революционеров? Вы можете себе представить Рикки Джервейса [78], поставляющего вооружение «Тамильским тиграм»?
Бомарше учредил фиктивную компанию «Родериг Горталез компани» (испанское название он выбрал, чтобы замаскировать истинное происхождение предприятия) и начал поставлять в Америку французское оружие в обмен на табак. В общей сложности он отправил через Атлантику около 30 000 мушкетов и 2000 бочек пороха, не считая пушек, военного обмундирования и палаток.
Однако кое-кто во Франции призывал к осторожности. Это был главный финансист, довольно нудный тип, из тех, кого Бомарше высмеивал в своих комедиях, экономист с отчасти женским именем Анна-Робер-Жак Тюрго. Он считал, что Франции лучше бы держаться подальше от американской Войны за независимость — иначе, предупреждал он, бритты снова ополчатся на Францию и навяжут ей войну, которую страна попросту не выдюжит.
Забавно, но Тюрго был, наверное, самым проамериканским политиком во Франции. Он разделял революционные идеалы, лоббировал экономические реформы, которые могли бы уменьшить социальное неравенство среди его сограждан. И именно по этой причине его предупреждениям никто не внял. Он нажил слишком много врагов среди французских аристократов, которые пресытились его советами о том, как распоряжаться государственной казной.
В сложившихся обстоятельствах Тюрго, разумеется, был прав. Заверения Верженна и Бомарше в том, что «это не французское оружие, честное слово», даже если оно отгружается из Франции и имеет штамп «Сделано во Франции», не могли никого обмануть. Бритты уже давно знали об этих махинациях, главным образом потому что кое-кто из французской верхушки имел слишком длинный язык.
Одним из таких болтунов был Лафайет, любимчик Америки. Этот девятнадцатилетний аристократ, чье настоящее имя — Мари-Жозеф Поль Ив Рош Жильбер дю Мотье, маркиз де Ла Файет — не смог бы выговорить ни один американец, происходил из семьи, генетически настроенной против Британии. Один из его предков воевал на стороне Жанны д’Арк, а его отец был убит англо-германским пушечным ядром во время Семилетней войны. Так что в апреле 1777 года Лафайет отплыл в Америку, чтобы присоединиться к борьбе за правое дело, несмотря на мольбы Людовика XVI соблюдать хотя бы элементарную конспирацию.
Впрочем, довольно скоро необходимость в соблюдении тайны вовсе отпала: в феврале 1778 года французы подписали союзнический договор с американцами, вынуждая бриттов, которые давно уже морально подготовились к такому развитию событий, взяться за оружие. Теперь перед Францией встала необходимость закачивать реальные деньги в конфликт.
На этом этапе будущее американской независимости выглядело далеко не радужным. В колониях было куда больше пробританских лоялистов, чем патриотов, сторонников Вашингтона. Большинство индейцев поддерживали Георга III, который обещал одарить их правом на землю, и около 100 000 рабов сбежали от своих хозяев, после того как им предложили свободу в обмен на участие в войне на стороне бриттов, — кстати, и Джордж Вашингтон по этой же причине лишился особо ценных дармовых работников. Да и в рядах его солдат началось брожение и дезертирство. Он, как в воздухе, нуждался в поддержке французов.
И он ее получил. Возможно, США забыли об этом во время Иракской войны, но Франция действительно сделала все от нее зависящее, чтобы отстоять независимость Америки. Она даже послала одного из своих лучших солдат старой закалки, великого Рошамбо, в Ньюпорт, город в нынешнем штате Род-Айленд, с шеститысячной армией.
Поначалу в отношениях между французским войском и американскими патриотами сквозила напряженность. Французы были игроками, да и глазели на целомудренных пуританок так, словно раздевали взглядами. Во избежание дипломатического скандала покидать лагерь разрешили только офицерам, и их элегантные манеры вскоре очаровали местных жителей, растроганных тем, что такие аристократы приехали воевать за их демократию. Когда Вашингтон приехал с визитом к своим новым союзникам, ему был оказан теплый прием: французы, казалось, забыли, что он сражался против них во время Семилетней войны и что подписал признание в хладнокровном убийстве одного из французских офицеров.
Но столь благостная атмосфера не могла царить вечно, и довольно скоро французы погрязли в склоках и внутренних разборках. Рошамбо схватился в споре с Ла Файетом, которого Конгресс назначил на должность старшего адъютанта [79] Вашингтона и который уже считал себя солдатом бывалым и сведущим в военных вопросах. Молодой маркиз успел получить ранение в ногу, когда помогал американцам проигрывать битву в Пенсильвании, и теперь пытался учить Рошамбо, как проводить дислокацию. Это вылилось в унизительную пикировку, и Рошамбо написал Ла Файету, «как отец дорогому сыну», обвиняя того в личных амбициях.
«Это, конечно, очень хорошо, — сказал старый вояка, — считать Францию непобедимой, но позволю себе поделиться с тобой секретом, который я открыл за свой сорокалетний военный опыт. Легче всего победить тех солдат, которые потеряли доверие к своим командирам, а они теряют его сразу же, как только почувствуют, что их приносят в жертву ради достижения личной выгоды».
Летом 1779 года, чтобы оттянуть силы противника и дать возможность измотанному войску Вашингтона прийти в себя, Франция разыграла шуточное нападение на Британию. Армия численностью в 30 000 солдат подошла к берегам Ла-Манша и погрузилась на французские и испанские корабли. Однако многие корабли запаслись грязной питьевой водой, и, когда французы попытались спровоцировать бриттов на морской бой, английский флот скрылся из виду, вынуждая противника отплывать все дальше от берега. В конце концов, когда французские солдаты и моряки стали умирать, как мухи, от цинги и отравления водой, силы вторжения просто повернули назад во Францию. Говорят, что к тому времени Ла-Манш просто кишел трупами французов, так что жители Южной Англии перестали есть рыбу.
Французы завоевывают американскую независимость
К счастью, по ту сторону Атлантики Рошамбо гораздо успешнее помогал Вашингтону, и в октябре 1781 года объединенная армия из 8000 французов и 9000 американцев одержала победу, которая, по крайней мере, в народной памяти американцев, закрепила их независимость. Был окружен последний оплот британцев — шеститысячная армия в Йорктауне, городе, который сегодня находится в штате Вирджиния. Половина солдат получили ранения или заразились оспой и другими болезнями, и британский командующий, Чарльз Корнуоллис, держался только потому, что ему обещали прислать подкрепление с севера. Но, когда французский флот отрезал все подходы с моря, Корнуоллису пришлось сдать Йорктаун, и на этом британское сопротивление американской независимости закончилось.
Церемония капитуляции была трогательным моментом франко-американского единения. Корнуоллис, сославшись на тяжелую болезнь, не смог присутствовать и прислал своего заместителя, ирландца, бригадного генерала Чарльза О’Хару, который попытался передать свой меч Рошамбо. Француз вежливо отказался, тем самым вынуждая британского офицера обратиться к американским властям, признавая их законность. О’Хара повернулся к Вашингтону, но тот тоже отказался принимать капитуляцию от низшего по званию офицера, и генералу О’Хара в конце концов пришлось отдать свой меч заместителю американского главнокомандующего, генерал-майору Бенджамину Линкольну (никакого отношения к Аврааму).
Помимо такой дипломатической поддержки, венчавшей конец британского правления, французам пришлось пожертвовать людьми при осаде Йорктауна, и эти потери значительно превосходили урон, понесенный американцами. Французы потеряли убитыми двести человек, американцы же не досчитались восьмидесяти солдат. И наконец, именно французский флот утопил последние надежды Корнуоллиса на спасение.
Вот почему может показаться неблагодарностью с американской стороны то, что они начали договариваться об официальном окончании войны с британцами, исключив из этих переговоров французов.
В последующем соглашении американцы и бритты явно задались общей целью выдавить из Америки французов. Британия признавала независимость американских колоний, но оставляла за собой Канаду. Бритты и американцы гарантировали друг другу беспрепятственный доступ к Миссисипи. И как только война закончилась, американцы повернулись спиной к французским трейдерам, прежде поставлявшим им оружие и провизию, и начали вести бизнес с британцами. Очень быстро бывшие враги стали лучшими приятелями.
Индейцам, разумеется, достался кукиш, и без протекции своего давнего покровителя Георга III их ожидал не очень-то веселый девятнадцатый век.
Все, что получила Франция от заокеанской эпопеи, это эмоциональный подъем на волне помощи угнетенным американцам в их борьбе против монархии — эту идею французам вскоре предстояло воплотить в жизнь в родной стране. Бедный Людовик XVI думал, что наносит коварный удар ножом в спину английского соседа. А на деле вышло так, что сунул собственную голову под нож гильотины.
Чтобы свести с вами счеты, у меня есть Бонапарт
Невероятно (а кто-то решит, что это чистой воды мазохизм), но Франции удалось возродить свою мечту о Французской Америке. А раздул это угасающее пламя (как потом и затоптал) не кто иной, как Наполеон Бонапарт.
Когда Америка добилась от Британии независимости, она владела только восточной половиной страны. Испании принадлежало гораздо больше земель в Северной Америке: по Парижскому договору 1763 года она получила французскую Луизиану, бескрайние и неизученные земли к западу от Миссисипи, включая Нувель-Орлеан.
Но у испанцев возникли проблемы на новых территориях. В Новом Орлеане вспыхнул бунт французского населения, безжалостно подавленный ирландским наемником, Александром О’Рейли; неудачными были и попытки воспрепятствовать свободному доступу американцев к торговым путям на Миссисипи. Америка активно пользовалась своим «правом депозита» в Новом Орлеане, используя город как склад для хранения товаров, курсирующих между американскими поселениями на восточном берегу. И получалось так, что испанская колонизация топталась на месте.
Наступил 1800 год. Франция уже оправилась от революционных беспорядков, и ее новый лидер Наполеон все активнее интересовался тем, что творится в мире. Он изучил испанское досье и обнаружил возможность для бартерной сделки, весьма выгодной как Франции, так и королю Испании Карлу IV. Франция могла бы вернуть себе беспокойную Луизиану в обмен на расширение территории, управляемой зятем Карла IV, герцогом Пармским, в Италии. Даже сегодня многие согласятся с тем, что несколько квадратных километров Тосканы стоят всех Миссури, Канзаса, Оклахомы и еще нескольких американских штатов в придачу, — но тогда Карла, похоже, более чем удовлетворили условия сделки. Однако Наполеон настоял на том, чтобы Испания не хвасталась новыми итальянскими приобретениями, поскольку хотел держать соглашение в тайне от американцев. В итоге несчастным французским луизианцам никто ничего не сказал, и они по-прежнему думали, что живут в испанской колонии.
Впрочем, такой секрет трудно хранить, и еще до того, как состоялся обмен землями, американцы послали во Францию своих дипломатов удостовериться в том, что прежние договоренности о доступе к Миссисипи будут соблюдаться.
А в 1801 году президент Джефферсон отправил в Париж нью-йоркского юриста, Роберта Р. Ливингстона (американцы уже начали праздновать независимость от Британии, вставляя инициалы в свои имена), с заданием попытаться выкупить Новый Орлеан. Миссия, конечно, была невыполнима, поскольку Ливингстону пришлось иметь дело с весьма скользким типом — наполеоновским министром иностранных дел Шарлем Морисом де Талейраном-Перигором.
Талейран был женоподобным аристократом с прихрамывающей походкой; не веря в Бога, он стал епископом исключительно из желания разбогатеть и отказался от духовного сана, как только религия оказалась под запретом в годы революции. К 1801 году он уже был известен как самый беспринципный политик (разве что для принципа самопродвижения делал исключение). Именно ему принадлежат слова «Предательство — это вопрос даты». Босс Талейрана, Наполеон, вовсе не восторгался своим министром и даже называл его «куском дерьма в шелковых чулках». Короче говоря, с ним было трудно делать бизнес, к тому же поговаривали, что Талейран берет личный процент от любой финансовой сделки французского правительства.
Впрочем, Талейран подходил лучше кого бы то ни было для переговоров с американцами [80], поскольку понимал их устремления. После Французской революции его на пару лет сослали в Америку: он торговал землями в Массачусетсе и книгами и противозачаточными средствами в Филадельфии.
В 1801 году переговоры о продаже Нового Орлеана провалились, но к 1803 году Наполеон крайне нуждался в деньгах: он воевал с Британией, да еще вспыхнул мятеж в сахарной колонии Сан-Доминго (Гаити), который угрожал свести его доходы к минимуму. Более того, он задолжал американцам 18 миллионов франков (3,75 миллиона долларов) в качестве возмещения убытков за французское пиратство в отношении американских судов после провозглашения независимости.
Так что когда Роберт Р. Ливингстон (забавно, но буква «Р» с точкой означает «Роберт»: так звали и его отца) вернулся в Париж в апреле 1803 года, в надежде купить неограниченный доступ к Миссисипи за 2 миллиона долларов, его ожидало потрясающее предложение о продаже всей территории Луизианы вдоль западного берега по цене 15 миллионов долларов за вычетом упомянутой суммы понесенных Америкой убытков.
Партнер Ливингстона по переговорам, Джеймс Монро, приехал спустя несколько дней, и оба американца пришли к выводу, что за этим предложением кроется какой-то подвох; к тому же у них не было полномочий обсуждать столь масштабную сделку, и они решили, что французы пытаются тянуть время, вынуждая их ожидать согласия от Джефферсона.
Впрочем, Америке всегда была свойственна предприимчивость, и Ливингстон с Монро быстро смекнули, что такую возможность нельзя упускать. Цена, прикинули они, составляла менее трех центов за акр. Даже двести лет назад это было смехотворно дешево. Более того, Джефферсон разрешил им, в случае крайней необходимости, потратить 9 миллионов долларов на выкуп права на всю реку и Нового Орлеана. Прибавить еще 6 миллионов, и — подумать только! — у них в кармане полконтинента. Единственное, что беспокоило американских переговорщиков, это нежелание французов точно обозначить границы Луизианы. Миссисипи служила естественной границей с одной стороны, а вот насчет остальных территорий оставалось только догадываться [81].
Тем не менее это была невероятная удача для Америки. Опасаясь, как бы Наполеон не изменил своего решения, двое американцев нацарапали контракт, так называемое «письмо о покупке континента», по условиям которого Франция получала 80 миллионов франков (15 миллионов долларов), минус 18 миллионов франков французского долга, за всю оставшуюся собственность Франции в Америке. Стороны подписали соглашение 30 апреля 1803 года, и американцы узнали об этом 4 июля (опять эта дата). Покупка Луизианы (или продажа Луизианы — Vente de la Louisiane, — как логично называли сделку французы) была завершена. Наполеон выдворил себя и свою страну из Северной Америки раз и навсегда.
Тогда он заявлял, что, возвысив Америку до уровня мировой державы, он нанес серьезный удар по Британии: «Я подарил Англии грозного морского соперника, который рано или поздно поставит ее на колени». Но очень скоро стало ясно, что он ошибся. Прошло всего два года, и англичанин по имени Нельсон поставил на колени (или, вернее сказать, разбил вдребезги) флот Наполеона в ходе Трафальгарской битвы. А Британия и США стали верными друзьями еще в начале девятнадцатого века и остаются ими поныне.
Жестоко, конечно, обошлись с Францией. Подобно голубому попугаю Монти Пайтона, французы никогда не переставали тосковать по Луизиане. И хорошо, что они не знают, как много квадратных километров потеряли. Бедные французы так расстроены тем, что позволили Америке обвести себя вокруг пальца, что им пришлось придумать Джонни Холлидея, собственную имитацию американской мечты, чтобы заглушить боль.
Но самое обидное то, что Британия торжествовала.
Американцы заплатили за Луизиану 3 миллиона долларов золотом, а остальное — в государственных ценных бумагах. Однако французские банки очень настороженно отнеслись к облигациям, и для их обналичивания были привлечены два иностранных банка. Одним из них стал «Хоуп энд компании», банк Амстердама, но учрежденный шотландцем. А другим выступал лондонский банк «Бэрингз» (тогда это был здоровый финансовый институт, и никто не думал, что спустя два века его обанкротит жуликоватый брокер Ник Лисон). Наполеон сидел на мели, так что согласился продать облигации этим двум банкам с дисконтом в 12,5 процента. Получалось, что американцы сделали подарок бриттам, его злейшим врагам, дав возможность наварить миллион долларов на комиссии.
Неудивительно, что французские источники стараются приукрасить всю эту эпопею с Луизианой, опустив неприятные подробности. Сердце любого француза просто не сможет выдержать такой боли, да еще с американским душком.
Глава 11 Гильотина — не французское изобретение
«От седины есть только одно средство. Изобрели его французы. Называется гильотина»
(Пелем Гренвил Вудхаус).Еще одна «типично французская» штучка, на которую французы не вправе претендовать
Прежде чем французы погрузятся в самобичевание, которое они называют революцией, следует прояснить одну ключевую историческую ошибку: сыгравшая своеобразную роль в последующих событиях гильотина — это вовсе не французское изобретение. О машине для обезглавливания с помощью падающего ножа есть куда более ранние упоминания, и они указывают на ее британское происхождение.
Говоря прямо, доктор Гильотен никогда не изобретал ничего подобного, и, кстати, он весьма огорчился из-за того, что его имя незаконно присвоили устройству для отсечения человеческой головы. Как бы то ни было, первую французскую гильотину построил пруссак.
Так все-таки, гильотина — это французское изобретение или нет? Приношу извинения Франции (и П. Г. Вудхаусу), но это еще одно заблуждение, с которым следует покончить.
Убивая нежно (и не очень)
Как, возможно, согласились бы палачи Марии, королевы Шотландской, и короля Карла I, главная проблема в отсечении монаршей головы заключается в точности нанесения удара. Топор тяжелый, руки потные, на лице маска, да еще на тебя устремлены взоры весьма влиятельных особ. Более того, ты знаешь, что, если испортишь дело, история тебе этого не простит. Но как уследить за лезвием, если оно так и норовит соскользнуть вправо или влево, вонзиться в плечо или просто отсечь скальп? Вот почему в Англии казнь мечом считалась особой привилегией. В этом случае меньше шансов превратить экзекуцию в кровавую бойню.
Впрочем, если хотелось крови и хруста костей, можно было прибегнуть к более зрелищным способам убийства. Французы, например, с удовольствием наблюдали за колесованием. Преступнику тяжелым железным ломом переламывали каждую конечность в двух местах, а затем позвоночник, после чего казнимого привязывали к ободу колеса, так что пятки сходились с головой, и оставляли умирать медленной мучительной смертью. Этот метод широко практиковали во Франции для казни воров и грабителей вплоть до Революции.
Между тем изменников родины обычно казнили разрыванием, привязывая их конечности к лошадям, которых пускали вскачь в разные стороны. Франсуа Равайяка, который в 1610 году заколол кинжалом короля Генриха IV, казнили именно так, но только сначала ему сожгли серной кислотой руку, державшую кинжал, а потом залили рану расплавленным свинцом и кипящим маслом со смолой. (Генрих IV был популярным монархом, и французы очень разозлились на Равайяка.)
Что ж, тем более гуманными кажутся усилия тех, кто экспериментировал с методами быстрого и чистого обезглавливания. И самый ранний агрегат, который мы ошибочно принимаем за гильотину, был, возможно, изобретен в Галифаксе, Северная Англия, городе, который прославился разве что еще одной инновацией: здесь жила кондитер Виолетта Макинтош, подарившая миру ириски «Роло» и «Кволити стрит».
«Галифакская виселица» очень напоминала свою французскую сестру, хотя выглядела более прочным и массивным изделием. Это была монолитная деревянная постройка с двумя стойками по пятнадцать футов, увенчанными горизонтальной балкой около пяти футов длиной и футом толщиной. Режущей частью служил топор, который скользил вверх и вниз по пазам на стойках и обрушивался на шею жертвы. Сегодня, глядя на современную копию, выставленную на Джибит-стрит в Галифаксе, можно представить, что если такая штуковина опустится нам на шею, то ваша голова отлетит аж до самого Йоркшира.
Самое раннее упоминание о применении этого орудия казни относится к 1286 году, когда головы лишился преступник по имени Джон Дэлтон, хотя городские архивы казней доелизаветинских времен утеряны. Однако точно известно, что во времена правления Елизаветы I с помощью «галифакской виселицы» отрубили двадцать пять голов, а в последний раз ее использовали 30 апреля 1650 года.
И нельзя сказать, что город Галифакс был рассадником преступности или же привилегированным местом исполнения наказаний, куда для обезглавливания привозили самых отъявленных злодеев из всех уголков страны. В работе Уильяма Хоуна «Ежедневник, 1826–1827», альманахе с подробным описанием каждого дня года, годовщине казни Людовика XVI — 21 января — посвящено несколько параграфов, в которых упоминается «Галифакская виселица». Хоун пишет, что ее использовали для казни преступников, орудовавших в лесах Хардвика, которые в то время принадлежали феодалу Уэйкфилда. Если вора ловили с награбленным добром стоимостью более «тринадцати пенсов», его доставляли к судебному приставу в Галифакс, и, если вина была доказана, отрубали преступнику голову в базарный день (вторник, четверг или субботу).
Гораздо более ранний текст, написанный в 1577 году неким Уильямом Харрисоном, дает в высшей степени подробное описание метода казни, и автор высказывает предположение, что жители Галифакса принимали на себя коллективную ответственность за приведение приговора в исполнение (в то время как феодал вроде бы оставался ни при чем).
Харрисон писал, что топор «галифакской виселицы» удерживался на месте деревянным штырем, и пояснял: «К этому штырю крепилась длинная веревка, которая тянулась до рядов зрителей, и, когда осужденный делал признание и клал голову на плаху, каждый из присутствующих брался за конец веревки (или подносил к ней руку так близко, что как будто участвовал в отправлении правосудия); вытаскивая так штырь, они освобождали топор, который обрушивался с такой силой, что даже крепкую шею жертвы перерубал одним ударом, и голова отлетала от туловища на большое расстояние».
Жуть, конечно, но Харрисон дополняет свой рассказ заключительной и, честно говоря, довольно занятной подробностью: «Если казнили за кражу быка, овцы, лошади или другого скота, конец веревки обматывали вокруг туловища животного, а потом отводили его в сторону, так что оно само выдергивало штырь, приводя приговор в исполнение». Коровы-палачи… Да, пожалуй, в базарные дни в средневековом Галифаксе скучать не приходилось. Зато никто из горожан не рвался за покупками в загородные торговые центры.
Сохранились записи и об использовании машин типа гильотины в Ирландии в 1307 году и в Шотландии в 1564 году. А спустя два столетия, в 1747 году, шотландец, лорд Ловат, которого осудили за государственную измену и должны были казнить в Лондоне, вымаливал у правительства разрешение на применение новой технологии и в столице. «У меня очень короткая шея, — говорил он, — и палачу будет сложно попасть точно по ней топором». Очевидно, бедняга надеялся, что новую лондонскую машину назовут в его честь. Впрочем, ему все- таки достался топор, и парню повезло — палач лишил его головы одним ударом. Если, конечно, это можно назвать везением.
На острие технологии
Так на каком же этапе возник Гильотен?
Как мы узнаем из следующей главы, Французская революция была отмечена массовыми убийствами, и роялисты имели гораздо больше шансов погибнуть от рук озверевшей толпы, чем лишиться головы на плахе. Так что доктор Гильотен весьма вовремя выступил с гуманной инициативой сделать стандартной формой смертной казни быстрое обезглавливание, без пыток. Он также выступил за демократизацию смертных приговоров, поскольку прежде обезглавливания мечом или топором удостаивались лишь аристократы, простолюдинам же приходилось принимать мучительную смерть, о чем мы уже говорили.
Жозеф Игнас Гильотен, доктор из Сента, что на юго-западе Франции, подвизался еще и на политическом поприще. Он был избран депутатом от Парижа в первый послереволюционный парламент, Учредительное собрание, и 10 октября 1789 года выступил на заседании со своими идеями нового кодекса наказаний. Помимо предложения ввести единое наказание за тяжкое преступление, вне зависимости от сословной принадлежности преступника, и использовать только механизм для обезглавливания, он также предлагал передавать тело казненного семье для последующего достойного захоронения. Чуткий и внимательный человек, ничего не скажешь.
Ему в вину, пожалуй, можно поставить лишь бестактное чувство юмора. На октябрьском заседании Учредительного собрания его слушали вполуха, так что он вновь озвучил свои идеи уже в декабре, когда сравнил скоростную машину для обезглавливания с долгим и мучительным процессом повешения. «При помощи моей машины, — хвастал он, — я в одно мгновение отрублю вам голову, и вы даже ничего не почувствуете». Его реплика вызвала смех, но кое-кого из депутатов повергла в шок, и дебаты были закрыты.
Шутка Гильотена выпорхнула за стены Национальной ассамблеи и вдохновила парижан на создание комической песенки, в которой они высмеивали «лицемера-парламентария», который хочет убивать людей с бешеной скоростью. И именно эта песенка дала имя «гильотина» еще не существующей машине-убийце.
В 1791 году после продолжительных дебатов идея Гильотена о смертной казни через обезглавливание была воспринята, и этот способ казни депутаты ввели в уголовный кодекс, составленный собранием (и ставший законом в том же году). Вопрос о способе совершения казни был передан особой комиссии, по поручению которой Антуан Луисон, постоянный секретарь Хирургической академии, составил докладную записку, в которой высказался за машину, подобную той, какую уже предлагал Гильотен. Того вызвали к генеральному прокурору для более предметного и подробного обсуждения, но неизвестно, явился ли доктор на эту встречу, поскольку к тому времени он уже узнал, что, учитывая его преданность делу (а возможно, идею подсказала и песенка), новой машине действительно присвоили его имя. Он был в ужасе.
Появилось много желающих принять участие в конкурсе на изготовление машины для обезглавливания. Плотник Гидон, который обычно отвечал за строительство виселиц и эшафотов, запросил непомерную цену, поскольку его рабочие не хотели, чтобы их имена связывали с этим проектом. Даже когда правительство предложило заключить анонимные контракты, рабочие все равно отказывались строить гильотину. Впрочем, нашелся один человек в Страсбурге, судебный пристав Лакант, который согласился сконструировать машину, а для ее изготовления привлек проживавшего в Париже прусского мастера клавесинов по имени Тобиас Шмидт.
Законченный в начале 1792 года вариант гильотины Шмидта включал в себя платформу, поднятую над землей на двадцать четыре ступени, чтобы публике открывался хороший обзор, и кожаный мешок, куда должна была падать отрубленная голова. Поначалу лезвие ножа было округлым или прямым, но вскоре Шмидт заменил его скошенным под углом 45 градусов лезвием, каким мы его и знаем. Пожалуй, это единственный в истории мастер клавесинов, изменивший своему призванию.
Прототип гильотины был установлен на улице Сент-Андре-дез-Ар в Латинском квартале, где находилась мастерская Шмидта, после чего началось испытание машины, в котором участвовали овцы и телята. Затем ее переместили в парижские пригороды и испытывали на трупах из моргов больниц, тюрем и богаделен. Результаты испытаний были признаны удовлетворительными, и 23 апреля 1792 года вооруженный грабитель Николя Пеллетье удостоился сомнительной чести быть первым преступником, гильотинированным на Гревской площади (так до 1803 года называлась площадь перед зданием парижской мэрии, где традиционно проходили казни; ныне площадь Отель-де-Вилль).
Новая машина работала так четко, что вошла в моду: на пике популярности оказались детские игрушки в виде гильотины, а такие же серьги стали аксессуаром категории «надо иметь» для парижанок (может, стоило бы придумать что-то дополнительное для шеи?). Впрочем, помешательство длилось недолго: после казни Людовика XVI 21 января 1793 года вдруг стало модным обвинять совершенно невинных людей в контрреволюционной деятельности и отрубать несчастным голову.
Точно неизвестно, сколько людей погибло во времена Террора, с июля 1793-го по июль 1794 года, но жертв могло быть около семнадцати тысяч. Гильотену чудом удалось уберечь в целости собственную шею: он был арестован и брошен в тюрьму по подозрению в роялистских симпатиях, после того как приговоренный к смертной казни аристократ обратился к нему с просьбой позаботиться о его жене и детях. Выйдя на свободу, Гильотен отошел от публичной деятельности и так затаился, что все решили, будто он умер. Однако он прожил до 1814 года, и все последние годы жизни наверняка мечтал о том, чтобы машину-убийцу переименовали. К тому времени у гильотины уже было немало прозвищ: le rasoir national («национальная бритва»), la raccourcisseuse patriotique («патриотический укоротитель») и, более серьезное, le Louison («Луисон») в честь Антуана Луисона, секретаря Хирургической академии, который продвигал идею в жизнь. Но название «гильотина» прочно вошло в обиход, а вскоре появился и глагол «гильотинировать».
Доктору Гильотену оставалось винить лишь самого себя. Если бы он не оговорился тогда в Учредительном собрании, назвав машину для обезглавливания «моей машиной», возможно, его запомнили бы как автора демократических идей, а не мрачного метода казни. А гильотине — кто знает? — дали бы более точное с исторической точки зрения название — «Галифакс», к примеру. Что было бы, конечно, довольно забавно, ведь даже спустя 200 лет французские академики все еще ломали бы голову над тем, стоит ли запретить глагол halifaxer («галифаксировать»).
Глава 12 Французская революция: пусть едят пирожные… Или, на худой конец, друг друга
Трагикомическая правда о взятии Бастилии, Марии-Антуанетте и обедневших аристократах
При исполнении французского национального гимна хор поет: Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, что в вольном переводе выглядит так: «Идем, идем, кровью нечистой оросим наши поля».
На самом деле кровь, пролитая именем Французской революции, была вовсе не той, какую автор «Марсельезы» назвал нечистой. Кровь как раз была французской, а не иностранной, и лишь малая ее толика принадлежала аристократам. Слова и музыку «Марсельезы» написал в 1792 году офицер Руже де Лиль. Он сочинил эту вдохновляющую песню для французских войск, марширующих на бой с австрийцами, а в качестве национального гимна ее выбрали после того, как добровольцы из Марселя стали распевать ее на парижских улицах. Злая ирония состоит в том, что самого Руже (кстати, его имя буквально переводится как «барабулька») позднее арестовали как предателя за протест против интернирования королевской семьи, и он едва не окропил революционное поле собственной кровью. Остаток жизни Руже провел в нищете, зарабатывая на корку хлеба переводами английских текстов на французский язык, при этом не оставляя попыток создать нечто похожее на свои первый хит. «Марсельеза» тоже, как и автор, влачила жалкое существование; Наполеон вообще запретил ее, и в качестве национального гимна она была восстановлена лишь в 1879 году.
Если коротко, ситуация вокруг песни как нельзя лучше иллюстрирует кровавый хаос, царивший во время Революции.
Сегодня большинство французов представляет себе ход событий примерно так.
День 1: честные, но голодные борцы за справедливость штурмуют Бастилию и освобождают политзаключенных.
День 2: народный трибунал выносит решение отрубить голову злодею королю и его жене, которая позволила себе бестактное замечание насчет пирожных.
День 3: тот же трибунал постановляет рубить голову всем аристократам и тем, кто выступает против свободы, равенства и братства.
День 4: республиканские идеалисты, избранные свободным волеизъявлением народа, провозглашают эру демократии, которая правит Францией до сих пор.
Но ежегодные празднования Дня взятия Бастилии намекают на несколько иное развитие событий. Если вы попадете в Париж 14 июля, кого вы увидите идущими торжественным маршем по Елисейским Полям? Разве тех, кто делает Францию передовой нацией — хлебопеков, виноделов, дизайнеров модной одежды, продавцов минеральной воды и инженеров-атомщиков?
Нет. По проспекту грохочут танки; в небе ревут раскрашенные в камуфляжные цвета вертолеты; студенты высшей инженерной школы страны, «Эколь политекник», вышагивают в военной форме, позвякивая шпагами. На улицах «города огней» полным-полно оружия, совсем как двести лет назад. С той лишь разницей, что никто не несет отрубленные головы, насадив их на пики, да и толпа никого не забивает до смерти. Слава богу, иначе туристов как ветром сдуло бы.
Ну и, как всегда, во всем были виноваты бритты. Во всяком случае, так заявлял француз, непосредственный участник тех событий — Максимилиан Робеспьер, «кровожадный диктатор», который отправил на гильотину немало настоящих и мнимых изменников, прежде чем сам угодил под нож машины-убийцы. В 1793 году он выступил с речью, сказав, что революцию затеял Лондон, чтобы «привести Францию, измотанную и раздробленную, к смене династии и посадить герцога Йоркского [принца Фредерика, сына Георга III] на трон Людовика XVI. Осуществление этого плана позволило бы Англии удовлетворить свои притязания на обладание тремя объектами их зависти — Тулоном, Дюнкерком и нашими колониями».
Тут, конечно, попахивает паранойей и попытками переписать историю, чтобы возбудить ненависть для новой войны с Британией, но в чем-то Робеспьер, возможно, был прав. Некоторые историки считают, что без бриттов французы никогда не решились бы на восстание. Семилетняя война 1756–1763 годов и участие в Американской войне за независимость подорвали экономику Франции, доведя ее до банкротства, и споры о том, как выбираться из финансовой трясины, привели к первым реальным разногласиям внутри политической верхушки. Нетитулованные лица требовали, чтобы Людовик XVI и его придворные-землевладельцы приняли радикальные меры к оздоровлению экономики, но король слишком оторвался от жизни, был плохо информирован о положении дел, да и слаб, чтобы справиться с ситуацией. Призывы к реформам вылились в открытый бунт, и сегодня Франция — республика.
Так что на самом деле французам следует быть благодарными Англии — ну, разумеется, за исключением тех, кому отрубили голову и кого порвали на части, утопили, застрелили или сожгли заживо. Эти несчастные, наверное, предпочли бы, чтобы в 1789 году обошлось без потрясений.
Pourquoi la Bastille? Почему Бастилия?
Штурм Бастилии 14 июля 1789 года — вовсе не первое и не самое значимое событие Революции.
В том же районе восточного Парижа 28 апреля произошло, например, драматичное нападение на бумажную фабрику. Она принадлежала Жан-Батисту Ревейону, тому самому, кто изготовил декоративную бумажную оболочку для первого воздушного шара братьев Монгольфье. Ревейон не был аристократом: простолюдин, он сам построил свой бизнес по производству и продаже обоев, а в истории Франции отметился тем, что предоставил площадку на территории своей фабрики для подготовки к первому в мире полету на воздушном шаре. Тогда зачем нападать на Ревейона? Прошел слух, будто он планирует снизить зарплату на своей фабрике соразмерно недавнему снижению цен на хлеб, и эта новость породила бунт. Многотысячная толпа атаковала здание, в котором жил и работал фабрикант: бунтовщики жгли товар и чертежи, расколачивали и растаскивали мебель, искали хозяина, чтобы его кровью расписать обои. В бунтовщиков начали стрелять подоспевшие войска, были убиты тридцать человек, а остальные кинулись терроризировать округу.
На самом деле бунтовщики все неправильно поняли: Ревейон на самом деле призывал к снижению цен на хлеб, чтобы он стал доступным для рабочих, получающих низкую зарплату. Но фабрикант не стал дожидаться момента, чтобы выступить перед рабочими и разъяснить недоразумение: он с семьей перелез через стену, едва успев унести ноги.
Но даже если так, кто-то может возразить, что толпа все- таки имела революционный настрой, к тому же бунт привел к тридцати жертвам, так что эта вспышка народного гнева вполне справедливо может занять место Дня взятия Бастилии в национальном календаре. Тут, однако, возникает серьезная лингвистическая проблема. День Ревейона явно не годился, потому что по-французски le réveillon означает «ужин в рождественскую ночь», и это создало бы путаницу в рождественских праздниках, один из которых пришелся бы на конец апреля. Так что охота за национальным праздником продолжилась.
Тринадцатого июля толпа ворвалась в женский монастырь Сен-Лазар, где, по слухам, хранились большие запасы пшеницы. На этот раз слух подтвердился, и бунтовщики вывезли около пятидесяти повозок зерна; однако проблема заключалась в том, что монастырь занимался благотворительностью, и пшеница вполне могла быть предназначена для раздачи бедным. В любом случае, название «День разграбления монастыря» тоже резало слух. Требовалось что-то политически корректное.
На следующий день, в десять утра, парижане атаковали военные казармы Дома инвалидов и, не встретив сопротивления со стороны сочувствующего гарнизона, захватила около 30 000 мушкетов. Военный мятеж в поддержку народа отличный повод для торжества — и чем не идея для национального праздника?
И снова нет, по двум причинам. Во-первых, День Инвалидов — это, согласитесь, совсем не сексуально. И потом, восставшие парижане обзавелись ружьями, но без пороха и пуль, так что не могли стрелять. Это был день обманутых надежд.
Что ж, тогда вперед, на Бастилию. Старая укрепленная тюрьма на востоке Парижа, она уже была на грани закрытия, и там содержались всего семь позабытых узников, причем ни одного из них никто не назвал бы революционером. Четыре фальшивомонетчика, арестованные за банковские махинации, двое сумасшедших и один граф, обвиненный в пособничестве родной сестре, сбежавшей от мужа. Маркиз де Сад (которого упекли в тюремную камеру по обвинению со стороны родственников жены в сексуальном насилии) тоже должен был находиться в Бастилии 14 июля, но его перевели в другое заведение несколькими днями раньше, после того как он стал кричать в окно, что все его сокамерники убиты.
В романе Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах» [82] о временах Французской революции освобожденные узники предстают как герои, но на самом деле парижан вовсе не интересовала эта разношерстная компания заключенных (кстати, все они, кроме графа, снова угодили за решетку уже после штурма тюрьмы). Толпа атаковала Бастилию, поскольку ходили слухи, будто в тамошних подвалах хранятся огромные запасы пороха, охраняемые всего восьмидесяти двумя солдатами-полуинвалидами. Соблазн легкой добычи был слишком велик. И в 10. 30 утра 14 июля 1789 года начала вершиться история.
В тюрьму отправилась делегация парижан, чтобы потребовать от коменданта, маркиза Бернара Рене Жордан де Лонэ, открыть арсеналы. Делегатов пригласили на ланч (да-да, даже в разгар революции французы находили время для цивилизованной трапезы), но потом ответили отказом и выпроводили. Когда же и вторая делегация вернулась ни с чем, толпа, собравшаяся у стен тюрьмы, начала терять терпение.
Де Лонэ, возможно, следовало бы догадаться, куда дует ветер перемен, и открыть ворота, как это сделали солдаты, охранявшие Дом инвалидов. Но после ланча, видимо расслабившись от лишнего бокальчика вина, он совершил ошибку, которая стоила ему головы.
В половине второго пополудни толпа ворвалась во внешний тюремный двор, но ее стали обстреливать с наблюдательных вышек. Это страшно разозлило атакующих парижан, которые в знак протеста могли лишь возмущенно размахивать в воздухе незаряженными мушкетами. Однако, к несчастью для де Лонэ, вскоре к горожанам примкнули бунтующие солдаты, которые притащили с собой пару пушек и принялись обстреливать ворота. Около пяти пополудни де Лонэ стало ясно, что его немногочисленный гарнизон не в силах сдержать натиск, даже имея в наличии несколько тонн пороха и мушкетных зарядов. Он написал вежливое обращение к толпе, выдвинув привычные для таких ситуаций условия — бунтовщики отступают, и им гарантируется гуманное обращение, — и, наверное, не слишком удивился, когда получил отказ. Около сотни атакующих парижан были застрелены, одного раздавило, когда обрубили цепи подъемного моста. Толпа, штурмующая Бастилию, явно не желала вести мирные переговоры.
Де Лонэ наконец открыл ворота, и мятежники ворвались внутрь, чтобы завладеть тюрьмой. Нескольких солдат гарнизона они убили за то, что те слишком рьяно оборонялись, а самого де Лонэ повели к зданию ратуши, где уже собралась толпа восставших горожан. По дороге коменданта Бастилии жестоко избивали, так что догадаться, какая жестокая участь ожидает его, не составило для де Лонэ труда. Поэтому, решив, что с него довольно, он заехал одному из своих мучителей между ног, совершив последнее преступление, за которое и получил пулю, после чего ему отрезали голову кухонным ножом.
Штурм практически необитаемой тюрьмы нельзя, конечно, назвать ярким началом Революции, но оно было весьма характерным в свете последующих событий. Здесь впервые самосуд толпы сопровождался обезглавливанием, и эти два деяния определили судьбу Франции на ближайшие пять лет.
Франция хочет английского короля
На этом этапе революции никто не заикался об убийстве короля Людовика XVI и даже об его свержении. Большинство политиков склонялось к идее конституционной монархии, по примеру ближайшего соседа. Сегодня мы, может, и представляем себе английского короля Георга III слабоумным человеком, который общался с дубом, принимая его за короля Пруссии, но в конце восемнадцатого века этот английский монарх был довольно популярен на родине. Он назначил главой правительства блестящего политика Уильяма Питта и из Парижа виделся воплощением того, что Вольтер описал в своих «Письмах об английской нации», когда восхвалял британскую «мудрую систему правления, в которой верховный правитель всемогущ в делах добрых, но в попытках сотворить зло его руки связаны…».
В мае 1789 года французский король Людовик XVI отреагировал на растущее недовольство сограждан и, отказавшись от дневной охоты, созвал в Версале парламент, чтобы выслушать doléances, или сетования, доставленные парламентариями со всех концов страны. Это был явно не список мелких жалоб, как кто-то мог подумать, предстояло обсудить вовсе не вопрос о максимально допустимой высоте изгородей в Южной Бретани. Парламентарии представили по-настоящему идеалистические требования: универсальная система налогообложения, независимо от сословия; распределение ключевых государственных постов по принципу квалификации, а не в силу аристократического происхождения; национальная система образования, доступная также бедным слоям, и т. п. Надежды озвучивались самые смелые, и даже король, который по случаю надел свой лучший, расшитый драгоценными камнями, костюм, заразился всеобщим оптимизмом и очень надеялся, что небо вот-вот прояснится и ему все-таки удастся поохотиться.
Однако, как и следовало ожидать, парламентарии схлестнулись в жарком споре о процедуре голосования, прежде чем смогли приступить к непосредственным дебатам по социальным реформам. Парламент, или Генеральные штаты, делился на три сословия. Первое сословие — духовенство, и его 291 представитель говорили от имени 10 000 населения. Духовенство не платило налогов на свои обширные землевладения. Второе сословие — дворянство численностью 400 000 человек — имело 270 представителей. Это сословие тоже не облагалось налогами и имело феодальные права на членов третьего сословия — 25 миллионов простолюдинов, которых в парламенте представляли 585 депутатов. Теоретически простолюдины имели незначительное большинство, но теперь они требовали пропорционального представительства в парламенте. По такой системе они получили бы в 50 раз больше голосов, чем два других сословия, вместе взятые.
Людовик, который явно начинал задыхаться в своем бриллиантовом скафандре, попытался призвать всех к обсуждению налогообложения. Решение этого животрепещущего вопроса позволило бы оздоровить финансовую систему, снизить цены на продовольствие и положить конец народным возмущениям. Однако у короля не было необходимой власти, как и харизмы, чтобы удержать парламент в узде, и третье сословие удалилось на приватные дебаты; решив, что вполне может обойтись без участия остальных сословий, оно провозгласило себя Национальной ассамблеей. И вместо того чтобы попытаться уговорить простолюдинов вернуться в парламент, Людовик попросту запер их на ключ, отстранив от дальнейшего участия в работе сессии.
Вот так, одним поворотом ключа, он решил собственную судьбу. Почти 150 представителей духовенства и два аристократа присоединились к Национальной ассамблее, и абсолютной монархии пришел конец. Тут же образовалось альтернативное правительство, и прецедент был создан. Можно было посылать короля ко всем чертям.
Но даже при таком развитии событий отколовшийся парламент, который назвался Коммуной, по примеру британской палаты коммун, вовсе не стремился увидеть голову короля на блюде и даже самого короля за решеткой. Председатель Ассамблеи, Оноре-Габриэль Рикети, граф Мирабо, был избран представителем третьего сословия от Экс-ан-Прованса и Марселя. Мирабо, известный эротоман наподобие маркиза де Сада, сам когда-то сидел в тюрьме за непристойные сочинения, но теперь он направил свою энергию в русло борьбы за конституционную монархию по британскому образцу. Он пытался убедить короля в том, что время абсолютизма и феодализма прошло, и если Людовик хочет остаться на троне, то должен согласиться на разделение власти с министрами, как это сделал британский король Георг III.
Впрочем, Людовик XVI не послушал его советов, как и Мария-Антуанетта, которая — ходили такие слухи — пыталась подкупить Мирабо, чтобы тот оставил свои демократические бредни. И когда выдохшийся Мирабо скончался от болезни сердца (один из немногих политиков, кто умер естественной смертью в годы революции), вместе с ним умер последний шанс монархии.
Блеск и нищета аристократии
С этого момента в набирающей обороты революции политические дебаты идеалистов чередовались с массовым вандализмом. В августе 1789 года, пока Ассамблея оттачивала детали «Декларации прав человека и гражданина», вторая статья которой провозглашала неотъемлемое право собственности, крестьяне по всей стране жгли замки и дома землевладельцев. Как взятие Бастилии, эта череда насилия и разрушений получила официальное название: la Grande Peur, то есть «Большой страх» — и не потому, что землевладельцы боялись, что их сожгут вместе с мебелью, просто иначе было не объяснить действия крестьянства. Страх сеяли и паникеры, которые распространяли слухи о том, что аристократы — о, ужас! — призвали на помощь англичан.
Землевладельцы, разумеется, намек поняли и начали покидать страну, а компанию им составили многие высшие армейские чины. Хватая все, что можно, из оставшейся собственности, беженцы устремились к границам с Италией, Голландией, Германией, Австрией (родиной Марии-Антуанетты) и Британией.
Обедневшие аристократы, которые предпочли искать убежища в Англии, должно быть, очень беспокоились о том, как их примут. Ведь они бежали за помощью к традиционному врагу, да и многие британцы, как известно, приветствовали Французскую революцию. Идеалистические эгалитарные требования Ассамблеи возбуждали либералов, и, например, поэт Сэмюэл Тейлор Кольридж, в ту пору еще студент, выжег слова «Свобода» и «Равенство» на лужайках Кембриджа (похоже, его остановили, прежде чем он взялся за «Братство»). Даже британские роялисты симпатизировали революции, полагая, что внутренние потрясения ослабят Францию и уничтожат ее как вечного соперника Англии в борьбе за мировое господство.
Надо сказать, что бежавшие французские аристократы в основном получили радушный прием, тем более что они разыграли весьма жалостливый спектакль. Бегство из Франции было испытанием не только суровым, но и дорогим: стоимость билета в один конец на паром от Кале до Дувра взлетела до небес. Многие прибывали без багажа, в чем были, и даже самые изысканные шелка и надушенные носовые платки тускнели после нескольких месяцев нищеты.
Замечательная книга «Общая история эмиграции времен Французской революции», написанная Анри Форнероном в 1884 году, изобилует анекдотичными эпизодами из жизни французов в Лондоне в 1790-х годах. Так, Форнерон рассказывает историю писателя Рене де Шатобриана, аристократа, которому пришлось жить в съемной хибаре на двоих, где по ночам было так холодно, что спал он под стулом, пытаясь согреться. По утрам он и его французский сосед по лачуге просыпались и думали: «Где же слуга с завтраком?» — и только потом вспоминали, что у них нет ни слуги, ни денег на завтрак. Тогда они кипятили воду и делали вид, будто пьют английский чай.
Английская писательница Фанни Бёрни как-то встретила французскую семью, которой из-за бедности пришлось ночевать в своем экипаже у дверей гостиницы в Винчестере. Ну, это была не то чтобы семья: дело в том, что в экипаже ютились графиня, ее брат, одна знатная дама и любовник графини, к которому она относилась попеременно «то с презрением, то с соблазнительной мягкостью». Фанни Бёрни пишет, что эмигранты со слезами на глазах поведали ей свои жалостливые истории о сожженных замках и убитых друзьях, но самые сильные эмоции у них вызвало признание английской леди в том, что она ни разу не была во Франции.
«Что, вы никогда не видели Парижа? — ахнула графиня. — Какой ужас!»
Фанни Бёрни внесла свой вклад в англо-французскую солидарность, выйдя замуж за обедневшего французского генерала, которого кормила на свои авторские гонорары, но не все бритты оказались столь же великодушны.
Лондонские газеты пестрели рекламными объявлениями о скупке французских драгоценностей, шелка и серебряной посуды. Маркиз Букингемский открыл торгующий поделками эмигрантов магазин, где французские маркизы и графини работали продавщицами по десять часов в день. Предприимчивый Букингем не ограничился магазином — он создал еще и мастерскую гобеленов, наняв на работу 200 священников, — за время Революции около 8000 французских священнослужителей бежали в Англию и, не обладая должными навыками (так же, как и желанием), чтобы работать на англиканскую церковь, были вынуждены искать другой род занятий. Многие из них устроились учителями (на латынь и французский спрос вырос неимоверно) или занялись рукоделием, мастеря деревянные ящики или бумажные цветы.
Один священник пристроился весьма оригинальным образом. Аббат приехал вместе с германской певицей, которая выдавала его за своего дядю. Впрочем, обмануть ей никого не удалось, и вскоре эмигрантское сообщество сплетничало о том, как она угрозами заставляет священника сочинять французские стихи, которые потом продает издателю. Мало того, она еще и поколачивала бедного эмигранта, так что тому оставалось только пенять на себя: «Если уж собираешься обзавестись племянницей, то выбирать ее следует с особой осторожностью».
Беженцы, обосновавшиеся в Британии, жили надеждами, что революционная эйфория во Франции вскоре поутихнет и они смогут вернуться, но самые рисковые пересекали Атлантику, чтобы начать абсолютно новую жизнь в Америке.
Один сильно нуждающийся эмигрант, Брийя-Саварен [83], отправился в Коннектикут, где его приняла на постой американская пара, имевшая четырех дочерей. Это ли не мечта для свободного француза, подумаете вы, но его любовные инстинкты, похоже, заглушал самый примитивный голод. Брийя-Саварен ходил на охоту, но очень часто подстреливал индюшек и белок. Однажды девушки надели свои лучшие платья и спели для него «Янки-дудл». Но, вместо того чтобы ломать голову над тем, какую из хозяйских дочерей раздеть, он, по собственному признанию, «пока они пели, все думал о том, как приготовить подстреленную индейку». И, словно еще раз доказывая, что французов еда интересует больше, чем секс, он добавляет, что «индюшачьи крылышки были поданы в промасленной бумаге, а белок отваривали в мадере».
Брийя-Саварен, казалось, был вполне доволен приютившей его страной. Как-то вечером он обедал в компании с двумя англичанами и с неудовольствием наблюдал, как бритты напиваются до чертиков, пока он смакует пищу. После обеда англичане спели «Правь, Британия!» и вырубились, свалившись под стол. Похоже, английские туристы не слишком изменились за двести лет, прошедшие с тех пор, и именно они в свое время убедили Брийя-Саварена, что по ту сторону Атлантики ему повезет гораздо больше.
Мудрые слова от Берка
Эмигрантам, может, и приходилось несладко среди не таких уж сердобольных бриттов, но в ноябре 1790 года у них появился весьма респектабельный союзник.
Эдмунд Берк, шестидесятиоднолетний бывший член парламента, известный юрист и политик, родился в Дублине, но долгое время заседал в лондонском Парламенте и в 1774 году произнес знаменитую речь о необходимости ослабления диктаторского режима управления американскими колониями. Впрочем, его советы были успешно проигнорированы [84], и два года спустя американцы восстали.
Зная об его симпатиях к демократии, от Берка ожидали поддержки революционных преобразований во Франции, но его книга «Размышления о революции во Франции» доказала обратное. Рассуждая о попытках вылечить экономические и политические болезни Франции неоправданной жестокостью, он пришел к выводу, что с Революцией явно что-то не так.
«При виде того, что происходит в этом чудовищном трагикомическом спектакле, — пишет он, — где бушуют противоречивые страсти, зритель поочередно оказывается во власти презрения и возмущения, слез и смеха, негодования и ужаса».
Взволнованный охватившим Париж насилием и страхом, он вопрошает: «Были ли необходимы все эти мерзости? Явились ли они неизбежным результатом отчаянных усилий смелых и решительных патриотов, вынужденных переплыть море крови, чтобы достичь мирного берега цветущей свободы?» И сам же отвечает: «Нет! Ничего подобного. Источником их жестокости был даже не страх. Она явилась результатом уверенности в полной личной безопасности. Она толкала их на государственную измену, позволяла грабить, насиловать, убивать, устраивать кровавую резню и множить пепелища в разоренной стране». Эта точка зрения не нашла поддержки, напротив, Берк спровоцировал взрыв негодования в среде политических пустозвонов. Громче всех звучал голос Томаса Пейна, английского революционера, одного из отцов-основателей Соединенных Штатов. Пейн ответил в марте 1791 года публикацией своего трактата «Права человека», в котором обвинил Берка в «страхе перед тем, что Англия и Франция перестанут быть врагами» и потоке «злобы, предрассудков, невежества и ярости».
Пейн защищает французов от обвинений Берка в том, что они восстали против «мягкого и законопослушного монарха», подчеркивая, что «монарх и монархия есть разные вещи; и именно против деспотизма последней, а вовсе не против личности или принципов правителя началось восстание, и революция осуществилась».
Пейн решительно критикует монархию в целом и британскую систему правления в частности. Он разделяет идеалы Французской революции и предсказывает «политическое счастье и национальное процветание» в этой стране.
Он подкрепил свои слова делом и отправился во Францию на поддержку Революции, притом что ни слова не знал по-французски… Хотя, вполне возможно, его отъезд был связан исключительно с тем обстоятельством, что британские власти открыли на него охоту за подстрекательство к бунту.
Ответ Пейна, пожалуй, самый известный отклик на книгу Берка, хотя на самом деле первой отреагировала писательница-феминистка Мэри Уоллстоункрафт, которая опубликовала свой труд «Защита прав мужчины» спустя всего три недели после «Размышлений» Берка. Поскольку книга была написана так быстро, ее раскритиковали за сумбурность. И поскольку написала книгу женщина, современники мужского пола осудили ее за излишнюю эмоциональность (как только узнали ее имя, ведь первое издание вышло без имени автора).
Уоллстоункрафт критикует Берка за его поддержку наследственных привилегий и правящей элиты. Она подтрунивает над стариком также из-за его явной влюбленности в Марию-Антуанетту. Шестого октября 1789 года состоящая по большей части из женщин толпа двинулась маршем на Версаль, отрубила голову нескольким гвардейцам, охранявшим дворец, и вернула королевскую семью в Париж в сопровождении процессии, впереди которой вожаки несли на пиках отрубленные головы. Берк описывал «пронзительные вопли, безумные танцы, грязные оскорбления, испускаемые отвратительными адскими фуриями, принявшими вид гадких женщин». Придираясь к языку изложения, Уоллстоункрафт упрекает автора в том, что он критикует этих женщин потому лишь, что они были бедными и необразованными рядом с такой рафинированной королевой. Женские вопли не казались бы такими грубыми, пишет она, если бы этим несчастным не приходилось зарабатывать на жизнь, торгуя рыбой.
Публичная полемика вокруг Франции была в высшей степени занимательной и крайне прибыльной. Все три книги расходились как горячие пирожки[85] по обе стороны Ла-Манша, причем по объемам продаж Пейн и Уоллстоункрафт легко обошли Берка, поскольку их издатель снизил цены на свои услуги. Жестоко, конечно, но сбылись пророчества лишь одного писателя.
Несмотря на неверно истолкованную галантность, Берк предвидел, чем все кончится. Политики вскоре устали от интеллектуальных дебатов и поумерили пыл. Началась череда смены вывесок Национальной ассамблеи: Учредительное собрание, Законодательное собрание, Конвент, Директория — вот лишь некоторые из тех, что появились в последующие пять лет, и каждое изменение влекло за собой не просто кадровые перестановки, а масштабные чистки, по мере того как к власти приходили разные партии: жирондисты, монтаньяры, якобинцы. Вольтер сказал, что «в правительстве нужны и пастухи, и забойщики». Проблема Франции была в том, что забойщики продолжали убивать пастухов, в то время как овцы превращались в каннибалов.
Принимались наиважнейшие законы — об отмене рабства, легализации абортов, переходе на метрическую систему мер, — но все это происходило настолько сумбурно, что напрашивалось сравнение с поведением пьяного футболиста в борделе.
После неудачной попытки Людовика XVI и Марии-Антуанетты сбежать из Франции в июне 1791 года, организованной якобы любовником королевы, графом Ферзеном, в стране воцарилась атмосфера паранойи и страха. Любого, в ком подозревали роялиста, отправляли под трибунал и на гильотину или, чаще всего, на растерзание толпе, благо она всегда была наготове.
В сентябре 1792 года прошел слух, будто в парижских застенках зреет контрреволюционный заговор и что узники вроде бы распевали Vivent les Autrichiens («Да здравствуют австрийцы»), имея в виду родню Марии-Антуанетты. Во всех районах города были открыты тюрьмы, заключенных вытаскивали из камер и судили за измену родине. Тысячи были убиты, и, явно перепутав здания за высокими стенами, толпа громила даже монастыри.
Самой знаменитой жертвой стала управительница дома Марии-Антуанетты, Мария-Луиза, принцесса де Ламбаль, которую заподозрили в лесбийской связи с королевой. Ее вывели из тюрьмы Ля Форс (в живописном парижском квартале Марэ) и пытались заставить отречься от королевской семьи. Когда принцесса отказалась, ее убили и обезглавили, а отсеченную голову выставили напоказ под окном камеры Марии-Антуанетты в соседней тюрьме Тампль. Толпа кричала, призывая королеву выйти и поцеловать свою любовницу.
Кошмар был в точности таким, как предсказывал Берк.
«Двуногие парижские животные»
И снова жестокость получила официальное наименование — la Terreur («Террор»), — и по мере того как до Англии доходили сведения о творящихся во Франции ужасах, британская симпатия к Революции таяла на глазах. Лондонские газеты имели невероятный успех, описывая убийства множества людей.
Сообщая о казни принцессы де Ламбаль, «Таймс» писала, что «ей изрезали бедра, вырвали из нее кишки и сердце, и целых два дня ее выпотрошенное тело волочили по улицам». Газета из номера в номер давала репортажи о массовых убийствах сентября 1792 года, негодуя, что «даже самые дикие четвероногие, обитающие в неизведанных пустынях Африки, способны к состраданию больше, чем эти двуногие парижские животные».
Десятого сентября «Таймс» напечатала рассказ очевидца об убийстве двухсот двадцати монахов-кармелитов: «Их вывели из ворот тюрьмы парами, прямо на улицу Вожирар, где им перерезали горло. Их тела насадили на пики и выставили перед несчастными жертвами, которым тоже предстояло принять смерть. Изуродованные тела других свалены в кучи у стен домов; и на парижских мостовых повсюду разбросаны трупы, источая зловоние и заразу».
Двенадцатого сентября газета постаралась проявить хоть немного сочувствия к взятым под стражу королевским особам:
«Короля и королеву кормят хуже, чем охранников: их заставляют есть пищу, которая им противна, даже зная об этом».
В те времена, как и сегодня, журналисты получали особое удовольствие от смакования жутких подробностей. Пример: «Толпа приказала одному из швейцарских солдат сделать прическу своему офицеру, очень красивому молодому человеку. Когда солдат закончил, они приказали ему отпилить офицеру голову ручной пилой, только сделать это аккуратно, чтобы не испортить прическу, поскольку голова достойна того, чтобы красоваться на пике. Солдат не подчинился и был немедленно порван на куски, а две женщины сами отпилили офицеру голову. За все это время он не издал ни звука, а пилили они около часа».
А вот еще одна история, и если это правда, то такая же чудовищная.
«На площади Дофин толпа разожгла костер, и на нем были заживо сожжены несколько мужчин, женщин и детей. Графиню Периньян и двух ее дочерей — сначала дочерей, потом мать — полностью раздели, намазали маслом и зажарили живьем, а толпа пела и плясала вокруг костра, наслаждаясь криками и страданиями несчастных. После слезных молитв старшей дочери, лет пятнадцати, чтобы кто-нибудь прикончил ее кинжалом или выстрелом, освободив от невыносимой муки, молодой человек выстрелил ей прямо в сердце, и это так разозлило толпу, что и его тут же швырнули в огонь…»
Так и чувствуется британское злорадство по поводу того, что с политической трескотней покончено и в дело вступил настоящий террор.
Когда пирожные совсем даже не пирожные?
Очень скоро теория Томаса Пейна о том, что лично королю ничего не угрожает, получила кровавое опровержение. Двадцать первого января 1793 года Людовика XVI провезли по улицам Парижа в простом экипаже и гильотинировали на площади Революции (ныне это площадь Согласия), а его прощальные слова утонули в барабанном бое и истошных воплях толпы, которая жаждала зрелища. Шестнадцатого октября за ним последовала Мария-Антуанетта, осужденная за государственную измену и (кто бы мог подумать) за инцест. Ее не удостоили прогулки в экипаже, и она ехала на казнь в позорной телеге, сопровождаемая улюлюканьем и насмешками толпы.
Сегодня многие французы видят в Марии-Антуанетте скорее жертву революции, а не одну из ее причин. Им жаль австрийскую девушку, которую в четырнадцать лет выдали замуж по политическим соображениям за французского принца-импотента, а потом держали в золотой клетке, пока ее муж бездарно правил страной. Но в те времена ее считали заносчивой потаскухой, возмущались, что она, иностранная принцесса, наряжаясь пастушкой, резвится на своей игрушечной ферме в Версальском парке, меж тем как по соседству настоящие крестьяне умирают от голода.
Все это, возможно, и объясняет природу слуха о тех злосчастных пирожных — будто у королевы вырвались неосторожные слова: «Пусть едят пирожные», когда она услышала, что у парижан нет хлеба и они устраивают голодные бунты. Действительно ли она так высказалась, мнения расходятся, хотя одно можно утверждать наверняка: что бы ни сказала Мария-Антуанетта, это точно было не про пирожные. Здесь налицо самый худший в истории пример неточности перевода. Это все равно, что перевести vive la difference[86] как «пусть живет разница». В общем, полная чушь.
На самом деле фраза, которую ей приписывают, звучала так: «Пусть они едят бриоши», и тут требуется небольшое пояснение. Бриошь — это хлеб аристократов, выпеченный с добавлением яиц, сливочного масла, сахара и молока.
Если она и вправду так сказала, кто-то мог решить, что по ее голове топор плачет, ну или хотя бы бриошь. Неувязка в том, что вряд ли она вообще говорила нечто подобное, ведь эту фразу впервые привел в автобиографической книге философ Жан-Жак Руссо.
В своих «Признаниях» Руссо рассказывает историю о том, как он работал домашним наставником детей некоего мсье де Мабли и влюбился в местное белое вино — настолько, что зачастую припрятывал бутылочку, чтобы тайком опустошить ее у себя в комнате. Но он никогда не мог пить без закуски. «Где же мне взять хлеба?» — ломал он голову. Таскать багеты было неудобно, а если попросить кого-то из слуг купить ему хлеба, хозяин может оскорбиться. Наконец, как пишет Руссо, «я вспомнил слова одной королевской особы. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она удивленно проговорила: „Тогда почему они не едят бриоши?“». Руссо совершенно не смущает политНЕкорректность этой истории. Все закончилось тем, что он стал ходить в булочную за бриошами, и это, вероятно, было естественно для хорошо воспитанного молодого человека, который мог себе позволить питаться качественными продуктами.
Все дело в том, что писал Руссо о событиях 1736 года, то есть о том, что происходило за девятнадцать лет до рождения Марии-Антуанетты, и, возможно, фраза про бриоши принадлежала жене «короля-солнца», принцессе Марии-Терезе, дочери короля Испании Филиппа IV. В это как раз легко поверить, так как двор Людовика XIV был совершенно оторван от реальности и славился своими остротами. Для шуток годилось все [87].
Какой бы ни была правда в этой истории про пирожные/ бриоши, следует заметить, что автобиография Руссо была опубликована в 1782 году, за семь лет до революции, но именно она стала источником неверно истолкованной цитаты, когда народ кинулся сочинять гадости про Марию-Антуанетту. Как мы уже знаем, это были времена, когда слухи порождали бунты и массовые убийства. Так что хлесткую фразу с удовольствием подхватили, и она надолго приклеилась к Марии-Антуанетте, чего, к сожалению, нельзя сказать об ее голове.
День пастернака
Однако стыдно думать о Французской революции только лишь как о долгой череде кровопролития и разрушений. Среди властолюбцев было немало настоящих новаторов, которые воспользовались шансом переустроить всю общественную систему.
Помимо введения метрической системы мер, самой радикальной из новых идей был революционный календарь, на редкость бредовая схема, предусматривающая новое летосчисление и призванная перекроить календарный год в привязке к французской жизни. Эту затею изначально ждал провал, по причине, о которой мы сейчас узнаем, — но в чем-то оппоненты старого календаря были правы. В конце концов, некоторые месяца года были неправильно названы на латыни: сентябрь стал девятым месяцем, а октябрь — десятым, — что за путаница для школьников, изучающих мертвые языки?[88] И какой смысл в месяцах разной продолжительности и католических глупостях насчет семидневной недели?
Революционеры подумали, что пора избавиться от этого хлама и начать все с нуля.
Новый календарь разработал типично французский коллектив: два математика и два поэта. Математики сделали самую черную работу, решив, что год должен состоять из двенадцати месяцев по тридцать суток в каждом. К счастью, умея считать, они быстро сообразили, что этого недостаточно, и после 360 суток ввели пять (в високосном году шесть) «дополнительных» суток — с тем, чтобы французы шли в ногу с природой.
Поэты переименовали дни и месяцы, использовав названия французских растений, животных и инструментов для обозначения дней, а месяца рифмуя тройками. Зиму, например, они разделили на nivose (нивоз, месяц снега), pluviose (плювиоз, месяц дождя) и ventose (вантоз, месяц ветра). С днями получилось еще сложнее: поэты не хотели привязываться к привычным понедельнику, вторнику, среде и т. д., поэтому присвоили каждому дню года свое имя. Скажем, осенью был день пастернака (30 сентября), и тыквы (8 октября), и баклажана (17 октября), и лопаты (20 декабря). Весной, 8 апреля, был день улья, 4 мая — день тутового шелкопряда. Все очень живописно, но на практике…
«Какой сегодня день?»
«Пастернак…»
«Мерси».
«Хотя нет, постой-ка, а может, морковь? Или редис?»
Однако не в этом состоял роковой изъян идеи. Революционные недели должны были состоять из десяти дней, и вовсе не надо быть математиком, чтобы догадаться, что это автоматически сокращает количество выходных, а вот это проделывать с французами не рекомендуется. Чтобы как-то сгладить столь щекотливый момент, правительство объявило, что «воскресенье отменяется во имя революционной идеи». Кроме того, пять-шесть праздников в новом календаре — это было ничто в сравнении со старыми добрыми католическими днями святых. Народ, конечно, с большой радостью порубил несколько священников, но терять свои кровные церковные праздники никому не хотелось.
Так что для французов стало огромным облегчением, когда в 1805 году Наполеон отменил революционный календарь и восстановил нелогичную старую систему, добавив в качестве бонуса новый праздник — 14 июля, который иначе носил бы довольно хилое название «День шалфея».
Французы снова опасны
Что бы бритты ни думали по поводу Революции, Франция не позволяла им расслабляться.
В ноябре 1792 года высший законодательный и исполнительный орган Франции, теперь уже Конвент, выпустил эдикт о братстве, призывающий угнетенных субъектов всех европейских монархий к восстанию и свержению своих правителей. Конвент декларировал, что готов оказать помощь гражданам любой страны, решившим «обрести свободу». Понятное дело, монархи Британии, Пруссии, Голландии и Испании без энтузиазма восприняли это публичное приглашение к бунту, а 1 февраля 1793 года (иначе — в день брокколи, двенадцатый день плювиоза, в год первый) Франция еще яснее обозначила свою позицию, объявив войну Британии.
Был принят новый закон, обязывающий каждого дееспособного и неженатого мужчину вступить в революционную армию. Как и следовало ожидать, это вызвало ажиотаж в брачном бизнесе, поскольку холостяки кинулись жениться на ком ни попадя. Говорят, что французские вдовы никогда еще не были так счастливы. Но все равно около полумиллиона мужчин встали под ружье, и, хотя многие из них вскоре дезертировали или открыто восстали против своих офицеров, Франция по-прежнему являла собой грозного противника.
Британия неожиданно столкнулась с тройной французской угрозой. Мало того что предстояла война с революционной Францией, беспокойство внушали и 70 000 беженцев-роялистов, в то время как Париж активно подстрекал британцев к революции.
Британия не могла доверять французским беженцам, отчасти из-за того, что они — французы, но еще и потому, что самые знатные их представители — граф д’Артуа (внук Людовика XV) и его сын, герцог де Берри, — были законными членами династии Бурбонов, то есть семьи Людовика XIV, который буквально разорил Британию своими войнами. Поэтому Питт и его правительство протолкнули через парламент «Акт об иностранцах», вынуждающий французских эмигрантов регистрироваться у мирового судьи, тем самым устанавливая для них что-то вроде не ограниченного временным пределом испытательного срока.
Это было подкреплено также «Актом об изменнической переписке», который разрешал вскрытие и цензуру писем, отправляемых во Францию, а также запрещал всякую торговлю с Францией и активную поддержку Революции.
Страх перед возможной британской революцией заставил Питта и компанию самих стать диктаторами. Публичные собрания оказались под запретом, а нарушителей порядка и спокойствия отправляли в новую исправительную колонию — Австралию. Питт решил, что ему легче заплатить другим врагам Франции — прежде всего Австрии и Пруссии, — чтобы те воевали с французами, и это отчасти объясняет, почему британская интервенция во Франции выглядела столь нерешительной.
Скажем, летом 1793 года бритты послали флот на завоевание южного французского порта Тулон. Местные власти на самом деле приветствовали это вторжение, но захватчики объявили, что прибыли вовсе не для смены правящего режима, и вскоре их изгнал храбрый двадцатичетырехлетний капитан артиллерии, корсиканец Бонапарт, который занял стратегические форты и бомбардировками принудил британцев к отступлению. Когда Тулон был отбит, роялистов зверски казнили, а некоторых так просто разорвали пушечными ядрами. Контрреволюция, как водится, оказалась делом неблагодарным.
Между тем родина Наполеона, Корсика, довольно оскорбительно попросила Британию принять ее в состав империи, под крылышко короля Георга III. Англия на короткое время оккупировала остров, но защищать его было крайне трудно из-за многочисленных портов и гористой местности, и вскоре бритты оставили корсиканцев на милость кровожадных и мстительных французских правителей. Десять тысяч корсиканцев бесследно исчезли в ходе последовавших репрессий, и с тех пор отношения с материковой Францией уже никогда не были дружескими.
В июле 1794 года французская армия роялистов, при поддержке Британии, высадилась в бухте Киберон в Бретани. Но аристократы-командиры едва ли могли найти общий язык с бретонскими крестьянами, которых пришли освобождать, да еще из-за плохой погоды британскому флоту пришлось выйти в море, оставив силы вторжения без прикрытия. В конечном итоге революционная армия наголову разбила противника, казнила семьсот вернувшихся эмигрантов и захватила 20 000 британских мушкетов. И, словно раззадорившись, Франция решила предпринять ответную атаку.
В феврале 1797 года отряд французов численностью 1400 солдат, включая 800 уголовников, переоделся в захваченную при Кибероне британскую военную форму и отправился на захват Бристоля под командованием ирландского американца по имени Уильям Тейт (который по-французски не знал ни слова). Однако корабли заблудились и пристали к берегу в Уэльсе, где изголодавшиеся по свободе уголовники пустились во все тяжкие, а потом сдались в плен группе уэльских женщин в красных плащах, которых по ошибке приняли за солдат. Двенадцать пьяных французов заставила сдаться одна женщина, вооруженная вилами. Солдаты французской регулярной армии заняли ферму, но вскоре им пришлось отступить, поддавшись на провокацию со стороны вожака местного ополчения Джона Кемпбелла, который заверил их в численном преимуществе своей дружины. Французы во главе с американским командиром гуськом спустились на берег и сложили оружие. Это фиаско продолжительностью 36 часов Франция может гордо именовать последним иностранным вторжением на британскую землю.
Революция: кто выгадал?
Если эта англо-французская война и покажется кому-то вялотекущей (страсти разгорятся только с приходом Нельсона и Веллингтона), отчасти это связано с тем, что Франция куда успешнее атаковала более доступных соседей, таких, как Голландия, Пруссия и Италия, и слишком усердно занималась истреблением собственного народа.
Антироялистская резня охватила Бретань и Вандею (провинцию к юго-западу от Луары), такого геноцида страна не видела со времен английских шевоше в период Столетней войны. В Нанте тысячи людей были утоплены. В Вандее революционные войска получили приказ «жечь мельницы и громить хлебопекарные печи» (то, что было жизненно необходимо для обеспечения населения хлебом). Солдатам внушали: «Не щадите женщин и детей — если вы их не убьете, они станут помогать нашим врагам». И если сегодня на северо-западе Франции так сильны позиции ультраправого Национального фронта и экстремистской партии католиков и монархистов, это вполне может быть отголоском реакции на ужасы, которые творились здесь во времена Революции.
Впрочем, после того как в 1794 году Робеспьера казнили с помощью гильотины по приказу конкурирующей с якобинцами фракции, волна террора пошла на спад, и Революция начала выдыхаться. Такое впечатление, что французы пресытились политикой. В конце концов, если не считать экзотического календаря и кровопускательной терапии, Революция не принесла особой благодати беднякам, ради которой, собственно, и затевалась. Да, верхушка привилегированной аристократии была сметена, но их места заняли бюрократы, жаждущие власти и крови не меньше, чем предшественники. В конце 1795 года, уже на шестом году Революции, экономика по-прежнему находилась в состоянии коллапса, а бедняки все так же умирали от голода и холода. Тем временем нувориши сколачивали целые состояния, проворачивая операции на черном рынке и раздавая ради его процветания огромные взятки чиновникам. В 1797 году введение цензуры прессы положило конец свободе слова. В 1802 году снова было узаконено рабство и дарована амнистия всем аристократам, которые бежали в Британию и другие страны и отсиживались там, пока страну сотрясали революционные преобразования. Пройдет несколько лет, и Франция получит военного диктатора, который провозгласит себя императором, создаст новую «имперскую аристократию» и женится на внучатой племяннице Марии-Антуанетты. А увенчает все это приезд в Париж в 1814 году короля Людовика XVIII, внука Людовика XV, под восторженные крики толпы «Да здравствует король!». Спустя двадцать пять лет после взятия Бастилии Франция так или иначе вернется к тому, с чего все началось. Нельзя сказать, что перемены длились долго.
Впрочем, демократия все-таки просочилась во французскую жизнь, прежде всего в армию. Если бы не Революция, корсиканец с жутким акцентом и проблемами с грамматикой никогда не пробился бы в генералитет за одни только заслуги. Генерал-аристократ уж позаботился бы о том, чтобы выскочка Наполеон знал свое место — заказывал корм для лошадей или, скажем, сражался в штурмовом отряде.
Да, Наполеон, прозванный Маленький капрал, пожалуй, стал самым знаковым продуктом Французской революции, а для Британии — наиболее опасным врагом со времен Вильгельма Завоевателя, да еще и с такими же амбициями.
И, строго говоря, как мы увидим дальше, Бони был британским детищем…
Глава 13 Наполеон: если бы миром правил Я
Восхождение Бонапарта: солдат, император, любовник Жозефины и создатель французских борделей
В начале XIX века у Наполеона Бонапарта уже созрел простой план мирового господства. Наполеон нисколько не сомневался в том, что, если аннексировать Англию, он будет править миром.
Создание новой униформы для Императора Земли (Наполеон обожал придумывать униформы, флаги и монеты для своих новых владений) было мечтой, во многом инспирированной британцами — и разрушенной ими же, кстати. Вот почему Наполеон, так же как Жанна д’Арк и Кубок шести наций по регби [89], провоцирует вспышки острой англофобии у французских патриотов. Когда император скончался, нашлись среди французов такие, кто с пеной у рта доказывал, будто он пал жертвой коварного британского заговора с отравлением, хотя все медицинские экспертизы показали наличие наследственного заболевания.
И страсть к императору не угасает. В марте 2008 года, когда бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен продавал свою коллекцию бонапартистских книг и документов (скромно заявленных как «Императорская библиотека»), в Парижском аукционном доме было не протолкнуться от наплыва потенциальных покупателей и зрителей. Книги, которые когда-то принадлежали Его Императорскому Величеству, как называли Наполеона аукционисты (предположительно республиканцы), расходились как горячие пирожки; автограф ушел за 28 000 евро, а когда французский музей приобрел британский антибонапартовский памфлет, зрители оживились и провозгласили: «Да здравствует император!» — очевидно, торжествуя оттого, что памфлет не попал в руки врага.
Это бесконечное поклонение герою вполне объяснимо. За несколько лет пребывания в роли военного диктатора, а потом и самопровозглашенного императора Франции Наполеон выиграл больше сражений, чем другие французские военачальники за всю историю страны до него и после. В какой-то момент под ним оказалось больше территории Европы, чем удалось завоевать Гитлеру с его авиацией и бронетанковыми дивизиями. И это при том, что Бонапарт занимался не только войнами — он смог отрегулировать балансирующую на грани краха финансовую систему Франции, практически сам написал свод законов, который до сих пор применяется во французских судах. Он даже создал одну из самых ярких культурных традиций, предмет особой гордости французов: maison de tolérance, дом терпимости, или, иначе говоря, легальный бордель.
Не такой уж капрал и маленький
Бытуют два мифа о Наполеоне, которые действительно мешают людям судить о том, каким он был и чего добился.
Миф первый: Наполеон — бедный работяга с Корсики, которому удалось пробиться в люди. А вот и нет: он родился в семье местного аристократа. Разумеется, на фоне парижского маркиза самый знатный корсиканец выглядел таким же аристократом, как ночной горшок, но, как бы то ни было, Наполеон происходил из привилегированной семьи, иначе не видать бы ему военного училища.
Миф второй: Наполеон — карлик. И опять неверно. Рост Наполеона — около 168 сантиметров — по тем временам считался очень даже неплохим. Слухи о коротышке, похоже, распространяли англичане, которым сильно хотелось поставить под сомнение его мужественность, да и врач, проводивший вскрытие, внес некоторую путаницу: этот француз шарлатан попросту ошибся при переводе дюймов в метры.
Так что давайте опираться на факты, оценивая человека, который, будучи самым успешным правителем страны со времен Карла Великого, стал самой большой неудачей Франции.
Семья Наполеона, Буонапарте, переселилась на Корсику из Италии в двенадцатом веке. Один из его предков, Уго, числится в армии Фредерика Одноглазого, герцога Швабии, который вторгся в Тоскану в 1122 году. Племянник Уго впоследствии стал одним из членов правящего Совета Флоренции. Однако корсиканская ветвь семьи была очень бедна, и об их родовитости можно было судить не по шикарному образу жизни, а по размерам их домов и высокому общественному положению. Например, дед Наполеона служил на острове генеральным инспектором дорог и мостов — должность заманчивая, если учесть, что на Корсике практически не было ни того, ни другого.
Когда в 1768 году король Франции Людовик XV выкупил Корсику у итальянцев, отец Наполеона, Карло, стал одним из лидеров движения сопротивления и партизанил вместе со своей беременной женой Летицией. Пятнадцатого августа 1769 года она родила сына, и родители решили назвать его Наполеоном, в честь дяди, который погиб в борьбе за независимость. Да-да, будущий национальный герой Франции был урожденным противником Франции.
Войска Людовика XV вскоре завладели всей Корсикой, и, вместо того чтобы наказывать борцов сопротивления, король решил облагодетельствовать самых влиятельных местных жителей, предложив им членство во французской аристократии. Семье лишь предлагалось доказать, что она проживает на острове в течение двухсот лет и имеет благородных предков; для Карло Буонапарте это не составило труда, поскольку за него с готовностью поручились тосканские кузены. Как только прошение Карло было принято, он натянул напудренный парик и шелковые чулки, купил насчитывающую 1000 томов библиотеку, как бы в доказательство своего знатного происхождения, — в общем, обзавелся всеми внешними атрибутами привилегированного класса, тем более что теперь мог себе это позволить, поскольку, как всех французских аристократов, его освободили от уплаты налогов.
Ему была дарована еще одна привилегия — право на бесплатное обучение детей в самых престижных школах Франции, и это сыграло исключительно благоприятную роль в судьбе Наполеона. Потому что в мае 1779 года девятилетний корсиканец был зачислен на казенную стипендию в военное училище в Бриенне, провинция Шампань.
Его бойцовские качества прошли проверку сразу по приезде, поскольку худосочный, темнокожий, нищий воспитанник с грубым провинциальным акцентом тотчас стал объектом насмешек. Впрочем, он успешно адаптировался, избавился от характерного акцента и даже начал развивать в себе таланты завоевателя, отвоевывая у других мальчишек места в саду при колледже. Каждому воспитаннику выделяли клочок земли для выращивания овощей, но не все проявляли рвение к огородничеству, поэтому Наполеон отбирал неухоженные участки, обносил их забором и объявлял своей территорией. Если кто- то из воспитанников случайно нарушал границы Наполеона, он атаковал захватчиков тяпкой и обращал их в бегство. Можно сказать, военное мастерство Наполеон оттачивал на овощной грядке.
Когда, в возрасте двенадцати лет, Наполеон решил, что хочет служить во флоте, он стал спать в гамаке. Школьный инспектор одобрил его выбор, сказав: «Он отвратительно танцует и рисует. Из него получится отличный матрос». И в 1783 году, когда отношения между Британией и Францией временно наладились, он подал прошение о переводе его в английский морской колледж — чем не повод захлебнуться в фантазиях о блестящем повороте в мировой истории. Представьте только: корсиканец под флагом Нельсона у мыса Трафальгар или даже военный диктатор страны, вынуждающий королеву Викторию к борьбе за трон.
Но всему этому не суждено было случиться. Наполеону Бонапарту предложили место в знаменитой Ecole militaire (Военной школе), и он переехал из Бриенна в Париж, самоуверенный подросток с французским именем Наполеон Бонапарт (к тому времени он уже избавился от своего итальянского произношения), с блестящими способностями к математике и земледелию и жутко хромающей грамматикой. До начала революции оставалось пять лет, когда он сделал первый шаг к вступлению в королевскую армию.
В Военной школе новый студент-корсиканец повел себя еще более воинственно, чем при захвате грядок в Бриеннском саду. Однажды на занятиях по стрельбе он допустил ошибку и получил затрещину от инструктора. По правилам школы телесные наказания студентов были запрещены, и Наполеон приставил дуло ружья к голове обидчика, поклявшись, что больше никогда не придет на его уроки. Рассудив, что такое поведение может пригодиться в бою, администрация школы попросту нашла ему нового наставника.
Наполеона наказали, но не исключили, за другое, гораздо более серьезное нарушение дисциплины. Во время демонстрационного полета на воздушном шаре, который устраивал пионер-авиатор Бланшар (о котором чуть позже), Наполеон потерял терпение, поскольку взлет все откладывали из-за неблагоприятных ветров, и взял дело в свои руки, перерезав ножом веревки и отправив бедного Бланшара в свободный полет. Бланшар выжил, но лишь затем, чтобы погибнуть, разбившись на другом шаре несколькими годами позже.
В 1785 году Наполеон окончил Военную школу (всего за один год вместо положенных двух) и, за неимением места на флоте, поступил в артиллерию, где мог применить свои познания в математике и дать волю природной агрессивности, расстреливая людей раскаленным металлом. Наполеону было шестнадцать, и его военная карьера начиналась всерьез и по-взрослому. Он получил звание офицера лично от Людовика XVI — монарха, которого он вскоре (хотя и на короткое время) сменит на французском престоле.
Наполеон отправился по назначению в Баланс, на юг Франции, и, наряду с посещением лекций по вычислению траектории полета пушечных ядер, увлекся чтением исторических книг. Одной из его любимых книг стала история Англии от нормандского вторжения до новейших времен; правда, обрывалась она слишком рано — видимо, чтобы не травмировать французских читателей знаменитыми победами Мальборо над армией Людовика XIV. (В этом не было ничего необычного — в учебниках, по которым Наполеон учился в Бриенне, ни слова не говорилось о победах англичан в Столетней войне зато подчеркивалось, что Азенкур и Креси выиграли гасконцы — вот именно, те же самые французы.)
Выводы, которые Наполеон сделал по прочтении любимой исторической книги, были типичны для его современников; как и многие французы перед Революцией, он восхищался британской конституционной монархией и даже делал заметки на сей счет, написав, что, если британский король злоупотребит «своей великой властью, чтобы совершить несправедливость, глас народа прогремит громом, и король будет вынужден уступить». Он решил, что режиму Людовика XVI стоило бы взять это на вооружение.
Но Людовик ничего подобного, конечно, не сделал, и началась Революция, а новые законы, принятые Национальной ассамблеей, метили прямо в привилегии Наполеона. При короле его семью освободили от налогов, и его родственники получали бесплатное образование в лучших школах. Наполеону было простительно стать роялистом, но он принял Революцию на ее начальном, умеренном этапе и присягнул на верность новому режиму. Он даже поздравлял людей, которые покупали конфискованные у аристократов и духовенства дома — разумеется, нисколько не сомневаясь в том, что на Корсике никто не осмелится проделать то же самое с собственностью его семьи, хотя бы из страха перед вендеттой.
Он остро ощущал необходимость быть ближе к дому и в 1791 году вернулся на Корсику, где выдвинул свою кандидатуру на выборах командующего местной национальной гвардией. Избирателями были сами гвардейцы. Чтобы заручиться поддержкой электората, он пригласил 200 гвардейцев в дом своей матери, где для них накрыли щедрый стол. Помимо этого он организовал похищение одного из членов избиркома и собрал вокруг себя группу поддержки из пятисот гвардейцев, чтобы запугать главного конкурента. Наполеону исполнилось всего двадцать два года, но он уже научился сочетать корсиканское наследство с военными навыками — и эта взрывоопасная смесь вскоре заставит вздрогнуть остальную Европу.
Шанс ударить по бриттам
Только с началом Террора Наполеон разочаровался в Революции, которая явно шла не в ту сторону, и испытал огромное облегчение, когда в 1793 году Франция затеяла войну с Британией. Наконец-то ему выпал шанс применить на практике свои артиллерийские навыки и преподать урок иностранным выскочкам.
Двадцать седьмого августа порт Тулон восстал против революционного правительства, сорвал триколор и заманил в свою гавань британские и испанские суда, якобы случайно оказавшиеся в прибрежных водах. Наполеон взмолился, чтобы ему разрешили отправиться в Тулон и изгнать захватчиков, даже несмотря на то, что их пригласили сами жители. Ему повезло: местный командир артиллерии недавно получил ранение, и Наполеону приказали бомбардировать суда, стоявшие на рейде.
Командующий был типичным продуктом Французской революции: художник, который решил, что из него получится хороший генерал. Когда он приказал Наполеону стрелять по кораблям, молодой офицер заметил, что это бессмысленно, поскольку мишени находятся мили на две дальше зоны досягаемости снарядов. Генерала впечатлили познания молодого человека, и, не обращая внимания на брюзжание старших офицеров по поводу новичка-аристократа, он решил предоставить Наполеону карт-бланш — ту самую возможность, какую честолюбивый корсиканец просто не мог упустить. Он распорядился доставить в Тулон пушки, которые тащили чуть ли не от Монако, и 100 000 мешков с землей, чтобы соорудить огневую позицию на побережье. Через несколько недель артиллерия, нацеленная на британский флот, не только имела отличное расположение, но и выросла в числе с пяти пушек до двухсот. Когда Наполеон открыл огонь, вражеским кораблям не поздоровилось, а ответные выстрелы англичан попадали точно в земляной бруствер. Кораблям пришлось отойти и оставить порт.
Окрыленный успехом, Наполеон выдвинул дерзкий план, как отвоевать город у роялистов с помощью пушек. Он уже заметил слабое место в обороне города — форт под названием Малый Гибралтар. Если бы французам удалось его занять, можно было бы оттуда вести обстрел других вражеских передовых позиций и завершить осаду. Превосходно, сказал другой генерал (бывший сахарный плантатор), гораздо лучше, чем прежний план периодического обстрела городских стен в надежде на то, что бритты в конце концов уйдут.
Так что Наполеон построил еще одну огневую позицию напротив Малого Гибралтара и начал длившееся двое суток состязание с вражеской артиллерией, с редкими перерывами на короткий сон — тут же, на земле, укрываясь плащом. Потом вскочил на коня и повел кавалерию в атаку на ослабленный форт. В бою его конь был убит, а сам Наполеон ранен в ногу британским кинжалом.
Как только Малый Гибралтар пал, а следом за ним и весь Тулон, звезда родилась.
Наполеон замечательно выразился: «В революциях мы сталкиваемся с людьми двух сортов: теми, кто их совершает, и с использующими оные в своих целях». Новоиспеченный бригадный генерал Бонапарт был тому живым подтверждением. В награду за инициативу и храбрость, проявленные в Тулоне, его назначили генеральным инспектором береговых укреплений всего Лазурного берега, выделив виллу под Антибом в придачу. Все складывалось как нельзя лучше.
Не все кончено, Гораций
К несчастью для Наполеона, далеко-далеко от его новой резиденции британский моряк все больше убеждался в том, что его истинное призвание — стрелять из пушек по французам.
Это был Гораций Нельсон, смиренный сын приходского священника из Норфолка, который пошел служить на флот в двенадцать лет и теперь уже приобретал первый опыт капитана боевого корабля.
Нельсон, как всякий истинный англичанин того времени, питал отвращение к французам. Когда в 1783 году он посетил Францию, он высказался довольно просто: «Я ненавижу их страну и их манеры». В 1793 году, приняв командование кораблем, он пошел еще дальше в своих оценках, поучая нового мичмана: «Ты должен ненавидеть француза так же, как ненавидишь дьявола».
И так случилось, что в 1794 году именно Нельсон вступил в игру, блокируя корсиканские порты и обеспечивая поддержку британской армии, которая готовилась высадиться на остров. Бритты в итоге отказались от планов использовать Корсику как средиземноморскую базу и отступили, но Нельсон понюхал пороха в артиллерийских боях с Наполеоном и покинул место действия с репутацией храброго солдата. Как он писал другу, «даже французы меня уважают».
Но уважением они не ограничились.
Разумеется, Наполеон с радостью отправился бы защищать свой остров, но был вынужден оставаться на материке. Находясь под следствием как итальянец, а потому потенциальный предатель, опасаясь гильотины, он подумывал о самоубийстве, а потом (уже всерьез) об эмиграции в Турцию, где на офицеров-артиллеристов был большой спрос. Он как раз собирал в Париже необходимые документы, когда судьба вновь преподнесла ему шанс, который нельзя упускать.
В сентябре 1795 года Париж бурлил: умеренные республиканцы боролись за власть с роялистами. Когда британцы высадили (или, вернее, выгрузили) роялистскую армию в Западной Франции, ситуация накалилась до предела, и контрреволюционеры двинулись маршем на дворец Тюильри, где заседало правительство.
Наполеон, который всегда стремился находиться в центре событий, как раз отправился на публичные парламентские дебаты, где его заметили и предложили выступить на защиту Республики. Он ответил кратко и весьма характерно: «Где пушки?»
Ему сказали, что имеется сорок пушек в Нейи (парижский пригород, где президент Саркози начинал свою политическую карьеру), и Наполеон отправил за ними солдат, после чего разместил свою артиллерию в стратегических точках вокруг Тюильри. И когда мощная армия контрреволюционеров численностью около 30 000 человек ворвалась в центр Парижа, именно шквальный огонь из пушек Наполеона позволил 8000 республиканцам остановить этот натиск.
Всего за один день боевых действий ему удалось возместить политические потери прошедшего года. В октябре 1795 года, в возрасте двадцати шести лет, он был назначен командующим войсками тыла. Ему не разрешили придумать себе новый мундир, но расшитый золотой тесьмой китель был довольно забавным, да и оставалось совсем недолго ждать, когда он станет сам себе стилист.
Хоть Розой назови ее…
Вскоре Наполеон выиграл главный приз своей жизни — Жозефину, ту самую, к которой были обращены его слова «не сегодня, Жозефина». Французы будут уверять вас, что он не произносил ничего подобного, и все это происки бриттов, но, как мы увидим, история, вполне возможно, вовсе не выдумана.
Жозефина, чье настоящее имя Роза Богарне, была на шесть лет старше Наполеона и имела двоих детей. Вдова аристократа, казненного на гильотине, она сама чудом избежала такой же участи. Похоже, это и пробудило в ней желание жить на всю катушку, бесконечно меняя любовников, в числе которых были и национальный герой генерал Ош, и один из французских политиков, Поль Баррас. Чего она меньше всего ожидала, так это рабской преданности со стороны молодого корсиканца, который решил, что ему не нравится имя Роза, и стал называть ее Жозефиной. Конечно, она переспала с ним — он был новичком в парижском обществе, — но пришла в замешательство, когда наутро серьезный молодой человек прислал ей длинное любовное письмо, а потом начал допытываться, спала ли она с Баррасом.
Только сделав предложение о замужестве, он полностью завладел ее вниманием. Жозефина была вдовой, без каких- либо источников дохода, кроме разве что щедрости поклонников. Наполеона недавно произвели в генералы, перед ним открывались блестящие перспективы и, даже при худшем раскладе, маячила достойная пенсия. Поэтому она приняла предложение, и Баррас тут же преподнес Наполеону свадебный подарок — должность командующего Итальянской армией.
Не стоит рассматривать это назначение как медовый месяц на горнолыжном курорте. Итальянской армии предстояло вторжение в Италию, то есть Наполеона посылали в самое пекло. Жозефина, должно быть, радовалась не меньше, чем невеста английского короля Генриха V, для которой свадебным путешествием стало участие в осаде одного из городов.
Наполеон и сам добавил красок: в дорогу он нагрузился книгами по военной истории и альпийской топографии. И когда Жозефина предложила заняться чем-то более интимным, нежели штудирование географии, он сказал: «Терпение, дорогая. У нас будет время заняться любовью, когда выиграем войну».
Что, собственно, не так уж далеко от «не сегодня, Жозефина».
От нуля до Нила
Наполеон нашел свою новую армию буквально изодранной в клочья. Около 40 000 солдат, базирующихся в Ницце, носили рваные штаны и залатанные рубахи, некоторые щеголяли в белых кителях, которые получили еще при Людовике XVI. На голове у солдат можно было увидеть все что угодно от лысых медвежьих шапок до пробитых шлемов, а обувью служили сабо или просто обмотки. Армия была полуголодной и деморализованной и едва могла прошагать строем по плацу, не говоря уже о том, чтобы идти «освобождать» Италию от австрийской оккупации.
Первое, что сделал Наполеон, это потратил все имеющиеся фонды на еду и бренди, занял денег на покупку трехмесячного запаса муки и 18 000 пар сапог. Это тотчас снискало ему обожание войска и настолько подняло боевой дух солдат, что спустя всего несколько недель, 10 мая 1796 года, он одержал первую великую победу и получил новое прозвище.
В Лоди, под Миланом, ему удалось убедить своих пехотинцев, которые еще вчера недоедали, были босы и голы, пойти в штурмовую атаку на узкий мост. В то же время, используя свои стратегические навыки, которые, собственно, и сделали из него столь опасного противника, он приказал отряду кавалерии перейти реку вброд чуть выше по течению и ударить по австрийцам с тыла, в то время как все их внимание будет приковано к реке и мосту. План сработал блестяще, французы взяли мост, и торжествующие солдаты, среди которых было немало заслуженных ветеранов войн, нарекли своего молодого командира Маленьким капралом, даже не предполагая, что бритты позже воспользуются этим прозвищем, чтобы сочинять анекдоты на тему его роста.
В течение следующего года Маленький капрал выиграл столько сражений в Италии, сколько не выигрывала вся французская армия за предыдущие три столетия, в итоге захватив более 1000 отличных австрийских пушек и несметное число трофеев. Один из принципов Революции гласил, что произведения искусства, некогда принадлежавшие королевской семье, аристократам и Церкви, становятся достоянием народа. Наполеон применил этот принцип к итальянцам, и тогда же родилась Парижская коллекция [90] великих итальянских шедевров, включающая работы Рафаэля, Да Винчи, Корреджио и Мантеньи, которые вывозились кораблями на север, именем и во благо Революции. Даже папу Римского заставили внести свой вклад, и Наполеон лично отобрал около ста работ, изъятых в Ватикане. Неудивительно, что впоследствии он был отлучен от Церкви: нельзя грабить Ватикан, не навлекая на себя гнев Божий.
Следующий шаг Наполеона был призван навлечь на него гнев адмирала Нельсона.
Шел к концу 1797 год, и Наполеона назначили главнокомандующим Английской армией. Нет, не подумайте, бритты еще не начали перекупать французские таланты, и футбольный трансфер ни при чем. Французы сформировали целую армию для вторжения в Британию, но Наполеон, проведя инспекцию войск, сосредоточенных на побережье Ла-Манша, решил, что вторжение (по крайней мере, на тот момент) слишком рискованно, и обратил взор к Египту. Как утверждал Наполеон, целью такого похода может стать захват ведущих на Восток торговых путей, что создаст угрозу британскому присутствию в Индии, хотя циники могут съязвить, что на самом деле он заразился страстью к антиквариату и ему просто захотелось пополнить свою быстро разрастающуюся коллекцию несколькими саркофагами.
Наполеон объявил — чем поверг в замешательство генералитет, — что намерен повести в Египет не только солдат. Он собрал небольшую армию ученых для исследования земель, которые, как он втайне надеялся, станут новыми французскими территориями, а также художников и поэтов, призванных запечатлеть его победы для потомков. Возможно, в нем уже просыпалась мания величия? Его офицеры крайне неодобрительно отнеслись к этой идее и прозвали гражданских попутчиков пекинесами, поскольку те суетились вокруг Наполеона, как комнатные собачки.
Французский флот вышел из Тулона 18 мая 1798 года и решил судьбу Египта одним сражением, доказав первую из наполеоновских теорий о египетской культуре, а именно: ятаганы против пушечных ядер не годятся.
Наполеон продолжил изъятие денег и драгоценностей, которые в этот раз принадлежали египетским правителям, мамлюкам, при этом доказывая, что его понимание свободы, равенства и братства ограничивается раздачей трофеев исключительно среди офицеров, а на простых солдат не распространяется.
Как бы то ни было, экспедиция оказалась весьма удачной. Только вот Наполеон не догадывался, что моряк из Норфолка готовится испортить ему праздник.
Бритты несколько месяцев ломали голову, пытаясь разгадать планы Наполеона. Хитрый француз изначально сбил их с толку, распространив ложные слухи о предстоящем вторжении в Ирландию, и бритты, когда этого не произошло, не на шутку встревожились. Нельсон курсировал по Средиземному морю, выискивая признаки французской активности, используя все доступные средства разведки, кроме разве что спутниковой навигации, к тому времени еще не изобретенной. Он посылал шпионов собирать слухи в прибрежных тавернах, высматривал корабельные мачты на горизонте, включал собственную интуицию, которая могла подсказать, что задумал пронырливый корсиканец. И в августе 1798 года Нельсону улыбнулась удача. Он наткнулся на французский флот, который мирно стоял на рейде в заливе Абу-Кир, возле Александрии.
Вице-адмирал французского флота, Франсуа-Поль Брюэс д’Эгайер, подготовился к возможной атаке британцев, соединив цепью тринадцать боевых кораблей в заградительной линии вдоль побережья и нацелив пушки в сторону моря. На закате дня, 1 августа, он заметил приближение четырнадцати боевых кораблей Нельсона и решил, что располагает достаточным временем, чтобы подготовиться к битве или отойти. Никто ведь не станет атаковать в темноте такую неприступную баррикаду из кораблей, тем более с риском сесть на мель?
Как же он ошибался. Француз не знал, что имеет дело с человеком, таким же дерзким и чуждым условности, как и Наполеон, и он не мог поверить своим глазам, когда бритты, подгоняемые ветром, не только ринулись в атаку, но и обрушились на незащищенные фланги.
Флот Нельсона громил французов с обоих флангов, огнем пушек дырявил борта кораблей противника; в это время скованные цепью французские корабли беспомощно наблюдали за происходящим, не имея возможности выйти в море против ветра и ввязаться в бой. Флагман вице-адмирала Брюэса, «Ориент», загорелся и был уничтожен взрывом такой силы, что содрогнулись оба флота, вынужденные остановить бой, чтобы понаблюдать за грандиозным фейерверком.
Нельсон получает свой приз
Между тем Нельсону в лоб угодил осколок шрапнели, и рана оказалась очень серьезной. «Я убит», — сказал он команде своего корабля, но впервые ошибся. Ему наложили швы, и он смог насладиться сладким вкусом победы. Из тринадцати вражеских кораблей только два избежали повреждений или захвата. Французский средиземноморский флот приказал долго жить.
В качестве награды победитель получил титул барона Нельсона Нильского (недвусмысленное напоминание Наполеону о том, что Египет ему не принадлежит) и стал великим героем. Его победа не только унизила бедного Наполеона, застрявшего в Египте, но и имела крайне огорчительный побочный эффект. Французский флот был для Наполеона единственным средством сообщения с Францией, ведь помимо официальных депеш он посылал личные письма, в том числе очень личные, адресованные Жозефине.
Пока Наполеон отсутствовал в своей экспедиции, Жозефина подружилась с ослепительным красавцем кавалеристом, который, вместо того чтобы просвещать ее в военном деле и зачитывать пассажи из книг по альпийской географии, предпочитал рассказывать анекдоты и демонстрировать навыки верховой езды, а посмотреть было на что.
У Нельсона же теперь появилась возможность перехватывать французскую почту, и одним из трофеев стало в конце 1798 года любовное письмо Наполеона, в котором он писал, как страдает из-за интрижки Жозефины (хотя наверняка в письме было и несколько строк, касающихся топографии дельты Нила). Впервые позабыв о традициях офицерской чести, Нельсон переправил письмо на родину, для публикации в лондонских газетах. Историю вскоре подхватили и в Париже, и Наполеон вдруг оказался рогоносцем, обманутым мужем.
Как и следовало ожидать, он тут же принялся колесить по Каиру в компании миловидной блондинки, жены одного из офицеров-пехотинцев. Он должен был показать Парижу, что если его брак и дал трещину, то вовсе не из-за проблем с его потенцией [91].
А тем временем британское правительство убедило Турцию объявить войну Франции, и у Наполеона вдруг появился серьезный противник в пустыне. Эффектный марш-бросок через Средний Восток, о чем он мечтал, превратился в адский, изнурительный, раздражающий, как мухи в вине или песок на зубах, поход по пустыне, с наступающими на пятки турками, умело сочетающими ярость средневековых крестоносцев с мощью современного (поставляемого британцами) вооружения. Отчаявшись, Наполеон оставил эту затею и в августе 1799 года рванул домой на маленьком фрегате, бросив свою армию на произвол судьбы.
Наполеона добивают камнем
Этот позорный исход из Египта, должно быть, больно ударил по самолюбию Наполеона, но худшее ожидало его впереди.
Бритты понимали, что Наполеон действительно душой радел о Египте. Он понастроил там ветряных мельниц, основал большой госпиталь. Запустил программу борьбы с бубонной чумой, которая все еще вспыхивала эпидемиями в этой стране. И конечно, он стал инициатором кампании по изучению и осмыслению древнеегипетской культуры. Одной из ключевых находок его ученых стал Розеттский камень — внушительных размеров плита из базальта с идентичными надписями на древнеегипетском языке, начертанными иероглифами и демотическим письмом, и на древнегреческом языке.
Плиту весом 760 килограммов обнаружили французские солдаты во время строительства форта для защиты от британцев в бассейне Нила. Важность этой находки как инструмента расшифровки иероглифов была сразу же признана наполеоновскими учеными. Вот почему, когда бритты захватили Египет и вышвырнули оттуда остатки французских войск, они потребовали отправить камень в его родной дом, Британский музей (в то время почему-то никому не приходило в голову, что родной дом для любого древнего артефакта — это то место, где он изначально был обнаружен). Французы пришли в такую ярость, что пригрозили сжечь все бесценные древние рукописи Александрийской библиотеки, если им не разрешат покинуть страну с найденным сокровищем, — правда, тем самым они бросали легкую тень на провозглашаемую ими преданность древней культуре. Но, по свидетельству английского путешественника Эдуарда Кларка, французы как раз пытались вывезти камень из Египта, когда он со своими коллегами нагнал их в тихом каирском переулке [92] и завладел раритетом. Ценный трофей с эскортом отправился в Лондон, где кто-то из музейных служащих старательно изуродовал его, добавив две надписи: «Захвачен в Египте британской армией в 1801 году» и «Подарен королем Георгом III». Теперь уже никто не мог сомневаться в его британской принадлежности.
Туманный день в городе Париже
Пусть экскурсия Наполеона в Египет и обернулась неудачей, но в Париже все складывалось в его пользу. Пока он отсутствовал, Франция пошла вразнос и теперь находилась в состоянии войны не только с Британией и Турцией, но также с Россией, Австрией и королем Неаполя. Она умудрилась растерять все территории, которые Наполеон завоевал в Италии, а также свои владения в Голландии и Швейцарии. И роялисты подняли голову, расхрабрившись до такой степени, что объявили о скором возвращении из Лондона в Париж самого именитого французского беженца, короля Людовика XVIII.
Генерал Бонапарт мог предложить единственное решение всех национальных проблем — себя. Вместе с двумя политическими ничтожествами — Сийесом и Роже-Дюко, от которых он потом быстро избавился, — Наполеон организовал заговор, так называемый государственный переворот 18 брюмера, в революционном календаре этот день совпадал с 9 ноября 1799 года. Название дня оказалось как нельзя более подходящим — от французского слова brume, означающего «легкий туман, дымку», а в ту субботу действительно был сильный туман.
Наполеон начал с того, что отправился в Оранжери, чтобы попытаться убедить парламент назначить его лидером (или Первым консулом), но государственные мужи заглушили криками неотесанного молодого солдата. В конце концов, ему было всего тридцать лет, и он казался слишком юным. Видимо, вспомнив свою предыдущую, куда более скромную, кампанию по выдвижению в командиры корсиканской национальной гвардии, он разыграл козырную карту — в помещение быстро вошел отряд солдат, вооруженный ружьями с примкнутыми штыками, — и с восторгом наблюдал за тем, как парламентарии выпрыгивают из окон Оранжери и бросаются наутек через сады Тюильри. Что ж, следует признать, Наполеон весьма эффектно взял власть в свои руки.
Он срочно заказал себе новый мундир (длинный красный бархатный камзол с золотыми пуговицами и тесьмой, поверх туго обтягивающих белых брюк с золотой вышивкой «змейкой» на бедрах), а также форму для своих слуг (бледно-голубую с серебряной тесьмой), и 17 февраля 1800 года въехал в бывшие апартаменты Людовика XVI во дворце Тюильри.
Наполеон начал с того, что распорядился построить галерею для скульптур великих полководцев, среди которых оказались Александр Македонский, Цезарь, Ганнибал, Джордж Вашингтон и… британский генерал, герцог Мальборо.
Затем, как все военные диктаторы, добился для себя роли пожизненного вождя нации и взялся за репутацию жены, которая уже давно раздражала его своей экстравагантностью. Жозефина, бросившая красавца кавалериста, когда ее муж обрел новый социальный статус, действительно была жертвой моды и прославилась своими счетами за услуги портних. Однако она пошла на уступки. Поскольку муж стал публичной персоной, она отказалась от глубоко декольтированных, полупрозрачных платьев, столь популярных в ее окружении, в пользу более сдержанных фасонов и расцветок. Вместо светских раутов она предпочла заниматься цветоводством и, кстати, произвела в этом деле собственную революцию, о чем мало кто знает. В те времена розу (если помните, Роза — настоящее имя Жозефины) мода игнорировала, потому что этот цветок имел короткий стебель и цвел совсем недолго. Чтобы исправить это положение, Жозефина начала создавать гибридные сорта, и ей удалось скрестить прованскую розу с китайской, получив розу чайную, которая отличалась устойчивым и многократным цветением. Дальше это направление развили викторианцы, вывели сорт «Гибрид перпетуум», который стал прародителем большинства современных сортов роз. В общем, успехи Жозефины в цветоводстве оказались такими же живучими, как будущие достижения ее мужа в юриспруденции.
Наполеон с головой окунулся в реформирование своей новой страны. Он стремился держать под контролем все, что происходит вокруг, и целыми днями (разумеется, когда не воевал с австрийцами, итальянцами, голландцами, поляками, бриттами, немцами и русскими) строчил законы, регулирующие каждый аспект французской жизни. В период с 1800 по 1810 год под его неусыпным оком были подготовлены и приняты к исполнению, в числе прочих, гражданский кодекс, уголовный кодекс, торговый кодекс, многие положения которых до сих пор применяются в современном французском законодательстве. Наполеон создал государственную систему образования, включающую университет, юридические школы и «Эколь нормаль суперьер», высшее учебное заведение, которое выпускает академическую элиту. И еще он ввел весьма эффективную и справедливую систему налогообложения, оздоровившую финансы страны. В этом ему помогла наличность, вырученная от продажи Луизианы, самого невыгодного, по его мнению, объекта французского портфеля недвижимости, — что, разумеется, оказалось огромной ошибкой.
Его понимание демократии было сформировано Революцией, но Наполеон не мешал буржуазии богатеть, скупать земли и изображать аристократов. Фактически он создал новую аристократию из 1000 баронов, 400 графов, 32 герцогов и трех принцев и даже даровал эмигрантам амнистию, разрешив им вернуться в парижское общество после суровых лет ссылки в Англию и другие страны, где они подвизались учителями танцев, жиголо и на прочих сомнительных поприщах. Во Францию вернулось около 40 000 семей.
Но все это было прелюдией к следующему очевидному шагу: теперь, когда в стране наблюдался избыток новой и старой аристократии, а Наполеон стал вождем нации, разве не достоин он высшего аристократического титула? И в 1804 году, в зрелом возрасте тридцати пяти лет, он назначил себя императором Франции. Как насчет нового мундира? Белый шелк с короткой пурпурной накидкой, украшенной эмблемой, которую он сам для себя выбрал, — пчелой. Этот мотив восходит к временам франков, правящей королевской династии до прихода к власти Капетингов, предков Людовика XVI.
Это самопровозглашение никого не покоробило, разве что самых высокомерных из вернувшихся аристократов. К тому времени во Франции все обожали Наполеона, особенно мужчины, больше всего выигравшие от его Гражданского кодекса, который был куда более эгалитарным в сравнении со старорежимными законами, но крайне унизительным для женщин. Они не имели права подписывать договоры или голосовать, и образование выше начальной школы было предназначено только для мальчиков — Наполеон считал, что «лучше всего молодых женщин могут обучить их матери». Гражданский кодекс не позволял женщине работать без согласия мужа, а в случае согласия ее жалованье получал муж. Это объясняла другая сексистская максима Наполеона, а именно: «Нет ничего более не французского, чем право женщины делать то, что ей нравится».
Между тем мужчина нуждался в личной свободе, а посему император сочинил в высшей степени несправедливые законы об адюльтере. Так, женщина могла подать на развод только в том случае, если ее муж держал любовницу в семейной квартире, а просто иметь секс на стороне считалось в порядке вещей. Жена, разумеется, должна была оказывать услуги своему муженьку, иначе ей грозило быть вышвырнутой из дома (даже если этот дом принадлежал ей на момент женитьбы). И если мужчина вступал в сексуальный контакт с проституткой, это вовсе не считалось адюльтером — все списывалось на природу. Наполеон полагал, что «проститутки — вынужденная необходимость». Без них мужчины стали бы набрасываться на приличных женщин на улице, вот почему при Наполеоне проституция обрела легальный статус. Жрицы любви должны были регистрироваться и проходить регулярный медицинский осмотр и при соблюдении этих правил могли работать легально в так называемых домах терпимости, или, попросту говоря, в борделях. Подобные заведения могли создаваться в любых городах, единственная уступка общественному мнению — закрытые ставни на окнах, чтобы не шокировать прохожих и соседей; отсюда и другое название борделя: maison close (буквально «закрытый дом»).
Наполеон задался целью распространить бордели по всей своей империи, в состав которой, как он надеялся, вскоре войдет и Британия. Нельзя сказать, чтобы он сам был завсегдатаем публичных домов, хотя невинности лишился именно с проституткой, «однажды вечером заболтавшись на вечерней прогулке». Нет, его всерьез заботило распространение венерических болезней, которые стали настоящей головной болью (если это не смешанная метафора) для его генералов; сифилис и другие недуги могли погубить наступающую армию, особенно если за ней тянулись обозы с представительницами прекрасного пола, готовыми оказать услуги любому солдату за деньги, еду и ночлег. Так что регистрация и медосмотры для проституток были частью военной стратегии Наполеона. Одними маршами ведь сыт не будешь.
Англетер, я скоро буду
Бесспорно, именно бритты положили конец наполеоновской имперской идиллии законотворчества и государственного сексизма, но, как это часто случается во французской истории, во всех бедах оказалась виновата сама Франция.
В 1802 году Наполеону удалось убедить британцев в том, что он искренне желает мира. Он подтвердил это в личном послании королю Георгу III. У короля как раз было временное просветление рассудка, так что он не спутал отправителя с деревом, обозвал императора корсиканским тираном и отвечать отказался. Но после отставки премьер-министра Уильяма Питта британские миротворцы взяли верх, и в том же году Франция и Британия подписали договор, Амьенский мир, который предусматривал обмен захваченными территориями и даже — огромная политическая уступка — согласие Георга III вычеркнуть слова «король Франции» из длинного списка исторических титулов британского монарха. Наполеон так обрадовался, что даже поставил на собственный туалетный столик бюст Нельсона, своего давнего английского мучителя.
Был ли Наполеон искренен в своем стремлении к миру или, как Гитлер в 1938 году, просто хотел получить передышку для подготовки к войне — мнения об этом расходятся. Откровенно говоря, создается впечатление, что ни одна из сторон не играла в открытую. Бритты так и не выполнили ряд условий договора, в частности не вывели войска из Александрии, как обещали, а британская пресса развязала яростную антинаполеоновскую пропаганду. Появились карикатуры, представлявшие Наполеона пухлым гномом; посыпались расистские намеки на цвет его кожи; франкоязычные эмигрантские газеты потчевали своих читателей сплетнями об импотенции Наполеона и, что крайне нелогично, тут же упоминали о его привычке спать с дочерью Жозефины от первого брака.
Теперь уже Наполеон стал одержим идеей сокрушить Британию и задумал амбициозную военную кампанию по двум направлениям — правда, оба оказались провальными.
Начать он решил с серьезной попытки вторжения, полагая, что его встретят как нового Вильгельма Оранского — возможно, забывая о том, что Вильгельм вторгся в Англию, чтобы покончить с профранцузским королем, Яковом II.
Наполеон хвастал, что Англия вскоре станет еще одним французским островом, наподобие Корсики. В императоре взыграла кровь, и его первым шагом на пути к мечте стало обустройство военной базы для сил вторжения в Булони, как раз напротив Белых скал Дувра. Здесь, прямо на глазах у англичан (благо в солнечный день видимость отличная), он начал собирать войска, и вскоре на побережье уже 200 000 солдат изнывали от безделья, штудируя английские неправильные глаголы и задаваясь вопросом, когда же им удастся посетить английские пабы, до которых рукой подать. Чтобы поднять боевой дух солдат, Наполеон лично объезжал лагеря, произносил бодрые речи, вручал медали за участие в военной кампании, хотя никакой кампании еще не начинали, и даже приказал соорудить — верх самонадеянности! — триумфальную колонну.
Наряду с этим Наполеон строил футуристические планы. Инженер Альбер Матье предложил идею секретного туннеля под Ла-Маншем, и на сохранившихся рисунках видно, как по туннелю двигаются кареты, а воздух поступает через торчащие из воды трубы — что, конечно, было рискованно, поскольку могло привлечь нежелательное внимание со стороны британских военных кораблей. Достаточно было бросить в трубу одну бомбу — и карета Наполеона изрядно подмокла бы; наверное, поэтому император отклонил проект Матье как нереалистичный. Помимо всего прочего, инженер делал расчеты, исходя из того, что глубина моря составляет четыре метра, а Наполеон знал, что копать придется глубже.
Впрочем, он не противился новшествам в военном деле и назначил женщину, Софи Бланшар, главным министром воздухоплавания. Она была женой того самого Бланшара, которого Наполеон, еще ученик Военной школы, отправил в полет, перерезав удерживающие воздушный шар веревки. Софи зарекомендовала себя настоящим виртуозом воздухоплавания, устраивая в небе захватывающие шоу с фейерверками и собаками, выпрыгивающими из шара (с парашютом, разумеется). Наполеон советовался с мадам Бланшар насчет возможности переправки войск через Ла-Манш на воздушных шарах, но она сказала, что ветра слишком непредсказуемы и могут подвести. Она знала все об опасностях этих примитивных воздушных путешествий и, так же как и ее муж, погибла из-за несчастного случая в полете, когда от искры фейерверка загорелся шар.
Еще одной новинкой, которую Наполеону хватило мудрости отвергнуть, была субмарина. Американец Роберт Фултон, проживавший в Париже, предложил построить французскую субмарину для противостояния всемогущему британскому флоту. «Я тешу себя надеждой, что эта машина сможет уничтожить их флот», — говорил Фултон. Прецедент для такой атаки уже был создан. В 1776 году американская субмарина с педальным управлением под названием «Черепаха» попыталась просверлить дырку в днище британского военного корабля, стоявшего на якоре в нью-йоркской гавани, и эта затея почти удалась. Фултон проводил испытания на собственном образце, который мог опускаться на глубину до семи метров и двигаться под водой со скоростью четыре узла, но каждый раз, когда он приближался к британскому кораблю, его обнаруживали, и приходилось отступать. Французский военно-морской министр так ответил Фултону: «Уходите, мсье. Ваше изобретение годится для алжирцев или пиратов, но мы еще не покинули море».
Наполеон решил развивать собственную военную технику и обратился к народу за спонсорской помощью в строительстве флотилии мощных военных барж, способных перевозить до 110 человек каждая, — предшественниц тех, что будут пересекать Ла-Манш в обратном направлении в 1944 году. Кампания под лозунгом «И ваше имя будет здесь всего за 20 000 франков» оказалась очень эффективной, в отличие от самих барж.
Когда, вопреки советам адмиралов, Наполеон заказал испытания в неспокойном море, несколько судов затонуло, что привело к многочисленным жертвам и тяжелым моральным потерям, так что историю предпочли замолчать.
А по другую сторону Ла-Манша к угрозе вторжения отнеслись очень серьезно. Бритты активно строили военно-инженерные сооружения, в обществе нарастала паника. На одном из английских рисунков того времени изображен сюрреалистический французский плавучий замок, в котором разместились 60 000 человек и 600 пушек. Впрочем, все знали, что никакие плавучие замки или баржи не приблизятся к Дувру, пока на море властвует британский флот. И вот на этом и решил сыграть Наполеон. Он задумал отправить две своих флотилии, базирующиеся в Бресте и Тулоне (вторую флотилию усилили испанские корабли), в плавание по Атлантике, чтобы ввести бриттов в заблуждение: пусть думают, что французы отправились в Вест-Индию на фестиваль рома. А потом две флотилии встретятся и поспешат обратно в Европу поддержать силы вторжения в Ла-Манше и уничтожить те британские корабли, которые не взяли в погоню за призраками, унесшимися в сторону Карибов.
Это ведь не могло не сработать, n'est-ce pas? [93]
Встретимся у Трафальгара
В январе 1805 года разработанный Наполеоном план начал воплощаться в жизнь, и южный французский флот вышел из Тулона в открытое море. Командовал флотом адмирал Пьер Шарль Сильвестр де Вильнёв, аристократ, перешедший на сторону Революции и, в отличие от Наполеона, крайне осторожный.
Нельсон отправился в погоню, но просчитался в действиях противника — эта ошибка будет преследовать его все оставшиеся десять месяцев жизни — и потерял французский флот. Он выслеживал Вильнёва, курсируя от Сардинии до Египта, от Неаполя до Кадиса, сходил с ума от злости, ругал себя за то, что потерял нюх. Французских парусов нигде не было.
Письма и депеши, которые он строчил во время этой охоты, позволяют живо представить, как национальный герой Англии мечется по земному шару в поисках того, с кем бы подраться. «О, французский флот, — писал он, — если бы только мне удалось сейчас встретиться с тобой, ты заплатил бы сполна за все мои страдания». Он даже потерял аппетит: «Солонина и французский флот куда предпочтительнее ростбифа с шампанским». Наконец он вернулся в Портсмут ни с чем, взбешенный тем, что его пушки так ни разу и не выстрелили.
Хотя на самом деле он едва не догнал Вильнёва. Мало того что Нельсон прочесал все Средиземное море, он дошел и до Карибского моря, чем вспугнул французского адмирала-перестраховщика, и тот вернулся в Кадис, вместо того чтобы идти в Ла-Манш, как ему приказывал Наполеон. В сентябре Нельсон услышал новость о том, что франко-испанский флот уже в Кадисе, и тут же поспешил туда на корабле с оптимистичным названием «Виктория». Это была настоящая торпеда, которая неслась навстречу военному флоту Наполеона.
Теперь, когда перспектива решающего сражения не на жизнь, а на смерть стала очевидной, Нельсон как будто обрел душевный покой. Узнав о том, что французы наконец покинули Кадис и направились в Ла-Манш, а значит, стали уязвимы, адмирал приготовился к геройской гибели своего флота и обратился к морякам с просьбой написать прощальные письма домой, что сделал и сам. «Моя душа спокойна, — писал Нельсон, — и мне остается думать только о том, как уничтожить заклятого врага». Как только почтовый корабль отошел от «Виктории», на палубе появился встревоженный рулевой. Нельсон спросил, в чем дело. Узнав о том, что моряк не успел вложить в мешок с почтой свое письмо, адмирал тут же приказал вернуть корабль и добавил: «Кто знает, как сложится завтра его судьба. Его письмо должно отправиться вместе с остальными». Как и Наполеон, он был командиром, который понимал, что солдаты сражаются лучше, когда знают, что их уважают.
Нельсон сформулировал свой план сражения: приблизиться к франко-испанскому флоту под прямым углом и разорвать цепь вражеских судов. Это был нетрадиционный ход, в духе тактики, недавно примененной у берегов Египта, и он создавал определенный риск лично для Нельсона, ведь это его корабль должен был первым ввязаться в бой и принять на себя смертельный огонь французских пушек.
Но когда 21 октября 1805 года Нельсон начал сражение у мыса Трафальгар, в сорока километрах от Кадиса, его отличало поразительное спокойствие.
«Надо подбодрить флот сигналом», — объявил он и продиктовал обращение к морякам: «Нельсон верит, что каждый исполнит свой долг». Это был знак высокого доверия адмирала к своим воинам.
Когда офицер предложил сделать это обращение более официальным, от имени Англии, Нельсон согласился, но тут сигнальщик попросил разрешения заменить слово «верит» словом «ожидает», потому что его легче передать одним флажком. Нельсон поторопил сигнальщика: ему требовалось сделать еще несколько сообщений, прежде чем загрохочут пушки, так что его знаменитое обращение к флоту было передано в отредактированной версии.
Для «Виктории» пробил час тяжелых испытаний. Самое быстроходное судно английского флота, оно первым вступило в бой, в течение сорока минут принимая на себя огонь французского флагмана «Бюсантор» и не делая ни одного ответного выстрела. По военно-морской традиции Нельсон и его офицеры просто стояли на палубе, наблюдая за пушечными залпами, невзирая на куски раскаленного металла, которые летели прямо в них. Вести себя по-другому считалось бесчестным. Адъютант адмирала погиб, так же как его заместитель, но корабль упрямо шел вперед под изодранными парусами, с пробитой обшивкой и корчащимися от полученных ран матросами.
Впрочем, вскоре пришла очередь паниковать команде «Бюсантора», поскольку «Виктория» упорно шла прямым курсом. Французы знали, что, в отличие от их кораблей, где пушки стояли высоко с расчетом на стрельбу по верхним мачтам и уничтожение противника на расстоянии, Нельсон предпочитал расставлять пушки на нижней батарейной палубе, чтобы вести стрельбу с близкого расстояния, нанося огромные разрушения корпусу вражеского корабля.
И вот, как только «Виктория» подошла к корме «Бюсантора» — так близко, что едва не заскребла ноками своих реев о борт французского флагмана, — Нельсон отдал приказ открыть огонь. Наконец-то «Виктория» смогла продемонстрировать свою боевую мощь. Английские пушки были заряжены как обычными ядрами, так и сдвоенными зарядами и картечью. С расстояния всего несколько метров эта разнообразная коллекция снарядов обрушилась на батарейную палубу «Бюсантора» по всей ее длине. Есть сведения, что около 400 человек погибли при первом залпе, а это четвертая часть франко-испанских потерь в этой битве. Вильнёв уже догадывался, какая участь ожидает его флот.
Но Нельсон на этом не остановился. Приблизившись ко второму французскому кораблю, «Редутаблю», он и его расстрелял в упор. Завязалась адская битва на уничтожение, когда корабли буквально решетили друг друга снарядами, в то время как Нельсон и его правая рука, капитан сэр Томас Харди, обсуждали стратегию, не обращая внимания на то, что французские мушкетеры заняли огневые позиции чуть ли не у них над головой. Чтобы не быть стоячими мишенями, они лишь расхаживали взад-вперед вдоль дальнего борта своего корабля, хотя и там находились всего в пятнадцати — двадцати метрах от «Редутабля».
Как и следовало ожидать, мушкетная пуля настигла Нельсона, ударив его в плечо. Капитан Харди вдруг заметил, что разговаривает сам с собой, и, обернувшись, увидел, что Нельсон стоит на коленях, а потом вдруг падает на левый бок.
«Доктор, я ухожу», — сказал хирургу адмирал, когда его спустили в судовой лазарет, и на этот раз не ошибся. Пуля пробила легкое и раздробила позвоночник.
А яростная битва, в которую включились все британские корабли, продолжалась еще четыре часа, и Нельсон умер незадолго до того, как франко-испанский флот сдался. Как нас уверяют, перед самой кончиной он попросил лысого крепыша, сэра Томаса, поцеловать его, что тот и сделал, коснувшись губами исполосованного боевыми шрамами лба адмирала. Впрочем, вряд ли Нельсон напоследок сказал: «Поцелуй меня, Харди» — скорее всего, он просил пить, растирать ему грудь, дать воздуха. Но в силу объективных исторических причин для потомков оставили лишь фразу Нельсона, которую он повторял на хирургическом столе: «Слава богу, я исполнил свой долг».
И это несомненно. Восемнадцать французских и испанских кораблей сдались, один корабль затонул, и грандиозные планы Наполеона снова пошли ко дну. Теперь от его барж в Ла-Манше не было никакой пользы.
Но даже при таком исходе Наполеон, казалось, лишь по-французски пожал плечами, поскольку в его голове уже зрел новый план захвата мира.
И на этот раз беспроигрышный…
Глава 14 Веллингтон избивает лежачего Бони
Падение Наполеона от рук (и ног) Железного Герцога
Наполеон чувствовал себя вполне уверенно. Нельсон, может, и лишил его флота, но уж на суше его армия была непобедима. К тому же у Британии не было сухопутного Нельсона, не так ли?
Все так, но (к несчастью для Наполеона) вскоре он появится — некий Артур Уэлсли, бывший ирландский парламентарий и экс-губернатор княжества Майсур в Индии. Уэлсли предстояло стать герцогом Веллингтоном. Он вернулся домой, в Англию, в 1805 году, по странному совпадению сделав по пути остановку на скалистом острове Святой Елены, в том самом доме, который позже приютит и самого знаменитого французского гостя. Кстати, Уэлсли принимал участие и в русско-австро-французской войне, которая бесславно завершилась поражением третьей антинаполеоновской коалиции под Аустерлицем.
В конце 1805 года карьера Уэлсли была на спаде, но он не собирался сидеть сложа руки и словно готовился к тому, чтобы подарить Лондону железнодорожный вокзал с названием, которое не забудет ни один француз: Ватерлоо.
Из России без любви
Лишь в 1808 году Уэлсли стал источником головной боли для Наполеона.
Император недавно поставил своего старшего брата Жозефа королем Испании, а Уэлсли как раз был послан туда для разжигания бунтарских настроений. Наполеону, увлеченному захватом Берлина и Варшавы, пришлось бросить все дела и поспешить в Испанию, чтобы вышвырнуть неугомонных бриттов из королевства своего братца. Французская армия силой вынудила захватчиков отправиться на родину, но смутьян Уэлсли вскоре вернулся.
Между тем Наполеон озаботился двумя проблемами, которые на время отвлекли его от навязчивой идеи покончить с британским вмешательством в его дела. Во-первых, он решил, что ему, как императору, необходима жена королевских кровей. Поэтому он заколотил дверь, ведущую в спальню Жозефины, и, словно этого намека было недостаточно, объяснил ей, что дарует себе развод на основании непреодолимых различий в социальном статусе. Бедной Жозефине не оставалось ничего другого, как удалиться в свой загородный дом (который ей достался после развода) и выращивать розы.
И тут опять история ехидно усмехнулась: Наполеон обратил взор на Марию-Луизу, дочь австрийского императора Франца II и внучатую племянницу Марии-Антуанетты. Да-да, спустя всего пятнадцать лет после того, как французы гильотинировали свою австрийскую королеву, они получили такую же, только новенькую. Наполеон так торопился с женитьбой, что церемонию провели в его отсутствие, а позже, когда Мария-Луиза прибыла во Францию в карете, он лично выехал встречать ее на коне и настоял на том, чтобы они немедленно занялись сексом. Восемнадцатилетней невесте, должно быть, понравился такой грубый напор, потому что после свершившегося она сказала Наполеону: «Если захочешь, можешь проделать это еще раз». Хотя какой-нибудь циник возразит, что это скорее наполеоновская версия событий, и добавит: откуда нам знать, не сказала ли она: «И что, это все?» А уж полный циник пойдет дальше и предположит, что если даже Мария-Луиза и предложила ему заняться сексом еще раз, то исключительно потому, что в первый раз все прошло слишком быстро. Но это типично английские шуточки, и, скорее всего, новая императрица Франции была вполне счастлива, выйдя замуж за бравого сорокалетнего генерала. В конце концов, ей вполне могли сосватать какого-нибудь сумасшедшего старца вроде Георга III. Уже через год она родила сына, которого счастливый отец назвал Наполеоном (ну, а как иначе — разве Франции не надоела череда Людовиков?). В качестве подарка на крестины малыш получил Рим. Не модель и не картину, а сам город, и Наполеон-младший был тотчас провозглашен его королем.
Другим развлечением Наполеона, и куда более разрушительным, стала Россия. Как мы теперь знаем, это была его роковая ошибка, но в то время идея казалась заманчивой. В конце концов, Россия сама была огромной империей, которой правил царь, и его армия не уступала наполеоновской, а это завидный куш для такого игрока, как император. К тому же французы вступали в эту кампанию не в одиночку: силы вторжения насчитывали более полумиллиона солдат из всех стран наполеоновской империи, а сопровождал их десятикилометровый обоз с провиантом, в котором было 28 миллионов бутылок вина и 2 миллиона бутылок бренди. Предполагалось устроить пиршество с размахом.
В конечном итоге прогулка оказалась изнурительной. Куда бы ни ступал Наполеон, его встречала полная разруха, оставленная русскими, а завоевывать пустошь — дело невеселое. Ни тебе водки для солдат, ни икон, которые можно было бы переправить в Лувр. И когда Наполеон занял Москву, русские попросту подожгли город. Тут он и допустил тактическую ошибку, попытавшись вернуться во Францию перед самой зимой, и его Великая армия вскоре превратилась в дрожащую толпу с отмороженными конечностями, а некогда прославленные солдаты опустились до того, что вспарывали лошадям животы, чтобы согреться в тепле выпотрошенных туш. Из полумиллионной армии до Франции дотянули лишь двадцать пять тысяч. Нельзя сказать, что остальные погибли: около 100 000 солдат оказались в плену, а германские и австрийские войска попросту остановились по пути на запад. Но в целом это было катастрофическое поражение.
Как ни странно, Наполеон обвинил во всем Англию. «Если бы англичане оставили меня в покое, — сказал он, двигаясь в санях по направлению к Варшаве, — я жил бы в мире». Правда это или нет, но мир ему уже не светил. Во всяком случае, во Франции. Британцы планировали устроить ему веселую жизнь.
Веллингтон срывает банк
Пока Наполеон терпел жестокие неудачи на востоке, Британия вовсю старалась ослабить его позиции на западе. К 1813 году Испания и Португалия познали настоящее нашествие бледнолицых, которое не сравнить даже с туристическим бумом, случившимся здесь через 150 лет. И во главе его, вместо сопровождающего гида, стоял маркиз Веллингтон, удостоенный дворянского титула за победу в сражении под Мадридом.
Он снова вернулся в Испанию и, так же как Нельсон, горел желанием отомстить французам. Но еще более воинственными были испанские партизаны, которым надоел французский ставленник, король Жозеф, и они с удовольствием пакостили французским оккупантам.
Совместные англо-испанские силы упорно гнали армию Жозефа к границам Франции, и 21 июня 1813 года Веллингтон провел решающую схватку в стране басков на северном побережье Испании, в местечке Витория.
Пока Жозеф развлекался с любовницей, солдаты Веллингтона внезапно атаковали французские войска, и те, застигнутые врасплох, попросту поджали хвост и рванули прочь. Жозефу чудом удалось избежать плена: британский кавалерист обстрелял его экипаж, но потом отвлекся на богатые трофеи. Пока часть солдат контролировала бегство французской армии, остальные занялись обозами с оружием и провиантом, захватив всю артиллерию Жозефа (151 пушку) и миллион снарядов, а помимо этого и более соблазнительные призы — всю королевскую наличность, драгоценности и сотни женщин, «компаньонок» французских офицеров.
Веллингтон был крайне раздражен тем, что его войска разом не покончили с французами, пока те пребывали в растерянности, но на самом деле волноваться было не о чем. Его солдаты, хотя и обремененные трофеями, продолжали натиск и вскоре выгнали наполеоновскую армию обратно во Францию. Попутно они отвоевали Тулузу и Бордо, где Веллингтона встречали как освободителя. Казалось, будто вернулись времена Элеоноры Аквитанской и Генриха II. Юго-Западная Франция снова оказалась в британских руках, и для Наполеона, любителя истории, это был нож в сердце.
Чужие на Елисейских Полях
Тем временем и на севере дела складывались не лучше. Пруссаки уже шагали по просторам Франции, во главе с фельдмаршалом со звучным именем Гебхард Леберехт фон Блюхер. Это было вдвойне болезненно для Наполеона: мало того что на него надвигалась такая махина, так еще и половина этого войска принадлежала его тестю, австрийскому императору Францу II. Мы привыкли к анекдотам про тещу, но в мужском варианте они бывают куда менее смешными.
И, в довершение ко всему, один из закадычных дружков Наполеона, Талейран, французский дипломат, который в свое время вел переговоры о продаже Луизианы, оказался предателем. Он стал распускать по Парижу слухи, будто так называемый император вот-вот «от страха спрячется под кроватью».
Но не на того напали. Наполеон поднял армию навстречу Блюхеру и — вот вам еще одно историческое совпадение — разгромил его в районе Бриенна, где когда-то ходил в школу. Возможно, вдохновленные таким символизмом, французские войска вынудили австро-пруссаков отступить и, несмотря на перспективу тяжелых потерь, продолжали сражаться еще целый месяц, причем Наполеон всегда был в самом пекле, словно бросал вызов смерти, предпочитая закончить путь в блеске славы и не остаться в памяти потомков жалким трусом. В местечке Арси-сюр-Об (здесь родился лидер Революции Жорж Дантон), в провинции Шампань, Наполеон особенно отличился. Он пронесся на скачущем галопом коне рядом с миной замедленного действия; она убила бедное животное, и окровавленный всадник рухнул на землю. Но он тут же вскочил на другого коня и продолжил атаку, а пули свистели вокруг, пробивая дырки в его серой униформе (да, на нем был простой серый армейский плащ: время золотых галунов прошло).
Впрочем, одной лишь решимости и отчаянной храбрости недоставало, чтобы продолжать сопротивляться внешним врагам, поскольку у Наполеона было недостаточно войск, и вскоре Париж подвергся атаке пруссаков, австрийцев и русских. Всем им не терпелось расквитаться за тот урон, что нанесли французы, маршируя по их странам. Возможно, парижане предпочли это забыть, но в марте 1814 года на Елисейских Полях стояли лагерем казаки, как раз на месте стройплощадки, где медленно и не очень уверенно продвигалось сооружение наполеоновской Триумфальной арки.
К чести Наполеона, следует сказать, что он не сбежал из страны. Вместо этого он пытался найти выход из затруднительного положения. Он даже пробовал растопить имперское сердце своего тестя, отправив ему гравюру с портретом его внука, Наполеона-младшего.
Впрочем, восточно-европейские противники вовсе не горели желанием сместить его с трона. Когда русский царь Александр, прусский король Фридрих Вильгельм и представитель австрийского императора принц Шварценберг в конце марта 1814 года прибыли в Париж (бритты все еще были на юго-западе Франции), они охотно пошли на переговоры. Единственное, чего они хотели, это гарантии, что Наполеон со своей Великой армией больше никогда не нагрянет к ним с ответным визитом.
Но червячок во французском яблоке все-таки сидел, и им оказался — как это часто бывает — француз. Талейран действовал как самопровозглашенный переговорщик, и именно он подливал антинаполеоновского яда. Ему уже давно приплачивали пруссаки, а теперь он активно обхаживал русского царя, убеждая его в том, что долговременный мир возможен только при условии свержения Наполеона и возвращения королевской семьи. Александр сильно сомневался в этом — за время пребывания во Франции он ни от кого не слышал доброго слова в адрес старого королевского режима, зато видел, как французские солдаты умирали со словами «Да здравствует император!». Но Талейран был опытным и беспринципным дипломатом (не зря же Наполеон называл его «куском дерьма в шелковых чулках»), и в кармане у него имелся козырь — документ с требованием к Бонапарту отречься от престола в пользу Людовика XVIII. Талейран убеждал русского царя, что тому стоит только подписать документ, и воцарится долгожданный мир. Александр, человек мягкий и податливый, в конце концов взял протянутое ему перо. Судьба Наполеона решилась.
Конечно, если не считать того, что сам он не собирался никуда уходить. В его распоряжении по-прежнему оставалась верная гвардия численностью 60 000 солдат, и все они горели желанием устроить взбучку бошам и русским. Но один фактор — голос его генералов — неизменно усмирял мегаломанию Наполеона, и сейчас его ближайшие сподвижники заявили, что сражаться бесполезно. Они видели, что случилось с покоренной Москвой, и не хотели, чтобы та же участь постигла их собственный любимый город. Одно дело видеть, как горят русские православные церкви — но Нотр-Дам? Лувр? Дома терпимости?
Наконец, после того как один из маршалов пошел еще дальше и сдался австрийцам со своими 16 000 солдатами, Наполеон согласился. И справедливости ради стоит отметить, что расставаться с троном и коллекцией мундиров было для него не так мучительно, как сознавать, что король погубит его реформы. Он искренне надеялся на то, что новый монарх ограничится лишь «сменой белья на моей постели». (Кстати, его слова оказались почти пророческими: возвратившийся король распорядился прежде всего вышить королевские лилии поверх пчел на коврах во дворце Тюильри.)
Шестого апреля 1814 года Наполеон отрекся от престола. Этот миг был для него самым тяжелым — хуже, чем арест как предателя в Ницце, хуже, чем Москва, даже хуже, чем когда британские газеты публиковали истории о романе Жозефины с гусаром. В голливудских фильмах это миг, когда главный герой остается один, всеми брошенный, и напивается в стельку, продав свою последнюю собственность — золотые часы, которые он купил, заработав свой первый миллион.
Конечно, в киноленте производства фабрики грез картинка быстро меняется, и уже через двадцать минут наш герой получил бы часы еще круче, прежде чем его положили бы в постель с главной героиней, — но падению Наполеона суждено было продлиться куда дольше. Он попросил — вот уж идеалист! — чтобы его с семьей отправили в ссылку в Англию, где он уже представлял себя сельским джентльменом (большие возможности для твидовых мундиров). Но он явно не знал о том, как против него настраивалось общественное мнение. В просьбе ему отказали, и Марию-Луизу с Наполеоном-младшим отправили на воссоединение к Vater-in-law[94]. Больше Наполеон их не видел.
Он попытался покончить с собой, но принял яд с истекшим сроком годности, и его стошнило. В итоге он смирился с меньшим злом — ссылкой на итальянский остров Эльба, чуть восточнее Корсики. Кстати, ссылка не обещала быть такой уж тяжкой. Его прочили в короли острова (может, это был английский юмор, но Наполеон воспринял это очень серьезно), назначили ему щедрую французскую пенсию, и к месту ссылки бывшего императора эскортировали 600 его самых верных гвардейцев. Последнее, как мы увидим позже, оказалось не слишком мудрым решением.
После проникновенной речи перед своими войсками, которую все слушали со слезами на глазах, в том числе пруссаки, австрийцы и бритты, наблюдавшие за его отъездом, Наполеон схватил за древко штандарт Старой гвардии с длинным списком его побед и сказал своим воинам: «Прощайте — и не забывайте меня». Это был великий момент hasta la vista[95], однако французским войскам оставалось ждать недолго — меньше года — триумфального возвращения своего Наполеона-императора.
Наполеон получает Эльбу
В мае 1814 года придурковатый Людовик XVIII, втиснутый в британский военно-морской мундир и мучимый подагрой, плюхнулся на трон, освобожденный его братом Людовиком XVI, и озаботился тем, как бы снова сделать свою семью крайне непопулярной во Франции. Он устроил церемонию сожжения наполеоновской Конституции, проигнорировал настойчивые требования Сената принять послереволюционный триколор, вернул аристократам конфискованную у них собственность и быстро забыл свои обещания снизить налоги на самые ходовые товары (табак и алкоголь).
Состоялись, конечно, и шумные празднества по случаю коронации, но отношения короля с его покровителями оставались натянутыми. Веллингтон был назначен британским послом во Францию — весьма провокационный шаг Англии. Как-то за обедом, холодно встреченный французскими придворными фельдмаршал сказал: «Это не важно, мне уже приходилось видеть их спины». Браво!
Между тем Наполеон развил бурную деятельность в своем новом королевстве. Как и во Франции 1800 года, на Эльбе было что переустраивать. Эльба не имела своего флага, так что он занялся его дизайном, добавив три золотые пчелы к прежнему фамильному штандарту Медичи с красной диагональной полосой на серебристом фоне. На острове отсутствовало сельское хозяйство, и местная жизнь полностью зависела от импорта (Наполеон ненавидел такой порядок вещей, опять же из-за британского засилья на морских просторах), так что бывший император занялся посадкой овощей, оливковых деревьев и каштанов (столь любимых на Корсике). Он нашел минеральный источник и приобщил местное население к торговле целебной водой. Он научился пахать с помощью впряженных в плуг быков и ловить гарпуном тунца и даже захватил соседний островок Пьяноза, объявив себя его правителем. Он спал на старой походной кровати в обычном доме — и, казалось, представлял себе происходящее очередной иноземной кампанией.
Однако островную идиллию нарушила печальная весть. В мае от дифтерии умерла Жозефина, и, хотя Наполеон не слишком хорошо обошелся с ней при разводе, горевал он так искренне, что целых два дня провел в траурном молчании и одиночестве.
Но постоянным раздражителем был англичанин, сэр Нейл Кемпбелл, британский посланник на Эльбе — другими словами, надзиратель, приставленный к Наполеону. Он следил за каждым шагом бывшего императора и докладывал обо всем, и Наполеон знал, что ему следует проявлять осторожность, поскольку Талейран все еще строил козни, подговаривая европейских монархов услать изгнанника еще дальше, куда-нибудь на Азорские острова.
Талейран и в самом деле нервничал, потому что во Франции нарастала кампания за возвращение Наполеона во Францию. Все, кроме, пожалуй, наиболее привилегированных аристократов, уже давно поняли, что реставрация монархии была огромной, к тому же инспирированной иностранными державами, ошибкой. Париж вновь оказался во власти напудренных фатов, и среди них самым напудренным и высокомерным был король. Популярная песенка, высмеивающая Людовика XVIII, обвиняла во всем бриттов и заканчивалась словами: «Я обязан своей короной англичанам».
Но если Людовик и компания надеялись удержать Наполеона на его острове, им не следовало бы допускать фатальной ошибки. Дело в том, что они отказались выплачивать ему обещанную пенсию, а француза ничто так не раздражает, как нарушение его пенсионных прав. Наполеон, понятное дело, начал разрабатывать план побега.
В феврале 1815 года ему улыбнулась удача. Сэр Нейл Кемпбелл объявил, что ему нужно поехать во Флоренцию, на прием к врачу по поводу проблем со слухом (правда, поговаривали, что он просто хотел провести время с любовницей), и десять дней его не будет.
Как только англичанин покинул гавань, Наполеон приступил к делу. Он нанял судно, раскрасил его в цвета британского флага, заставил пушками и загрузил всем своим золотом. Зная о том, что остров кишит шпионами Талейрана, он отправил ценности в Неаполь и, чтобы создать видимость привычной жизни, послал своих солдат копать цветники.
Его план едва не рухнул, когда один из агентов узнал о его истинных намерениях, но отправить сообщение он мог только с британским судном, которое пришло на остров узнать, как идут дела в отсутствие Кемпбелла, а французский шпион не хотел делиться информацией с врагом.
Секрет Наполеона был сохранен, и 26 февраля он отплыл во Францию с 600 своими гвардейцами, 300 местными и корсиканскими добровольцами и 108 кавалеристами, у которых были седла, но не было лошадей. И днем 1 марта эта отчаянная, но малочисленная освободительная армия высадилась на французской земле возле городка Антиб.
Император вернулся.
Император примеряет старые одежды
Впервые Наполеон не стал придумывать новый мундир, предпочитая разыграть ностальгическую карту и вернуться к своему старому серому плащу, белому камзолу и черной треуголке. Впрочем, ему требовался новый боевой штандарт, и он приказал свои людям смастерить деревянного орла из обломков кровати. После этого он двинулся на Париж, оставив отряд из двадцати пяти солдат освобождать Антиб.
Новость о возвращении императора разлетелась мгновенно, и его тепло встречали: одни дарили букеты фиалок (это был его фирменный цветок, императорской фиолетовой окраски), другие предлагали лошадей и ослов — по заоблачным ценам — его безлошадным кавалеристам. Наполеон продвигался на удивление быстро, и уже 4 марта его маленькая армия подошла к Греноблю в Альпах, где ей предстояла первая проверка на прочность: навстречу выдвинулось войско численностью около 700 человек. Наполеон имел численное преимущество на тот момент, но ему не хотелось провоцировать вооруженный конфликт. В конце концов, эти 700 французских солдат ох как пригодились бы ему в дальнейшем походе на север.
Так что он медленно ехал на коне и за несколько десятков метров до противника спешился и продолжил сближение пешком. Театральным жестом он распахнул свой серый плащ, чтобы продемонстрировать войскам белый камзол, и спросил солдат, хотят ли они убить своего императора. Молодой капитан приказал открыть огонь, но солдаты проигнорировали приказ, выкрикнув: «Да здравствует император!»
Подобные эпизоды повторялись практически в каждом гарнизоне по всей стране. В Лионе брат короля, Карл, граф д'Артуа, лично решил возглавить сопротивление, но когда приказал солдатам кричать «Да здравствует король!», лишь его одинокий голос эхом пронесся по площади. Граф вежливо попросил одного из солдат показать остальным, как надо кричать, но солдат храбро молчал. Граф догадался, к чему все идет, и рванул прямиком в Париж. Девятнадцатого марта, среди ночи, брат-король последовал его примеру и скрылся в Бельгии.
Чем не хеппи-энд? Исполнители главных ролей выходят на поклоны, Наполеон стоит на Триумфальной арке, а его ссыльный сын подходит сзади и берет его за руку. Император оборачивается и видит свою жену, которая улыбается ему с верхней ступеньки лестницы. Камера медленно отходит назад, и, пока воссоединившаяся семья обменивается объятиями и поцелуями, зрителю открываются виды парижских улиц, где царит атмосфера праздника: канкан, аккордеон и прочие анахронизмы. Конец фильма, забирайте свое ведерко с недоеденным попкорном и освобождайте зрительный зал.
Впрочем, это еще не совсем конец.
Наполеону устраивают Ватерлоо
В интересах Наполеона было сохранять мир. Безусловно, его войска энергично кричали бы «Да здравствует император!» любому, кто захотел бы их послушать, но сил было недостаточно, чтобы заставить слушать всю Европу. К сожалению, Реставрация пробила брешь в ауре всемогущества императора, так что дома все громче звучали требования новых свобод — суда присяжных, свободы слова. Парламент так вообще захотел новую конституцию. Работы впереди было немерено.
Но негодяй Талейран все это предвидел и даже заготовил речь. По случайному совпадению (возможно) он оказался на Венском балу вместе с Веллингтоном, царем Александром и государственным министром австрийского императора, принцем фон Меттернихом (с совершенно непроизносимым именем: Клеменс Вензель Непомук Лотар Фюрст фон Меттерних-Виннебург зу Бельштайн), когда в зал ворвался гонец с новостью о возвращении Наполеона во Францию. Талейран тотчас озаботился вооруженным ответом и заручился обещаниями британцев, австрийцев, пруссаков и русских обеспечить по 150 000 солдат. Этой внушительной силе могли противостоять лишь 200 000 французов, но у Наполеона не было другого выбора, кроме как готовиться к войне.
В середине июня Веллингтон и Блюхер вошли в Бельгию, планируя там соединиться и вместе двигаться на Францию. Наполеон, нисколько не смутившись, выехал из Парижа в своем экипаже, заявив, что готов принять новый вызов. По разным причинам ему еще никогда не доводилось лично возглавлять армию в сражениях с бриттами. Впрочем, для начала Наполеон планировал атаковать пруссаков; он знал их тактику, и это давало ему возможность тряхнуть стариной, проверив, сильна ли еще магия вояки Бони.
Он присоединился к своему войску под Шарлеруа в Бельгии 15 июня и в последующие два дня довольно успешно разгромил пруссаков. Он даже был близок к тому, чтобы взять в плен самого Блюхера, когда пруссак упал с лошади. Тем временем Наполеон попросил своего старого приятеля, маршала Нея, заняться бриттами, пока он управится с двухголовой вражеской гидрой и вышвырнет ее из Бельгии. Он с уверенностью предсказывал, что возьмет Брюссель той же ночью и война закончится через день-другой.
Однако Ней совершил ошибку, которая впоследствии стоила Наполеону трона и лишила Францию возможности забить решающий гол в ворота противника в битве, давшей название лондонскому вокзалу. Ней колебался и, вместо того чтобы атаковать, слишком долго ждал, пока Веллингтон подтянет свои войска на возвышенность вблизи никому не известной деревушки Ватерлоо.
Впрочем, не стоит во всем винить Нея. Наполеон должен разделить с ним ответственность за эту роковую ошибку. Утром 18 июня 1815 года до него дошел слух, будто британцы и пруссаки планируют объединить силы для совместной атаки. В отличие от Нельсона, который всегда принимал во внимание данные разведки, Наполеон отмахнулся от слухов. Он не сомневался, что задал пруссакам хорошую трепку и они продолжат отступление. Как же он ошибся!
Беда в том, что Наполеон на некоторое время вышел из военной игры, из-за чего был не в курсе тактических новинок. Веллингтон же знал, что лучшая защита от традиционного гамбита наполеоновской армии — артиллерийской бомбардировки — отход на заранее подготовленные позиции на возвышенности. Эта простая стратегия привела к тому, что пушечные ядра Наполеона безобидно взрывали промоченную дождями бельгийскую почву [96]. Как уверяют французы, именно эти затяжные, в английском стиле, дожди и обеспечили Веллингтону победу, потому снаряды наполеоновской артиллерии, даже если не поражали цель, всегда наносили убийственный урон противнику рикошетом. Только вот мокрая грязь не давала никаких рикошетов.
Французы предлагают и другие, менее убедительные объяснения своего поражения. Так, по одной из версий, возможности Наполеона как командующего были сильно ограничены острым приступом геморроя. Его обычно лечили пиявками, но 16 июня, в промежутке между битвами с пруссаками, пиявки потерялись или разбежались. Поэтому для Наполеона было сущей мукой держаться в седле и сохранять мобильность во время битвы при Ватерлоо, а настойка опия, которую он принял, чтобы облегчить боль, притупила его умственные способности. Впрочем, это миф на грани абсурда: все видели Наполеона лихо скачущим на коне по полю сражения и отдающим приказы артиллерии. Все дело в том, что, как только войска Веллингтона и Блюхера наконец соединились, как планировали, уже ни один, даже самый искусный, командующий не смог бы их победить.
Как и многие другие сражения, битва при Ватерлоо состояла из череды пеших и конных атак под шквальным огнем противника. Никакой тебе камуфляжной формы, бронежилетов, танков, поддержки с воздуха или ракет с лазерной наводкой. Ты просто шел на врага, надеясь, что он погибнет или отступит, прежде чем убьет тебя. В те времена генералы тоже ходили в атаку, а не отсиживались в уютных командных пунктах, отдавая приказы по рации за чашкой чая. Как мы уже знаем, Наполеон и Нельсон бесстрашно шли под пули, а в битве при Ватерлоо маршал Ней лично возглавил несколько кавалерийских атак на линию обороны противника, сменив не одну убитую под ним лошадь [97].
Восемнадцатого июня, по самым скромным оценкам, было убито и ранено около 25 000 французских солдат, потери армии Веллингтона составили 15 000 человек, Блюхер потерял 7000 человек. В ходе этого десятичасового сражения потери составляли 4700 человек в час, и это значит, что каждую секунду кто-то падал, убитый или раненный. И, с учетом медицинских технологий того времени, шансы выжить после поражения ружейной пулей, отравления ядом свинца или ампутации оторванной конечности были призрачными.
Если сравнить эту битву с боксерским поединком, то можно сказать, что по его окончании обоих измученных спортсменов, с перебитым носом и опухшими глазами, налитыми кровью, растащили бы по углам, а победу присудили бы по очкам тяжеловесу, просто потому, что он нанес больше ударов. Но, ради исторической справедливости, давайте все-таки назовем Ватерлоо победой. Не победой Британии, разумеется, — без Блюхера Веллингтон не выиграл бы ни за что. Говорят, что герцог днем 18 июня бормотал молитву: «Господи, дай мне ночь или пошли мне Блюхера». Да и армию Веллингтона нельзя назвать чисто британской. Фактически лишь половина ее, а то и меньше, состояла из бриттов, а большую часть составляли солдаты из Нидерландов и мелких германских государств, таких как Ганновер, Брауншвейг и Нассау.
Но, как и при Азенкуре, именно бриттам выпала честь дать название битве. Ее могли бы назвать Мон-Сен-Жан, по названию возвышенности, на которой стоял Веллингтон, но тот выбрал соседнюю деревушку с близким к английскому названием.
В сознании французов сражение при Ватерлоо закрепилось как франко-британский кошмар. И нет никакого совпадения в том, что в 1940 году генерал де Голль именно 18 июня обратился из Лондона к французам с призывом оказать сопротивление Гитлеру, тем самым смывая национальный позор с этого листка календаря. А в народе Ватерлоо стало именем нарицательным, означающим полный провал, и мне довелось прочувствовать это сразу по приезде во Францию. Я знал, что у моего коллеги неприятности с боссом, и спросил, как дела в офисе.
«О, сущее Ватерлоо!» — воскликнул он.
«Что ж, очень хорошо». Я улыбнулся, полагая, что все идет отлично. Ему пришлось объяснять мне, что на самом деле он имел в виду «хуже некуда».
И спустя почти 200 лет Ватерлоо все еще заставляет французов страдать.
Святая где?
Для Наполеона это еще был не конец страданий. Он помчался обратно в Париж, где ему сообщили, что Ассамблея (парламент) хочет, чтобы он отрекся от престола. Он выполнил это пожелание, передав трон сыну, узнику Вены (так выразился сам Наполеон). По крайней мере, для него это был единственный шанс снова увидеть мальчика и даже остаться при нем регентом. Но вмешался Веллингтон, который предупредил Ассамблею, что ни Британия, ни ее прусские друзья, которые вот-вот войдут в Париж, не допустят того, чтобы Франция осталась в руках Бонапарта.
Наполеон решил, что лучший для него выход — отъезд в Америку. В те времена, в отличие от начала двадцать первого века, французы пользовались там большим почетом, и, обладая навыками пахаря и рыбака, приобретенными на Эльбе, а также полученными в школе познаниями в садоводстве, он надеялся начать новую жизнь.
Наполеон поспешил в торговый порт Рошфор на реке Шаранте, в 10 километрах от Атлантического побережья Франции, но обнаружил, что порт заблокирован британским военным кораблем «Беллерофон», известным в народе как «Билли Руффиан» («Головорез Билли»), который участвовал в морских баталиях и вблизи берегов Египта, и у мыса Трафальгар. Призрак Нельсона преследовал Наполеона.
После долгих и мучительных колебаний французский беглец решил сдаться британцам, не иначе как вспомнив свои давние мечты о жизни в английской деревне и думая, что ему разрешат тосковать со старыми вояками о былых временах и походах. Его тепло приняли на борту и даже предоставили капитанскую каюту. Но британское правительство уже решило, что отправит самого влиятельного политического узника со времен Марии Шотландской куда-нибудь подальше от английской деревни.
Если вы попытаетесь с помощью сервиса «Карты Google» проложить маршрут от Парижа до Святой Елены, то получите ответ о невозможности «рассчитать расстояние от Парижа во Франции до острова Святой Елены».
На самом деле вы получите такой же ответ насчет маршрута до этого острова из любой другой точки земного шара — и это в двадцать первом веке! А в 1815 году отправиться в ссылку на вулканическую глыбу, расположенную за две тысячи километров от ближайшего континента, было равносильно ссылке на Луну. Но в этом и состоял замысел, собственно как и условия содержания Наполеона: его изолировали от островитян, охрану несли 125 караульных, и, если в поле зрения появлялось какое-нибудь судно, все пушки Святой Елены тотчас разворачивались и гремел предупредительный выстрел. Наполеону не светило возвращение в Европу до тех пор, пока за ним не явятся британцы. И уж, конечно, не было у него никакой надежды убежать и вернуться во Францию и свергнуть возвращенного на престол Людовика XVIII.
Играть в короля на Святой Елене тоже было проблематично, как и пытаться превратить остров в наполеоновскую империю. Местный климат сильно отличался от средиземноморского рая на Эльбе, здесь властвовали атлантические бури и проливные дожди, особенно в поселке Лонгвуд, где в кишащем крысами фермерском доме на сырой пятисотметровой возвышенности находилась новая обитель Наполеона.
Бывшему императору все-таки удалось слегка облагородить окружающую действительность. Он разработал аристократическую униформу для своего слуги — расшитый серебром зеленый камзол, черные шелковые брюки и белые шелковые чулки, — а после обеда читал сцены из пьес Мольера, Расина и других великих французских драматургов группе друзей, которым разрешили сопровождать его в ссылке.
Большую часть времени он диктовал мемуары, но основные силы приберегал для сражений со своими британскими надсмотрщиками. Это была своеобразная партизанская война. Наполеон специально прятался, чтобы у офицера, призванного дважды в день лично проверять местонахождение узника, возникли неприятности. В ответ бритты перехватывали подарки, присылаемые на Святую Елену, а однажды отказали Наполеону в просьбе заказать новую пару обуви, пока он не предъявит изношенные туфли британскому губернатору, генералу с садистскими наклонностями, сэру Хадсону Лоу.
Постепенно эта война «на измор» подкосила самого Наполеона. Он перестал кататься верхом, потому что ему надоело вечное сопровождение британских офицеров, и как-то просидел взаперти целых два месяца, только чтобы не видеть своих сторожей. Его физическое состояние резко ухудшилось, начались серьезные проблемы с желудком.
Наполеон попросил прислать ему личного доктора, и его письмо было отправлено во Францию. Французы, как и положено, добавили свою дозу жестокости к британским издевательствам, и лишь через восемнадцать месяцев на остров прибыл некий Франсуа Карло Антоммарчи. Он имел диплом медика, но до последнего времени работал прозектором, готовил трупы для анатомических классов Флорентийского университета. И конечно, он был вовсе не парижский врач высокой квалификации, которого надеялся увидеть больной Наполеон.
Боли в желудке усиливались, и Антоммарчи, диагностировавший гепатит, лечил слабительным своего подопечного, от чего ему становилось все хуже. Губернатор Лоу решил, что Наполеон симулирует, и предложил, чтобы кто-нибудь вбежал к нему в спальню и сильно испугал его, заставив вскочить с кровати.
К апрелю 1821 года Наполеон был уже прикован к постели и стремительно угасал. Он озвучил свою последнюю волю, попросив похоронить его тело «на берегах Сены». О своей второй жене, Марии-Луизе, он тоже не забыл — попросил законсервировать его сердце и отослать ей как прощальный подарок.
Бывший император почти всей Европы умер в 17 часов 49 минут по местному времени 5 мая 1821 года, и его смерть дала наконец Антоммарчи шанс выполнить работу по специальности. По просьбе Наполеона он провел вскрытие и обнаружил обширный рак желудка. Опасения Наполеона подтвердились: это была та же болезнь, что погубила его отца, и он хотел удостовериться в этом, чтобы предупредили теперь уже его сына. Британский врач, присутствовавший при вскрытии, добавил одну деталь в отчет Антоммарчи, отметив, что пенис и яички у Наполеона «очень маленькие». Даже после смерти императора бритты не смогли устоять перед соблазном последний раз его лягнуть.
Ну, раз уж мы взялись обсуждать все гипотезы, стоит сказать, что после вскрытия императору был нанесен еще более жестокий удар. Говорят, что, когда свидетели удалились, Антоммарчи тайно отрезал пенис Наполеона и отдал его Анж-Полю Виньяли, священнику, который проводил последние приготовления и служил заупокойную службу. Один из журналов напечатал, со слов слуги Наполеона, что Виньяли лично отрезал императорский «багет» и взял себе в качестве сувенира — и это в 1852 году, задолго до того, как вошло в моду обвинять католических священников в сексуальных извращениях.
Как бы то ни было, когда в 1916 году семья Виньяли продавала свою коллекцию наполеоновских реликвий, в ней значились локон императора, посмертная маска и еще один объект, описанный как «мумифицированное сухожилие, взятое из тела Наполеона во время вскрытия», и в аукционном каталоге он значился как «редкий» экспонат (хотя, если это был пенис, определение «уникальный» было бы более уместным). Раритеты приобрел американский коллекционер А. С. Розенбах, который выставил этот отвратительный кусок плоти в нью-йоркском Музее французского искусства в 1927 году, и его уверенно идентифицировали как императорский орган. Заинтригованные зрители, описывая экспонат, изощрялись на все лады: сморщенный угорь, шнурок, морской конек и изюм. Не слишком лестно.
«Маленький капрал» Маленького капрала снова всплыл на аукционе, уже в Лондоне в 1969 году, но не был продан, а когда попал под молоток (прошу прощения у мужской аудитории) в Париже в 1977 году, французское государство даже не попыталось завладеть им. Лот приобрел Джон Кингсли Латтимер, уролог из Нью-Джерси (специалист по гениталиям), пожелавший добавить этот экспонат в свою коллекцию жутковатых исторических объектов, в которой уже присутствовали забрызганный кровью шейный платок Авраама Линкольна, пустая капсула из-под цианида Германа Геринга, детали кузова даласского лимузина Джона Кеннеди. Латтимер отказался выставлять орган Наполеона, хотя, по рассказу очевидца, который видел его после смерти коллекционера в 2007 году, он выглядел как «палец младенца». Если так, то он явно подрос с 1927 года, когда его сравнивали со шнурком.
В любом случае, история сильно попахивает англосаксонским юмором, и когда я обратился за комментариями к одной даме, из потомков Наполеона, она ответила: «Я никогда ничего подобного не слышала, поэтому не могу быть вам полезной». Короче, это не тот сюжет, который волнует современных Бонапартов, да и французов вообще, и уже одно это ставит под сомнение подлинность странной вещицы.
Но императорский «багет» оказался не единственным органом, вызвавшим противоречивые суждения. Волосы тоже породили много разговоров. Некоторые, прежде всего французы, обвиняют бриттов в отравлении Наполеона и указывают на следы мышьяка, обнаруженные в локоне. Была проведена экспертиза куска облупившейся краски со стен дома в Лонгвуде, и в ней нашли яд. Exactement! [98] — воскликнули обвинители. Ну да, перед тем как поселить там Наполеона, бритты покрыли стены ядом, уверенные в том, что с годами краска начнет осыпаться и ядовитые крошки будут падать в императорский кофе или бокалы с вином. И разве это не всем известный факт, что французы обожают облизывать стены?
На самом деле объяснение следов яда в доме куда более прозаично. В те времена зеленый краситель обычно содержал мышьяк, и такие же краски, настолько же токсичные, можно было найти практически в каждом доме на острове. Разумеется, нельзя сказать, что краска не наносила вреда. Правда, это никому и в голову не приходило, да и кто бы захотел красить стены ядом. Но никакого британского заговора не существовало. Банальная правда заключается в том, что беднягу Бони в возрасте пятидесяти одного года унесла преждевременная смерть от наследственного рака.
Конечно же никто не переправил на родину его тело, чтобы оно было захоронено на берегах Сены, и безутешной вдове оно тоже не досталось. Губернатор Лоу получил приказ не выпускать останки Наполеона с острова, и только в декабре 1840 года тело вернулось во Францию, и его провезли под Триумфальной аркой, строительство которой закончили лишь четырьмя годами ранее. Наконец прах императора упокоился в Доме инвалидов, хотя гробница, которую заказала Франция, была готова только к 1861 году.
Есть одна интригующая особенность могилы Наполеона в Доме инвалидов, которую редко обсуждают: в ней было оставлено место для сына Наполеона, Наполеона-младшего, который умер в 1832 году, но его останки были перенесены туда лишь в 1940 году горячим австрийским фанатом императора. Адольфом Гитлером.
Музыкальная дань Наполеону
Так что же оставил Наполеон потомкам? Налицо, конечно, тенденция сравнивать с ним любого французского аристократа (а их немало). До сих пор живы и его законы, которые по-прежнему формируют французское мышление. И разумеется, тут как тут незабываемый хит АББЫ «Ватерлоо», где в первой же строчке звучит имя Наполеона, но нет ни слова о Веллингтоне и Блюхере.
Но, на мой взгляд, истинное наследие Наполеона не имеет никакого отношения ни к войне, ни к политике.
Когда Наполеон отправился на завоевание Египта, его никто не заставлял сажать на свой корабль ученых. Он вполне мог устроить традиционный военный поход и взять побольше солдат, пушек и пороха — кстати, об этом его и просили военные. Но он поступил по-своему, и именно его археологи отыскали Розеттский камень, который в 1822 году, спустя всего несколько месяцев после смерти Наполеона, позволил Жану-Франсуа Шампольону совершить прорыв в изучении древней истории — дешифровать иероглифический текст. Бесспорно, это куда более щедрый подарок человечеству, нежели реформы в законодательстве, новые элитарные школы и пара железнодорожных станций, названных в честь боевых сражений.
Однако и это открытие нельзя считать исключительно французским успехом. Шампольон ничего не добился бы без британца по имени Томас Янг, который прочитал демотическую надпись на Розеттском камне, открыв миру текст поздравления с первой годовщиной коронации фараона Птолемея V. После этого Янг приступил к прочтению иероглифов, но застрял, поскольку не догадался, что иероглифы на самом деле пересказывают другие тексты, а не дают дословный перевод. Фактически Шампольон развил начатую Янгом работу, и ему даже пришлось исправить одну из своих статей о транскрипции, когда Янг указал на ключевые ошибки.
Так что и к наследию Наполеона англичане приложили руку. Прошу прощения, мсье экс-император, но неужели вы и впрямь рассчитывали на посмертный триумф без британского вмешательства?
Глава 15 Битва за еду
Багет и круассан: правда и вымысел об «истинно французских» продуктах
Худшее, что есть в войнах, — это то, что они не прерываются на ланч.
Нет, если серьезно, самое большое зло войны заключается в том, что люди на вполне законных основаниях убивают друг друга. Но согласитесь, войны действительно нарушают традиции трапезы. Солдаты вынуждены питаться пайками, которые им выдают в столовых под открытым небом, и ни тебе скатертей, ни чистой посуды (исключение делается лишь для офицеров). А гражданским приходится перебиваться тем, что не реквизировано правительством и не украдено мародерами.
С другой стороны, мир очищает нёбо. Как только заканчивается бойня и послевоенный голод, открываются границы, и люди начинают путешествовать, принося с собой кулинарные ингредиенты и идеи.
Именно это произошло и после наполеоновских войн. Представители наций-победительниц, прежде всего бритты, пруссаки и австрийцы, потоком хлынули во Францию — одни осматривали достопримечательности, другие обустраивались — и начали наступление на всемирно известную французскую кухню.
Во всяком случае, французы пытаются нас в этом уверить. На самом деле гости обнаруживали, что на французском столе чего-то не хватает, и приходилось завозить собственные продукты — кстати, многие из них оказались настолько популярными среди французов, что они быстренько переняли их и убедили себя в том, что сами их придумали. Но, как мы уже видели в истории с шампанским, эти утверждения следует сдобрить щепоткой соли (да не забыть немного перца и, может, чайную ложку английского сахара). Во всяком случае, два главных продукта повседневной французской кухни уж точно импортированы.
Французы приписывают себе багет
Каждая культура создает свои мифы, и французы в этом смысле не исключение. А их теория о происхождении багета — в ряду самых забавных.
Они рассказывают историю о длинных батонах, которые впервые были выпечены для наполеоновских солдат. Прежде, утверждают французы, хлеб неизменно делали круглым — в конце концов, слово boulanger («булочник») происходит от слова boule («шар»). Но Наполеон, вникавший во все тонкости солдатской жизни, хотел получить хлеб, который было бы легко носить с собой во время военных походов, чем, собственно, обычно и занималась его армия. Поэтому он попросил пекарей сделать длинный батон, чтобы умещался в кармане солдатских брюк. Почему именно этот способ транспортировки хлеба он нашел более эффективным, чем просто положить круглую буханку в рюкзак, не объясняется. В любом случае, все это сильно смахивает на миф, и, как рационально объясняет франкоязычная Википедия, «багет сильно стеснял бы движения солдата и, возможно, к концу марша был бы уже несъедобным».
Однако французы упорно настаивают на том, что историю багетов следует начинать именно с того времени. Мукомольная компания «Ретродор» на своем сайте высказывает предположение, что багет был изобретен после Революции, когда пекарей уже не заставляли печь грубый «хлеб для народа» и разрешили им выпекать белый хлеб. В это же время в хлебопекарный процесс включили пивные дрожжи, и это дало возможность делать более легкое тесто, идеальное для изящного воздушного батона. Похоже, нас опять убеждают в том, что багет — целиком и полностью французское изобретение.
Однако не столь патриотичные историки еды соглашаются с тем, что багет — вовсе не французское детище, ну или, по крайней мере, стараются не поднимать этот вопрос.
В своей книге «История еды» француженка Магеллон Туссен-Сама не упоминает о появлении багета. Она описывает эволюцию хлеба в древнегреческой, иудейской и римской цивилизациях, говорит о привычке Жанны д’Арк макать «куски» хлеба в вино, заостряет внимание на особенностях расположения печей для выпечки хлеба в средневековых французских городах (не слишком близко к соседской стене). Но вот о происхождении багета — ни слова.
На самом деле «исконный» французский хлеб обязан рождением одной из стран-союзниц, оккупировавших Париж после 1815 года, и легкое воздушное тесто, которое английские пекари называют «венским хлебом», дает наводку, кем мог быть этот союзник.
В середине девятнадцатого века австрийцы разработали новый тип газовой печи, оборудованной паровыми инжекторами. Печь можно было разогревать до температуры свыше 205 градусов по Цельсию, а впрыски пара обеспечивали хрустящую корочку еще до момента полной выпечки хлеба, оставляя внутренность батона легкой и воздушной. Высокоэффективные печи вскоре стояли во всех французских boulangeries. [99]
Мало того что багет нельзя назвать продуктом многовековой французской традиции, он вошел в моду лишь в 1920-х годах, и тому было две причины. Во-первых, после Первой мировой войны многие французские пекари и их подмастерья остались лежать зарытыми в грязи на берегах Соммы и других полях сражений, так что в стране остро ощущалась нехватка рабочих рук, а потому быстрый в приготовлении венский хлеб стал весьма привлекательным выходом из положения.
Во-вторых, новый французский закон запрещал пекарям начинать работу раньше четырех утра, так что багет стал единственным хлебом, который булочники успевали выпечь к завтраку.
Багет таил в себе еще одно преимущество для булочников: он оставался свежим всего полчаса. (Ну, хорошо, чуть дольше, но через час после охлаждения он начинал подсыхать прямо под корочкой и уже не давал того самого дивного хруста.) Если потребители хотели свежего хлеба, они просто выбрасывали черствый багет и приходили за свежим. Превосходный бизнес-план.
Так что в 1920-х годах все были без ума от багетов, и австрийский батон стал символом Франции, таким же запоминающимся, как его гигантская металлическая кузина — Эйфелева башня.
С тех пор слава багета слегка померкла. В последние годы его откровенная белизна побудила диетически сознательных французов переключиться на более здоровые сорта хлеба из цельного зерна, злаков, отрубей и ржи. Багету пришлось эволюционировать, и сегодня практически в каждой булочной продается baguette de tradition («традиционный багет») с более мягкой корочкой и из более темного теста, почти без дрожжей, только вот вид у него какой-то неуверенный, как будто его выпекал полуслепой средневековый пекарь. Впрочем, это название тоже обманчиво, потому что только воздушный, неестественной белизны багет с золотистой корочкой может гордо именовать себя de tradition («сделанным по традиции»). И традиция эта венская.
Запутанная история круассана
Круассан, обязательная французская еда на завтрак (и только на завтрак), тоже не француз. Булочки в форме полумесяца пекли в Европе испокон веков; в конце концов, полумесяц — это символ, ассоциирующийся с луной и Востоком. По легенде, австрийцы первыми начали выпекать то, что мы называем круассанами, после осады Вены в 1683 году, когда турки стали делать подкопы под городскими стенами, — и врагов услышали пекари, работающие по ночам в своих погребах. В качестве награды за то, что успели предупредить городские власти, вместо того чтобы попытаться продать ранний завтрак захватчикам, пекари получили в дар право печь булочки в форме полумесяца, как на флаге Оттоманской империи.
Это одна теория. Еще говорят, что австрийский круассан, или «кипфель», пекут с тринадцатого века, и это, в общем-то, не противоречит истории с осадой. Возможно, булочников, спасших Вену, позабавило то, что их традиционный «кипфель» похож на полумесяц с турецкого флага.
Впрочем, одно можно сказать наверняка: круассан в его нынешнем виде пришел во Францию из Австрии.
Романтики скажут, что моду на него ввела Мария-Антуанетта, которая вообще прославилась своим интересом к хлебу и пирожным. Прагматичные историки уверены, что круассан завез австрийский солдат, а впоследствии бизнесмен, Август Занг, который открыл венскую булочную в Париже то ли в 1838-м, то ли в 1839 году. Его Boulangerie Viennoise («Венская булочная») в доме № 92 по улице Ришелье, рядом с Национальной библиотекой, способствовала зарождению моды на круассаны и созданию pain au chocolat («булочки с шоколадом»), pain aux raisins («булочки с изюмом») и других выпеченных изделий из муки, которые французы до сих пор называют viennoiseries («венские»).
Французские писатели начинают упоминать о круассане лишь с 1853 года, когда химик Ансельм Пайен опубликовал свой в высшей степени негастрономический труд «Пищевые субстанции», в котором круассаны и английские кексы фигурируют в разделе «фантазийный, или эксклюзивный, хлеб».
К 1875 году круассаны стали более привычной едой, и в книге под названием Consommations de Paris (что навскидку можно перевести как «Еда и напитки Парижа») ее автор Арман Юссон относит круассаны и кофе к «традиционным» продуктам в противовес «высокой кухне».
Сегодня континентальный завтрак немыслим без круассанов, и их по-прежнему считают детищем Франции, так же как и особую породу официантов, которые их подают.
Только вот правда о происхождении круассанов, как и багетов, слишком тяжела для французского пищеварения.
Глава 16 Почему все французские вина родом из Америки
Болезнь винограда, героически излеченная (и не столь героически вызванная) американцами
В 1860-х годах эпидемия едва не погубила все виноградники Франции. Виноделы знаменитых районов виноградарства могли лишь беспомощно разводить руки в стороны, наблюдая за тем, как их растения сохнут и погибают. Загадочная болезнь на корню пожирала французское виноделие, и полное исчезновение шампанского, шабли и шато Марго было вполне реальной перспективой (а заодно и бургундского, бордо и божоле, совиньона, сотерна, Сент-Эмильона и далее по алфавиту). Спасти их могло только чудо.
И это чудо явилось из Америки. Что впоследствии вызовет лишь горькую ироническую усмешку…
Жуткое зеленое акне
Первые зловещие признаки надвигающейся катастрофы были замечены в 1863 году, в деревне Пюжо, на левом берегу реки Роны под городом Ним. На нескольких виноградных лозах начало распространяться что-то вроде акне — прежде гладкие зеленые листья покрывались мелкими бубонами. Вскоре листья желтели, сохли и опадали. Как ни странно, растение продолжало давать виноград, но на следующий год урожай становился меньше, а вино получалось кислое и вовсе не имело букета. На третий сезон лоза съеживалась, и, когда ее вырывали, корни у нее были черными, как будто болезнь выпила из них все соки. Хуже того, больное растение заражало соседей, которые точно так же проходили трехлетний предсмертный цикл.
Вскоре появились сообщения о подобных симптомах в соседних деревнях Рокмор и Вильнев-лез-Авиньон, а в 1866 году вторичную вспышку зафиксировали под Бордо. По мере того как чума распространялась по Франции, население все больше поддавалось панике. Никто не знал, чем вызвана эпидемия. Фермеры думали, что это разновидность виноградного туберкулеза, хотя у растений и нет легких.
И только в 1868 году трое французских ученых из университета Монпелье наконец установили причину.
Группу исследователей возглавлял директор ботанического департамента, Жюль-Эмиль Планшон, местный, но долгое время проработавший в королевском ботаническом саду «Кью» в Лондоне, одном из ведущих мировых центров изучения растений. Планшон выкопал мертвые и умирающие лозы и обнаружил, что корни больных растений инфицированы крохотной желтой тлей, практически невидимой невооруженным глазом. Он догадался, что имеет дело с новым убийцей, мутацией существующего паразита, и, будучи человеком обстоятельным, дал ему название, созвучное имени злодея из комиксов про Астерикса: филлоксера вастатрикс (тля, пожирающая корни).
Тля оказалась весьма симпатичной — по крайней мере, на любителя. Она имела очень приятный цвет, что-то вроде бледно-желтого шафрана, который отлично смотрится на полотнах Ван Гога, но, если представить это ползущим по корням винограда, впечатлений хватит на ночной кошмар. Жизненный цикл жучка, как обнаружил Планшон, был образцом деструктивной эффективности: летом самка откладывала яйца под поверхностью листа (отсюда и бубоны); вылупившиеся из яйца личинки продвигались к стеблю лозы, где женские особи исподтишка откладывали второе поколение яиц — до 600 штук каждая, — и они успешно зимовали; следующей весной рождалась масса бескрылых желтых тлей, которые устремлялись вниз, к корню, и уничтожали его примерно так же, как английские туристы расправляются с пляжным баром с бесплатной выпивкой. После этого приютившее их растение отправлялось к Создателю, а обожравшиеся насекомые перемещались дальше, в поисках новой жертвы. Трагизм ситуации заключался в том, что самки имели способность откладывать яйца путем асексуальной репродукции — то есть даже без всякого удовольствия. Это действительно была бездушная, страшная чума.
Вопрос состоял в том, как остановить ее, ведь упрямые жуки маршировали по Европе так же победоносно, как наполеоновская армия. В течение двенадцати лет они попеременно атаковали все важнейшие винодельческие провинции континента. Они успели отметиться даже в Австралии (скорее все-таки заехали с импортируемым вином, а не пропахали всю планету). Но тяжелее других стран пострадала Франция: с 1875 года по 1889 год производство вина в стране упало с 8,4 миллиарда литров до 2,3 миллиарда и примерно сорок процентов французских виноградников погибли.
В течение двадцати пяти лет с тех пор, как впервые были выявлены симптомы, болезнь продолжала распространяться, и единственным решением представлялось уничтожение практически всех уцелевших в стране виноградников.
Американцы спасают Францию
Некоторые французские виноградари и ученые высказывались в пользу лечения болезни, а не ее предупреждения, предлагая обрабатывать лозу ядовитыми инсектицидами или временно затопить виноградники (выяснилось, что жучки не очень-то жалуют воду). Планшон возражал, считая, что лечение инфицированных растений — пустая трата времени. Требовалось что-то вроде вакцины.
И вот тут к делу подключились американцы.
Еще в 1870-х годах энтомолог Чарльз Валентин Райли, лондонец, проживающий в Миссури, обнаружил, что филлоксера водится и в США (где ей дали другое имя: виноградная вошь), но вроде бы не наносит ущерб виноградникам. Американские растения почему-то были устойчивы к этой тле.
Райли отослал корни американских растений Планшону, и тот согласился, что растения действительно обладают иммунитетом. Почему бы не засадить все французские виноградники американскими сортами? — подумал он. Ответ, разумеется, очевиден: французы были уверены в том, что их родные виноградники дают вино высшего качества. Но два винодела из Бордо — Лео Лалиман и Гастон Базиль — нашли выход из этого затруднительного положения. По их предложению Планшон начал прививать лозу французского винограда на американские корни, и вскоре подтвердилось, что полученные растения устойчивы к болезни.
Это открытие раскололо французское виноделие: одна половина виноделов выступала за опрыскивание инсектицидами, другая — за прививание, причем антиамериканские активисты называли сторонников метода Планшона «торговцами деревом».
Пока шли споры, французские виноградари массово бежали из своего бизнеса — многие эмигрировали в Америку и Северную Африку, — а торговцы импортировали вина из-за границы. Даже если бы прививка дала положительный результат, казалось, было уже поздно спасать индустрию.
Типично французский скандал еще больше осложнил ситуацию. Правительство предложило денежный приз, 320 000 франков, тому, кто первым найдет лекарство от филлоксеры. Свои права на получение приза заявил винодел из Бордо Лалиман, хотя он и работал вместе с Планшоном и Базилем. Может, это даже покажется невероятным, но Лалиману отказали, обвинив его в том, что он сам импортировал инфицированные лозы.
Но каким-то чудом, на фоне этого сумбура споров и склок, прививка и пересадка медленно начали приносить плоды. В 1880 году новой лозой были засажены около 2500 гектаров, а в 1885 году — уже 45 000. Вскоре франко-американская армия спасения маршировала по стране.
Говорят, что, если бы не американские виноградные лозы, желтая тля сожрала бы все европейское виноделие. В силу своей изоляции оказался не задет Кипр, но все другие страны уж точно потеряли бы свои виноградники; единственный европейский сорт, обладающий иммунитетом к филлоксере, это ассиртико, и произрастает он на греческом острове Санторини.
В любом случае, отрасль была спасена благодаря ботанике, творческому мышлению, дарвинистской вере в то, что выживает сильнейший — труд Чарльза Дарвина «О происхождении видов» был опубликован в 1859 году, — и конечно же закаленным американским растениям. Напрашивается большое трансатлантическое мерси.
Или нет? Потому что кое-кто говорил, что американцы — с помощью дарвинизма — помогли вызвать эпидемию филлоксеры.
Еще с конца 1850-х годов французские виноделы (в том числе, как полагают, и Лео Лалиман из Бордо) экспериментировали со способами повышения урожайности, улучшая Природу. Они высаживали на своих виноградниках лозы из других регионов, включая и корневища из США. И судя по тому, как Лалиман откликнулся на теорию прививания, он, возможно, сам пробовал делать это на своей ферме.
Сегодня все едины в том, что паразита изначально завезли из Нового Света с образцами виноградных лоз из Американского каталога растений. Разумеется, это была несчастливая случайность, но заразить страну смертельным вирусом, а потом продавать ей лекарство — это как раз укладывается в бизнес-практику многих стран, вот почему французы до сих пор подозревают англосаксов в нечистоплотности.
Впрочем, кто бы ни был виноват в случившемся, одно можно сказать наверняка: если французский винодел поднимает бокал бордо, бургундского и так далее по алфавиту, утверждая при этом, что его вино превосходит любое вино, когда- либо произведенное в Новом Свете, возразить ему достаточно просто.
Французское вино в какой-то степени — продукт Нового Света.
Глава 17 Эдуард VII резвится в Париже
Грязный Берти, принц-плейбой, склоняет Францию к «Сердечному согласию»
Грязный Берти и «Сердечное согласие»
Король Эдуард VII был из тех, кто понимал, насколько это приятно — не воевать с Францией.
Альберт Эдуард, принц Уэльский, старший сын королевы Виктории, Берти для друзей и любовниц, сделал Францию последних десятилетий девятнадцатого века игровой площадкой для своих авантюр. Если он не развлекался в музыкальных салонах английских загородных резиденций, то «разъезжал» (как выражалась его мать) по Парижу и Каннам, курсируя между «Фоли Бержер» и любимыми борделями. Он был таким заядлым кутилой, что даже имел собственную комнату в одном из самых аристократических борделей Парижа, обставленную сделанной на заказ эротической мебелью… Но об этом пока хватит.
Даже когда напряженность во франко-британских отношениях зашкаливала, Берти старался делать все, чтобы политика не стояла на пути его удовольствий. Он ладил как с французскими роялистами, так и с республиканцами, и просто хотел, чтобы все были друзьями и не мешали ему радоваться жизни. Бытует спорное мнение, что его сексуальные подвиги вынудили Францию, пусть брыкаясь и вопя, начать переговоры о «Сердечном согласии» — договоре, который в 1904 году раз и навсегда покончил с многовековой англо-французской враждой.
Говоря коротко, не было, пожалуй, в истории другого конфликта, который был бы обязан своим разрешением либидо одного человека.
Париж, самый невикторианский город
Берти влюбился во Францию еще тринадцатилетним мальчиком. Он приехал в Париж с королевским визитом к Наполеону III и понял, что дворцы не обязательно должны быть такими скучными, как у его родителей. Королева Виктория и принц Альберт полагали, что гораздо важнее научить принцев латыни и истории, чем просто дать им побыть принцами. Они хотели воспитать его настоящим викторианцем, со всеми моральными ограничениями, к которым обязывало это звание.
В Париже между тем Берти танцевал, а шикарные дамы поддразнивали его, выпытывая, что же он прячет под килтом, в который его нарядили родители. Императрица Евгения, блистательная икона стиля, взяла Берти под свое крыло, несомненно заставив совсем не по-викториански трепетать то, что скрывалось под килтом. Наполеон III, парень не промах, поговорил с ним, как мужчина с мужчиной, и юный принц, должно быть, догадался, что в этом городе каждый сам себе устанавливает моральные принципы. В конце концов, французское словосочетание avoir le moral означает «быть большим оптимистом», и это значит, что можно делать все, лишь бы тебе было хорошо, не так ли?
Берти пришлось подождать еще несколько лет, прежде чем ему выпал шанс насладиться Францией сполна. Во-первых, родители хотели, чтобы он закончил образование. Они отправили его в Оксфорд и вдобавок к учебе заставляли ходить в театр на высокоинтеллектуальные лондонские пьесы. Но Берти был не создан для интеллектуальных развлечений и однажды шокировал театралов, громко спросив: «Кто-нибудь может сказать мне, о чем эта дурацкая пьеса?»
К 1860-м годам он решил, что с формальным обучением покончено и пора переключаться на неформальную практику. Он стал наведываться в Париж на ежегодные пирушки, зачастую в сопровождении одного лишь конюшего. И даже если за ним увязывалась жена (в 1863 году он женился на Александре, дочери принца Датского), она ему не мешала, поскольку спать ложилась рано, так что Берти располагал массой свободного времени, чтобы расслабиться вне семьи, благо в столице Франции все к этому располагало.
Он ходил в «Фоли Бержер» (здесь он наконец-то увидел постановку, которую понял до конца), угощал танцовщиц шампанским и даже обнаружил, что парижский воздух излечил его от дефекта речи. Дома у него были проблемы с буквой «р». А здесь эти «р» слетали с его языка с такой же легкостью, как остроумные шутки, которыми восхищались все дамы.
В театре опасность того, что пьеса окажется заумной, компенсировалась удовольствием от лицезрения роскошной Сары Бернар. И однажды он даже приблизился к ней, выпросив для себя маленькую роль трупа, и потом лежал на сцене, в то время как «божественная Сара» оплакивала мертвого принца.
После театра он обычно отправлялся обедать в «Кафе Англэ», где однажды в качестве десерта была подана знаменитая английская девушка по вызову Кора Пирл, обнаженная и намазанная кремом. (А французы говорят, что английская кухня скучна.)
И нельзя сказать, что Берти предавался всем этим радостям тайком. Обычно он куролесил с компанией друзей из парижского Жокейского клуба и получал огромное удовольствие, представляясь принцем Уэльским. Дамы, едва заслышав его имя, становились куда более внимательными, а иногда даже предлагали ему развлечься с двумя сразу.
Однако довольно скоро слухи об извращенных забавах принца долетели до Лондона, где бульварные газетенки с радостью принялись смаковать пикантные подробности его подвигов. В 1868 году появилась карикатура на принца, покидающего Британию ради французской шлюхи. А одна из газет обвинила принца в том, что он демонстрирует неуважение к своему высокому статусу. Писали, что он как раз собирался выйти в свет, когда получил известие о кончине своего дальнего королевского родственника. Друзья спросили его, что им теперь делать. «Вставьте черные запонки, и идем в театр», — ответил принц. Королеву Викторию это вряд ли позабавило.
Берти приглашает Республику на ланч
В 1870 году Берти всерьез обеспокоился тем, что веселью может прийти конец. Разразилась Франко-прусская война, а мать Виктории происходила из немецкой семьи. Не заподозрят ли французы Британию в тайных пропрусских настроениях? И, что еще важнее, не откажутся ли патриотичные танцовщицы канкана демонстрировать ему свои чулки?
Берти сказал матери о том, что пришла пора наведаться в Париж с дипломатическим визитом, чтобы сгладить острые углы в отношениях между двумя странами. Викторию не так- то просто было одурачить — казалось, она всю жизнь умоляла его посидеть дома и взяться за ум, — но политики нашли идею принца здравой. Итак, он снова отправился в Париж, где окунулся в привычную жизнь, доказывая французам, что бритты по-прежнему их любят (предпочтительно, с участием трех партнеров).
Впрочем, он проводил и политические рауты, ублажая и одновременно раздражая весь Париж тем, что распивал шампанское с французскими роялистами, но отказывался произнести хоть слово против республиканцев. «У этих республиканцев, возможно, горячие головы, — убеждал он герцога, — зато благородные сердца».
Вполне ожидаемо, англо-французские отношения не пошатнулись, и вновь избранное республиканское правительство пригласило Берти принять участие в организации Всемирной парижской выставки 1878 года. Разумеется, он согласился и передал личную коллекцию индийских сокровищ для Британского павильона. Он так твердо настроился на эту поездку, что согласился отослать коллекцию даже после того, как страховщики отказались страховать ее. На открытии выставки кое-кто из республиканских депутатов попытался спровоцировать принца, воскликнув: «Да здравствует Республика!» Но Берти лишь рассмеялся: он не мог позволить политикам испортить праздник.
Тем временем разразился другой дипломатический кризис. Турки уступили Британии остров Кипр, и французы пришли в ярость, поскольку это усиливало позиции ненавистного Королевского флота в Средиземном море и угрожало нарушить хрупкий баланс сил в регионе.
Не стоит беспокоиться. Берти просто пригласил самого влиятельного (и самого республиканского) политика Франции, Леона Гамбетту, на ланч.
Желая сохранить эту встречу в тайне, принц послал за Гамбеттой экипаж. Поначалу беседа была сдержанной и вроде бы ни о чем. Берти поразил внешний вид мелкобуржуазного политика: Гамбетта носил вульгарные сапоги из лакированной кожи и плохо сшитый фрак, а его манеры за столом просто-таки ужасали. Гамбетта, в свою очередь, ожидал увидеть насмешливого сноба, аристократа наподобие французских дворян, но с английским акцентом.
Вступительная речь принца, казалось, подтвердила его опасения: Берти спросил, почему Франция не разрешает своим аристократам активно участвовать в жизни страны. Почему бы не сделать, как в Британии, и не давать звание пэров промышленникам и ученым? Нет, это не пройдет, ответил Гамбетта, потому что потомственный французский барон не станет говорить с герцогом от индустрии. Принц великодушно согласился с этой точкой зрения и сказал, что теперь он понимает французских республиканцев.
Потрясенный Гамбетта рассказывал потом, что ланч был потрясающим и что принц даже продемонстрировал «республиканское дружелюбие». Короче говоря, благодаря Берти стало совершенно невозможно сердиться на британцев из-за Средиземного моря, да и всего остального. В конце встречи Гамбетта скрепя сердце признал, что Франция все равно не может ничего предпринять в отношении Кипра. Берти соблазнил ведущего французского республиканца так же успешно, как он это проделывал с парижскими дамами.
Трон трону рознь
Принц пребывал в прекрасном настроении, и тому была причина. В театральном квартале города только что открыл двери новый центр притяжения, и самые дикие фантазии Берти имели все шансы стать реальностью.
«Ле Шабанэ» был борделем класса «люкс», финансировала его группа богатейших французских бизнесменов, а управляла заведением мадам ирландского происхождения. За его дверью скрывался мир оргазмического восторга. Все девочки выглядели на загляденье, не отличить от самых известных актрис, но и клиентов отбирали так же тщательно. Мужчины ведь приходили сюда не только за сексом, но и выпить шампанского под расслабляющие комплименты и ласки полуголых красавиц, блеснуть остроумием, а уж потом подняться наверх со своим трофеем в одну из пышно декорированных спален.
Все это не противоречило действующему законодательству — спасибо Наполеону Бонапарту, который легализовал дома терпимости еще в начале 1800-х годов. Написанный им закон обязывал работающих девушек проходить регулярное медицинское обследование, что делало проституцию не только легальной, но и безопасной. Мужчинам можно было не волноваться, что они принесут женам сифилис или другую заразу — или все-таки нет? Доктора зачастую были продажными и инфекцию диагностировали лишь в том случае, если мадам хотела от кого-нибудь избавиться. Кстати, при всей роскоши интерьеров в «Ле Шабанэ» не было даже душевых кабинок для девушек.
Клиенты, разумеется, не видели грязную сторону этого дела, и Берти влюбился в бордель с первого взгляда. Он зарезервировал приватную комнату и лично выбирал для нее декор. Он хотел иметь медную ванну, чтобы наполнять ее шампанским, и придумал знаменитое «кресло любви», на котором двое или трое партнеров — включая одного тучного англичанина — могли одновременно заниматься оральным сексом.
Это двухъярусное кресло с бархатной обивкой и позолотой было чудом инженерной мысли. Виктория могла бы гордиться своим сыном за такую преданность науке любви. Верхний ярус представлял собой сиденье с поручнями и стременами, так чтобы партнер номер один мог сидеть, раздвинув ноги. Ниже располагались подножки, которые позволяли второму партнеру стоять или сидеть на корточках перед обитателем верхнего этажа. Нижний уровень представлял собой длинный диван, где мог лежать третий партнер, подставляя лицо аккурат под гениталии второго партнера. Должно быть, ушло немало долгих, напоенных шампанским вечеров на то, чтобы придумать такое, а уж тем более точно рассчитать позиции.
Интересно, что «кресло любви» позже внесло свой вклад в международные отношения, как и Берти при жизни. Во время Второй мировой войны, когда высококлассные парижские бордели обслуживали исключительно нацистских офицеров, оккупанты решили не сдирать с кресла герб принца, «потому что его мать была немкой».
Но вернемся в 1878 год. Берти возвратился в Лондон, несомненно широко улыбаясь, и доложил об успешных переговорах с Гамбеттой, Форин-офис [100] выразил ему благодарность и поинтересовался, не угодно ли принцу выступать в роли дипломата на более постоянной основе. Берти предложили работу, о которой он мечтал всю жизнь.
В 1880-е годы принц продолжал жить в похоти и роскоши, однако начал раздражать небольшую, но влиятельную часть французского населения — тайную полицию, которой поручили присматривать за ним на случай, если он станет обмениваться бунтарскими идеями с роялистками (хотя «кресло любви» совсем не располагало к беседам). Агентам приходилось следить за ним и всеми его любовницами — работенка адская, чего уж там. Поэтому полиция, вероятно, вздохнула с облегчением, когда он стал привозить с собой в Париж английских любовниц, а вскоре пристрастился и к путешествующим американским наследницам, которые все-таки были гражданками республики.
Нельзя сказать, чтобы принц отдавал предпочтение какой-нибудь одной счастливице. Монмартр на рубеже порочных девяностых был не менее порочным, чем всегда. Парижские кокотки кутались в многослойные юбки, но, в отличие от своих викторианских сестер, не рассматривали одежду как щит целомудрия. Так один из биографов принца писал: «Платье было фортификационным сооружением. Каждый бастион приходилось брать штурмом, и капитуляция была подарком за осаду, что ей предшествовала».
Берти воевал с остервенением. Он завел роман с Ла Белль Отеро, испанской звездой «Фоли Бержер», чьи выдающиеся груди вдохновили создателей куполов-близнецов отеля «Карлтон» в Каннах (хотя трудно поверить, что они были столь велики, да еще серые и заостренные).
В «Мулен Руж» он ходил смотреть канкан в исполнении Ля Гулю (танцовщицу прозвали Обжора, потому что во время танца она успевала опустошить немало бокалов вина со столиков). Она вскидывала ногу высоко в воздух, так что ее юбки хлестали по лицам зрителей, и все могли видеть вышитое на ее панталонах сердечко. Ее коронным трюком было сбивать шляпы с головы сидящих в первом ряду посетителей, и можно себе представить, как близко к ее волнующим бедрам подбирались мужчины. Однажды вечером она заметила сидящего за столиком принца и выкрикнула: «Привет, Уэльс! Купишь мне шампанского?» Нет нужды говорить о том, что он это сделал, хотя и был слегка шокирован тем, что она обратилась к нему на «ты».
«Сердечное согласие» достигает кульминации
В 1901 году умерла королева Виктория, с именем Берти на устах. Перед смертью она пожелала, чтобы принц сохранил оба своих первых имени в память об ее любимом муже Альберте, но Берти решил называть себя просто: король Эдуард. Два имени, сказал он, это слишком по-французски.
Похороны матери и организация собственной коронации отняли слишком много времени, и новый король смог вернуться в Париж лишь в мае 1903 года. Как главе государства ему уже не пристало передвигаться с конюшим и прятаться в «Ле Шабанэ», так что это был официальный визит по весьма существенному политическому поводу. Франция по-прежнему высказывала недовольство по поводу колониальной войны, которую вели бритты в Южной Африке против буров, и весьма подозрительно относилась к возможному сближению Британии и Германии — новый король Англии и кайзер были кузенами, и после смерти Виктории эта родственная связь стала еще теснее.
Поэтому Берти высказал предложение Форин-офису съездить во Францию и провести «кое-какую дипломатию». Департамент возражал, так же как и немцы, которых очень устраивала напряженность в отношениях двух ведущих европейских держав, но зов Парижа был слишком силен, и Берти поступил по-своему.
Однако, когда он прибыл в Париж, настроение у него резко упало. Ситуация складывалась угрожающая. Он ехал по Елисейским Полям, и его встречали криками «Да здравствуют буры!». Единственным бриттом, кто удостоился радостного приветствия, оказался армейский офицер, которого по ошибке приняли за бура, поскольку он был в форме цвета хаки. Один из сотрудников посольства мрачно произнес: «Французы нас не любят». «Ну почему же?..» — сказал Берти, решив, что эта поездка потребует от него еще больше шарма, чем обычно.
И в тот же вечер, выступая с речью в Британской торговой палате, он произнес слова, которых никогда еще не слышали от британского монарха. Берти сказал:
«Божественное провидение сделало Францию нашим ближайшим соседом и, я надеюсь, нашим добрым другом навсегда. Возможно, в прошлом между нами и были недопонимание и причины для взаимного недовольства [мягко сказано], но все эти разногласия, я полагаю, счастливо забыты, и я верю, что дружба и восхищение, которое все мы испытываем к французской нации и ее славным традициям [тут он, вероятно, имел в виду скорее „Фоли Бержер“ и „Ле Шабанэ“, а не Революцию и Наполеона], в ближайшем будущем перерастут в чувство самой теплой любви между народами наших стран и преданности друг другу».
А тем временем в Лондоне, должно быть, содрогалась земля под Вестминстерским аббатством, когда Эдуард III, Генрих IV, Елизавета I, Вильгельм Оранский и остальные почившие в бозе монархи переворачивались в своих могилах.
Но даже эта елейная речь Берти не помогла покорить парижан. Дипломатической ошибкой стал его поход в театр, где давали прореспубликанскую пьесу, и впервые в жизни ему пришлось удержаться от аплодисментов актрисам. Хуже того, он договорился, что на спектакль придет Ла Белль Отеро, но управляющий театром не пустил ее на порог. Берти получил не только политическую, но и личную оплеуху.
К счастью, прохаживаясь в фойе во время антракта, он заметил французскую актрису, с которой был знаком (а знаком он был со многими). Берти подошел к ней и сказал, что помнит, как аплодировал ее выступлениям (гм!) в Лондоне, где она «представляла всю грацию и дух Франции». Он произнес это по-французски, разумеется, и его слова вскоре цитировало все парижское высшее общество.
Он не утратил наступательного обаяния и на следующий день, в Отель-де-Виль, где рассказывал гостям: «Могу вас заверить, что я с величайшим удовольствием каждый раз возвращаюсь в Париж, где ко мне относятся так, что я чувствую себя как дома». Врал, конечно, — ни его мать, ни жена никогда не позволили бы ему установить у себя в спальне кресло любви.
И наконец, благодаря неотразимому обаянию и дружелюбию Берти (и, возможно, некоторой моральной поддержке со стороны парижанок) отношение к его визиту начало меняться. Речь, произнесенную накануне в Торговой палате, взахлеб пересказывала восторженная французская пресса, и, когда Берти покидал Париж, его провожали возгласами «Да здравствует король!». Он в одиночку сумел переломить дипломатическую ситуацию. Такое впечатление, что многолетние обеды с шампанским и кутежи в борделях начали приносить плоды. Он отшвырнул политические разногласия, как нижние юбки кокоток с Монмартра. Он соблазнил французов, сделав их своими любовниками, и собрал вокруг себя, восседая на дипломатическом «кресле любви».
На бумаге «Сердечное согласие», подписанное годом позже, 8 апреля 1904 года, британским министром иностранных дел, лордом Лансдоуном, и французским послом в Британии, Полом Камбоном, было всего лишь договором о невмешательстве в колониальные проказы обеих сторон в Марокко и Египте, с отдельным пунктом, ограничивающим французские рыболовные права в Канаде. И это было все-таки согласие — скорее понимание, а не альянс, — и к тому же сердечное — вежливое, но ни в коем случае не дружеское. Это как если бы два соседа договорились больше не сбрасывать обрезки живой изгороди друг другу на лужайки. Но это не означало, что они собирались приглашать друг друга на барбекю.
Однако в коллективном сознании французов и британцев это был жизненно важный прорыв, обещание подружиться в будущем. И достигнуть его удалось усилиями Эдуарда VII, короля, прежде известного как Грязный Берти.
Потому что, по сути, «Сердечное согласие» — договор, который определил англо-французские отношения на следующий век (по крайней мере), — родилось в приватном номере шикарного парижского борделя. Не будет ошибкой сказать, что «Согласие» — это лишь политическая метафора тех сложных переплетений тел, что повидали на своем веку медная ванна Берти и его эксклюзивная эротическая мебель.
В самом деле, Vive le roi. Да здравствует король!
Глава 18 Старые враги сражаются бок о бок (первый и последний раз)
Первая мировая война, в ходе которой англоговорящие солдаты уходят по-английски, осваивают презерватив и распевают непристойные песенки про мадемуазель
Август 1914 года… Французы, наверное, испытывали очень странное ощущение. Британские войска пересекали Ла-Манш, но (впервые) не для грабежа и насилия. И их винтовки не были нацелены на французов. В течение десяти веков британская армия только и делала, что искала возможность напасть на Францию, и вот теперь британцы торопились защитить французов.
Но и для бриттов все происходящее было внове. Несколько десятилетий назад они сражались на одной стороне с французами, в Крыму, но то была скорее колониальная экспедиция; на этот раз военные действия разворачивались на европейском континенте, в местах былых сражений — в Северной Франции и Фландрии. И снова солдат ждали Креси и Азенкур, только теперь англичане воевали бок о бок с французами. Все это было очень подозрительно, как будто бы герцог Веллингтон в разгар битвы при Ватерлоо вдруг перешел на сторону противника и ринулся в атаку на пруссаков. Многие гадали, как долго продлится такое партнерство…
Британское правительство понимало, что стотысячное войско англоговорящих солдат, надвигающееся на Францию, может шокировать местное население, поэтому решило действовать мягко. В августе 1914 года первыми из британских войск на континент высадились шотландцы: в сознании французов они ассоциировались с давним франко-шотландским альянсом и любимицей Франции, Марией Стюарт. Мужчины в килтах прошли парадом по улицам Булони, играя на волынках «Марсельезу». Толпы местных жителей, должно быть, подумали: да, это будет необычная война, на грани сюрреализма.
Дипломатический градус повысило и назначение командующим Британскими экспедиционными силами (БЭС) фельдмаршала сэра Джона Френча. Он не только имел идеальную фамилию [101], но и был поклонником Наполеона и страстным коллекционером наполеоновских реликвий.
Тактика сработала (по крайней мере, поначалу): французы восторгались тем, что бритты встали на их защиту. Один английский офицер-артиллерист позже вспоминал, что его подразделение, когда оно двигалось по стране, повсюду встречали цветами. «Грузовики выглядели карнавальными экипажами, — говорил он. — Нас задаривали фруктами, сигаретами, шоколадом, хлебом». А когда он заглянул в магазин, желая купить защищающие от пыли очки, продавец отказался брать с него деньги. Кто-то даже пригласил его на ланч.
Впрочем, бесплатные ланчи длились недолго. Очень скоро популярность бриттов сошла на нет. Наступающие немцы, может, и не получали столько букетов, сколько БЭС, но довольно резво продвигались по Бельгии, приближаясь к Франции. Кайзер приказывал игнорировать французов и сосредоточиться на том, чтобы «отрезать коварных англичан и опередить презренную армию сэра Джона Френча».
В этом им помог сам сэр Джон. Может, он и коллекционировал книги Наполеона, но явно их не читал, потому что тактик из него получился никудышный. Первое, что он сделал, это повел свои войска в Бельгию, несмотря на предупреждения о том, что в этом случае он окажется отрезанным от сил союзника и станет уязвимым для врага. Немцы, естественно, отогнали его назад, заставив БЭС бросить большинство своих грузовиков, которые французы еще недавно осыпали цветами.
Отступая, бритты вспомнили о своей давней мародерской привычке, опустошая сады и фермы, набивая обозы курами, яйцом и молоком, воруя уголь и даже разбирая целые фермерские строения на дрова. Столетняя война возвращалась.
Хуже того, отступление бриттов тотчас возродило англо-французское недоверие. Французы злились на сэра Джона за то, что тот отказался от сопротивления, в то время как британский фельдмаршал оправдывался, что его вынудили к отступлению французы, которые оставили его людей без прикрытия. В конце концов сэра Джона пришлось убеждать французским командующим и британскому военному министру, лорду Китченеру, не сваливать вину за провал на других и маршировать прямиком в Булонь.
И пока шла перебранка двух союзников, немцы спокойно вошли во Францию. К началу сентября, в течение всего нескольких недель после начала Первой мировой войны, они уже были в 50 километрах от Парижа, и перспектива осады наводила ужас на столичных жителей.
Не такой уж веселый Париж
Всего сорок три года назад, осенью 1870 года и зимой 1871 года, Париж пережил Четырехмесячную осаду пруссаков. С сентября по январь армия Отто фон Бисмарка стояла лагерем в пригородах Парижа и обстреливала город. Голодающие парижане дошли до того, что ели собак, кошек, крыс, животных из зоопарка; печально знаменитое ресторанное меню Рождества 1870 года, девяносто девятого дня осады, предлагало фаршированную Ослиную голову, террин из антилопы, жареного верблюда по-английски и консоме из слона. Осада завершилась капитуляцией французов и временной оккупацией Парижа пруссаками, а победная церемония проходила в Версальском дворце. Все это еще живо помнили многие жители французской столицы летом 1914 года.
Зажигательные дни (и ночи) Парижа времен наездов Эдуарда VII остались в прошлом. Страх перед войной был настолько силен, что от знаменитого веселья не осталось и следа задолго до того, как прогремел первый выстрел, и Париж как будто впал в зимнюю спячку. Было объявлено военное положение, открытые кафе убрали с улиц, продажу абсента запретили (страна нуждалась в трезвых мужчинах), в кабаре не разрешали играть музыку. Танцовщицы повесили на вешалки свои пышные юбки, и для девушек с Монмартра наступили тяжелые времена безработицы — большинство их молодых клиентов исчезло, получив призывные повестки. На улицах остались лишь мальчишки, старики, немного американских туристов и полицейские патрули — в Париже опасались, что немецкие шпионы уже проникли в город, планируя очередную осаду.
К счастью для Парижа, захватчиков остановили на реке Марна — бои переместились в провинцию, и солдаты на несколько лет зарылись в землю.
Зарылись по-настоящему, потому что к концу 1914 года семисоткилометровая линия окопов протянулась от побережья Бельгии до швейцарской границы, и все сражения Первой мировой войны, как известно, начинались с усиленных бомбардировок, которые сравнивали с землей не только окопы, но и все близлежащие французские и бельгийские города. За артподготовкой шла пехота, усеивая некогда занятую пашнями и садами землю пулями, шрапнелью и мертвыми телами. Выжившие в этой бойне снова зарывались в землю, и все начиналось сначала. Францию защищали и в то же время уничтожали.
Затяжная окопная война изменила отношение французов к британским гостям. Да, местное население радостно одаривало томми цветами, шоколадом и пылезащитными очками, когда думало, что бритты задержатся не дольше, чем на ланч. Даже Рождество не казалось такой далекой перспективой. Но вскоре стало ясно, что англичане собираются гостить бесконечно, а с ними оззи, киви, солдаты других колониальных войск, а потом и присоединившиеся американские пончики [102]. К концу войны во Франции оказалось свыше двух миллионов солдат союзнических войск, и почти все они разместились по частным домам.
Даже в начале войны, когда французское общество с восторгом принимало союзников, размещение иностранных солдат на постой проходило не так уж гладко. Все дело в том, что многие солдаты британской регулярной армии прежде служили в колониях, а потому относились к своим французским хозяевам не лучше, чем к индийцам и африканцам, с которыми не привыкли церемониться. Что уж скрывать, зачастую британцы видели в сельских жителях Франции примитивных дикарей.
Французы реагировали на это вполне предсказуемо: они спекулировали. Зная, что в любой момент они могут подвергнуться бомбардировке или наступающие немцы выселят их из дома, они старались выжить, как умели. И хотя это служило некоторым оправданием местного населения, его стремление извлечь личную выгоду из ситуации приводило в бешенство томми и их комрадов.
Американец Артур Гай Эмпи, вступивший в 1915 году в союзническую армию, создал едкий глоссарий по спекуляции, который изложил в своей книге «В атаку!». Вот несколько примеров.
Allumettes: французский термин, обозначающий то, что французы продают томми под видом спичек, которые своими серными испарениями могут удушить целый взвод.
Estaminet: французский публичный дом или салун, где грязная вода продается как пиво.
Vin Rouge: французское вино из уксуса и красных чернил. Томми платят за него хорошие деньги.
Vin Blanc: французское вино из уксуса. В него забыли добавить красные чернила.
Voulez-Vous Coucher Avec Moi Ce Soir? [103]
Однако некоторые особые формы спекуляции вовсе не вызывали возражения у солдат.
Когда первая часть британских войск прибыла в Булонь, они были вооружены письмом от военного министра, лорда Китченера, призывающим их «быть храбрыми, любезными, обходительными (не более того) с женщинами». Китченер был из поколения Эдуарда VII и знал все о французских мадемуазелях. Но он также, будучи генералом, руководил британской армией во время Англо-бурской войны, и знал, насколько неучтивыми могут быть его солдаты, когда оккупируют чужую страну (по его же приказу, между прочим).
Впрочем, томми получали и другие советы насчет того, как вести себя с француженками. Доклад военного времени, опубликованный Национальным советом французских женщин, осуждает британский буклет «Пятиминутный разговор с молодыми дамами», который учил солдат применять на практике наставления Китченера. «Эта мерзкая книжонка, — говорилось в докладе, — насаждает безнравственность», в солдатском же разговорнике приводятся фразы: «Не хотите ли аперитив?», «Позвольте поцеловать вам ручку», «Где вы живете?». От «Бонжур» до «Давайте к вам домой» за пять минут — в самом деле, чересчур быстро, даже по французским меркам.
Тот же доклад критиковал американских солдат в Париже, которые «довольно грубо обращаются к женщинам на улице, не задумываясь о том, кто перед ними». И не то чтобы парижанки роптали — докладчицы шокированы тем, как «юные девушки охотно идут на контакт под предлогом, что говорят по-английски».
Словарного запаса этих девушек наверняка хватало на то, чтобы поторговаться о цене. Проституция «как подработка» процветала во Франции в годы Первой мировой войны, что вызывало справедливое возмущение французских солдат, которые подозревали, что их жены и невесты демонстрируют, пожалуй, излишнее гостеприимство по отношению к иностранцам. Конечно, для многих вдов это был способ выжить — хоть как-то свести концы с концами после смерти мужа где-то в окопах. Благо чужеземных мужчин хватало, чтобы помочь домовладелице или официантке пополнить свой доход.
В конце концов Китченеру пришлось признать поражение в войне полов и претворить в жизнь идеи Наполеона. Бонапарт в свое время легализовал бордели во Франции и других странах империи, чтобы защитить своих солдат от венерических болезней, и бритты воспользовались его законом, чтобы создать собственные дома терпимости — с голубыми фонарями для офицеров и красными — для служивых рангом пониже. Армия численностью более 50 000 француженок из постели поддерживала британские военные усилия.
В своих военных мемуарах «Простимся со всем этим» Роберт Грейвс предлагает совсем не романтическое описание одного из борделей: «В очереди на улице человек сто пятьдесят мужчин, ожидающих короткого сеанса с одной из трех женщин внутри… брали по десять франков с человека [что составляло почти двухнедельное жалованье рядового солдата]. Каждая женщина за неделю обслуживала примерно по батальону, пока у нее хватало сил». По словам помощника начальника военной полиции, сил у нее хватало на три недели, «после чего она уходила на честно заработанную пенсию, бледная, но гордая».
На самом деле Грейвс (он же и есть помощник начальника военной полиции) несколько приукрашивает действительность, потому что батальон мог составлять до 1000 солдат, и получается, что женщина за день обслуживала около пятидесяти клиентов. Ни одно человеческое тело не сохранит «гордость» после такой атаки — особенно со стороны мужчин, которые, не по своей вине, были вынуждены страдать от отсутствия элементарной личной гигиены.
Солдаты союзнических армий увековечили французскую женщину в песенке «Parley-vous» [104]. Насчет авторства оригинала точных данных нет (говорят, что песенку сочинил француз еще в 1830-е годы), но в годы Первой мировой «Parley-vous» жила своей жизнью, и ее пели на все лады. Вот лишь маленькая подборка солдатских куплетов, чтобы вы могли составить представление о том, как высоко ценили мадемуазель в войсках альянса.
Мадмуазель из Армантьер, парлеву, Мадмуазель из Армантьер, парлеву, В городе нет трудолюбивей девиц, Но вот зарабатывает она вверх-вниз, Хинки-динки, парлеву? Мадмуазель из Армантьер, парлеву, Мадмуазель из Армантьер, парлеву, Она делает это за вино и за ром, Иногда за шоколад и за жвачку, Хинки-динки, парлеву? Ты забываешь про газ и шрапнель, парлеву, Ты забываешь про газ и шрапнель, парлеву, Ты забываешь про стоны и крики, Но никогда не забыть мадмуазель, Хинки-динки, парлеву?Пушки смолкли в 11 часов утра 11 ноября 1918 года, жестоко обойдясь с теми, кто был убит в промежутке между полуночью и одиннадцатью утра. В любом случае, конец войны наступил слишком поздно для 8,5 миллиона погибших и 21 миллиона раненых.
Мир оказался такой же дележкой, как и сама война; единственный лидер союзников, кто вышел с незапятнанной честью из этого позорища, был американец — президент Вудро Вильсон. Его шокировала та бойня, что устроили так называемые великие европейские цивилизации, втянувшие мир в дикое варварство. Он настаивал на всеобщем разоружении, вступлении в новую Лигу наций и на гарантии самоопределения для маленьких европейских государств, которых проглотили великие державы.
Британский премьер, Ллойд Джордж, полагал, что союзникам не стоит либеральничать с немцами. Он хотел подвергнуть Германию примерному наказанию, одновременно сохранив эту страну достаточно здоровой, чтобы у нее хватало сил оберегать Европу от новой коммунистической угрозы в лице России.
Впрочем, французы были одержимы идеей поставить Германию на колени. Сохранивший воспоминания о Франко-прусской войне французский премьер-министр, семидесятисемилетний Жорж Клемансо, стремился ослабить Германию, чтобы ей уже никогда не повадно было вновь нападать на Францию, — тем более непонятно, почему он настаивал на таком суровом мирном договоре, который заставил немцев вернуться всего через двадцать лет, чтобы отомстить.
Клемансо заявил, что миротворец Вильсон и антикоммунист Ллойд Джордж лишь тратят время впустую, рассуждая о высокой политике. «Я чувствую себя между Иисусом Христом, с одной стороны, и Наполеоном Бонапартом — с другой», — язвил он. И не подумайте, что Клемансо хотел кому- то польстить: убежденный антибонапартист, он в молодости даже сидел в тюрьме как оппозиционер Наполеона III. Он был категорически против любых уступок немцам в ходе войны и приложил руку к тому, чтобы бывшего французского премьера, Жозефа Кайо, арестовали за предложение о капитуляции.
Клемансо добивался кое-чего более существенного, чем мир, — репараций. Германия, говорил он, обязана заплатить за каждый французский дом, сарай и репу, уничтоженные войной. Согласно Версальскому договору, немцы должны были возместить все убытки, причиненные «пострадавшим лицам и тем, которые остались после них и которые состояли на иждивении этих гражданских лиц, всякими военными действиями, включая бомбардировки или иные нападения на суше, на море или с воздуха, и всякими их прямыми последствиями или всякими военными операциями обеих групп воюющих, в каком бы месте то ни было».
Эта последняя фраза подразумевала, что Германия должна выплатить компенсации всем французам, пострадавшим и от бомбардировок союзных войск.
Желая дать людям время подсчитать, сколько родственников, строений и репы они потеряли, Клемансо настоял на том, чтобы в договоре не была зафиксирована сумма компенсаций: немцы должны были подписать пустой чек с обещанием выплатить любые суммы, которые союзники запросят позднее. И когда счет наконец был выставлен, цифра поразила воображение: 226 миллиардов марок — сумасшедший оброк, приведший Германию к дефолту уже в 1922 году.
Клемансо очень хотелось пощипать и германскую торговлю, поэтому в договор включили условие, согласно которому Германия обязалась принимать весь импорт из союзных государств. Клемансо бесило, что перочинные ножи с гравировкой La Victoire («Победа»), продаваемые во Франции, были изготовлены в Германии. Экспортные потоки, решил он, надо переориентировать [105].
Короче говоря, Клемансо добивался полного и окончательного унижения Германии, и немцы затаили такую злобу, что всерьез подумывали о том, чтобы вернуться в окопы и снова начать войну. Подал в отставку германский канцлер, а министр иностранных дел, подписавший Версальский договор 28 июня 1919 года, Герман Мюллер, был назван предателем. Даже американцы решили не ратифицировать договор.
Французы, принудившие Германию расписаться в собственном банкротстве, праздновали победу, и после церемонии подписания договора Клемансо, выходя из зала и широко улыбаясь, произнес: «Какой замечательный день».
Он не догадывался о том, что породил бурю, которая накроет Францию всего через каких-то двадцать лет и испортит не только погоду.
Жанна д’Арк восстает из пепла
Как только завершились переговоры по Версальскому договору, французы воспользовались возможностью позлить недавнюю союзницу, Британию, воскрешением Жанны д’Арк.
Ее образ оживил еще Наполеон в начале 1800-х годов, а потом это повторилось в 1870-е годы, когда пруссаки захватили Эльзас и Лотарингию, родину Жанны. Однако и наполеоновские, и франко-прусские войны закончились поражением Франции, так что магия Жанны не сработала.
И только на рубеже веков, когда организация под названием «Аксьон франсез» [106] (группа правых монархистов-католиков) вступила в борьбу против социалистического правительства Франции, вновь зазвучало имя Жанны как серьезного кандидата на канонизацию. Папа Римский, Пий X, поддержал «Аксьон франсез» и принял петицию о причислении «орлеанской ведьмы» к лику святых.
Слушания проходили в Ватикане, и было высказано немало серьезных возражений против канонизации. Начать с того, что Жанна на самом деле не собиралась умирать за веру, и, стало быть, ее нельзя рассматривать как истинную мученицу. К тому же она убила немало людей в ходе сражений — разве это по-христиански? Кардиналов беспокоил и тот факт, что в некоторых описаниях жизни Жанны свидетели-мужчины делали замечания об ее грудях, которые удавалось углядеть, когда она переодевалась из мужской одежды в женское платье. Можно ли считать ее святой, если она позволяла мужчинам пялиться на свои сиськи?
Но канонизация Жанны представлялась политической необходимостью как для Папы, так и для «Аксьон франсез», и эти возражения отмели. Нашлись и три обязательных чуда — весьма кстати три французские монахини поклялись, что излечились с помощью молитв, обращенных к Жанне, в том числе и от язвы ног, — и ее объявили бы святой уже в 1914 году, если бы не разразившаяся Первая мировая война, которая прервала процедуру.
Однако, как только смолк грохот орудий, Франция, которой срочно понадобилась героиня, чтобы стать символом победы и стереть из памяти жуткие воспоминания о бойне в окопах, возобновила давление на Ватикан, и в мае 1920 года официально появилась святая Жанна д’Арк.
Да-да, спустя полтора года после того, как Британия пожертвовала целым поколением молодых мужчин, защищая от захватчиков родину Жанны д’Арк, французы выбрали себе антианглийского святого покровителя. Merci beaucoup, les amis[107].
Более того, Жанна стала не только святой покровительницей всей Франции, но и — согласно многим, слегка противоречивым источникам — защитницей солдат, заключенных, похоронных дел мастеров… и англофобов.
И одним из наиболее преданных ее почитателей стал высокий французский солдат с большим носом, которому вскоре предстояло последовать примеру Жанны и не на шутку разозлить англосаксов…
Глава 19 Вторая мировая война, часть первая
Ни слова о Дюнкерке
Сублимированная французская версия Второй мировой войны выглядит примерно так…
В 1940 году немцы хитростью проникли за линию Мажино. В Дюнкерке они опрокинули в море слабаков англичан, а потом временно оккупировали Францию (но только полстраны). Тем временем генерал де Голль находился в Лондоне, где втолковывал Черчиллю, как следует вести войну. Старый толстый бритт тянул время, но, к счастью, на французской стороне выступила Америка, и договорились о том, чтобы высадиться в Нормандии и соединиться с силами Сопротивления, которые уже провели подготовительную работу — расчистили дорогу на Париж, подорвав все железнодорожные мосты. Согласны, с мостами, конечно, вышел перебор, но это не важно, потому что французскую столицу к тому времени уже освобождал генерал Леклерк и его танки, после чего война закончилась, если не считать некоторой заминки в Германии (где русские с американцами все сделали неправильно — даже не смогли взять Гитлера живым). Ну да, была еще какая-то заваруха в Хиросиме, которая положила конец конфликту в Азии, что, в общем- то, не имеет особого значения, поскольку это так далеко от Франции.
Конечно, это преувеличение, но лишь до некоторой степени. Если заговорить с французами о Deuxième Guerre [108], сразу становится понятно, что мы оцениваем события того времени совершенно по-разному. И самое смешное, что противоречия и неразбериха существовали и в те годы, с 1939-го по 1945-й. Вот лишь несколько не искаженных преувеличениями цитат, которые свидетельствуют о том, насколько сложными были отношения между Францией, Британией и США.
Черчилль о де Голле: «Он выглядит, как самка ламы, которую неожиданно застали во время купания».
Де Голль о бриттах: «Англия, как и Германия, наш традиционный враг».
Рузвельт о де Голле: «Капризная невеста».
Де Голль о попытках бриттов и американцев освободить оккупированные нацистами французские колонии: «Мы должны предупредить народы Франции и всего мира об англосаксонских империалистических планах».
А мы-то думали, что это были союзники.
Отрывайся, как в тридцать девятом
В годы между войнами бритты и американцы делали все что хотели, только не раздражали французов. Au contraire[109].
Американка Пегги Гуггенхайм, дочь богатого промышленника, привезла во Францию свои доллары и практически собственноручно профинансировала искусство французского авангарда.
Афроамериканская эротическая танцовщица Жозефина Бейкер вытащила «Фоли Бержер» из депрессии и восстановила довоенный статус Парижа как мировой столицы секса. Ее танец в знаменитой банановой юбочке сегодня, может, сочли бы «неформатом», но тогда, в середине 1920-х годов, эта бойкая, нахальная девчонка из Миссури стала настоящей звездой Парижа и символом страны, свободной от расовых предрассудков. Вслед за ней массово потянулись в столицу Франции чернокожие музыканты, прививая французам любовь к джазу, которая не померкла до сих пор.
Англоговорящие писатели тоже не остались в стороне и устремились во Францию. Генри Миллер написал знаменитый роман «Тропик рака» в Париже, превратив его в столицу не только секса, но и алкоголя. Приехали Джеймс Джойс и Сэмюэл Беккет, и Париж стал новым эпицентром ирландской литературы. Наконец нагрянул Эрнест Хемингуэй и возвел в культ мачизм. (Джордж Оруэлл тоже заглядывал, чтобы пропустить рюмашку-другую в убогих парижских ресторанчиках, но это не так глубоко отпечаталось в богемном сознании французов.)
К 1940 году Франция стала столицей современной западной культуры, и обидно, что нацистские лавочники пришли и испортили такую идиллию.
Последняя линия обороны
Богема, может, и наслаждалась межвоенным затишьем, но в мире большой политики все было не так безоблачно, особенно в том, что касалось англо-французских отношений.
Франция увидела в восхождении Гитлера прямую угрозу своим завоеваниям, закрепленным Версальским договором. Исполненная решимости противостоять потенциальному агрессору, она поспешила построить [110] линию фортификационных сооружений, возвращаясь к временам Первой мировой — только на этот раз речь шла не просто об окопах, а о мощном оборонительном рубеже, призванном предотвратить вторжение Германии в Эльзас и Лотарингию. Система укреплений получила название «линия Мажино», по имени военного министра Андре Мажино. Да-да, даже в мирное время Франция сохранила пост военного министра.
Тем временем бритты просто наблюдали за возней на континенте, наивно надеясь, что напряженность сама собой спадет и все спокойно соберутся за чашкой чая. Поначалу они отреагировали на возвышение нацизма вежливым предложением герру Гитлеру рассмотреть возможность некоторого ограничения вооружений — и это привело французов в ярость, поскольку по Версальскому договору Германия вообще не имела права вооружаться.
В марте 1936 года Гитлер прощупал зыбкую англо-французскую почву, оккупировав Рейнскую область — историческую область по среднему течению Рейна, которая по договору должна была оставаться демилитаризованной.
Он послал небольшое войско из 3000 человек посмотреть, что будет, и результат превзошел все его ожидания: Франция взвыла, но не захотела вторгаться в Германию, боясь спровоцировать начало новой войны. Черчилль, в ту пору еще не премьер, добавил приятности, сказав: «Я надеюсь, что французы позаботятся о собственной безопасности, и нам будет позволено жить спокойно на нашем острове». Посыл был ясен: снова защищать Францию не намерены, мерси.
Решая для себя вопрос, стоит ли дать отпор Гитлеру, Британия и Франция столкнулись с общей проблемой: дело в том, что руководящие политики и генералы обеих стран прошли школу Первой мировой войны. Еще не прошло и двадцати лет с тех пор, как завершилась эта бойня. Школьные друзья были убиты, калеки все еще попрошайничали на улицах, а военные вдовы выдавали замуж и женили детей, не знавших своих отцов.
Но реакция двух стран на сложившуюся ситуацию была диаметрально противоположной. Бриттов серьезно беспокоила антигерманская истерия, нагнетаемая Францией. Британия даже испытывала вину из-за кровожадности Версальского договора, в то время как Францию крайне раздражала короткая память британцев. Тем временем Америка мудро решила держаться в стороне от всей этой старомодной европейской тусовки: она еще только оживала после Великой депрессии, и, чтобы снова не обанкротиться, ей была совсем не нужна война.
Все это объясняет, почему Мюнхенская конференция в сентябре 1938 года с участием Франции, Британии, Италии и Германии обернулась фарсом.
Мотивом к созыву саммита стало желание Гитлера получить от международного сообщества разрешение «вернуть» Германии Судетскую область, заселенную преимущественно немцами и ставшую частью Чехословакии по итогам Первой мировой войны. Французский премьер Эдуард Даладье сказал твердое «нет» и предупредил британского коллегу, Невилла Чемберлена, что, «если западные державы капитулируют, они лишь ускорят начало войны, которой все хотят избежать». Даладье даже предсказывал, что Гитлер стремится к «такому господству в Европе, по сравнению с которым меркнут даже амбиции Наполеона». Довольно смелое заявление, тем более для француза.
Впрочем, Чемберлену очень хотелось верить Гитлеру, который твердо обещал, что, как только Германия получит Судеты, в Европе снова воцарится мир. Шестидесятидевятилетний политик старой школы, Чемберлен уже навещал Гитлера в его альпийском поместье в Берхтесгадене (впервые в жизни поднявшись в воздух на аэроплане), и по возвращении в Лондон старый англичанин объявил, что они имели «дружескую» беседу. Он заверил Даладье в искренности намерений Гитлера, и ему все-таки удалось убедить француза не противиться просьбе фюрера о «последнем в истории вторжении».
Так что сама по себе конференция, состоявшаяся в Мюнхене 29 сентября 1938 года, по сути была лишь формальностью, скрепленной подписями и печатью. Британская и французская делегации даже не встретились, чтобы обсудить свою стратегию. На фотографиях, сделанных непосредственно перед подписанием соглашения, Чемберлен выглядит помесью франта и удивленного цыпленка, у Даладье такой вид, будто кто-то собирается его подстрелить (в политическом смысле так и было), Муссолини ломает голову, то ли ему отрыгнуть, то ли надуть губы, а Гитлер воплощает полное спокойствие. Это была свадьба на скорую руку, где Франция и Британия выступали в роли невест, а Гитлер был женихом, которому разрешили свозить в свадебное путешествие в Лас-Вегас своего дружка, Муссолини. (Разумеется, с проживанием в отдельных номерах.)
Хуже того — во всяком случае, с точки зрения французов, — на следующее утро Чемберлен имел приватную встречу с Гитлером, во время которой они подписали двусторонний пакт о ненападении, даже не упомянув в договоре Францию.
После этого Чемберлен отбыл домой, приземлившись на аэродроме Хестон под Лондоном (позже использовался как база для истребителей «Харрикейн», «Спитфайр» и бомбардировщиков Б-17). Выйдя из самолета, он помахал встречавшей его толпе листком бумаги, подписанным в то утро Гитлером, и произнес знаменитые слова о том, что привез «мир для нашего времени» [111]. Намеренно не упоминая о французских союзниках, Чемберлен продолжил: «Мы рассматриваем подписанное соглашение… как символ желания двух наших народов больше никогда не воевать друг с другом». Британцы и немцы, пообещал он, будут работать вместе над «укреплением мира в Европе». В тот же день он произнес еще одну речь, призывая всех идти домой и спать спокойно. Пройдет меньше года, и те же люди будут спать далеко не так спокойно в бомбоубежищах.
Конечно, легко брюзжать, оценивая прошлое с высоты дня сегодняшнего. На архивных кинопленках Чемберлен выглядит милым стариканом, который хочет, чтобы все были друзьями. Но пока он произносил оптимистическую речь в Хестоне, в толпе стоял человек помоложе, репортер или полисмен в штатском, и слушал премьера скептически, не проникаясь всеобщей эйфорией и не аплодируя. Он был одним из тех, кому в скором времени предстояло воевать.
А по ту сторону Ла-Манша Даладье, как и Чемберлена, встречали по возвращении из Мюнхена как героя. Однако выглядел он не столь радостно, и розовых очков на нем не было. Глядя на восторженные толпы, он, должно быть, сказал в сердцах помощнику: Ah, les cons. Идиоты.
И когда менее чем через год Гитлер напал на Польшу и Чемберлен заявил, что Британия и Германия прерывают дружеские переговоры, резонансом прозвучал хор французских политиков: «А мы ведь предупреждали». Но Даладье недолго оставалось ворчать. В 1940 году он был арестован пронацистским французским режимом и позже сослан в концлагерь Бухенвальд. Он оказался в числе очень немногих узников, кому удалось выжить.
Короткая вылазка во Францию
Британия и Франция вступили в войну, не будучи лучшими союзниками, и все началось так же, как в 1914 году, — с общей катастрофы.
Армия, которая отправилась через Ла-Манш противостоять вторжению Германии во Францию, называлась Британские экспедиционные силы (как и скромная компания солдат, переброшенная на континент с той же целью осенью 1914 года). Хуже кармы не придумаешь — разве что если бы БЭС назвали Королевской армией неудачников.
Британские силы, численностью примерно 400 000 солдат с оружием времен Первой мировой войны и амуницией охотника на кроликов, прибыли осенью 1939 года, чтобы сыграть свою роль в генеральном плане французского командования по защите границ Франции от нападения с востока — закрыть брешь между линией Мажино и побережьем Ла-Манша.
И французский план сработал, но лишь до известной степени: когда немцы 10 мая 1940 года начали проводить блицкриг, линия Мажино осталась ненарушенной, поскольку нацисты попросту проигнорировали ее и вошли во Францию через боковую дверь. Легкие танки «Панцер» проскочили через Арденны (про которые Франция заявляла, что они непроходимые) и окружили британские и французские войска, которые ожидали атаки с севера.
Французы, вполне предсказуемо, намеревались окопаться и защищать Париж, но бритты быстро разобрались, к чему все идет. Уинстон Черчилль — его назначили главой правительства военного времени в тот же день, когда началось вторжение нацистов, — решил, что никому легче не станет, если регулярная армия Британии почти в полном составе угодит в лагерь для военнопленных. Пришла пора французам «позаботиться о собственной безопасности», как он выразился.
Так что 26 мая 1940 года, едва ли не через две недели после начала военных действий, Черчилль приказал своим ребятам возвращаться домой. Однако он не удосужился сообщить радушным хозяевам о том, что гости уже уходят, и французы продолжали сражаться, думая, что прикрывают стратегическое отступление бриттов с целью закрепиться на берегу Ла-Манша. Когда же французы догадались о том, что происходит на самом деле, они, понятное дело, разозлились, тем более что бритты заблокировали дороги так, что по ним уже не мог пройти ни друг, ни враг.
Эвакуация из Дюнкерка началась 27 мая, и в тот день только 7000 британских солдат смогли разместиться на ожидающих военных судах. Военный министр сообразил, что этого недостаточно, и обратился с просьбой к частным судовладельцам пополнить флотилию. На следующий день через Ла-Манш устремились гражданские суда. В последующие девять адских дней солдаты грузились на корабли, зачастую часами выстаивая в очередях, по плечи в воде, пока снаряды и бомбы взрывали песок и море вокруг них. Помимо 200 военных кораблей, более 700 малотоннажных судов, включая личные яхты, траулеры и речные трамвайчики с Темзы, не по одному разу пересекали Ла-Манш. В общей сложности во время спасательной операции затонуло около 200 лодок.
Французы рассматривают Дюнкерк как массовое предательство, но это не совсем справедливо. Как только основные силы британцев были отправлены домой, корабли стали брать на борт также французов, которых вывезли почти 140 000 человек. Кроме того, тысячи бриттов остались во Франции вести безнадежный арьергардный бой, прикрывая отход как французских, так и британских частей, и сдаваясь, только когда кончались боеприпасы или когда французские командиры поднимали белый флаг. Эти британцы провели остаток войны в лагерях для военнопленных, и их самопожертвование даже не упоминалось в докладах союзников о положении дел на фронте, поскольку это плохо влияло на боевой дух в войсках.
А 4 июня Черчилль произнес пламенную дюнкеркскую речь в палате общин, доказывая, несмотря на свою шепелявость, что именно он, а не душка Чемберлен, самая подходящая кандидатура на пост премьера. И хотя его речь разозлила французов (причина этого прояснится чуть позже), ее можно считать образцом политической риторики всех времен. Ее можно прослушать в Интернете, и твердый голос премьера даже семидесятилетней давности до сих пор завораживает так, что мурашки бегут по коже.
Черчилль признает: Дюнкерк «является колоссальной военной катастрофой… Мы не должны характеризовать это спасение как победу. Войны не выигрываются эвакуациями». Но, добавляет он, «надо отметить, что в самом этом спасении действительно есть победа. Это победа — военно-воздушных сил». Королевские военно-воздушные силы сковали большую часть немецких воздушных сил, защитив побережье и эвакуационный флот от потенциально разрушительных атак с воздуха. Черчилль предсказывает, что успех британской обороны будет зависеть от совершенно нового тактического оружия — самолетов. Первое настоящее сражение только началось, а он уже все предугадал.
Кульминацией речи стали слова о том, где нацисты столкнутся с британским сопротивлением.
«…Мы будем бороться на морях и океанах, — говорит Черчилль, — мы будем сражаться… в воздухе, мы будем защищать наш остров, какова бы ни была цена, мы будем драться на побережьях, мы будем драться в портах, на суше, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся…»
Он прошел очень, очень долгий путь с тех джентльменских предвоенных дней, и самое поразительное в этой речи, помимо ее жесткости и напора, то, что она укрепила и немцев, и французов в их представлениях о Британии.
Нацисты действительно опасались ступать на английскую землю, где их ожидало яростное сопротивление местного населения, готового сражаться за каждый дом, и о таком стремительном броске, что им удалось совершить через всю Францию, можно было даже не мечтать. Дюнкерк показал, на что способны мирные граждане Британии, каждый в отдельности, и Черчилль выразил их боевой дух словами.
Французы между тем думали: эти англичане озабочены только своим маленьким островом — как всегда. Если бы француз слушал внимательно, он бы услышал слова «мы будем сражаться во Франции», сказанные как раз перед упоминанием о морях и океанах, но он наверняка не поверил бы своим ушам. Никто не ожидал, что британская армия поспешит обратно через Ла-Манш, — и это, пожалуй, была единственная фальшивая нота во всей речи.
И если бы у них не нашлось дел поважнее, французские военные историки наверняка созвали бы юристов по авторскому праву, потому что тема речи была им до боли знакома. Черчилль, будучи и сам высококлассным военным историком, позаимствовал ее у бывшего французского лидера, Жоржа Клемансо, который мотивировал свои войска в Первую мировую войну, обещая им: «Мы будем сражаться перед Парижем, мы будем сражаться в Париже, мы будем сражаться за Парижем». Но даже самый патриотичный французский солдат вынужден был бы признать, что Черчилль взял скучный учебник по грамматике и превратил его в душещипательный бестселлер.
А тем временем где-то там, во Франции, в промежутках между попытками эвакуироваться вместе с семьей в Британию, очень высокий француз захлебывался от ярости и кричал всем: «Но это же была моя идея!»
Еще в 1920 — 1930-е годы генерал Шарль де Голль одним из первых пропагандировал механизированную войну. Он резко выступал против строительства линии Мажино, считая ее концепцию устаревшей, но его никто не слушал. Он давно призывал Францию тратить деньги на танки и самолеты, а нацисты украли его предложение и потом швырнули ему в лицо. Он оказался чудовищно прав, и вот теперь Черчилль присваивал себе лавры военного стратега. И словно этого было мало, англичанин посмел заявить, что уход из Франции был победой. Все это попахивало тайным сговором между ненавидящими французов немцами и хитрыми, зацикленными на собственном благополучии англичанами.
Де Голль был злым и колючим человеком — и он направлялся в Лондон.
Самый французский француз
Шарль Андре Жозеф Мари де Голль родился 22 ноября 1890 года в семье мелкого аристократа — отсюда и частица «де» в фамилии. Это имя сослужило генералу хорошую службу, поскольку было безукоризненно французским. «Шарль Галльский» — это похоже на имя короля Карла, времен сопротивления галлов нашествию римлян (сопротивление провалилось, но в памяти все равно осталось героическим, как и все французские военные кампании). Если бы этого имени не существовало, его следовало бы придумать для персонажа из комикса «Астерикс».
Маленький Шарль воспитывался в патриотичной семье католиков и был отдан на учебу в Особую военную школу Сен-Сир, основанную Наполеоном. В годы Первой мировой войны он служил офицером в пехотном полку под командованием полковника Петена (будущего главы коллаборационистского французского правительства) и после пятого ранения в 1916 году оказался в лагере для военнопленных в Вердене. После войны, под руководством Петена, он приступил к работе над военно-исторической рукописью «Франция и ее армия», в которой ни разу не упоминалось Ватерлоо.
В общем, трудно было найти более французского француза.
Впрочем, де Голль этого еще не осознавал. Когда он, беженец, прибыл в Лондон 16 июня 1940 года, его, скорее всего, поразил тот факт, что в городе он стал французом номер один. Еще десять дней назад он был членом кризисного правительства, после того как Франция оценила его военные теории и решила, что они все-таки могут пригодиться. Но высокие правительственные чиновники остались дома, чтобы капитулировать. Французские политики не придумали ничего лучше, кроме как прекратить борьбу и предложить Германии Париж в качестве «открытого города», то есть сдать его нацистам ради сохранения исторических памятников.
И вот 17 июня Петен выступил по радио с обращением к нации, которое не имело ничего общего с вдохновляющей речью Черчилля. «С болью в сердце я говорю вам сегодня о том, что надо прекратить борьбу, — сказал он своим войскам. — Этой ночью я обратился к противнику и спросил, готов ли он вместе с нами, как принято между солдатами после честной борьбы, искать возможности для прекращения военных действий».
Ни о каком прекращении военных действий с нацистами не договорились, никаких условий не было выдвинуто, но Петен уже капитулировал.
Французские войска тотчас сложили оружие, и около миллиона солдат пополнили нацистские лагеря для военнопленных. Среди них было около ста тысяч солдат, ранее эвакуированных из Дюнкерка, но вскоре вернувшихся из Англии во Францию.
Капитуляция стала ключевым моментом в англо-французских отношениях. Черчилль объявил о том, бритты выступают за продолжение борьбы (с безопасной позиции на своем острове, оставив Францию в полном дерьме), на что старый англофоб Петен сказал: спасибо, не надо.
В каком-то смысле Франция демонстрировала, что Париж является для нее центром вселенной. Были планы сгруппировать союзные войска на западе и использовать порты Брест и Бордо в качестве баз для контратак при поддержке британцев. Де Голль предлагал эвакуировать французские войска в Африку и на Средний Восток, а потом оттуда двинуться во Францию и ударить по врагу. Там уже находились сотни тысяч французских и колониальных войск, только и ожидавших приказа.
Но нет, в отличие от 1914 года, когда мобилизовали даже стариков и такси, чтобы отбросить немцев с порога родного города, парижане на этот раз решили, что битва проиграна. Гитлер вот-вот возьмет Нотр-Дам, Елисейские Поля и все мало-мальски известные кафе на бульваре Сен-Жермен, а больше и не за что сражаться.
Франция не станет «спать с трупом»
К счастью, де Голль не был парижанином (он родился в Лилле, на севере страны), и он не проникся пораженческими настроениями своих коллег. Он даже на время засунул куда подальше свою генетическую англофобию ради идеи, которая заставила бы современных французов и британцев содрогнуться от ужаса.
Французский посол в Лондоне, Андре Корбен, и видный британский дипломат, сэр Роберт Ванситтарт, придумали сумасшедший план создания единой франко-британской нации.
По правде говоря, нечто подобное пыталась проделать целая компания британских монархов, но их планы обычно подразумевали захват Франции и примитивное ее подчинение. Наполеон тоже хотел претворить в жизнь такую схему, но он мечтал сделать Британию французской территорией, вроде Ломбардии и Сирии, где будут приняты его законы и расцветут дома терпимости.
В прошлом каждая из сторон стремилась силой подчинить соседку. Но план 1940 года подразумевал союз по обоюдному согласию, полное слияние. Предполагалось общее гражданство, и роли правительств были бы распределены, как в политическом альянсе двух партий. Из двух наций получилась бы одна.
Конечно, это была чисто пропагандистская уловка, способ донести до Гитлера мысль, что Франция не завоевана, потому что ее английские территории до сих пор свободны. Но, даже при таком раскладе, де Голль тотчас ухватился за эту идею и, намереваясь втолковать ее своим коллегам-дезертирам во Франции, сел в самолет.
Их ответ был предсказуем. Петен сказал, что дни Британии сочтены и это «все равно что предлагать союз с трупом». Тем более что он уже вынашивал планы лечь в постель с врагом (который был живее всех живых).
Де Голль принял мудрое решение сразу вернуться в Лондон, где Черчилль — вопреки советам Форин-офис — договорился об эфире на Би-би-си и вдохновил француза выступить с речью в духе «борьба будет продолжена».
Де Голль говорит, а мир не слышит
Это случилось 18 июня, в 125-ю годовщину Ватерлоо: генерал выступил по радио со знаменитым обращением к соотечественникам. Несмотря на название — «Обращение от 18 июня», — это не был призыв делать взносы на благотворительность. Де Голль призвал французов оказать сопротивление нацистскому режиму, произнеся французский вариант речи Черчилля, изобилующий риторическими вопросами, повторами и восклицаниями.
«Разве надежда должна исчезнуть? Разве это поражение окончательно? Нет!.. Ибо Франция не одинока!.. За ней стоит обширная империя. Она может объединиться с Британской империей, которая господствует на морях и продолжает борьбу». Пожалуй, впервые в истории француз с таким воодушевлением объявлял о морском превосходстве Британии.
Далее в своей речи он признал мировой характер войны, не ограниченной пределами Франции, и наконец перешел к драматическому финалу, в котором пообещал: «Что бы ни произошло, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет никогда». Это была хорошая концовка, однако де Голль испортил ее, объявив, что снова будет говорить завтра, но не сделал этого.
Тем не менее де Голль произнес самую знаменитую речь во французской истории, и если уж не текст, то ее название, l'Appel du 18 juin («Обращение от 18 июня») знакомо каждому французскому школьнику. Проблема состояла лишь в том, что ее практически не услышали французы. Речь передавало английское радио, без анонса, да и имя этого человека мало кто во Франции слышал. И к сожалению, Би-би-си сочла речь настолько незначительной, что ее даже не потрудились записать на пленку.
Все это в какой-то степени объясняет вялые отклики на обращение. Де Голль пригласил всех французов, находящихся в Великобритании, как солдат, так и гражданских лиц, присоединиться к нему, но мало кто последовал его призыву. Из 10 000 французских иммигрантов в Британии добровольцев набралось лишь три сотни, а из 100 000 солдат, временно находившихся на британской земле, на сторону де Голля встали лишь 7000; остальные вернулись домой и пополнили ряды военнопленных.
Хуже того, несмотря на реверанс в сторону Америки, который сделал генерал в своей речи, президент Рузвельт отказался признать де Голля лидером Франции. Вплоть до конца 1940 года американцы делали ставку на сотрудничество с Петеном и его министрами, надеясь склонить их к борьбе с Гитлером.
Только Черчилль встал рядом с Генералом и сделал официальное заявление о том, что «правительство Его Величества признает генерала де Голля лидером всех свободных французов, где бы они ни находились».
Это был акт солидарности, о котором де Голль будет частенько забывать в последующие годы.
Так ананас или банан?
Оскорбления и тычки, которыми продолжали обмениваться де Голль, Рузвельт и Черчилль, были под стать разборкам в гримерной мальчишеской поп-группы.
Хотя Америка и не вступала в войну вплоть до 1941 года, Черчилль постоянно пытался убедить Рузвельта, что союзники — это сила, которую стоит поддерживать. С самого начала военных действий он одним глазом присматривал за нацистами, а другим — за американскими поставками в Европу людей и военной техники.
Де Голля между тем настолько поглотили интересы Франции и собственный статус будущего лидера страны, что он зачастую терял ощущение глобальной картины. Он видел только Францию и необходимость дискредитировать и дестабилизировать правительство Петена. Эта близорукость и неуместный патриотизм заставляли практически каждого бритта или американца, имевшего дело с генералом, весьма нелестно высказываться по поводу его высокомерия, неблагодарности, ненадежности и — весьма жестоко — о его внешности. Вот лишь несколько самых известных отзывов о Генерале.
Хью Далтон, министр торговли в правительстве Черчилля, говорил, что у де Голля «голова, как банан, а бедра, как у женщины». Александр Кэдоган из Форин-офис сказал примерно то же самое, разве что банан заменил (более похожим на голову) ананасом.
Романистка Сильвия Таунсенд Уорнер называла французского лидера «воинственной треской». И добавляла: «Так и хочется разделать его на филе и потихоньку убрать в холодильник».
А Герберту Уэллсу он показался «откровенным мегаломаном».
Даже Черчилль, романтик и франкофил, сражавшийся в окопах и любивший Францию почти так же, как Эдуард VII, вскоре понял, что де Голлю нельзя доверять. Хотя, если уж начистоту, у де Голля бывали веские причины, чтобы взбрыкнуть, поскольку Британия выкидывала коленца…
Британия топит надежды французов
Название Мерс-эль-Кебир вряд ли о чем-то говорит большинству из нас, но после 3 июля 1940 года одно лишь его упоминание в присутствии де Голля было равносильно тому, чтобы произнести имя Жанны д’Арк во время приготовления барбекю.
В тот день Черчилль решил, что французский флот слишком ненадежен, чтобы защитить себя от нацистов, а потому приказал захватить все французские корабли, стоящие в подконтрольных Британии портах по всему миру. В результате двести кораблей были взяты на абордаж и, соответственно, украдены у Франции.
Основные силы французского флота базировались в Алжире, на военно-морской базе Мерс-эль-Кебир неподалеку от города-порта Орана. Несколько британских кораблей подошли к базе с целью пригласить командующего, адмирала Марселя Жансура, присоединиться к бриттам (и конечно, к де Голлю), чтобы вместе сражаться с нацистами. Английский офицер, капитан Холанд, лично передал приглашение и по-французски обратился к адмиралу с просьбой отплыть в порты Британии, Америки или Карибского бассейна, чтобы французские корабли не маячили на боевых позициях. Или затопить свой флот. Это был тонко завуалированный ультиматум, со сроком ответа до шести часов вечера.
Но адмирал лишь возмутился тому, что с ультиматумом прислали простого капитана, и решил не реагировать на блеф британцев.
Жансур совершил огромную ошибку. Черчилль был полон решимости показать, что война есть война, и ровно в шесть вечера, не дождавшись реакции французов, британские орудия открыли огонь и вели его девять минут, выведя из строя два французских крейсера, взорвав один и уничтожив более 1250 французских матросов.
Де Голль, как и следовало ожидать, пришел в ужас. Его Appel («Обращение») широко цитировалось в (пока еще) свободной французской прессе, и патриоты стекались под его знамена. И вот в этот момент якобы союзники чуть ли не в открытую объявили войну Франции.
Хуже того, когда глубоко взволнованный Черчилль доложил о событиях в Мерс-эль-Кебире палате общин, парламентарии от всех партий выразили ему горячую поддержку. И Рузвельт поспешил прислать свое одобрение. Получалось так, что для британцев и американцев было в порядке вещей бомбить французов.
Почти неделя ушла у де Голля на то, чтобы примириться с мыслью о том, что победа над нацистами гораздо важнее французской гордости, после чего он выступил с речью, в которой признал, что, если бы французские корабли не были потоплены, Петен наверняка позволил бы Гитлеру прибрать их к рукам.
К этому времени Петен стал для генерала смертельным врагом — в буквальном смысле. Правительство, базировавшееся в Париже, передало Францию нацистам 10 июля по официальному соглашению о перемирии, которое делило страну на две части. Гитлеру отходила северная половина, включая все порты Ла-Манша и большую часть промышленных ресурсов, а Петен отъезжал со своим марионеточным правительством на спа-курорт в Виши, по другую сторону демаркационной линии. Одним из первых актов Петена стало заочное вынесение смертного приговора де Голлю. Генерал ответил на провокацию обещанием освободить Францию (хотя в то время его армия насчитывала всего 2200 человек) и выбором в качестве символа сопротивления Лотарингского креста — того самого, что украшал штандарт Жанны д’Арк в ее войне с англичанами. Черчилль, должно быть, пришел в восторг от такой символики и, чтобы продемонстрировать это, тут же приказал провести еще одну атаку на французскую колонию.
В сентябре 1940 года бритты решили прихватить Дакар в Сенегале. Он находился в подчинении правительству Виши и мог служить потенциальной базой для нацистских подлодок, что очень беспокоило американцев, поскольку субмаринам ничего не стоило, проделав короткий подводный круиз, подобраться к Штатам с черного хода — со стороны Карибского моря.
На этот раз де Голль решил участвовать в экспедиции и попытаться удержать британцев от бомбардировок французских кораблей и войск. Он не сомневался, что одно его присутствие убедит петеновский гарнизон перейти на его сторону. Он знал и то, что золотые резервы Banque de France («Банк Франции») переправлены в Дакар, и их хватило бы на то, чтобы он вооружил свою армию, избавившись от рабской зависимости от бриттов. К тому же успех в Дакаре мог бы прославить его в Америке.
Генерал отправился за костюмом сафари в лондонский магазин одежды и, весело болтая с помощником продавца, сообщил, куда держит путь. Его французское войско в Ливерпуле сделало то же самое. Вскоре секретная миссия перестала быть таковой, и уцелевший флот Виши снялся с якоря в Средиземном море и поспешил на защиту Сенегала.
Дальше все развивалось в полном соответствии с законами фарса, и представление началось, как только британский флот бросил якорь на рейде Дакара.
Два аэроплана «Свободной Франции» взлетели с авианосца «Арк Роял», направившись с посланием де Голля к губернатору, ставленнику вишистов. Но, вместо того чтобы внять призыву к оружию нового лидера, губернатор просто бросил курьеров в тюрьму.
Тем временем в гавань зашла лодка с тремя эмиссарами, которых тут же обстреляли, так что им едва удалось уйти живыми. Войска «Свободной Франции» высадились на побережье, ожидая, что их встретят как освободителей. Но и их выбил провишистский гарнизон.
Сдувшийся де Голль решил, что пора уходить, но на следующий день британские корабли получили приказ от самого Черчилля начать бомбардировку порта. Они подбили субмарину и эсминец, прежде чем получили сдачи и предпочли ретироваться. В качестве возмездия вишистские самолеты разбомбили британскую военно-морскую базу в Гибралтаре. Это была тотальная англо-французская война, в которой обе страны громили колонии друг друга, как, бывало, резвились Наполеон и Нельсон. Казалось, будто снова наступил 1805 год, обидно только, что нацисты крутились рядом, осложняя ситуацию.
Дакарская экспедиция стала катастрофой для Черчилля, но самым большим неудачником оказался де Голль. Рузвельт вообще решил, что де Голль никто, и открыл в Дакаре американское консульство для переговоров с правительством Виши о потенциальной угрозе со стороны немецких субмарин. По сути, Америка признавала легитимность режима Петена, что для де Голля было подобно ночному кошмару. Это не означало, что Рузвельт взял сторону Гитлера: напротив, американский президент был ярым противником нацистов и протягивал руку помощи Британии, декларируя, что будет поставлять им оружие и останется «арсеналом демократии». Но это ясно говорило о том, что Рузвельт думает о французах: они лишь мастера пререкаться по пустякам и отвлекать внимание от истинных целей войны.
Эти предрассудки находили подтверждение и в оккупированной Франции, где коммунисты, которых логично было бы видеть в роли антифашистов, объявили о поддержке Гитлера, поскольку тот подписал пакт о ненападении со Сталиным. Позднее, в ходе войны, коммунисты сыграли важную роль в движении Сопротивления, но в июле 1940 года газета «Юманите», которая издается до сих пор, опубликовала статью с поздравлениями в адрес парижских рабочих, «проявивших дружелюбие по отношению к немецким солдатам». С такими-то товарищами кому нужны враги?
Первая великая победа Франции над нацистской Германией
В декабре 1941 года де Голль предпринял шаг, который, вне всяких сомнений, доказал Черчиллю и Рузвельту (недавно вступившему в войну после нападения японцев на Пёрл-Харбор), что с французским генералом слишком много хлопот, а потому и советоваться с ним нечего.
Адмирал Эмиль Мюзелье, один из самых преданных соратников де Голля, 23 декабря 1941 года вывел из порта канадского города Галифакс, в Новой Шотландии, французскую субмарину и три надводных корабля. Де Голль приказал Мюзелье идти к соседним островам, Сен-Пьер и Микелон, представлявшим собой 242 квадратных километра всеми ветрами продуваемых, но все-таки французских скал, и освободить их от провишистского губернатора, после чего добавил: «Только ни слова иностранцам» (стало быть, бриттам и американцам).
На рассвете в канун Рождества небольшой отряд французских кораблей вошел в гавань Сен-Пьера, и люди Мюзелье взяли остров. Задача оказалась несложной — достаточно было захватить единственный радиопередатчик, телеграф «Вестерн юнион» и арестовать губернатора. Как только это произошло, адмирал телеграфировал Черчиллю, который в это время находился в Белом доме на переговорах с Рузвельтом, о драматическом повороте в мировой истории: крохотная группа канадских островов освобождена от нацистов. Наконец-то врагу нанесен сокрушительный удар!
Рузвельт пришел в ярость. Это был самый настоящий государственный переворот: никто не смел менять режим на американском континенте без ведома американского президента. Поэтому он объявил, что островами будут совместно управлять Британия, Канада и США, а после окончания войны этим займется то правительство, которое придет к власти во Франции.
Однако де Голль, не собиравшийся позволять кому бы то ни было портить его первый успех, заявил, что его люди откроют огонь, если союзники попытаются высадиться на островах. Должно быть, он испытал огромное удовлетворение, когда, к всеобщему изумлению, Рузвельт уступил. Франция бросила вызов гигантской Америке и одержала победу.
Конечно, на самом деле президент США пошел на это исключительно потому, что в такой критический момент, когда полным ходом шли военные действия и в Азии, и в Европе, он просто не мог отвлекаться на препирательства с несколькими французами в офисе «Вестерн Юнион» где-то там, у канадского побережья. К тому же обиделся Мюзелье: де Голль испортил его хорошие отношения с американцами, — и теперь адмирал угрожал поднять восстание против генерала, прихватив с собой и флот. Французы снова вступили в перебранку друг с другом, и вмешательство извне лишь подлило бы масла в огонь.
Но затея де Голля здорово разозлила Рузвельта и Черчилля. Они решили: если де Голль хотел вести себя как бунтующий подросток, пусть себе бунтует, но только сидя на месте. Он находился в Лондоне, без британского транспорта не имел возможности передвигаться дальше местного французского ресторана, и этого, мол, ему за глаза хватит.
Тем временем Черчилль вынашивал собственный план, который должен был заставить француза захлебнуться от злости…
Без ума от Мадагаскара
В мае 1942 года британские силы вторглись на Мадагаскар, остров у восточного побережья Африки. Союзники опасались, что Япония может использовать его как военную базу для торпедных судов, чтобы препятствовать судоходству в Индийском океане и в районе мыса Доброй Надежды, и недавняя уступка правительством Виши своей колонии во Вьетнаме убедила Черчилля в том, что такая же участь может постигнуть Мадагаскар. Британия, как положено, отправила из Южной Африки на Мадагаскар силы вторжения, которые атаковали французский гарнизон в Диего-Саурес, крупнейшем порту острова.
Де Голль узнал о вторжении от журналиста, который позвонил ему и попросил об интервью. Сказать, что генерал был в ярости, — значит не сказать ничего. Мало того что англичане предприняли попытку украсть французский остров, они делали это за его спиной [112].
Француз еще глубже погрузился в паранойю и отослал своим людям в Африке и на Среднем Востоке телеграмму со словами: «Мы должны предупредить народ Франции и всего мира… об англосаксонских империалистических планах». И еще сказал: «Ни при каких обстоятельствах мы не должны иметь дел с англосаксами», не забыв пожаловаться, что бритты держат его заложником в Лондоне.
Телеграмма была зашифрована с помощью французского кода, но ее без труда расшифровали бритты и, с особым удовольствием, нацисты.
Бука приезжает в Касабланку
Союзники понимали, что, если они хотят контролировать Средиземное море и вырвать из лап нацистов ценные нефтяные ресурсы, необходимо освободить все французские колонии [113] в Северной Африке. Помимо немецких оккупантов, на этих территориях размещались потенциально опасные войска правительства Виши численностью более 100 000 человек.
Черчилль и Рузвельт снова вывели де Голля из игры — и, как оказалось, не зря, потому что француз, когда прознал о совместной высадке британцев и американцев у границ с Алжиром, сказал одному из своих соратников: «Я надеюсь, что люди Виши сбросят их в море». И словно выполняя его приказ, французские войска открыли огонь по американцам, которые пришли освобождать Касабланку.
Неудивительно, что в январе 1943 года лидеры союзников, собравшиеся на конференции в Касабланке с целью обсудить будущее Европы и Африки, весьма осторожно отнеслись к тому, чтобы пригласить капризного де Голля, или Жанну д’Арк, как они шутя называли его за глаза.
Черчилль послал де Голлю телеграмму, приглашая генерала присоединиться к ним для дискуссий, но не уточнил где именно. Теоретически де Голль все еще находился под «подпиской о невыезде» и, так или иначе, в информационном вакууме. Ответ пришел прямой и резкий. Де Голль отказался обсуждать судьбу Франции и французских колоний с представителями иностранных держав. Хорошо, сказали Черчилль и Рузвельт, в таком случае мы будем иметь дело с более покладистым человеком, ветераном Первой мировой, Анри Жиро, одним из оппонентов де Голля в предвоенных спорах о модернизации французской армии.
Угроза возымела желаемый эффект, и генерал тотчас передумал.
В Касабланку он прибыл, как всегда, обиженный и встал в позу. Он открыто демонстрировал неприязнь к Жиро — официальные фотографии зачастую обрезаны так, что один де Голль сидит в компании Черчилля и Рузвельта, — и не преминул возмутиться тем, что повсюду, куда ни брось взгляд, стоят американские войска. (Да, напомнили ему, они здесь для того, чтобы защищать всех от нацистов и не позволить кому- то из вишистов застрелить вас.)
Конференция проходила в том же ключе, что и предварительные переговоры. Генерал выступил с декларацией, назвав себя Жанной д’Арк современности, и, должно быть, удивился смешкам в зале. Он отказался от каких-либо переговоров по распределению ролей в Африке и потребовал, чтобы его отправили назад в Европу. С поразительной дипломатической бестактностью он отказался лететь на американском самолете — на том основании, что американский пилот новичок в этой войне и он может по ошибке приземлиться на оккупированной территории Франции.
Своей неуступчивостью де Голль лишь добился того, что его еще раз наказали, как капризного мальчишку. Ему не только продлили запрет на путешествия, но и нашпиговали его кабинет «жучками» британской разведки, которая пришла к выводу, что генерал не заинтересован в широкой военной коалиции и его волнует лишь собственная политическая власть над Францией и своей империей. Черчилль дошел до того, что охарактеризовал де Голля как «фашиста, оппортуниста, беспринципного и амбициозного до крайности» и добавил: «Его приход к власти в новой Франции приведет к заметному охлаждению в отношениях между Францией и западными демократиями».
Только вот он не знал, что его предсказание сбудется раньше, чем закончится война.
Глава 20 Вторая мировая война, часть вторая
Защищая Сопротивление… от французов
Еще со времен фиаско в Дакаре бритты предупреждали де Голля об утечке информации, но его люди в Лондоне упорно отрицали возможность расшифровки их кодов. Вот почему практически с самого начала войны службы безопасности союзников приняли решение не делиться со «Свободной Францией» никакими секретами, даже если они касались самой Франции. Французов держали в неведении обо всех действиях союзников во Франции, и такая ситуация могла, конечно, разозлить кого угодно.
В 1941 году британская разведывательно-диверсионная служба УСО (Управление специальных операций) приступила к созданию на территории Франции ячеек Сопротивления, с использованием французских агентов, но отказалась сообщать де Голлю, где эти ячейки находятся и кто в них входит. Де Голль выступил с типично французской идеей централизации управления группами Сопротивления под эгидой так называемого Национального совета Сопротивления; да, это обеспечивало бы общее руководство работой групп, но в то же время подвергало всех смертельной опасности в случае провала хотя бы одного звена этой цепочки. В результате УСО решило проигнорировать предложение де Голля и продолжило создавать маленькие и независимые ячейки, которые даже не знали бы о существовании других групп.
В первые годы войны роль Сопротивления видели скорее не в подрыве железных дорог и убийстве немцев — такие акции неизбежно провоцировали репрессии, жертвами которых становились невинные мирные жители, — а в тайной переправке летчиков союзных ВВС на родину. Слова Черчилля о важности превосходства в воздухе быстро стали пророческими, и было жизненно важно, чтобы экипажи союзных бомбардировщиков и истребителей, сбитых над вражеским берегом Ла-Манша, возвращались домой живыми.
Так что активное Сопротивление началось с горстки нескольких храбрецов французов, которые, рискуя жизнями, прятали у себя сбитых летчиков, пока не появлялась возможность переправить их через пролив. Это были не профессиональные подпольщики, а обычные люди, хозяева безопасных домов, адреса которых пилотам сообщали непосредственно перед вылетами. Укрывая людей на чердаках, в погребах и амбарах, эти простые граждане за годы войны помогли более шести тысячам летчиков, беглых военнопленных и попавшим в окружение солдатам выбраться из Франции и вернуться домой.
И как ни грустно это признавать, самую большую опасность для беглецов и их спасителей представляли не расшифрованные коды, а другие, такие же обычные, французские граждане. Потому что не только Петен и его приятели осознанно, добровольно и умышленно сотрудничали с нацистами.
Есть один беспроигрышный способ вывести из равновесия любого француза — достаточно произнести слово «коллаборационизм». Он либо проворчит: «Oui, oui [114], столько уже говорено об этом», — либо скажет, что Британии и Америке повезло не пережить того, что выпало на долю Франции. Но все равно никуда не уйти от прискорбной правды о размахе сотрудничества между французскими гражданами и немецкими оккупантами.
Франции трудно смириться с тем, что во время оккупации обычные французы — мужчины и женщины — предавали соотечественников, которые укрывали у себя солдат или участников Сопротивления, доносили на евреев, на тех, кто слушает Би-би-си или просто нелестно высказывается о Петене. И первыми бралась за наказание таких «преступников» французская полиция или, чаще всего, пронацистская военизированная милиция.
Безусловно, не все жандармы соглашались работать на нацистов: за годы войны 338 полицейских были казнены, а 800 отправлены в нацистские концлагеря. Но многие их сослуживцы охраняли пересыльные пункты для пленных, сдавали борцов Сопротивления и «подозрительных» граждан нацистам для дальнейшей расправы.
Вверх по реке на веслах
Одна история прекрасно иллюстрирует сложные отношения между этими группами населения. Речь пойдет о британской рейдовой операции «Франктон», ставшей широко известной после выхода на экраны фильма 1955 года «Герои Коклшелл».
Седьмого декабря 1942 года шесть двухместных байдарок отошли от британской субмарины, стоявшей примерно в 15 километрах от западного побережья Франции. Команду из двенадцати морских пехотинцев возглавлял двадцативосьмилетний майор Герби Хаслер, награжденный в свое время французским Военным крестом за мужество, проявленное в ходе рейда Иностранного легиона в Норвегию. Хаслер в одиночку разработал план почти самоубийственной операции «Франктон». Идея состояла в том, чтобы на байдарках подняться вверх по реке Жиронда (труднопроходимой летом и практически непроходимой зимой во время приливов, тем более на лодках, прозванных из-за маленького размера «скорлупками») и организовать диверсию против нацистских судов, стоявших на якоре в Бордо в ожидании погрузки радаров для отправки в Японию, откуда они возвращались с сырьем. Уничтожение кораблей к тому же заблокировало бы гавань и парализовало бы работу порта.
Между тем субмарина не собиралась дожидаться возвращения двенадцати смельчаков. Им предстояло пройти более 100 километров на веслах, и никто не ждал их обратно — единственным возможным спасением для них был обходной путь по суше в Испанию. Ребятам сказали идти в деревню Руффек, в 160 километрах к северо-востоку от Бордо, где они могли рассчитывать на помощь. Из соображений безопасности никаких имен и адресов не называли, подразумевая, что выжившим придется уповать на удачу. И в довершение столь мрачной картины Гитлер как раз недавно издал указ, согласно которому все захваченные в плен британские коммандос подлежали расстрелу сразу после допроса. Они были слишком опасны, чтобы оставлять их в живых.
Короче говоря, двенадцать добровольцев вызвались, рискуя жизнью, нанести удар по немецким судам.
Операция началась с катастрофы. Одна байдарка вышла из строя сразу после спуска на воду, и ее экипаж не смог принять участие в рейде. Еще две лодки перевернулись в устье Жиронды, и два человека (Джордж Шиард и Дэвид Моффат) утонули, а двух других (Сэмюэля Уоллеса и Роберта Эварта) схватили фашисты, как только они с трудом выбрались на берег. Команда уже потеряла половину состава, а пройдена была всего лишь десятая часть пути.
На веслах, вверх по течению, ночью, без фонарей — уцелевшие три лодки неизбежно должны были потерять друг друга из виду. Одна байдарка отстала и ударилась о подводное препятствие в ночь с 10-го на 11-е декабря. Ее экипаж, Джон Маккиннон и Джеймс Конвей, сумели выбраться на берег и решили идти сразу в Испанию, не сворачивая на север, к деревне Руффек. Они пешком прошли 40 километров до деревни Сессак, где французская семья Жобер прятала их в течение трех дней. Жоберы сказали, что лучше всего добираться до Испании на поезде из городка Ля Реоль, расположенного в 20 километрах от деревни. Двое коммандос отправились в Ля Реоль, но их арестовали французские жандармы и передали гестапо.
Тем временем две байдарки продолжали двигаться вверх по реке, и об их существовании по-прежнему никто не подозревал, потому что четверо взятых в плен коммандос на допросах не сказали ни слова. И в ночь с 11-го на 12-е декабря два уцелевших экипажа все-таки прикрепили магнитные мины к корпусам пяти кораблей, установили таймеры и поспешили прочь из гавани.
Теперь им предстояло спрятать байдарки и пробираться через оккупированную территорию к деревне Руффек, до которой, напомним, было 160 километров. Ситуация осложнилась, когда перед самым рассветом взорвались мины, и нацисты догадались, что взятые в плен коммандос — это часть группы. Морские пехотинцы Уоллес и Эварт были тотчас расстреляны.
Двое из удачливых диверсантов, Берт Лейвер и Билл Миллз, преодолели 60 километров и добрались до местечка под названием Монлье-ля-Гард, но местные жители выдали их жандармам, которые тоже исполнили свой долг и доставили коммандос к нацистам. Лейвера и Миллза немцы допросили и отправили вместе с Маккинноном и Конвеем в Париж, где всех четверых расстреляли в марте 1943 года.
Не догадываясь о том, что уцелели только они, Герби Хаслер и его напарник Билл Спаркс продолжали путь. Им приходилось выпрашивать еду, иногда им отказывали в помощи, но никто ни разу не выдал. Восемнадцатого декабря они наконец добрались до деревни Руффек, где, не зная, к кому обратиться, решили действовать наудачу и зашли в кабачок «Ля Ток Бланш» («Белый поварской колпак»). Им повезло: хозяин, Рене Мандино, оказался сочувствующим и связал их с активистами Сопротивления.
На этой кульминационной ноте французский правительственный веб-сайт о Сопротивлении, который рассказывает историю этого рейда, вдруг пускается в подробности. Поименно назван — и вполне заслуженно — каждый, кто помог Хаслеру и Спарксу. Мы узнаем, как долго и у кого конкретно беглецы скрывались, кому потом этот человек их передал. Например, местный учитель (мсье Пай) побеседовал с ними и подтвердил, что они настоящие бритты, а не шпионы; женщина (Марта Рулье) отправилась предупредить участников Сопротивления; Рене Фло перевозил бриттов в свободную от оккупации зону в своем фургоне булочника; а семья Дюбрей укрывала их на своей ферме сорок один день.
Последним звеном в цепочке спасителей героев «Коклшелл» оказалась англичанка-экспат по имени Мэри Линделл, которая в свое время вышла замуж за французского графа и обосновалась на юго-западе Франции. Когда пришли нацисты, она переехала в Британию, но в 1942 году вернулась во Францию лидером движения Сопротивления под именем Мари-Клэр. Это ее восемнадцатилетний сын Морис тайно перевез Хаслера и Спаркса в Лион, где их взяла под крыло уже сама Мари-Клэр.
Прежде всего она велела Хаслеру сбрить усы — блондин пехотинец выглядел таким же французом, как рождественский пудинг. Затем она предупредила Хаслера, чтобы он держался подальше от мадемуазелей. По опыту Мари-Клэр знала, что самая большая опасность подстерегает беглецов именно на этом фронте, где они забывают об элементарной безопасности. И она имела все основания проявлять сверхосторожность: всего через несколько месяцев она была ранена во время выполнения задания, ее схватили нацисты и отправили в концлагерь Равенсбрук. Мари-Клэр выжила в лагере, но один из ее сыновей погиб.
Следуя по явочной цепочке Мэри Линделл, Хасслер и Спаркс добрались до испанской границы, а там и до британского консульства в Барселоне. Оба они впоследствии благополучно вернулись в Британию через Гибралтар.
Из десяти погибших коммандос двое утонули, двоих схватили нацисты, а четверо стали жертвами предательства. Выходит, в ходе миссии по спасению Франции от фашистской оккупации попасться на глаза простому французу — и уж тем более жандарму — оказалось в два раза опаснее, чем подниматься на веслах вверх по течению ледяной реки среди ночи. Возможно, такую статистику французы предпочли бы забыть.
А ты что делал во время войны, Жан-Поль?
Моральные конфликты в оккупированной Франции были находкой для французских писателей, и те из них, кто не утратил политической сознательности, немедленно взялись за перо, чтобы выразить протест нацистам. Группа писателей создала издательство Les Editions de Minuit («Полночное издательство»), которое распространяло свои книги из рук в руки, во избежание цензуры. Литературные глыбы вроде Луи Арагона, Пола Элюара и Франсуа Мориака ушли в подполье и отказались от славы и авторских гонораров в пользу узкого круга читателей, которым можно было доверить свои книги и не сомневаться в том, что они передадут их друзьям, а не жандармам.
«Полночное издательство» публиковало такие произведения, как «Запрещенные хроники», «Совесть поэта», названия которых говорят сами за себя. Тиражи, естественно, были небольшие, и хотя издательство выжило в войну, оно постоянно балансировало на грани банкротства, поскольку отказывалось принимать деньги от нацистов и вишистов.
Однако некоторые французские писатели открыто выступили на стороне нацистов. Луи-Фердинанд Селин, автор классического романа «Путешествие на край ночи», показал себя ярым антисемитом, призывая к депортации и убийству всех, у кого в роду был хотя бы один еврей. Неоднозначно повел себя и Жан Кокто, который заявлял о своей аполитичности, но имел влиятельных друзей-нацистов, обеспечивавших ему спокойную жизнь.
Другие просто выступали в роли наблюдателей — не то чтобы сотрудничали с нацистами, но двусмысленно молчали. Самые известные среди них — Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар.
В современной Франции эта уважаемая парочка интеллектуалов остается неприкасаемой: Сартр — в силу того, что был арестован на революционных студенческих баррикадах в мае 1968 года, а Бовуар — как автор знаменитой феминистской книги «Второй пол». Многие французы не желают слышать ни одного дурного слова в их адрес, однако при нацистском режиме эти двое не то что не высовывались, но даже процветали.
Сартр и Бовуар были кем угодно, только не наивными и не глупыми людьми, и они наверняка знали, что французские издатели подписали с нацистами коллективное соглашение о самоцензуре, гарантирующее, что никакая бунтарская литература не будет угрожать статус-кво оккупационного режима. «Опасных» писателей просто не стали публиковать в традиционных источниках, а распространение антинацистского самиздата каралось как самое страшное преступление.
Сартр начинал войну во французской армии, но в 1940 году, при наступлении фашистов, попал в плен и оказался в лагере для военнопленных на западе Германии. Он быстро добился репатриации во Францию, сославшись на резкое ухудшение зрения. Это, конечно, можно было бы истолковать как разумный предлог для побега, но участники Сопротивления позже найдут это скорое освобождение крайне подозрительным.
Снова обретя свободу, Сартр устроился преподавателем в Парижский лицей на место, вакантное после вынужденного увольнения профессора-еврея, — момент, конечно, щекотливый, и его долго замалчивали, пока один французский журнал не обнародовал сей факт в 1977 году.
Широко известные пьесы Сартра «Мухи» и «Нет выхода» были впервые опубликованы и поставлены на сцене во время оккупации. Премьера «Мух» состоялась в 1943 году в театре, который прежде назывался «Театром Сары Бернар», пока немцы не переименовали его, поскольку Бернар была еврейкой. Пьеса получила восторженные отклики в нацистской газете «Паризер цайтунг», и это лучшее доказательство политической безобидности этого произведения.
Подруга Сартра, Симона де Бовуар, отличилась таким же двусмысленным поведением. Ее отстранили от преподавания в лицее, но вовсе не за антифашистскую деятельность — просто потому, что мать одной из ее студенток, девушки по имени Натали, пожаловалась, что де Бовуар спала с ее дочерью.
После этого де Бовуар работала на национальном радио Виши, и эта радиостанция была крайне необходима нацистам, поскольку служила альтернативой Би-би-си. Наряду с пропагандой, радиостанция транслировала программы на отвлеченные темы, что придавало ей налет респектабельности, а сама де Бовуар вела историческое ток-шоу, совсем не пронацистское по сути, но оно привлекало аудиторию, и эффективность пропаганды резко возрастала. Чтобы получить эту работу, ей пришлось подписать форму, подтверждающую, что она не еврейка; тем самым она открыто признавала расистские установки нацистского режима, переплюнув в этом Сартра с его преподавательской должностью.
Помимо работы на радио, де Бовуар писала, и ее первый роман, «Гостья», увидел свет в 1943 году. Она была тронута похвалой ведущего провишистского писателя, Рамона Фернандеса, и выразила надежду получить самую престижную литературную награду Франции, Гонкуровскую премию, хотя в литературных кругах все знали, что члены Гонкуровской академии все как один коллаборационисты.
Так что нет ничего удивительного в том, что послевоенные труды Сартр и де Бовуар посвятили в основном переосмыслению моральных устоев.
Некоторые французские художники тоже отметились симпатиями к оккупационному режиму. Андре Дерен и Морис де Вламинк отправились в Германию в составе делегации деятелей искусств, и этот визит сыграл на руку нацистской пропаганде. Скульптор Андре Майоль приехал в Париж с юга Франции на выставку одобренного нацистами искусства, а после шоу развлекался с немцами — и это в то время, когда полотна экспрессионистов крали у семей расстрелянных еврейских коллекционеров и уничтожали как «дегенеративное искусство» или продавали для финансирования военной машины Гитлера.
Немало французских знаменитостей вышли из войны замаранными. Эстрадный певец Морис Шевалье, который в 1930-е годы был чем-то вроде голливудской звезды, остался в оккупированном Париже и сделал блестящую карьеру — хотя и отказался петь на вишистском радио. Эдит Пиаф тоже осталась, пела для нацистских офицеров и даже приглашала их к себе в гости выпить.
Конечно, можно сказать, что певцы поднимали моральный дух сломленной французской публики, но и солдаты вермахта тоже получали еще какой заряд бодрости и наверняка возвращались на фронт, насвистывая «Я ни о чем не жалею» Пиаф.
Но, что самое обидное, среди злостных коллаборационистов оказалась модный дизайнер Коко Шанель. Сегодня бренд «Шанель» такой же безукоризненно чистый, как линии классических платьев Коко, а ее имя воплощает в себе квинтэссенцию всего французского — непринужденную элегантность, стильную простоту, запах роскоши.
Однако в 1939 году, когда разразилась война, Шанель закрыла свой модный дом, вышвырнув на улицу 4000 швей. Сегодня такие массовые увольнения французские профсоюзы не прощают. А ей ведь было немало лет (пятьдесят шесть), и она не могла не помнить о серьезном дефиците ткани в Первую мировую войну, но Шанель объявила о том, что собирается посвятить себя продвижению на рынок своего успешного аромата «Шанель № 5».
Хотя, если уж быть точным, аромат ей не принадлежал. Она создала его в 1921 году, но продала большую часть прав на него паре бизнесменов — Пьеру и Полю Вертеймерам. Будучи евреями, они сразу после оккупации Франции бежали в США, но прежде учредили компанию-ширму «Буржуа», чтобы нацисты не прибрали к рукам их бизнес.
Шанель знала об этой уловке и сообщила нацистам о подлинных хозяевах фирмы «Буржуа», в надежде на то, что ей удастся вернуть себе право собственности на духи. Она очень удачно подсуетилась с доносом, поскольку водила шашни с видным офицером разведки СС Гансом Гюнтером фон Динклаге. Мало того, она жила в отеле «Ритц», который стал одной из штаб-квартир нацистов в Париже. Она не только спала с врагом, но и проводила с ним целые дни.
В 1943 году Коко была вовлечена в странную попытку примирения Британии и Германии. Вероятно, это явилось плодом мозгового штурма еще одного эсэсовца, Вальтера Шелленберга, ближайшего соратника Гиммлера и офицера, ответственного за составление списка опасных британцев, которые подлежали немедленному аресту, как только нацисты выиграют войну, — в общем, совсем не того человека, которому можно было бы доверить план сохранения мира.
По разработанной Шелленбергом схеме Коко должна была доставить послание Уинстону Черчиллю, с которым раз или два виделась в 1920-е годы, когда крутила роман с английским герцогом. Чтобы устроить эту встречу, она связалась со своей давней великосветской подругой, Верой Бейт Ломбарди, кузиной герцога Виндзорского (бывшего короля Эдуарда VIII). До войны Вера представила сливкам британского общества наряды Коко, и нацисты не сомневались, что она найдет подход к Черчиллю.
По приказу Шелленберга Коко Шанель попыталась заманить Веру в Париж, предложив ей участвовать в новом масштабном бизнес-проекте, но Вера, которая жила в Риме, отказалась иметь с ней дело. Нацисты тотчас арестовали Веру как английскую шпионку.
Впрочем, Черчилль впоследствии действительно помог Шанель: когда ее арестовали после войны по обвинению в сотрудничестве с нацистами, говорят, он лично за нее хлопотал. Ей разрешили улизнуть в комфортную ссылку в Швейцарию со своим любовником Гансом Гюнтером.
Вертеймеры вернулись во Францию и, во избежание кровавой судебной тяжбы, согласились выплатить Коко 400 000 долларов наличными плюс два процента роялтиз на все продукты «Шанель», а также положили ей ежемесячное содержание. Так что Коко не грозил послевоенный голод.
Коллаборационистам из числа знаменитостей, может, и удавалось выйти сухими из воды, но представительницам прекрасного пола, виновным в так называемом горизонтальном коллаборационизме, везло куда меньше. Как только освобождали от фашистов тот или иной французский город, сразу начинались репрессии, и всех женщин, кто еще недавно открыто предлагал себя нацистам в обмен на еду и предметы роскоши, брили наголо и подвергали публичному избиению.
Ну, или почти всех, так как французский истеблишмент вновь сомкнул ряды в едином порыве замять кое-какие сомнительные факты.
Наполеоновские бордели обслуживали врага, не опасаясь возможных преследований и гонений. В Париже для солдат вермахта был зарезервирован тридцать один бордель, и 5000 женщин, работающих на улице, получили приказ обслуживать только нацистов. Остальные были вольны самостоятельно выбирать клиентов, не спрашивая об их национальности или политических взглядах. В 1941 году правительство Виши приняло закон, согласно которому борделям присваивалась «третья категория увеселительных заведений», что приравнивало их к скачкам и велогонкам. В 1942 году система пошла еще дальше, сделав бордели частью гостиничной индустрии, явно для того, чтобы избавить девушек от необходимости вести строгий хронометраж сеансов.
После войны, пока «горизонтальных коллаборационисток» унижали перед объективами телекамер, проститутки попросту переключились на клиентов из числа французов и союзников. В 1945 году французский полицейский отметил, что местные власти «отказались выносить приговор проституткам, поскольку их поведение было профессиональным, а не политическим». Читая между строк, можно догадаться о причине такой снисходительности. В бордели захаживали не только нацисты — местные сановники тоже были в числе завсегдатаев, и им совсем не хотелось, чтобы всплыли на поверхность секреты их амурных похождений военного времени, тем более в стенах заведений, охраняемых и жалуемых нацистами.
Возмездие пришло позже, в 1946 году, когда политическое крыло Сопротивления протолкнуло закон о запрете борделей. Самое смешное состоит в том, что закон носил имя бывшей проститутки, Марты Ришар, которая всю войну закатывала вечеринки для высших офицеров рейха, а потом, когда все пропало, решила реабилитировать свое честное имя и заговорила о морали.
Кстати, именно этот закон в сочетании с послевоенной борьбой за власть во Франции вдохновил Яна Флеминга написать первый роман о Джеймсе Бонде, «Казино „Рояль“». Это, разумеется, не к тому, что Флеминг сам ностальгировал по борделям.
Может, простить и забыть, pourquoi-pas[115]?
Может, и не стоило бы, в самом деле, будоражить в памяти историю коллаборационизма? В конце концов, это легкая мишень — все равно что напомнить футбольному фанату об унизительном поражении любимого клуба в финале Кубка страны. К тому же среди участников движения Сопротивления нашлось немало героев: например, Жан Мулен, который был арестован в Лионе (как ни печально, во время встречи по поводу создания Национального совета Сопротивления, с которым носился де Голль) и умер под пытками нацистов; или Пьер Броссолетт, агент УСО, который, скованный наручниками, сумел выброситься из окна верхнего этажа, чтобы под пытками гестапо не сломаться и не выдать товарищей; или Ги Моке, застреленный немцами в возрасте семнадцати лет, чье прощальное письмо к родным изучают во французских школах.
Но имеются и скелеты в шкафу: того же Ги Моке французские полицейские арестовали за распространение листовок, — и после войны Франция старалась держать их под замком. Было много показательных процессов, но они в основном затрагивали тех, кто выглядел слишком явным нацистом или кому просто недоставало власти и влиятельных друзей, чтобы избежать правосудия.
После 1945 года стало ясно, что французский истеблишмент настолько прогнил, что вырвать заразу с корнем можно, только перекроив всю систему. Франсуа Миттеран, который в 1981 году стал президентом Франции, являет собой отличный пример того, о чем я говорю. Недолго пробыв в лагере для военнопленных в Германии, он в 1941 году вернулся во Францию и работал на правительство Виши. Никто не спорит, он активно участвовал в движении Сопротивления, особенно в последние годы войны, но и старательно служил режиму Петена, чем заслужил орден «Франциск Галлик», высшую награду правительства Виши. Кое-кто из современников подозревал, что он служит и нашим, и вашим, выжидая, чья возьмет. И в 1992 году обнаружилось, что по его тайному поручению на могилу Петена со дня смерти главного коллаборациониста в 1951 году постоянно возлагали свежие венки.
На обвинения в коллаборационизме французы обычно возражают, что англосаксы Vont échappé belle — то есть отделались малой кровью. Бритты и американцы никогда не стояли перед моральной дилеммой, вызванной оккупацией. Передал бы лондонский полисмен генерала де Голля гестапо? Ответа мы никогда не узнаем.
Хотя кое в чем французы ошибаются, потому что маленькая часть Британии все-таки была оккупирована нацистами…
Жизнь с нацистскими «гостями»
По мере того как Франция все отчетливее сползала к капитуляции в 1940 году, бритты решили, что Нормандские острова в проливе Ла-Манш не стоят того, чтобы их защищать. Они объявили о том, что эвакуируют всех, кто хочет уехать, а потом оставят острова нацистам. И тут вставал вопрос: а зачем тогда Британия столько веков держалась за эти острова? Ответ был очевиден: да просто хотела позлить французов.
Объявление об эвакуации практически не давало островитянам времени на раздумья. Стоит ли покидать свои дома, не зная, как долго продлится оккупация, или остаться и надеяться на лучшее?
Большинство мужчин призывного возраста из тех, кто еще не ушел на фронт, отправились в Англию, чтобы вступить в армию, и всего около 30 000 человек, треть населения островов, предпочли уехать. Остальные решили остаться и ждать неизбежного, и в начале июля 1940 года острова сдались, один за другим, без единого выстрела.
И как же вели себя островитяне все пять лет оккупации? В своей книге «Острова Английского канала в годы немецкой оккупации, 1940–1945» Пол Сандерс невероятно подробно описывает жизнь под нацистами на островах Джерси, Гернси, Олдерни и Сарк. Он рисует морально сложную, зачастую постыдную, но в целом оптимистическую картину.
На островах тоже были свои коллаборационисты (и горизонтальные, и вертикальные), платные информаторы, черные дельцы и побратимы, а судебного пристава Джерси, Александра Кутанша, обвинили в предательстве за согласие служить нацистам.
Но все-таки имелись некоторые отличия между тем, что происходило на островах, и тем, что творилось на материке, во Франции. Самое главное — на островах не было никакого марионеточного правительства вроде Виши. Работала администрация, но не из тех людей, кто втайне приветствовал нацистское присутствие или горел желанием насаждать нацизм.
На островах действовали антиеврейские законы Гитлера. Евреев обязали зарегистрироваться, им запретили владеть бизнесом. Но законы применялись не так рьяно, как во Франции, и тот же судебный пристав Кутанш отказался принуждать кого бы то ни было к ношению желтой звезды на одежде.
Как ни печально, но трех евреек фашисты отправили с острова Гернси в Аушвиц. Похоже, их вычислили нацисты, поскольку женщины были беженками из Австрии. Августа Шпитц, Марианна Грюнфилд и Тереза Штайнер больше никогда не вернулись в свои дома. Да, полиция Гернси принимала участие в их высылке, но это участие сводилось к тому, чтобы передать им приказ немцев собрать чемоданы и явиться на следующий день в пункт отправки. Конечно, это не изменило судьбу женщин, и никто не попытался их спасти, но, во всяком случае, их не хватала местная полиция, чтобы передать нацистам, как это могло произойти во Франции.
Еврейское население островов в основном отправилось в лагеря для интернированных (а не в концлагеря) в 1942 и 1943 годах, в составе группы из 1300 депортированных лиц, в числе которых были некоренные жители островов, а также все мужчины, служившие офицерами в Первую мировую войну. Нацисты видели в них угрозу «нежелательного влияния» и отправили всех в Германию в наказание за рейд британских коммандос на остров Сарк. Большинство из них дожили до победы.
На островах практически никак не проявило себя движение Сопротивления. Большинство островитян оставались пассивными и довольствовались тем, что рисовали на стенах знак победы «V» да слушали Би-би-си. За это массовое преступление последовало наказание — в 1942 году на островах были конфискованы все радиоприемники. Кто-то скажет: да уж, не слишком-то активная публика, — но следует признать, что довольно сложно организовать подполье, когда на каждых двух жителей острова приходиться по одному нацистскому солдату, причем оккупанты были расквартированы по частным домам.
Такое соседство неизбежно рождало общение, чаще всего на почве еды. Рыбацким лодкам фашисты запретили выходить в море, и островитянам приходилось питаться лишь овсом, картофелем и молоком, в то время как у немцев были щедрые запасы продовольствия, которыми они с удовольствием торговали. Разменной монетой служили, разумеется, не морские раковины и предметы местного промысла — многие женщины охотно торговали собой, за что строгие островитяне прозвали их немецкими подстилками. Но размах этого явления не шел ни в какое сравнение с тем, что творилось во Франции, поскольку островная община была такой малочисленной, что невозможно было ничего скрыть, к тому же острова находились на передней линии огня, и гарнизону особо некогда было развлекаться. Но, самое главное, на острове работал отличный, со строгим санитарным контролем, бордель, обслуживающий исключительно солдат. Заведением заправляла мадам-француженка, и проституток она нанимала тоже исключительно французских. Да, нацисты импортировали с материка секс-услуги.
Артисты показывают язык нацистам
Как и их подельники в Париже, фашисты на Нормандских островах не были лишены развлечений. Тут устраивались и театральные постановки, и концерты (иногда с участием местных и немецких музыкантов одновременно), и художественные выставки. Но культурная жизнь на островах была отмечена и своеобразными всплесками артистического сопротивления.
Клод Каюн и Марсель Мур, французские художницы, поселились на острове Джерси перед самой войной. Когда пришли нацисты, парочка получала приглашения на вечеринки с оккупантами. Однако они не ограничивались тем, что распивали шампанское и воровали со стола канапе, да и, с учетом сексуальной ориентации подружек, вряд ли их интересовал секс с офицерами. На самом деле художницы напрашивались на светские рауты и тайком рассовывали по карманам немцев антифашистские листовки. Это были не просто пропагандистские листки, а произведения искусства, в виде антифашистских стихотворений или вырезанных из газет статей о зверствах нацистов.
Неудивительно, что фашисты схватили Каюн и Мур в 1944 году и приговорили к смертной казни, хотя приговор так и не был приведен в исполнение, и они закончили войну в тюрьме. Если бы они проделали то же самое во Франции, для них все закончилось бы гораздо хуже, поскольку обе они были еврейками.
Из представителей мейнстрима можно назвать Эдмунда Блампье. Когда разразилась война, ему уже исполнилось пятьдесят три года, и он был всемирно известным художником-иллюстратором, одним из ведущих деятелей культуры острова Джерси. Блампье предпочел не покидать остров в 1940 году, хотя его жена была еврейкой. Ни он, ни его жена не пострадали от оккупантов, и его даже могли бы обвинить в коллаборационизме, поскольку он согласился оформлять банкноты и почтовые марки военного времени. Выходит, Блампье сочувствовал оккупантам?
Не совсем. Он сильно рисковал, включая в дизайн своих марок буквы «GR», имея в виду короля Георга VI, так что любой островитянин каждый раз, когда перед наклеиванием проводил языком по обороту марки, показывал нацистам язык.
Предательство или хитрость?
После войны бритты приступили к расследованию фактов коллаборационизма на островах. Обвинения в отношении судебного пристава Джерси, Александра Кутанша, были сняты, так что кто-то мог бы сказать, что британский истеблишмент ничем не лучше французского, своих не выдает. Но похоже, Кутанш, в числе других политиков, поддерживал рабочие отношения с нацистами исключительно ради облегчения участи жителей. И не только коренных островитян — известно, что он ходил к нацистскому командиру жаловаться на плохое обращение с русскими, которых, как рабов, использовали на строительстве укреплений. Островитяне часто подкармливали несчастных, и это приводило нацистов в такую ярость, что они вывесили плакаты с призывами не кормить заключенных, потому что живым скелетам еды хватает.
На самом деле Кутанш вел свою, невидимую, кампанию сопротивления оккупантам, зачастую отказываясь подписывать приказы или вводить новые правила, и на его фотографиях 1945 года можно увидеть заметно исхудавшего по сравнению с 1940 годом мужчину. Если только голодовка не была хитрым планом с целью избежать разоблачения, Кутанш явно сидел на той же строгой диете, что и все островитяне.
После войны у местных дельцов черного рынка конфисковали прибыли, и было арестовано несколько «немецких подстилок». Сорок островитян выселили, а двенадцать судили, в том числе платных информаторов, хотя впоследствии все обвинения были сняты. Такое впечатление, что острова, как и Франция, предпочли оставить недавнее прошлое в прошлом.
Так что и бритты сотрудничали с нацистами, нельзя сказать, что они были все в белом. Однако есть одна большая разница между Парижем и Джерси или Гернси: практически все активное мужское население островов ушло на фронт, а не просиживало в кафе, рассуждая об истинном смысле моральной свободы.
Французы «освобождают себя»
Слезы радости и облегчения, которыми встречали жители Нормандии союзные войска в июне 1944 года, лучше всего передавали реальную историю Освобождения. Только вот не видел их один человек: Шарль де Голль.
Из соображений безопасности ему рассказали о подготовке дня «D» только за двое суток до высадки. После всего, что уже бывало в истории союзных операций, Черчилль опасался, что если французы узнают о готовящемся событии заранее, то немцы непременно разнюхают, что затевают союзники. Разумеется, речь не шла об умышленном предательстве — просто был риск, что кто-то из соратников де Голля отправится в лондонский книжный магазин и закажет 500 карт Нормандии.
Если сегодня вы спросите француза, чьи войска высадились на берегах Нормандии 6 июня 1944 года, ответ, скорее всего, получите такой: «В основном американцы». Да, бритты там тоже были, признает он, но не так уж много. А уж про канадцев и вовсе умолчит.
На самом деле из 156 000 человек, высадившихся в Нормандии в день «D», 73 000 были американцами, а 83 000 — солдатами Британской армии, хотя справедливости ради стоит отметить, что только 61 700 из них имели британский паспорт. Остальные были в основном канадцы.
Кстати, в союзных войсках служили и французы — морские коммандос, которым выдали диаграммы целей за несколько дней до вторжения. На картах не было местных ориентиров, но некоторые из пехотинцев-нормандцев узнали район высадки. Британские командиры так обеспокоились возможной утечкой информации, что даже заперли французов в их лагере до самого дня высадки.
Французских коммандос возглавлял Филипп Киффер, который примкнул к союзникам еще в самом начале войны, и его отряд храбро сражался, понеся пропорционально большие потери во время битвы за Нормандию: погиб каждый пятый. Цифра звучит впечатляюще, и по статистике так оно и было, но кажется почти невероятным, что в день «D» французские силы вторжения насчитывали всего 177 человек. Не 177 бригад или батальонов — а 177 человек, что составило чуть более 0,1 процента общей численности союзных войск.
Почему так мало? Ну, помимо того, что большая часть французской армии оказалась в немецких концлагерях, союзникам с огромным трудом удалось добиться от де Голля поддержки операции по вторжению во Францию. Генерала задело то, что его слишком поздно информировали, а еще его раздражала настойчивость Черчилля, который говорил, что еще до начала высадки необходимо обсудить форму управления освобожденной Францией. Де Голль пренебрежительно заявил, что он и без американцев разберется, как править собственной страной. Он даже отказался отпускать 200 французских офицеров вместе с войсками союзников, потому что не хотел, чтобы они были политически скомпрометированы. Его беспокоило то, что союзники могут установить в освобожденных зонах временный режим, который он не сможет контролировать. Американский генерал Джордж К. Маршалл был так взбешен этим отказом, что в сердцах сказал: «Сыны Айовы не будут биться за то, чтобы во Франции стояли статуи де Голля». Это весьма символичное замечание показывает, на что в действительности надеялся де Голль.
Генерал до последнего тянул с речью для французов, вынудив Черчилля сказать в его адрес: «Ослеплен амбициями, словно балерина». (Черчилль явно знал кое-что о балеринах, чего не знает большинство из нас.)
В конце концов де Голль уступил — как обычно, он просто доводил ситуацию до точки кипения, проверяя союзников на прочность и метя свою территорию, — и выступил с блестящей речью перед французами по радио Би-би-си.
«Великая битва началась. После стольких лет борьбы, ярости и боли нанесен решающий удар. Конечно, это Битва за Францию, и это Битва Франции!» [Этот повтор — не опечатка. Когда я говорю, что он выступил с блестящей речью, я имею в виду стандарты французской риторики.] Далее генерал сказал: «Огромные атакующие силы — для нас это силы спасения — двинулись от берегов Старой Англии, последнего бастиона Западной Европы, который устоял против приливной волны германской агрессии. Именно отсюда началось движение к свободе. Франция, в течение четырех лет унижаемая, но не раздавленная и не убитая, — Франция снова стоит на ногах и играет свою роль. Франция будет бороться изо всех сил. Она будет бороться методично. Именно так, в последние 1500 лет, мы выигрывали все наши битвы».
Углубляясь так далеко в историю, де Голль, похоже, имел в виду вторжение гуннов Аттилы, которое Франция действительно отразила, хотя, согласно французской легенде, в этом больше помогли молитвы святой Женевьеве, чем воинская доблесть и умение.
Де Голль призвал французов противостоять агрессору «с оружием в руках, уничтожая его физически и морально», и поэтически заключил: «Битва Франции началась. Нация, империя, армия объединились в едином желании, единой надежде. Из-за тяжелого облака наших слез и крови мы наконец-то видим солнце нашего величия!»
Можно было подумать, что Ла-Манш пересекают 177 тысяч французов, а не 177 человек. Де Голль же пополнил их ряды только 14 июня, то есть спустя целую неделю после начала наступления, но едва он ступил на родную землю, стало совершенно ясно, что он одержал личную победу. Где бы он ни появился, освобожденные французы приветствовали его как героя и принимали за своего нового лидера. Его решимость не делить ни с кем власть и не позволять союзникам вмешиваться в послевоенное устройство Франции принесла свои плоды. Согласно Симону Бертону, автору книги «Союзники в войне», в которой подробно описаны непростые отношения между де Голлем, Черчиллем и Рузвельтом, возвращение генерала было очень удобным для французов, поскольку он служил живым воплощением мифа о том, что Франция не повержена. Он представил все дело так, будто Освобождение стало результатом его присутствия в Лондоне и что, вопреки действительному положению вещей, Франция никогда не переставала сопротивляться врагу.
Кто освободил Париж? Moi! [116]
Французы думают, что Париж освободил в конце августа 1944 года легендарный генерал Леклерк, войска которого соединились с силами Сопротивления и разгромили нацистов, принудив их к капитуляции. Леклерка, опять же по французской версии, сопровождала неофициально примкнувшая компания американцев, но бриттов уж точно с ним не было.
Фактически это очень близко к истине, но причины отсутствия бриттов среди тех, кто освобождал Париж, вовсе не те, что обычно приводят французы.
По плану Черчилля основные французские силы под командованием Леклерка (полное имя Филипп Леклерк де Отклок; концовку обычно не произносят, возможно, потому, что она переводится как «высокий волдырь») должны были придти в Нормандию в начале августа. Вторая танковая дивизия Леклерка насчитывала 14 000 солдат, включая 3600 североафриканцев и 3200 испанских республиканцев, и формально находилась в подчинении американского генерала Патона, хотя позднее выяснится, что ее настоящим командиром был де Голль.
Бросок союзных войск в сторону Германии планировался, по очевидным географическим причинам, значительно севернее Парижа [117]. Теоретически союзники, если бы перешли Сену и подошли к бельгийской границе, могли бы отрезать оккупационную армию Гитлера и опередить Сталина и коммунистов в гонке на Берлин («холодная война» уже началась во всем, кроме названия).
Однако это категорически не устраивало де Голля. Он понимал, что ему необходимо добраться до Парижа как можно скорее, если он хочет править всей Францией. В столице становилось жарковато — 15 августа началась всеобщая забастовка, а следом за ней, через четыре дня, вспыхнуло восстание вооруженных сил Сопротивления Парижского района — пестрой, разобщенной гражданской армии, которую возглавлял коммунист Анри Роль-Танги, или просто «полковник Роль».
Де Голль никак не мог допустить, чтобы Роль присвоил лавры победителя, а заодно и столицу: благодарность размахивающих флагами нормандцев ничего не значила, если Париж освободили бы коммунисты. Так что в очередной раз общая стратегия союзников отошла на второй план, пропустив вперед интересы де Голля и (как он утверждал) Франции.
Тем временем генерал Эйзенхауэр был полностью занят преодолением отчаянного сопротивления нацистов, с которым его войска встретились в Северной Франции, поэтому де Голль пригрозил послать одного Леклерка с его маленькой армией на Париж, если союзники не согласятся прервать наступление и освободить город. Смелый, но плохо проработанный план де Голля привел бы к уничтожению ценных танков Леклерка (которые на самом деле были американскими машинами), поэтому Эйзенхауэр согласился поддержать французов большими силами американской пехоты и — по-спортивному — позволить Леклерку первому войти в город.
Гонка началась. Де Голль приказал своим людям наступать на Париж как можно быстрее, чтобы украсть у коммунистов победу. И Леклерк ударил по городу с юга, непреднамеренно выбрав направление, на котором немцы сосредоточили основные силы. И это привело к тому, что не только Леклерк увяз, но и немцы встрепенулись, поняв, что грядет большая атака.
Французы отошли и попробовали подойти к городу с запада, но и тут их задержали — правда, на этот раз жители западных пригородов, которые вышли навстречу танкам и закидали их цветами, вином и зацеловали танкистов. Потеряв терпение с Леклерком, американцы объявили, что атакуют немцев на юге всеми имеющимися силами, а потом маршем войдут в город, и если француз к этому времени не будет во главе освободителей, это уж его головная боль. Ультиматум прозвучал вечером 24 августа.
Боясь подвести де Голля, Леклерк попросил своего капитана, Раймона Дронна, возглавить небольшую группу из трех бронемашин и трех танков и, полагаясь на знание города, прорваться обходными путями через юго-западные пригороды. И приказал быть в центре Парижа той же ночью.
Приказ Раймон Дронн выполнил, хотя знание местности не особо ему пригодилось — Дронн вообще-то не был парижанином, а большинство его ребят были испанцами. Но они благополучно добрались до Отель-де-Виль (ратуши) незадолго до полуночи, и Нотр-Дам приветствовал их колокольным звоном. Все парижане знали, что означает этот звон, включая немцев, которые защищали городские окраины; они отступили ночью, позволив основным силам Леклерка триумфально войти в город.
Нацистский губернатор Парижа, Дитрих фон Холтитц [118], сдался полковнику Ролю и генералу Леклерку 25 августа на вокзале Монпарнас и приказал 17 000 немецких солдат прекратить сопротивление.
Триумфатор де Голль прибыл в Париж двадцать пятого числа и объявил себя главой Временного правительства Французской республики; он возражал против того, чтобы имя полковника Роля появилось в официальном документе о капитуляции Германии. Генерал вернулся в свой прежний кабинет в военном министерстве, а оттуда пешком прошел в Отель-де-Виль, откуда официально установил военный контроль над городом. Его пригласили выйти на балкон и провозгласить возврат Республики, но он отказался, сказав, что оставался лидером Франции в течение четырех лет и ему нет необходимости что-то провозглашать.
Именно в Отель-де-Вилль он произнес еще одну знаменитую речь, декларацию «Освобожденный Париж», в которой, ни словом не обмолвившись о том, что войска Черчилля и Рузвельта еще ведут бои за стратегически менее важные районы Франции, объявил, что Париж освобожден «французским народом с помощью армии Франции, при поддержке и помощи всей Франции, сражающейся Франции, единственной Франции, настоящей Франции, одной только Франции».
Генерал пошел еще дальше. При встрече с членами британского УСО — ребятами, которые координировали деятельность Сопротивления, — он попросту попросил их покинуть Париж. Он сказал: «Здесь вам делать нечего». Другими словами, прощайте и спасибо за чай.
На следующий день де Голль возглавил шествие по Елисейским Полям, в сопровождении Леклерка и толпы борцов Сопротивления. Танки Леклерка остались припаркованными возле Триумфальной арки — де Голль не хотел устраивать полномасштабный военный парад. На самом деле танки вообще не должны были там находиться, потому что Эйзенхауэр приказал им вернуться в строй, в союзную армию, после того как сделают свою работу в Париже. Де Голль разрешил Леклерку игнорировать приказ и вдобавок постановил, что американцы не имеют права участвовать в его параде победы.
Это был великий день де Голля, и в народной памяти навсегда запечатлелись моменты, когда он пересекал площадь Согласия и вдруг прогремели снайперские выстрелы, и потом все повторилось, но уже у собора Нотр-Дам. В обоих случаях практически все, солдаты и штатские, кинулись врассыпную в поисках укрытия — все, кроме де Голля. Циники предполагают, что выстрелы были «домашней заготовкой», но, скорее всего, де Голль просто чувствовал себя неуязвимым. Это был миг, ради которого он жил, начиная с того дня в июне 1940 года, когда Уинстон Черчилль подтолкнул его к микрофону Би-би-си, и ни один трусливый снайпер не мог его испортить.
Одной пощечиной не обошлось
Как только Париж был освобожден, де Голль приступил к делу, закрепляясь во власти. Он реформировал Первую армию и отправил ее на подмогу союзникам, которые вели бои за остальные районы Франции. Как обычно, при поддержке американцев Первая армия совершила марш-бросок через Рейн и Дунай в самое сердце Германии.
Де Голль послал войска и для восстановления контроля над французскими колониями в Азии и Африке, не подозревая о том, что тем самым обрекает Францию на беспощадные колониальные войны 1950-х и 1960-х годов, но на тот момент ему было важно отучить англосаксов от привычки совать нос в дела Французской империи.
И все-таки это свершилось — война окончилась, и Франция оказалась в числе стран-победительниц.
Однако де Голля ожидали две прощальные пощечины. И как ни странно, получил он их вовсе не от бриттов или американцев.
На фотографиях с Ялтинской конференции, проходившей в феврале 1945 года, бросается в глаза отсутствие французов. Встреча «большой тройки» (а не grand quatre, «большой четверки») с целью обсуждения послевоенного устройства Германии проходила с участием Сталина, Черчилля и Рузвельта. Рузвельт наложил вето на присутствие де Голля, назвав его «нежелательным фактором», а Сталин высказался еще резче, заявив, что вообще не видит, что сделали французы, чтобы обеспечить себе место за столом переговоров. Так что лишь усилиями Черчилля Франция была приглашена к нарезке послевоенного германского пирога на сектора союзников.
Но пощечина оказалась не слишком болезненной, потому что, если не считать отсутствия в историческом фотоальбоме, для де Голля результат конференции оказался вполне приемлемым: после мая 1945 года Франция вернулась в границы 1918 года, и ее танкам даже разрешили разъезжать по Германии. Честь страны была восстановлена.
Второй шлепок оказался куда более унизительным, поскольку исходил от самой Франции. Так же, как и Черчилль, которому в 1945 году уставшие от войны бритты не отдали свои голоса, де Голль не смог удержать власть. Его новая и свободная нация решила, что не хочет видеть генерала верховным лидером, и, устав от склок с коммунистами и социалистами, де Голль вышел из коалиции, в духе Макбета сказав стране на прощание: «Вы пожалеете о том пути, который выбрали».
Оглядываясь назад, трудно представить, что после изнурительной военной кампании в поисках славы для Франции и себя де Голль так просто ушел из своего кабинета. Но это значит, что вы не поняли этого человека. Он был совсем не похож на известных нам лидеров военного времени. Де Голль видел себя новым Наполеоном.
И вот тогда все сходится: ярость, которую он испытывал всякий раз, когда англичане приближались к Французской империи; ужас при одной только мысли, что англосаксы вторгаются во Францию (пусть даже в роли освободителей); победное возвращение к Триумфальной арке; декларации в стиле «Франция — это я»; даже путь, которым он пришел во власть, проявив находчивость и смекалку. Он был новым Бонапартом. И, как и Бонапарт (по крайней мере, до последней ссылки), де Голль знал, что нация может отвергнуть его сейчас, но вскоре пожалеет об этом и будет умолять его вернуться.
И когда это возвращение все-таки состоялось, настала очередь бриттов и американцев кусать локти.
Глава 21 Час расплаты
Де Голль берет реванш за Вторую мировую
Британия, США и Франция вышли из Второй мировой войны потрепанными, но в глубине души счастливыми. Несмотря на страшные человеческие и экономические потери, все три страны, каждая по-своему, одержали великие моральные и военные победы. Диктаторы были свергнуты, захватчики разбиты, а их извращенные идеалы развенчаны. Ну, или почти развенчаны, поскольку Сталин все-таки оставался головной болью и отныне, благодаря Черчиллю и Рузвельту, контролировал внушительную часть Европы. Но зато теперь союзники могли спокойно сесть за стол переговоров и спланировать путь вперед, к новому свободному западному миру — n'est-ce pas? [119]
«Э-э, нет, мерси», — последовал ответ из Франции, ответ, который звучал еще громче и все чаще с возвращением к власти Шарля де Голля. Как не раз демонстрировал генерал во время войны, у Франции были собственные приоритеты. Он даже создал основанную на l'exception française [120] новую философию, главный посыл которой звучал так: «Довольно с нас этих вездесущих англосаксов».
Но откуда взялась эта французская несговорчивость? Подобно утопающему, которого вытащил из воды его злейший враг, послевоенная Франция таила внутри болезненное чувство обиды, рожденное освобождением. С 1940 года по 1944 год давний злейший враг не только вытянул французов из воды, но еще и дал им крышу над головой, теплую одежду и горячую еду, а потом проводил домой в лимузине с шофером. Долг благодарности был слишком велик, и после 1945 года Франция исполнилась решимости показать, что ей не требуется покровительство. Франция хотела взять реванш.
Наконец-то удачная французская шутка
Франция всегда считала НАТО своей идеей. Именно Франция хотела создать международную организацию для защиты Европы от новой возможной агрессии со стороны Германии, но в 1948 году, когда уже не на шутку разыгралась «холодная война», США сплотились с Британией и сделали все, чтобы Североатлантический союз стал прежде всего антисоветской инициативой. Чтобы еще яснее выразить свое стремление игнорировать пожелания Франции, англосаксы предусмотрели особые условия для Германии, предполагающие ее возможное участие в военном альянсе, а штаб-квартире НАТО дали совсем уж английское название Supreme Headquarters Allied Powers in Europe (SHAPE) — Главное командование объединенными вооруженными силами союзных держав в Европе. Quelle insulte! [121]
Впрочем, у Франции был шанс отыграться. Она любезно предложила приютить SHAPE и выстроила здание штаб- квартиры в 20 километрах от Парижа, в городке Рокенкур (Rocquencourt), название которого англосаксам было не под силу ни произнести, ни написать правильно.
Бритты и американцы могли бы также задаться вопросом: с чего вдруг французы выбрали этот парижский пригород? Может, из-за близости к Версалю, где солдаты НАТО могли бы культурно проводить досуг?
Да нет, более правдоподобным представляется другой ответ: Рокенкур был местом последнего сражения Наполеона.
Видите ли, англосаксы пребывали в уверенности, что поражение при Ватерлоо 18 июня 1815 года стало лебединой песней Императора, но на самом деле, всего пару недель спустя, его армия билась в самый последний раз и одержала великую победу.
Первого июля 1815 года прусские захватчики уже подходили к стенам Парижа, когда французские кавалеристы заманили их в Рокенкур, где устроили им хорошую трепку и взяли в плен 400 солдат. Конечно, после этого пруссаки послали за подкреплением, отогнали остатки наполеоновской армии и захватили Париж, но для французов это уже несущественные детали. Главное то, что Франция выиграла этот последний бой и что Наполеон, в конечном итоге, остался победителем, а не лузером, как пытаются представить его англичане.
Практически никто не слышал о бое при Рокенкуре, и французы, видимо, ухмылялись, довольные, наблюдая за тем, как англосаксы впервые прибывают в штаб-квартиру альянса. Пожалуй, это лучшая военная шутка всех времен.
Империя наносит ответный удар
Тем временем рушился старый мировой порядок. Британская империя распадалась, но, к счастью, минуя фазу жестоких колониальных войн, чего нельзя сказать о Французской империи. Когда коммунистический вождь Хо Ши Мин начал восстание в Индокитае, французы ввязались в конфликт, бросив своих лучших солдат (разумеется, кроме Генерала) на подавление вьетнамских мятежей. Но даже такие полководцы, как генерал Леклерк, были бессильны остановить Хо Ши Мина, который оттачивал боевое мастерство в войне с японцами, и все закончилось малоприятно для французов в 1954 году в долине Дьен Бьен Пху.
Полагая, что какие-то азиатские партизаны никогда не смогут выиграть тщательно подготовленное военное сражение, французы нарыли окопов, как в Первую мировую, и пришли в ужас, когда организованные силы Вьет-Мина начали бомбардировать их с убийственной точностью с высоты соседних холмов. Создавалось впечатление, что повстанцы начитались военных учебников Наполеона. Командира французской артиллерии настолько потрясло то, что его обвели вокруг пальца, что он пошел в свой бункер и покончил с собой, взорвав ручную гранату.
После почти двух месяцев ожесточенных боев бойцы Вьет-Мина наконец одолели французов, взяв в плен более 11 000 солдат. Переговоры о признании независимости Вьетнама начались в Женеве 8 мая 1954 года, спустя ровно девять лет после победы Франции в Европе, и, разумеется, не обошлось без злорадствующего хора англосаксов: «А мы ведь предупреждали».
Французы довольствовались крохами победы, добившись соглашения, согласно которому Хо Ши Мину было отказано в проведении общенациональных выборов, в результате которых он, безусловно, победил бы, а страна временно разделялась на две части, и на юге власть получил марионеточный профранцузский правитель, посеявший семена вьетнамской войны, во время которой американцы спустя десятилетие хлебнули по полной.
Однако, к несчастью для Франции, Хо Ши Мин подал пример другим народам, и восстания разразились или вспыхнули с новой силой в других французских колониях — Камеруне, Тунисе, Марокко, — но самым кровавым был конфликт в Алжире. Британцы вызвали великое возмущение французов, отказавшись продавать им вертолеты для использования в Алжире, вновь продемонстрировав типично английскую способность вставать в позу по высоким моральным соображениям. Создавалось впечатление, будто эти две страны никогда и не были союзниками. Фактически единственным светлым пятном в англо-французских отношениях послевоенного периода стал трагический момент в истории обеих наций…
В 1956 году полковник Насер, президент Египта, объявил о национализации Суэцкого канала, жизненно важной связующей артерии между Европой и Азией. Строили канал французы, и «Всеобщая компания Суэцкого канала» управляла им со дня окончания строительства в 1869 году. Но 26 июля 1956 года Насер провел закон о национализации и заявил, что Египет выкупит все акции по их цене в день закрытия фондовой биржи. Это был вполне законный шаг, но существенно подрывающий британские и французские позиции в регионе.
Французы уже подыскивали предлог, чтобы ударить по Насеру. Он делился с алжирскими повстанцами военными советниками и оружием, в том числе проданным Египту британцами. Поэтому Франция с полным правом предложила Британии совместно вторгнуться в Египет с целью возвращения канала под свой контроль. Французы даже предложили бриттам командование армией вторжения (тем самым добиваясь, чтобы и «чистенькие» англичане наконец замазали себя колониальной войной) и заверили, что гарантируют успех операции подключением своих новых друзей, израильтян, которым тоже не терпелось прижать к ногтю непослушного Насера.
Британский премьер, Энтони Иден, франкофил, работавший посредником между де Голлем и Черчиллем в годы Второй мировой войны, колебался, но все-таки дал отмашку на проведение тайных переговоров между Францией, Израилем и Британией. Переговорщики должны были встретиться в суперзасекреченном месте — одном из частных домов аристократического парижского пригорода Севр — и проработать детали совместной стратегии. Предполагалось, что Израиль вторгнется в Египет и сместит Насера, а потом вмешаются британцы и французы, якобы в качестве миротворцев, но на самом деле — чтобы восстановить свои позиции в Египте. Хитроумный план, ничего не скажешь.
Как ветерану лондонских событий 1940–1944 годов, Идену следовало бы знать, что гриф «совершенно секретно» носил весьма условный характер, если дело касалось англо-французских отношений, и ему не стоило бы удивляться, когда его люди вернулись в Лондон с планом вторжения, изложенным черным по белому, несмотря на то что получили строжайшие инструкции ничего не доверять бумаге. Складывалось впечатление, что французы попросту подставляли британского премьера.
Да, они определенно сталкивали лбами Идена и его союзника, президента США Эйзенхауэра, который был против военного вторжения. И когда в октябре 1956 года началась англо-французско-израильская атака, бритты в очередной раз продемонстрировали, кому они на самом деле верны. Вторжение и вызванные им сомнения в роли Британии как участника конфликта на Ближнем Востоке так ударили по фунту стерлингов на финансовых рынках, что Идену пришлось поддержать национальную валюту заимствованными американскими долларами, но этот заем он получил, пообещав Эйзенхауэру убраться из Египта.
Французы призывали его не поддаваться давлению американцев, по крайней мере, пока Насер не сломлен, но Иден трусливо признался, что уже дал слово Эйзенхауэру. Суэц для Британии окончился.
Для Франции же он был последней соломинкой. Это было повторение Дюнкерка. Бритты, как всегда, проявили себя ненадежными союзниками, но теперь повели себя еще более постыдно, потому что безропотно пошли на поводу у своих новых американских хозяев.
Французы решили, что самостоятельно выиграют эту колониальную войну, но так глубоко увязли в Алжире, что взбунтовалась их собственная армия. Отколовшийся отряд французских десантников вторгся на Корсику (может, хотел вдохновиться визитом на родину Наполеона?), и, как говорили, он собирался идти на материк и брать власть в свои руки.
Между тем де Голль сидел в своем наблюдательном пункте, он же рабочий кабинет, который построил в своем доме в деревеньке Коломби-ле-Дез-Эглиз, и взирал на то, как Франция выставляет себя на посмешище. Он напоминал мудрого ветерана бейсбола, наблюдающего за ходом матча: потирая руки, он наблюдал тот кошмар, в который превратили его команду выскочки-новички, но в глубине души знал, что однажды они призовут его обратно и будут умолять выиграть для них главный матч сезона.
И это произошло 28 мая 1958 года. Пока Париж сидел за обеденным столом, гадая, когда с неба спустятся мятежные парашютисты, французский президент, Рене Коти, пригласил де Голля вернуться и спасти страну. На возражения политических оппонентов генерал ответил: «Неужели кто-то думает, что в возрасте шестидесяти семи лет я начну карьеру диктатора?»
Де Голль вернулся во власть и был чрезвычайно доволен собой. Даже Наполеону не удался такой триумфальный камбэк после двенадцати лет забвения. Теперь всем предстояло увидеть, чего француз может добиться на мировой сцене.
Французы хотят убить своего генерала
Почти четыре года ушло у де Голля на то, чтобы разобраться с делами дома. Влиятельные силы во французском истеблишменте никак не хотели терять Алжир. Вооруженная группировка под названием «Тайная вооруженная организация» осуществляла террористические акты на материковой части Франции; полиция убила около 200 алжирских иммигрантов после протестного марша в Париже; сам де Голль пережил более тридцати попыток покушения, предпринятых не только алжирскими борцами за независимость, но и французами. Самым опасным был пулеметный обстрел его автомобиля, тогда генерал и его жена чудом остались в живых. Но де Голль уже бывал в таких передрягах и всегда выходил победителем. Он провел переговоры о предоставлении независимости Алжиру, после чего полностью сосредоточился на англосаксах.
В 1957 году Франция подписала соглашение об общем рынке с Бельгией, Люксембургом, Голландией, Италией и Западной Германией. Рискуя быть исключенными из торговли с этими странами, в 1958 году бритты решили, что не прочь поучаствовать в этом веселом клубе.
Однако часть соглашения об общем рынке, Римский договор, Британию никак не устраивала: сельскохозяйственная политика и полвека назад вызывала нарекания у скептиков, которые полагали, что она задумана исключительно в интересах французских фермеров. Неудивительно, что Британия предложила распространить свое членство в общем рынке на все товары, за исключением сельскохозяйственной продукции.
Французы возмутились этим извечным желанием британцев подогнать правила игры под себя (возможно, Франция полагала, что такое право есть только у нее?), и де Голль прервал переговоры. Свой отказ он обозначил еще яснее, пролоббировав выработку общей сельскохозяйственной политики, которая была принята в 1962 году и вознесла французских фермеров на недосягаемый пьедестал, который они гордо занимают до сих пор.
Британский премьер Гарольд Макмиллан не сомневался, что де Голль исключает бриттов, поскольку видит в них американских марионеток и одновременно соперников в борьбе за европейское господство. Как выразился Макмиллан, француз никогда не простит англосаксам Освобождения. И в этом он был абсолютно прав. Де Голль видел себя хозяином положения в новой Европе и не собирался ни с кем делиться своей властью.
Но даже при таком раскладе Макмиллан был полон решимости убедить генерала в смягчении позиции и пригласил его поохотиться в свое загородное имение Берч-Гроув в Суссексе. Премьер был настоящим помещиком и обожал расхаживать по своим владениям в твидовых костюмах, постреливая в дичь. Де Голль принял приглашение, но уик-энд не стал дружеским спортивным времяпрепровождением, на что надеялся Макмиллан. Француз, обеспокоенный постоянными покушениями на свою жизнь, всегда путешествовал с запасом крови на случай, если ему понадобится переливание, но миссис Макмиллан, особа слегка эксцентричная (она имела привычку копаться в саду по ночам, надев шахтерскую каску), категорически отказалась держать в доме такую мерзость. Французам пришлось привезти специальный холодильник и установить его во флигеле. Вдобавок ко всему, охранники де Голля испортили охоту, расхаживая по лесам и распугивая фазанов. Они явно не были спортсменами.
Ответный визит во французский президентский дворец в Рамбуйе под Парижем в конце 1962 года прошел не лучше. Здесь де Голль чувствовал себя твердо стоящим на исторической почве. Именно в Рамбуйе в 1944 году он написал речь «Освобожденный Париж». Генерал был настолько раскован, что на охоте ни на шаг не отходил от Макмиллана и произносил громкие комментарии каждый раз, когда британский премьер промахивался.
Де Голль ясно дал понять, что не видит особого смысла в переговорах о вступлении Британии в европейское экономическое сообщество. Он прямо сказал Макмиллану о том, что европейский расклад сил позволяет Франции не только накладывать вето на любые решения, но и держать в узде Германию, тогда как со вступлением в игру Британии французы уже не будут чувствовать себя так комфортно. Де Голль настоял на том, чтобы общаться с премьером без переводчика, и, хотя Макмиллан очень хорошо говорил по-французски, беседа неизбежно оказалась односторонней. Позже де Голль описывал Макмиллана как беднягу, которому ему нечего было предложить и который выглядел таким побитым, что ему хотелось положить руку ему на плечо и сказать: «Не плачь, милорд».
Но и на этом де Голль не остановился. Он продолжал делать резкие заявления, препятствуя попыткам Британии вступить в европейское сообщество. Британия в течение 800 лет пыталась существовать вместе с Европой, не присоединяясь к ней, говорил он (хотя мог бы прибавить к этой цифре еще пару веков). Досталось от него бриттам и за принятые на вооружение американские ракеты «Поларис», еще одно доказательство того, что Британия находится в кармане у США, а потому ее нельзя рассматривать как надежного союзника Европы. И когда один из министров де Голля покритиковал его за короткую память о «Сердечном согласии», генерал попросту напомнил ему про Азенкур и Ватерлоо. Для де Голля сворачивание переговоров по общему рынку было чисто исторической местью.
Au revoir[122] американцам
На протяжении всей своей послевоенной карьеры де Голль старался как можно больнее хлестнуть янки, особенно им доставалось за Вьетнам. Генерал клеймил их позором, называл «отвратительной» войну, в ходе которой «большая нация уничтожает маленькую», удобно забывая о подвигах Франции в этой же самой стране.
Тысяча девятьсот шестьдесят шестой год подарил ему шанс показать политический язык Америке, а заодно и Британии.
Де Голль начал мутить воду в НАТО практически сразу после возвращения во власть в 1958 году, возмущаясь тем, что Британия и США сплотились в стремлении контролировать политику Альянса. В 1959 году он потребовал убрать все иностранное ядерное оружие с французской земли, вынуждая американцев вывезти свои ракеты в Британию и Германию, а в 1962 году вывел свой флот из-под командования НАТО. Его показная борьба за независимость достигла логической кульминации, когда в 1966 году он приказал всем иностранным войскам покинуть территорию Франции, мотивируя это тем, что в случае войны не позволит французским солдатам кланяться американским генералам, как они были вынуждены это делать во время Второй мировой войны.
Эпизод с заявлением де Голля о своей новой политике вошел в историю.
По всей видимости, генерал позвонил по телефону американскому президенту, Линдону Джонсону, чтобы сообщить о том, что Франция выходит из НАТО, и, стало быть, все американские военные должны покинуть французскую землю.
В телефонных переговорах участвовал Дин Раск, госсекретарь США, и Джонсон попросил его сказать: «Включая тех, кто в ней похоронен?»
1968 год: парижские студенты открывают для себя секс
Спустя два года история поквиталась с де Голлем.
В мае 1968 года парижские студенты ринулись на баррикады. Сегодня это восстание вспоминают во Франции как современную версию 1789 года, бунт идеалистической молодежи против тирании истеблишмента. Впрочем, на самом деле все начиналось с небольшой бузы по поводу секса.
В марте студенты нового кампуса в Нантерре, западном пригороде Парижа, устроили забастовку из-за плохих условий жизни. Кампус представлял собой убого обставленные жилища и сочетал в себе безликость французской новостройки, грязь окопов Соммы и нелепость карликовой столовой. Но самое ужасное заключалось в том, что мальчикам и девочкам не разрешали находиться вместе в местах проживания — другими словами, переспать было невозможно. В знак протеста раздраженные студенты оккупировали административные здания.
Узнав о причинах сидячей забастовки, министр образования в правительстве де Голля подлил масла в огонь, посоветовав студентам остудить пыл в новом плавательном бассейне (судя по тому, как это прозвучало, вода в бассейне не подогревалась). Он также распорядился временно закрыть кампус Нантерра, и тогда студенты понесли свои печали в Сорбонну, в центр Парижа, где им удалось обратить недовольство по поводу однополых спален в призыв к национальной революции.
Ректор Сорбонны запаниковал и вызвал полицейские формирования для борьбы с беспорядками, которые при зачистке здания университета проломили несколько голов. Марш протеста против чрезмерного применения силы спровоцировал еще более яростный ответ властей, тем более что впервые в истории французских демонстраций жестокость полиции была снята на видео- и фотопленку. Вскоре события стали разворачиваться по спирали, выходя из-под контроля, в типично французском стиле, и по всей стране на улицы вышли сначала студенты, а следом за ними и рабочие.
К середине мая бастовало десять миллионов рабочих, и студенческую инициативу подхватили профсоюзы. Призыв к революции обернулся призывом к повышению зарплаты.
Де Голль здорово струхнул. Во время протестов он скрывался на французской военной базе в Германии, где обсуждал возможность применения оружия, и вернулся в столицу, как только все успокоилось. Забавно, но утихомирили ситуацию именно профсоюзы, которым было необходимо доказать, что только они, а не студенты из среднего класса, могут призывать к революции, когда и если в этом возникнет потребность.
Французы, однако, забывают, что, несмотря на эти бурные события, когда страна направилась к избирательным урнам в июне 1968 года (голосовать за новый парламент, а не за президента), сторонники де Голля одержали триумфальную победу, получив более двух третей мест. Несостоявшаяся революция лишь укрепила людей в желании оставить все как есть.
Однако показная неуязвимость де Голля дала трещину, и ему пришлось уйти в отставку спустя год после провала референдума о реформе местного правительства и сената, верхней палаты парламента. Довольно опрометчиво он пообещал уйти, если результатом референдума станет «нет»: вечная ошибка лидера после десяти лет пребывания у власти (разумеется, если только он не контролирует систему подсчета голосов).
Генерал — он же самый сильный французский соперник Британии и англосаксов со времен Наполеона, а в политическом смысле куда более успешный — скончался вскоре после своей отставки, 9 ноября 1970 года, от разрыва аорты, когда садился в кресло, чтобы посмотреть по телевизору новости. Ему было семьдесят девять лет.
Конечно, это совпадение, что всего за несколько дней до его смерти Британия объявила об открытии в Северном море запасов нефти, благодаря которой вскоре огромные суммы наличности потекли в британскую экономику. Не могло ли это вызвать скачок артериального давления у де Голля? Да нет, это было бы слишком. Но одно можно сказать наверняка: если есть жизнь после смерти и если де Голль оказался там же, где и Черчилль, старый британский бульдог наверняка злорадно ухмыльнулся, когда недовольный генерал прибыл обустраиваться на своем облаке. И уж совсем развеселился, когда де Голль схлестнулся в споре с Наполеоном о том, чье облако должно располагаться выше во французском секторе потустороннего мира.
Хичкок вдохновляет французских режиссеров
А в стороне от политических баталий англосаксы продолжали раздражать французов, засоряя французскую культуру своими варварскими фильмами и музыкой.
В конце 1950-х французский кинематограф наслаждался оглушительным мировым успехом благодаря режиссерам «новой волны», таким как Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль, с их высокохудожественным малобюджетным кино. Стиль и философию этих фильмов зачастую выставляют примером того, как Франции удается впрыснуть интеллектуальность в поп-культуру. Это верно: техника «нервной камеры», абстрактное повествование и импровизация, присущие режиссерам «новой волны», действительно повысили интеллектуальный градус кинематографа, при этом (что очень важно) не утомляя зрителя.
Фильмы не приносили большого дохода и в основном зависели от субсидий нового французского правительства, так называемого avance sur recettes — аванса на прибыль, что означало заем, подлежащий выплате только в случае, если фильм соберет кассу. Лишь некоторые из фильмов «новой волны» имели кассовый успех, но режиссеры считали эту ситуацию почетной. Однажды Жан-Люк Годар так высказался по этому поводу: «Я жалею французское кино, потому что у него нет денег. Я жалею американское кино, потому что у него нет идей».
Впрочем, гораздо реже вспоминают, как эти же французские режиссеры первыми признались в том, что черпали вдохновение у англо-американских авторов, таких как Альфред Хичкок, Чарли Чаплин и Орсон Уэллс. Можно сказать, что французской «новой волны» не было бы без Голливуда.
Однако при том, что американские блокбастеры делали куда более успешные сборы в кассах французских кинотеатров, благодаря avance sur recettes и новому поколению режиссеров, готовых его тратить, в целом дела у le cinema français (французского кинематографа) шли неплохо.
А вот с музыкой был полный провал.
Поначалу Франция довольно ловко устроилась в рок-н-ролльной революции, попросту переводя хиты на французский язык и предлагая их к исполнению доморощенным певцам. Это был гениальный ход: достаточно взять легко запоминающуюся песню, уже заработавшую большие деньги в США или Британии, и подсунуть местному малышу ее новую версию, при этом оставляя себе все гонорары за текст и создавая поп-звезду национального масштаба. Комбинация беспроигрышная, в стиле инсайдерских дилеров.
Джонни Холлидей, французская музыкальная мегазвезда, впервые появился на телевидении в 1960 году; его представили как певца d'origine américaine[123]. Его настоящее имя Жан-Филипп Сме, и он американизировал себя, приняв сценическое имя мужа своей кузины, певца Ли Холидея, которое затем слегка переврала записывающая компания. Джонни прославился имитацией танцевальных па Элвиса и песнями, в которых смешал рок-н-ролл с французским хрипловатым подвыванием. Ранними его хитами стали композиции Souvenirs, souvenirs, французский ремейк американского хита, и Be bop a lula, позаимствованная у Джина Винсента, а его первый альбом «Hello Johnny» был нашпигован переведенными на французский язык песнями, включая Itsy bitsy petit bikini. [124]
Джонни и все, кто пошел по его стопам, были, если так можно выразиться, узаконенными проводниками англосаксонской музыки. Они дарили задор американского рок-н- ролла французской публике на ее родном языке. В каком-то смысле они напоминали те же багеты или круассаны — иностранные продукты, мутировавшие в нечто абсолютно французское.
Куда меньше повезло группам и певцам, которые приехали во Францию в конце 1960-х и показали публике, как это делается, — тем же «Биттлз» и «Роллинг Стоунз» с их англосаксонской высокомерностью и раздражающе певучей английской лирикой.
Справедливости ради стоит сказать, что французские певцы всегда приветствовали и даже продвигали английских музыкантов. Так, в 1966 году Джонни Холлидей пригласил никому не известного Джимми Хендрикса в Париж, чтобы поддержать его, а певец Хью Офре много сделал для популяризации Боба Дилана своими переводами его песен.
Но культурный истеблишмент Франции был всерьез обеспокоен. Взять хотя бы «Биттлз»: французы всегда считали англичан привилегированными джентльменами в котелках, а тут эти мальчишки из рабочих кварталов преподносятся как трендсеттеры, да еще Ливерпуль выглядит круче, чем Париж. (Для парижан провинциалы — это низшая ступень эволюционной лестницы.)
А англичан это, похоже, устраивало. Они относились к этим музыкантам с большим уважением, чем к своей королевской династии. Это была настоящая революция, такая глубокая, какой никогда не переживала Франция. Вершину культурного олимпа заняли необразованные простолюдины, деревенские юнцы, такие же далекие от интеллектуальной парижской элиты, как рыба и жареная картошка от фуа-гра.
Да, французские звезды, такие как Эдит Пиаф и Джонни Холлидей, тоже вышли из народа, но для артистического истеблишмента они были не более чем популярными артистами. Но весь мир обсуждал музыку и лирику «Биттлз» так серьезно, словно они были Сартрами или Камю, а ведь никто из этой знаменитой четверки никогда не учился в университете.
И вот именно это, так же как и лингвистическое «засорение», раздражает французских консерваторов от культуры даже сегодня. Они просто не могут смириться с тем, что поп- культура имеет такое же право на существование, как классика. Во Франции даже поп-музыкантам необходимо профессионально учиться музыке, если они хотят, чтобы их воспринимали всерьез, — вот почему французы так беспомощны в поп- музыке. В то время как бритт или американец бренчит на гитаре, сочиняя музыку со своими друзьями, французскому малышу приходится штудировать учебник «Как читать музыку» под присмотром педагога, который не подпустит парня к инструменту, пока тот не выучит теорию. И это еще одно доказательство того, что студенческие волнения 1968 года ничего не изменили во Франции. Они спровоцировали несколько громких отставок, но культурная система даже не дрогнула и не содрогается в ритме рок-н-ролла и поныне.
Францию тянет ко дну
В июле 1985 года случился военный конфликт новейшего времени между Францией и англосаксами, причем за тридевять земель от Ватерлоо, на другом конце планеты.
Десятиминутное (и довольно однобокое) морское сражение разыгралось в Оклендском заливе у берегов Новой Зеландии.
Американский активист по защите окружающей среды Питер Уилкокс пригрозил направить корабль организации «Гринпис» «Рейнбоу уорриер» — переоборудованный британский траулер — к полинезийскому атоллу Муруроа, чтобы воспрепятствовать французским ядерным испытаниям. Намерения «Гринпис» вовсе не имели ничего близкого с франкофобией: «Рейнбоу уорриер» только что завершил миссию по эвакуации группы островитян, пострадавших от радиационного заражения после американских ядерных испытаний на атолле Бикини, а до этого проводил кампанию против незаконного китобойного промысла русских. На этот раз судно собиралось идти к Муруроа, и Францию это совершенно не устраивало.
Французы не впервые пытались срывать антиядерные пpoтесты. В 1966 году французские агенты подсыпали сахар в топливные баки яхты «Тридент», которая шла из Сиднея к Муруроа. «Тридент» удалось выйти в море, но на островах Кука одному из членов экипажа стало плохо, и Франция надавила на островитян, чтобы те задержали всю команду на карантин, как раз на время проведения ядерных испытаний. Ходило много слухов о других попытках французов останавливать суда протестантов, в том числе о мистических пищевых отравлениях экипажей и внезапных механических поломках. Но с «Рейнбоу уорриер» Франция решила идти ва-банк.
Впрочем, это не совсем так. Проблема, похоже, заключалась в том, что, не желая марать руки, президент Миттеран и его министр обороны, Шарль Эрню, дали такие туманные инструкции своей внешней разведке, ГУВБ (Генеральное управление внешней безопасности — Direction générale de la sécurité extérieure), что планирование операции взял на себя глава «Аксьон сервис», спецподразделения ГУВБ, офицер десантников Жан-Клод Лекье.
Французские десантники никогда не отличались утонченностью манер, да от них этого и не требуется, и план Лекье под кодовым названием «Сатанинская операция» лишь подтвердил это. Десантники намеревались прикрепить две магнитные мины к корпусу «Рейнбоу уорриер», пока судно стоит на якоре, надеясь, что первый взрыв малой мощности просто напугает команду, согнав ее на берег, а второй, разрушительный, прогремит через десять минут и разнесет корабль в щепки.
Подготовка к операции тоже отличалась топорностью. Для начала французы внедрили в новозеландское отделение «Гринпис» своего агента, некую Фредерик Бонлье (которая на самом деле была французским солдатом по имени Кристина Кабон). В то же время под командованием агента Луи-Пьера Диллэ двое оперативников, прикидывающихся швейцарскими туристами, Ален Мафар и женщина по имени Доминик Приер, начали довольно активно шнырять по берегам Оклендского залива.
Как только они установили местонахождение «Рейнбоу уорриер», команда из четырех человек доставила мины из французской колонии Новая Каледония в Новую Зеландию на туристической яхте «Увеа». Перевозили мины трое агентов разведки — Ролан Верж[125], Жерар Андрие и Жан-Мишель Барсело, которых сопровождал медик, Ксавье Кристиан Жан Маниге.
Подойдя к берегу неподалеку от Окленда, яхтсмены передали мины двум дайверам, личности которых достоверно не установлены, и вечером 10 июля 1985 года, пока экипаж «Рейнбоу уорриер» праздновал день рождения одного из своих членов, таинственная парочка сумела спокойно подобраться к корпусу корабля и закрепить мины. За десять минут до полуночи прогремел первый взрыв, заставив команду эвакуироваться с корабля (и, кстати, вызвав немалые разрушения).
Трагедия была в том, что команда повела себя не так, как предполагали французы. Вместо того чтобы броситься в порт и вызвать полицию, они вернулись на борт проверить, не остался ли кто в ловушке, и осмотреть повреждения. И спустя несколько минут, когда второй взрыв пробил в корпусе корабля дыру размером с гаражную дверь, несколько человек оставалось на палубе, а один — Фернандо Перейра, тридцатипятилетний португальский фотограф, который вернулся забрать свои дорогостоящие камеры, — задержался внизу. Полагают, что он был оглушен вторым взрывом и утонул, когда в пробоину хлынула вода. Его тело обнаружили рано утром полицейские водолазы; щиколотки парня опутали ремни сумки с видеокамерой.
Оклендская полиция начала расследование и быстро вышла на французский след. Франкоговорящая «швейцарская» чета несколько дней назад брала напрокат автофургон, и его видели возле «Рейнбоу уорриер». Французский экипаж яхты предъявил таможенникам новенькие паспорта, и, хотя мужчина назвался фотографом, никаких фотокамер на борту не оказалось.
Была объявлена тревога, а 12 июля «швейцарская» парочка досрочно вернула фургон в пункт проката, потребовав возвратить плату за неиспользованные дни. Пока агенты ждали денег, явилась полиция и арестовала парочку. Быстрая проверка обнаружила, что «мсье и мадам Тюранж» на самом деле агенты ГУВБ — Мафар и Приер.
Несколькими днями позже подозрительная яхта «Увеа» была остановлена австралийцами, но они не имели полномочий на задержание экипажа, и его спасла подоспевшая французская субмарина, которая затопила яхту, а с ней и все концы ушли под воду.
Несмотря на растущее число доказательств, французское правительство упорно отрицало факт причастности к инциденту и даже распространило слухи о том, что взрывы — дело рук британской секретной службы, МИ-6. Но после двух месяцев решительного «нет» французскому премьер-министру Лорану Фабиусу пришлось признать, что oui [126], Франция виновата, — и полетели головы: ушел в отставку министр обороны Шарль Эрню, а глава ГУВБ, Пьер Лакост, был уволен.
А тем временем в Новой Зеландии Мафар и Приер признали себя виновными в массовом убийстве и были приговорены к десяти годам тюрьмы, но французы скоренько вызволили их из заключения. Угрожая запретом на поставки новозеландских товаров в Евросоюз, Франции удалось репатриировать двух осужденных на французский атолл, где к Приер присоединился ее муж. Мафар «заболел» и был возвращен во Францию, а Приер забеременела и вскоре последовала за ним. К маю 1988 года, менее чем через три года после подрыва судна, оба агента зажили свободной жизнью.
Однако, по иронии судьбы, потопление «Рейнбоу уорриер» привело к тому, чего Франция больше всего боялась. «Гринпис» надеялась привлечь внимание мировой общественности к французским ядерным испытаниям, и теперь эту тему вынесли на первую полосу все крупные газеты, а к ним присоединились остальные средства массовой информации. Франция даже была вынуждена «пожертвовать» более 8 миллионов долларов «Гринпис» в качестве возмещения ущерба. Между тем Новая Зеландия из тихой нации превратилась в активного противника ядерных испытаний и стала близким союзником малых тихоокеанских государств, эффективно помогая слабым протестным движениям сформироваться в единую мощную силу. Ядерные испытания на Муруроа были остановлены, и, если не считать серии взрывов в 1995 году, на атолле с тех пор царит тишина.
Французам все-таки удалось кое-как сохранить лицо. Руководитель операции Диллэ и так называемый волонтер «Гринпис» Кристина Кабон вышли сухими из воды, а имена тех, кто минировал судно, нигде не прозвучали.
Дело закрыто, понадеялись французы.
Ан нет, потому что уволенный глава ГУВБ Пьер Лакост создал бомбу замедленного действия. В 2005 году газета «Монд» напечатала разоблачение: оказывается, сразу после взрывов Лакост написал отчет о том, как получил личное указание от президента Миттерана, который мастерски изображал негодование, когда услышал о провале операции и нелепых попытках сохранить ее в тайне. Наконец-то виновник нашелся.
И потом, в 2006 году, когда социалистка Сеголен Руаяль готовилась к соперничеству с Николя Саркози в предвыборной гонке, поползли слухи, будто старший брат Руаяль, Жерар, был одним из тех двух парней, которые крепили мины к корпусу корабля. Правда, все обвинения он категорически отверг. Французам стало вдвойне неловко, оттого что источником этих слухов стал другой брат кандидата на пост президента, Антуан.
В общем, хотя и прошло более двадцати лет с тех печальных событий, эхо двух взрывов, утопивших «Рейнбоу уорриер», еще звучит, и довольно громко, в коридорах французской власти.
Глава 22 Пытаясь игнорировать прошлое
…В том числе некоторые королевские промахи, которые доказывают, что мы ничему не научились за прошедшие 1000 лет
В начале 1990-х годов отношения между Францией и англоговорящим миром, казалось, потеплели. Открытие туннеля под Ла-Маншем в 1994 году словно символизировало это сближение.
Давняя мечта Наполеона наконец стала реальностью, и теперь, вместо того чтобы летать или плыть по морю, как когда- то силы вторжения, путешественники могли просто нырнуть под воду и вынырнуть уже на территории соседа. Случился, правда, мелкий дипломатический конфуз, когда стало известно, что лондонский пересадочный терминал будет находиться на станции Ватерлоо, но большинство французов лишь пожали плечами, отмахнувшись от этого исторического щелчка.
Такая близость оказалась неожиданностью и для французов, и для бриттов. Это было сродни тому, как если бы давних супругов вновь уложили в одну постель после долгих лет пребывания в отдельных спальнях, когда каждый мог с удовольствием вытягиваться во всех направлениях на собственном матрасе. Возникал вопрос: станут ли они пихаться коленями и локтями или предпочтут уютно устроиться в объятиях друг друга? И кому тогда достанется одеяло? Этот вопрос вставал все острее, когда под то же одеяло нырнули американцы, предлагая развлечься втроем…
Спустя всего несколько месяцев после открытия туннеля под Ла-Маншем французы воздвигли стену. Не для защиты от последствий глобального потепления — это был культурный и языковый барьер для приливной волны английского языка, которая (как им казалось) смывает французский язык с лингвистической карты мира.
Как мы уже знаем из предыдущей главы, Франция долгое время с подозрением косилась на рок-н-ролл, и в августе 1994 года французский министр культуры и французского языка протолкнул закон, призванный остановить англо-американское вторжение раз и навсегда.
Министр Жак Тубон сам не относился к тем людям, кого можно назвать человеком высокой культуры: это был политический карьерист, выпускник элитарной французской Национальной школы администрации (НША), правая рука Жака Ширака в годы работы последнего в различных министерствах. Тубон так же подходил для руководства министерством культуры, как и для управления железными дорогами, налоговым департаментом или избирательными кампаниями Ширака.
Вступив в должность министра в 1993 году, он произнес речь, в которой заявил о своем желании продвигать «культуру, которая делает из каждого человека ответственного гражданина». Для большинства из нас эта фраза звучит как набор слов, но для французских политиков, хорошо знакомых с НША, это был образец административного красноречия; другие министры произносили точно такие же речи, разве что заменяя «культуру» словами «армия», «атомная энергия» и «сыр».
Одной из первых инициатив Тубона стала, как и следовало ожидать, реорганизация крупных культурных учреждений, таких как Лувр, Национальная опера и Национальная библиотека, и везде он расставлял на ключевые должности «соратников». Разумеется, из той же НША.
Но Тубон несказанно удивил всех, когда провел закон 94-665 об использовании французского языка, рассчитанный на закрепление статуса французского языка. Своей первой же статьей закон декларировал, что «в наименовании, предложении, презентации, инструкциях для пользования и применения [127], описании размера и условий гарантии товаров, продуктов или услуг, а также в счетах и расписках использование французского языка является обязательным».
Кроме того, вся реклама — письменная, устная или аудиовизуальная — должна даваться на французском языке; наименование бренда на иностранном языке запрещено, если существует французский эквивалент; французские компании не могут настаивать на том, чтобы их служащие в обязательном порядке говорили по-английски или понимали этот язык; и обучение в школе должно вестись на французском языке, если школа хочет получать государственное финансирование (бретонцам пришлось бороться за право обучения детей на родном языке в государственных школах).
Самые суровые меры Тубон приберег для музыки и телевидения. Как сказано в законе, «до 1 января 1996 года объем написанных или исполняемых французскими или франкоговорящими артистами музыкальных работ, транслируемых популярными музыкальными программами в прайм-тайм всеми радиостанциями, должен составлять минимум 40 процентов». Тубон добавил, что телеканалы обязаны транслировать «не менее двух раз в неделю, в прайм-тайм, программы на французском языке», — это имело целью ограничить количество (пользующихся огромной популярностью) американских телесериалов.
Французы ненавидят новые законы, а «Закон Тубона» все больше напоминал голландского мальчишку, который пытается пальцем заткнуть прорвавшую дамбу. Английский язык уже стал неотъемлемой частью французской культуры, и даже такие звезды, как Серж Генсбур и Джонни Холлидей, давно исполняли песни с английскими названиями. Так что ответная реакция последовала незамедлительно: французы, обожающие играть со словами, перевели на английский язык фамилию министра, в результате чего получился Джек Оллгуд (tout bon в переводе с французского означает «все хорошо», all good по-английски). Да и вообще большинство французов отнеслись к закону как к шутке.
Впрочем, для кого-то он открывал дорогу к серьезным деньгам. Теперь, когда радиостанции обязали транслировать в прайм-тайм французскую музыку, продюсеры получили возможность создать совершенно новое поколение франкоязычных имитаторов англо-американских стилей. Сегодня многие из них пошли еще дальше: они записывают песни на условном английском — стараются, чтобы речь звучала аутентично, и добавляют несколько слов по-французски, восполняя квоту.
В чем-то уступки закону кажутся чисто символическими. Рекламные слоганы требуется переводить на французский язык, когда это совершенно не требуется. Если, скажем, французская пищевая компания, желающая привлечь внимание потребителей к новому печенью в американском стиле, выводит на рекламном плакате девиз It's all good («Это все на пользу»), каждый француз догадается, о чем идет речь, — но в самом низу плаката вы всегда увидите приписку на французском языке: C'est tout bon. Совпадение (или нет), но на постерах в парижском метро перевод часто скрывается за спинками пассажирских сидений.
Но абсурд на этом не заканчивается. Поскольку французский не столь схематичен, как английский, и закон требует прилично выражаться только по-французски, французский рэпер с альбомом под названием Fuck You, Motherfuckers! (и такое бывает) должен предусмотреть рекламные слоганы со стыдливой припиской: «Я буду иметь секс со всеми вами, кто имеет секс со своими матерями!»
Сегодня на «Закон Тубона» французы обращают все меньше внимания, тем более что во Францию приходят и приходят международные торговые сети. Никто ведь не принуждает фирму Gap переводить название своего бренда и добавлять (еле заметное) «дыра» в вывески на витринах.
Однако время от времени защитники французского языка призывают всех к порядку.
Не далее как в 2006 году американская компания GE Healthcare была привлечена к судебной ответственности за отсутствие перевода некоторых внутренних документов на французский язык, что рассматривалось как дискриминация по отношению к ее сотрудникам, не говорящим по-английски. Компания настаивала на том, что документы предназначались главным образом для англоязычных служащих, но профсоюзы и другие рабочие организации подали иск на GE Healthcare, и суд потребовал от компании перевести на французский программное обеспечение, учебные пособия и все инструкции по охране здоровья и безопасности и обязал уплатить истцам 580 000 евро плюс 20 000 евро за каждый день непослушания.
Мораль очевидна. Если хотите по-легкому заработать евро, просто поезжайте во Францию и жалуйтесь адвокату на то, что страдаете от приступов паники, потому что не понимаете вывесок на городских улицах. Qu'est-ce que c'est, un Starbuck?[128]
Поцелуи свободы
«Французское исключение» — иначе говоря, право Франции видеть мир по-другому — распространяется в основном на культуру и язык внутри страны, и англоговорящий мир не особо переживает по этому поводу. Но когда оно было применено к Ираку в 2003 году, последовал лавовый поток франкофобии.
Отказавшись послать свои войска для уничтожения мифического ядерного оружия Саддама Хуссейна, Франция подставилась под удар журналистских атак, причем похлеще тех, что обрушивались на британцев во времена Наполеона. На этот раз расстарались американские консерваторы, и их патриотизм, успешно подогретый администрацией Буша, перерос в такую лютую ненависть, что Францию стали рассматривать чуть ли не как врага вроде Саддама. Появились даже наклейки на бамперах автомобилей с надписью: «Ирак первый, Франция следующая!»
Антифранцузские анекдоты стали излюбленной темой для американцев. «Поднимите правую руку, если вам нравятся французы… Поднимите обе руки, если вы француз». В некоторых массмедиа уровень ненависти просто зашкаливал. В 2005 году я поехал в Штаты продвигать свою книгу «Боже, спаси Францию», и ведущий на радио заявил мне, что она недостаточно антифранцузская [129], и прибавил: «Эти нецивилизованные лягушатники — совсем как первобытные, не так ли?» Я не согласился, и интервью тут же окончилось.
И языком ненависти заговорили не только сумасшедшие экстремисты-медийщики. Франкофобия бурлила и в серьезных американских политических кругах. Генерал Норманн Шварцкопф, герой первой войны в Персидском заливе, сказал, что «идти на войну без Франции — это все равно что идти охотиться на оленя без аккордеона». А в кафетериях трех офисных зданий, занимаемых Палатой представителей, заменили French fries («французский картофель») «картофелем Свободы», спровоцировав волну дальнейших переименований: «тост Свободы», «оладьи Свободы» и даже «поцелуй Свободы».
Какими бы соображениями ни руководствовалась Франция, принимая решение не лезть в Ирак — будь то нефтяные контракты с Саддамом, которые им не хотелось терять, или опасения, что вторжение настроит арабские страны против Запада, — в долгосрочной перспективе французы доказали свою мудрость. И Франция одержала пару ключевых побед.
Когда французскому посольству в Вашингтоне сообщили о замене в меню названия картофеля, пресс-секретарь, Натали Луазо, на это сказала: «Для нас сейчас очень серьезный момент, мы занимаемся очень серьезными вопросами, и нас совершенно не волнует, как вы назовете картошку». Что ж, вполне достойная отповедь, в духе Ларри Дэвида [130].
А американские военные, наверное, даже не догадывались, что едят самый что ни на есть французский жареный картофель. Кейтеринговая компания «Содексо», которая уже много лет успешно обслуживает американский военно-морской флот, принадлежит французам.
Французская индустрия правит миром
Столовые «Содексо» — типичный пример того, как Франция, негодующая по поводу экспансии англосаксов, сама потихоньку опутывает весь мир. Где бы вы ни жили, велика вероятность того, что ближайший нефтеперерабатывающий завод, или ближайшая атомная электростанция, или автобусная остановка, или рекламный щит и высокоскоростной поезд окажутся французскими, а мы-то привыкли считать, что все ограничивается гипермаркетом, в котором почти вся минеральная вода и сыр родом из Франции.
Французские компании заправляют автобусными и железнодорожными перевозками в крупнейших городах Америки, поставляют воду, электричество и газ обширным территориям Британии. Вот всего лишь два примера: французская компания EDF вошла на британский энергетический рынок только в 2002 году, а сегодня уже является крупнейшим в стране производителем и поставщиком электричества. Полностью компания называется, разумеется, «Электриситэ де Франс», но попробуйте посчитать, сколько раз вам придется кликнуть мышкой, чтобы выяснить это на британском сайте компании, . Или взять компанию Veolia, прежде носившую более узнаваемое имя Compagnie generale des eaux. Она диверсифицировала свой бизнес и, ступив на американский транспортный рынок в 2001 году, отныне контролирует транспортные сети в Атланте, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Майами, Новом Орлеане, Сан-Диего. Список можно продолжить.
По сути, французы и есть самые крупные в мире глобалисты, даже если они отказываются признавать это, полагая, что термин чересчур английский. Глобализацию они предпочитают называть мондиализацией, и если вы спросите обычного француза или обычную француженку, что это значит, то он или она перечислит такие имена, как «Макдоналдс», «Кока-Кола», «Гэп» и «Старбакс», и обвинит англосаксов в попытках контролировать мировую экономику. Сами же они очень удивятся, когда вы начнете называть им, по очереди, «Карфур», «Перье», «Шанель», «Данон», «Л’Ореаль», «Луи Витон», «Окситан», «Рено», а потом перейдете к маркам шампанского, модным домам и парфюмерным брендам. Многие французы даже не догадываются о том, насколько успешна их страна.
И эта мондиализация важна не только для глобальной экономики — она благотворно влияет на психологическое состояние французского бизнес-сообщества.
Не называя имен по вполне понятным юридическим причинам, скажу, что французская компания, прорвавшаяся на зарубежный рынок, ведет себя там с таким же напором и лихостью, как торговый агент на конференции в Лас-Вегасе. Она охотно идет на любые уловки, допустимые в либеральной стране, но запрещенные во Франции: может завысить цены, что вовсе не пройдет в протекционистской экономике Франции, или ввести трудовые законы, которые дома вызовут национальную забастовку.
Глобализация по-французски имеет свои преимущества и на уровне личности. Французские менеджеры обычно проходят обучение в очень академических бизнес-школах, а потом начинают работать в компаниях, где любое творчество и инициативу душат жесткая иерархия и необходимость уважать права рабочих. Чтобы избежать застоя, идеальным выходом для французской компании становится командирование перспективных кадров в заморский филиал. Там они могут дать волю своей изобретательности, увольнять неэффективных работников и закрывать нерентабельные предприятия (и то, и другое не проходит во Франции), а потом вернуться домой, словно крестоносцы после похода на варваров. Удовлетворив жажду крови, они переходят к более сдержанному стилю руководства, навязанному французскими профсоюзами. Короче говоря, иностранным рабочим приходится терпеть такие наказания, каким французские менеджеры с удовольствием подвергли бы своих соотечественников. Vive la mondialisation. Да здравствует мондиализация.
Как вы называете faux pas[131] по-английски?
В 2004 году Франция и Британия продолжали отбивать свою извечную чечетку на минном поле истории, празднуя столетие «Сердечного согласия».
В марте королева отправилась в Париж, где президент Жак Ширак спровоцировал скандал, положив руку на королевскую талию. Этот совершенно безобидный французский жест был, безусловно, интерпретирован британской прессой как чудовищный галльский промах: надо же, прямо-таки латиноамериканский любовник, пытающийся соблазнить монарха, — и понеслась гневная отповедь в адрес Франции, которая не понимает неприкосновенности королевской особы. Вспоминали не 1904 год, а 1789-й.
В июне 2004 года отмечали шестидесятилетие дня «D». Королеву пригласили в Нормандию, вместе с Джорджем Бушем, который произнес речь, в которой назвал Францию «вечным союзником» Америки, а ведь еще год назад его администрация хранила молчание, пока американские СМИ обливали Францию помоями.
В июле британцам была оказана высокая честь, когда их солдат пригласили возглавить военный парад по случаю Дня Бастилии. Среди воинских подразделений, присланных для прохождения торжественным маршем по Парижу, был Гренадерский гвардейский полк, и гвардейцы надели медвежьи шапки впервые с тех пор, как стащили их у поверженных императорских гвардейцев под Ватерлоо. (Но тогда в британской армии не удалось найти ни одного полка, который не участвовал бы в сражениях с французами.)
А в августе Париж праздновал Освобождение, и торжества проходили под лозунгом Paris se libère — «Париж освобождает себя» — из знаменитой речи Шарля де Голля. Самая серьезная французская газета, «Монд», опубликовала по такому случаю приложение объемом сорок восемь страниц, в котором первое упоминание о нефранцузских войсках, принимавших участие в освобождении города, отыскалось лишь на восемнадцатой странице. Merci, les amis[132].
В июле 2005 года состоялось еще одно столкновение лбами, когда Париж и Лондон соперничали за право принять Олимпиаду 2012 года. (Как мы знаем, победил Лондон, взвалив на себя тяжкое финансовое бремя.)
Презентации, проведенные двумя городами, символизировали глубокие различия между Британией и Францией. Парижский «Комитет-2012» возглавлял мэр города, Бертран Делано, а помогал ему тогдашний министр спорта, Жан-Франсуа Лямур, и оба они смотрелись такими же атлетами, как крем- брюле. Лондонскую же заявку возглавлял олимпийский чемпион Себастьян Коэ.
Бритты подготовили фильм о детях, которых олимпийская идея вдохновила стать спортсменами: поистине олимпийская мечта. Французы между тем представили претенциозное видео, которое могло бы стать достойной рекламой парижских достопримечательностей, как будто Эйфелева башня готовилась участвовать в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Ночью накануне голосования Олимпийского комитета Тони и Чери Блэр остались поболтать с делегатами в сингапурском отеле, где они проживали. Жак Ширак явил себя миру и отправился спать, отказавшись унижаться уговорами членов комитета. Он также (говорят) лишил Францию очень важной поддержки со стороны двух финских делегатов, когда в прессе процитировали его высказывание о бриттах: «Нельзя доверять людям, у которых такая плохая кухня. Это вторая страна после Финляндии, где кормят хуже всего».
По сути, Париж проиграл заявку из-за чрезмерной самоуверенности. Вместо того чтобы по примеру англосаксов показать, как сильно ты чего-то хочешь и стремишься к этому, французы попросту набивали себе цену. И при этом они возмутились до предела своим проигрышем. Меня пригласили на французское телевидение смотреть в прямом эфире объявление итогов голосования; я сидел между бывшим министром спорта и журналистом одной газеты, и оба они взорвались от гнева, когда был выбран «неправильный» город. Они настолько не умели проигрывать, что мне пришлось напомнить им про олимпийский дух. «Париж не проиграл, — проговорил я в качестве утешения, — он просто получил серебряную медаль». Политик повернулся ко мне и сказал (к чему, я так и не понял): «Вы, англичане, считаете себя очень остроумными, но это не так». Не слишком спортивный министр.
Бритты показывают Сарко лондонскую задницу
Унижение французов продолжилось и во время визита в Лондон в марте 2008 года президента Николя Саркози и его гламурной супруги, модели и певицы Карлы Бруни. Спичрайтеры лидеров обеих стран выбрали верный тон, и мсье Саркози и премьер Гордон Браун призвали совершенствовать «Сердечное согласие»; Сарко предложил «Дружеское согласие», а Браун пошел еще дальше и выдвинул идею «Всеобъемлющего согласия».
Но вот все остальные детали поездки обернулись дипломатическими промахами.
После того как Сарко произнес речь в Парламенте, его повели в Королевскую галерею, где показали два знаменитых экспоната: огромные художественные полотна, изображающие поражение французов в битвах при Трафальгаре и при Ватерлоо.
Когда французская первая пара прибыла в Виндзор на встречу с королевой, их встречали две королевские кареты; королева и мсье Саркози должны были ехать в первой, а принц Филипп и Карла следом. На всем пути процессию сопровождала Королевская конная гвардия, в кирасах — точных копиях тех, что были украдены у французских кавалеристов, погибших под Ватерлоо. Присутствовали также гусары из полка «Блюз энд Роялз», в униформе которых представлен золотой орел, символизирующий захват французского знамени в ходе той же битвы. И в довершение всего, возглавляла парад лошадь по кличке Азенкур. Французский визит в Виндзорский замок прошел под пушечную канонаду истории.
Королевский банкет в замке тоже не обошелся без курьезов. Чтобы попасть в банкетный зал, гости должны были пройти через переднюю, которая называлась комнатой Ватерлоо (ну, а как же еще?) и которую украшали два великолепных портрета (разумеется) победителей, Веллингтона и Блюхера. К этому времени Сарко, должно быть, уже испытал облегчение, зная о том, что его с женой не потащат на остров Святой Елены смотреть ролик о туризме.
Он вежливо улыбался, шествуя к огромному столу в зале Святого Георга, накрытому на 160 персон. Стол был сервирован севрским фарфором, который, как я узнал от французского эксперта по протоколу — с ним мне удалось пообщаться на телевизионном ток-шоу на следующий день после банкета, — был приобретен британской королевской семьей во время Французской революции, когда имущество Версальского дворца распродавалось по дешевке. Выходит, президента Франции пригласили в Виндзор есть из своих же тарелок.
Впрочем, Сарко не остался в долгу. Хотя в своей речи на банкете он и сказал, что «остановиться в Виндзорском замке — это мечта», от второй ночи В&В он, похоже, отказался и направился домой. Ему хватило одного дня исторического унижения.
И было бы, наверное, большой дерзостью предположить, что, не пригласив королеву в июне 2009 года на празднование 65-й годовщины высадки в Нормандии союзных войск, Франция отыгралась за государственный визит предыдущего года. Справедливости ради стоит заметить, что французы сосредоточили все свое внимание на Бараке Обаме, новой политической суперзвезде, — но как они могли забыть о дочери короля, который разрешил Шарлю де Голлю в течение четырех лет базироваться в Лондоне со своей «Свободной Францией»? Faux pas позже получил объяснение: Франция ожидала, что бритты сами решат, кого включить в список гостей, — но отговорка выглядела столь же убедительно, как и заверения де Голля в дружбе.
Вообще-то Обама мог считать, что ему повезло оказаться в роли столь почетного гостя, потому что в июне 2009 года Франция еще не пришла в себя после двух ударов под дых, нанесенных американцами. Первый был прощальным салютом Джорджа Буша, покидающего свой кабинет: его администрация, казалось, вознамерилась отомстить французам за Ирак и обложила необъяснимой трехсотпроцентной импортной пошлиной сыр «Рокфор», тем самым вытолкнув его с американского рынка. Поскольку это был в буквальном смысле последний торговый запрет, введенный администрацией Буша, его нельзя рассматривать как случайность.
Другой болезненный удар исходил от самого Обамы, когда он, едва вступив в должность, послал письмо бывшему президенту Шираку со словами: «Я уверен, что мы сможем работать вместе предстоящие четыре года в духе мира и дружбы над построением безопасного мира». Неужели советники Обамы не заметили смены режима во Франции еще в мае 2007 года? Шокирующий факт, но не будем утверждать, что это личное оскорбление. Кто-то даже скажет, что путаница с Саркози-Шираком вполне в духе Америки, просто она так видит мир: одна супердержава наверху, ну, максимум две, Британия у ног Америки, несколько ключевых врагов, которые периодически требуют к себе внимания, и безликая толпа малозначительных государств, суетящихся где-то там, внизу. Нравится это кому-то или нет, но, по крайней мере, одному из советников новой американской президентской команды Франция виделась на уровне таких стран, как Тайвань, Мозамбик и Литва, а кто знает имена их лидеров?
Plus ça change, plus c’est la même chose [133]
Кто-то скажет, что нам следует сложить оружие и просто забыть обо всех разногласиях. Мы уже повзрослели и должны двигаться дальше по жизни как партнеры. История осталась в прошлом. Но… «Прошлое никогда не умирает. Оно даже не проходит», — заметил однажды Уильям Фолкнер.
Другими словами, история создается каждый день, и игнорировать прошлое — все равно что отрицать теорию эволюции. Британия и Франция, а с недавних пор и Северная Америка стали такими, как сегодня, потому, что постоянно сражались друг с другом на протяжении столетий. Наши сферы влияния в политическом мире определились очень давно, века назад. Многие британские и французские политические институты создавались как прямая противоположность тому, что делал враг. Почти все современные французские политики, военные и администраторы вышли из школ, созданных Наполеоном, и у них врожденное, бонапартовское, недоверие к англосаксам, смешанное с завистью.
Именно поэтому даже самая мелкая политическая погрешность раздувается до неимоверных масштабов. Никогда не услышишь такой реакции: «О, почему же они так поступают?» Зато непременно прозвучит: «Это в их духе! То же самое они творили еще в 1415-м / 1688-м / 1789-м / 1815-м / 1914-м / 1940-м / 2003-м и т. д. и т. п.». Как бы мы ни пытались перестроить наши отношения, фундамент у них остается прежний. Он заложен в наших генах.
Разумеется, это совершенно не значит, что французы и англичане не могут жить в мире. Мы имеем такую долгую общую историю, что давно уже стали одной семьей. Мы стоим бок о бок или лицом к лицу на всех исторических фотографиях и, когда между нами все гладко, даже можем ностальгически посмеяться над тем, как дрались когда-то. Наша история — это действительно история потасовок.
Но нам все-таки удалось разрешить некоторые конфликты раз и навсегда. Взять хотя бы проблему поездов «Евростар», прибывающих в Лондон на неделикатно выбранный вокзал Ватерлоо. В ноябре 2007 года королева Елизавета II официально покончила со всякими подозрениями в антифранцузском умысле, когда открыла новый терминал «Евростар» на вокзале Сент-Панкрас. Дипломатический инцидент исчерпан, n'est-ce pas?
Да нет, пожалуй, не совсем. Потому что святой Панкратий Римский, раннехристианский мученик, казненный в 303 году за отказ принести жертву римским богам, святой покровитель детей и одного острова, где найдены (предположительно) его мощи. И этот остров называется Корсика. Да-да, Корсика, родина Наполеона и современных борцов за независимость, которые регулярно наносят удары по французской администрации и взрывают виллы богатых пришельцев с материка. Так что новый лондонский терминал поездов «Евростар» назван в честь святого покровителя корсиканских террористов и сепаратистов.
Но, с другой стороны, чего вы ожидали после 1000 лет взаимных обид и упреков?
FIN [134]
Приложения
1. Цитаты
Это не авторская подборка цитат. Скорее коллекция лаконичных и озорных высказываний о французах или самих французов, встретившихся мне во время работы над исследовательскими материалами, но не попавших в основной текст. Ну, что-то вроде французской пробки из цитат.
Жанна д’Арк (1412–1431), французский солдат и святая
«Я ничего не знаю о любви и ненависти Бога к англичанам, как и о том, что Он сделает с их душами. Но я твердо знаю, что они будут изгнаны из Франции, кроме тех, кто здесь погибнет».
Вильям Шекспир (1564–1616), английский драматург, поэт и временами пропагандист.
Из пьесы «Ричард III», акт I, сцена 3
ГЛОСТЕР:
«…За то, что я не льстив, не сладкогласен, В лицо не улыбаюсь, как француз, Не кланяюсь с учтивостью мартышки, — Считаюсь я злокозненным врагом!»[135]Сэр Филип Сидни (1554–1586), английский аристократ и поэт
«Такой сладкий враг, Франция».
Фужере де Монброн (1706–1760), французский литератор и англофил
«Мы единственная нация во вселенной, к которой англичане не относятся с презрением. Вместо этого они делают нам комплимент, ненавидя изо всех сил».
«Нам должно это льстить: каждого иностранца в Лондоне прозывают „французская собака“».
Сэмюэл Джонсон (1709–1784), английский составитель словарей
«Француз должен всегда говорить, знает он что-то по существу или нет; англичанин с удовольствием промолчит, если ему нечего сказать».
Людовик XV (1710–1774), король Франции
«Англичане испортили сознание подданных моего королевства. Мы не должны подвергать новое поколение риску развращения английским языком…»
Лоренс Стерн (1713–1768), английский писатель.
Из романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»
«Французы все до одного верят, что говорить о любви значит любить на деле».
Гораций Уолпол (1717–1797), английский писатель, кузен адмирала Нельсона
«Я не люблю французов не из вульгарной антипатии между соседствующими нациями, но за их наглое и необоснованное высокомерие».
Пьер Огюстен Карон де Бомарше (1732–1799), французский писатель и политический интриган.
Из комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
ФИГАРО: «…Правда, англичане в разговоре время от времени вставляют и другие словечки, однако нетрудно убедиться, что god-dam составляет основу их языка»[136].
Луи-Себастьен Мерсье (1740–1814), французский писатель.
После визита в Лондон сказал:
«Лондонцы думают, что в Париже мы утопаем в кружевах, но либо умираем с голоду, либо питаемся одними только лягушками».
Антуан де Ривароль (1753–1801), французский писатель.
Из книги «Рассуждения об универсальности французского языка»
«Если это неясно — значит, это не по-французски».
(Современный французский роман еще не появился на свет.)
Горацио Нельсон (1758–1805), британский адмирал.
Из инструкции для новобранцев
«Во-первых, вы должны беспрекословно подчиняться приказам, не пытаясь высказывать собственное суждение об их правомерности; во-вторых, вы должны считать своим врагом каждого, кто плохо говорит о вашем короле; и в-третьих, вы должны ненавидеть француза, как ненавидите дьявола».
Наполеон Бонапарт (1769–1821), император Франции
«Это во французском характере — преувеличивать, жаловаться и все искажать, если чем-то недоволен».
«История — это вереница лжи, в которую мы готовы поверить».
«Хороший политик тот, кто заставит людей поверить в то, что они свободны».
Сэмюэл Тейлор Кольридж (1772–1834), английский поэт
«Французы — как порох, каждый сам по себе грязный и презренный, но в массе они вселяют ужас!»
Стендаль (1783–1842), французский писатель
«Французы — самая остроумная, самая обаятельная и, по крайней мере, до сих пор самая немузыкальная раса на Земле».
Виктор Гюго (1802–1885), французский писатель и поэт
«Заблуждаться свойственно человеку. Нежиться — это удел парижан».
«Давайте больше не будем англичанами, французами или немцами. Давайте будем европейцами. Нет, не европейцами, давайте будем людьми. Будем человечеством. Все, что нам нужно, это избавиться от последней частицы эгоцентризма — патриотизма».
Дуглас Уильям Джерролд (1803–1857), английский писатель
«Лучшее из того, что есть между Англией и Францией, — это море».
Флора Тристан (1803–1844), французская писательница.
По возвращении из Англии сказала:
«Традиционно во Франции самым почитаемым членом общества считается женщина. В Англии это лошадь».
Поль Гаварни (1804–1866), французский художник-график
«Когда англичанка одета, она уже не женщина, она — собор. Ты не соблазняешь ее, а берешь приступом».
Марк Твен (1835–1910), американский писатель
«В Париже они просто таращились на меня, когда я обращался к ним по-французски. Мне так и не удалось заставить этих идиотов понять свой родной язык».
Жорж Клемансо (1841–1929), французский политический деятель
«Английский — это всего лишь плохо произносимый французский».
Поль Клодель (1868–1955), французский писатель
«Американская демократия проложила себе дорогу в мир грудью французской аристократии».
Андре Жид (1869–1951), французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе
«Для француза немыслимо дожить до средних лет, не получив сифилис и орден Почетного легиона».
Гэрри Грэхем (1874–1936), английский писатель
«Не плачь по малышке Леонис, Которую похитил французский маркиз. Хоть стыд от бесчестия будет велик, Зато как подучит она язык».П. Г. Вудхаус (1881–1975), английский писатель, в 1955 году принял американское гражданство.
Из романа «Везет же этим Бодкинам!»
«Лицо молодого человека, сидевшего на террасе отеля „Манифик“ в Каннах, приняло выражение стыдливости, из чего стало понятно, что англичанин собирается заговорить по- французски».
Франц Кафка (1883–1924), чешский писатель.
Из дневника, о поездке в Париж в сентябре 1911 года
«Мы никогда не могли определить, то ли они [парижане] радуются, когда мы делаем ошибки, говоря по-французски, то ли им просто интересно слушать, как мы ошибаемся».
Джордж С. Паттон (1885–1945), американский генерал
«Я предпочитаю иметь вражескую немецкую дивизию перед своими войсками, чем одного союзника француза за спиной».
Шарль де Голль (1890–1970), президент Франции
«Я пытался вытащить Францию из грязи. Но она все равно возвращалась к своим ошибкам и блевотине. Я не могу помешать французам быть французами».
«Когда я хочу знать, что думает Франция, я спрашиваю себя».
Ричмал Кромптон (1890–1969), английская писательница, создатель детских книг об Уильяме Брауне.
В романе «Уильям Завоеватель» она говорит:
«Я не хочу говорить ни с какими французами, а если они хотят говорить со мной, пусть учат английский. По-английски легче всего разговаривать. Глупо учить какие-то другие языки. Не понимаю, почему бы всем странам не выучить английский, вместо того чтобы заставлять нас тратить время на изучение других языков, совершенно бесполезных».
Ивлин Во (1903–1966), английский писатель
«В период половой зрелости мы все американцы. А умираем мы французами».
Джозефина Бейкер (1906–1975), американская танцовщица
«Мне очень нравятся французы, потому что они даже оскорбляют красиво».
Билли Уайлдер (1906–2002), австрийско-американский кинорежиссер
«Во Франции деньги обесцениваются прямо в руках, но даже туалетную бумагу жалко рвать».
(Это было еще до того, как появилась евро и стала крепче доллара.)
Жорж Элгози (1908–1989), французский экономист
«Французу нужен год, чтобы разобраться с английскими деньгами; десять лет ему нужны, чтобы понять английский темперамент; пятьдесят лет — чтобы осознать отсутствие этого темперамента; и вечность — чтобы понять их женщин».
Пьер-Жан Вайар (1918–1988), французский актер
«Теперь я понимаю, почему англичане предпочитают чай. Я только что попробовал их кофе».
Борис Виан (1920–1958), французский писатель и джазовый музыкант
«Чтобы делать бизнес в наши дни, надо быть американцем. Но если тебе достаточно быть умным, ты можешь просто оставаться французом».
«Быть посмешищем — это не смертельно, зато в Америке это сделает тебя богатым».
Клод Ганьер (1928–2003), французский писатель
«Тот, кто говорит на трех языках, — трехъязычный человек. Тот, кто говорит на двух языках, — двуязычный человек. Тот, кто говорит на одном языке, — англичанин».
Уильям Сафайр (1929–2009), американский журналист
«Единственное отличие французского миротворчества от американского миротворчества в том, что Франция платит выкуп наличными и получает своих заложников обратно, в то время как Соединенные Штаты платят выкуп оружием и потом получают новых заложников».
Эдит Крессон (р. 1934), премьер-министр Франции с мая 1991 года по апрель 1992 года.
Разозлившись на то, что мужчины не пожирали ее глазами во время визита в Лондон, сказала:
«Каждый четвертый англичанин — гей».
И еще:
«Англосаксы не интересуются женщинами как женщинами, и это не проблема их воспитания — думаю, это что-то вроде болезни».
Жан-Жак Анно (р. 1943), французский кинорежиссер
«Когда американцы снимают кино, они делают это для всей планеты. Когда французы снимают кино, они делают это для Парижа».
Французский аноним
«Английская кухня: если холодное — значит, это суп. Если теплое — значит, это пиво».
2. О выборе библиографии
Библиография в исторической книге зачастую представляет собой настолько длинный список, что поневоле задумаешься: как автору удавалось находить время на сон, еду, туалет, пока он лопатил эту гору литературы? И в большинстве источников содержится лишь несколько строчек, имеющих отношение к сюжету, над которым работаешь.
Поэтому перечислю только те книги, которые прочитал полностью или большими кусками, и с удовольствием рекомендую для прочтения другим.
Впрочем, должен признаться, что я не всегда самостоятельно листал эти пожелтевшие страницы. К счастью, сегодня во многих библиотеках старые книги отсканированы, так что компьютер листает за вас. Кто-то скажет, что это порождает лень, но я назову это чудом, поскольку отныне источники англо-французской истории больше не предназначены для узкого круга исследователей, которых только и подпускают к этим ветхим и редким документам. Теперь каждый, у кого есть компьютер и желание рыться в онлайн-каталогах, может прочитать средневековые хроники, автобиографии семнадцатого века и путеводители века восемнадцатого, посмотреть, что говорили очевидцы о событиях того времени.
Вот почему многие из перечисленных ниже книг не изданы в бумажном виде, но их можно найти через веб-сайты, такие как gutenberg.org, archive.org, Google books или (для французских текстов) gallica.bnf.fr. Вам придется читать их онлайн, но все равно это удобнее, чем самому ехать, скажем, в Библиотеку Восточной Луизианы, чтобы узнать о донаполеоновских колониальных войнах.
Получив доступ к средневековым хроникам, вы не всегда сможете понять их, но самое приятное во французском языке — это то, что он практически не изменился за долгие века, и вам понадобится освоить лишь краткий курс средневекового словаря и грамматики, чтобы прочесть тексты четырнадцатого века в оригинале. Для сравнения: английский язык Шекспира вообще непостижимый.
А для тех, кто не говорит по-французски, я сам перевел все цитаты и выдержки из французских источников.
Bonne lecture, или, как говорят англосаксы, приятного чтения.
Общая история
A Concise History of England, F. E. Halliday, 1964
Ces Femmes qui ont fait la France, Natacha Henry, 2009
Friend or Foe, Alistair Horne, 2004
The History of England, David Hume, 1810
The Story of English, Robert McCrum, William Cran, Robert MacNeil, 2002
That Sweet Enemy, Robert and Isabelle Tombs, 2006
English Social History, G. M. Trevelyan, 1942
The English Channel, J. A. Williamson, 1959
A History of England, E. L. Woodward, 1947
По темам
Вильгельм Завоеватель
The Anglo-Saxon Chronicle, автор(ы) неизвестен, IX–XII века The Bayeux Tapestry, автор неизвестен, 1080
Guillaume le Conquerant, Paul Zumthor, 1978 1066: The Hidden History of the Bayeux Tapestry, Andrew Bridgeford, 2004
Столетняя война
Les Chroniques de Jean Froissart, Jean Froissart, 1369 La Guerre de Cent Ans vue par ceux qui l'ont vecue, Michel Mollat du Jourdin, 1975
The Hundred Years War, Desmond Seward, 1978 The Cronicle History of Henry the Fift, (aka Henry V), William Shakespeare, 1600
Journal d’un Bourgeois de Paris, 1405–49, ed. Alexandre Tuetey, 1881
Encyclopedia of the Hundred Years War, John A. Wagner, 2006
Мария, королева Шотландская
England under the Tudors, Geoffrey Rudolph Elton, 1991 Mary Queen of Scots, Antonia Fraser, 1969 An Examination of the Letters Said to Be Written by Mary Queen of Scots, Walter Goodall, 1754
Memoirs of His Own Life, Sir James Melville of Halhill, 1683
Людовик XIV и Мальборо
The Life of John, Duke of Marlborough, Charles Bucke, 1839 Louis XIV, David Ogg, 1933
Французские колонии в Канаде и Северной Америке
Acadian-cajun.com
Histoire de la colonization francaise, Henri Blet, 1946
Cyberacadie.com
Cod, Mark Kurlansky, 1997
Pioneers of France in the New World, Francis Parkman, 1865
Мореплаватели XVIII века
Voyage autour du monde par la fregate La Boudeuse et la flute L’Etoile, Louis-Antoine de Bougainville, 1771
The Journals of Captain Cook, James Cook, 1955, 1961 & 1967
«Пузырь Южных морей»
John Law: The Projector, William Harrison Ainsworth, 1864
Memoirs of Extraordinary Popular Delusions, Charles Mackay, 1841
Франция XVIII века и Революция
Reflections on the Revolution in France, Edmund Burke, 1790
Histoire generale des emigres pendant la Revolution francaise, Henri Forneron, 1884
Lettres philosophiques (originally published as Lettres ecrites de Londres sur les Anglois et autres sujets), Voltaire, 1734
Наполеон
Code Civil, Napoleon Bonaparte et al., 1804
Napoleon, Vincent Cronin, 1971
The Life of Nelson, A. T. Mahan, 1898
Луи-Филипп
Histoire de la vie politique et privee de Louis-Philippe, Alexandre Dumas, 1852
Смерть Наполеона IV
The Washing of the Spears, Donald R. Morris, 1959
Эдуард VII
Gay Monarch: The Life and Pleasures of Edward VII, Virginia Cowls, 1956
Edward VII, Man and King, H. E. Wortham, 1931
Первая мировая война
Over the Top, Arthur Guy Empey, 1917
Goodbye to All That, Robert Graves, 1929
Tommy Atkins at War, James A. Kilpatrick, 1914
Les Silences du Colonel Bramble, Andre Maurois, 1921
The Last Fighting Tommy: The life of Harry Patch, Harry Patch and Richard van Emden, 2007
Вторая мировая война
Allies at War, Simon Berthon, 2001
Marthe Richard: L’aventuriere des maisons closes, Natacha Henry, 2006
The British Channel Islands under German Occupation, 1940–1945, Paul Sanders, 2005
Послевоенный период
Talk to the Snail, Stephen Clarke, 2006
Les Carnets du Major W. Marmaduke Thompson, Pierre Daninos, 1954
Loi n° 94-665 du 4 aout 1994 relative a l’emploi de la langue francaise, Jacques Toubon, 1994
* * *
Особая благодарность команде Crimee за тысячу лет терпения, прежде всего N., иначе я не выиграл бы все эти битвы.
Спасибо моему редактору, Селине Уокер, за ее историческое чутье, которое выразилось в постоянном напоминании мне о сроках сдачи рукописи.
И всем сотрудникам Susanna Lea, без которых вся эта история была бы невозможна.
Примечания
1
Близ селения Азенкур 25 октября 1415 года в ходе Столетней войны войска английского короля Генриха Пятого разгромили большее по численности французское войско. — Примеч. пер.
(обратно)2
В оригинале My kingdom for a Norse. Автор обыгрывает слова My kingdom for a horse (в русском стихотворном переводе Я. Г. Брянского: «Полцарства за коня!») короля Ричарда из трагедии Шекспира «Король Ричард III». — Примеч. пер.
(обратно)3
Французы чаще запоминают не имя девушки, а ее внешность. — Здесь и далее без пометы о принадлежности приводятся комментарии автора.
(обратно)4
Ковер из Байё — памятник раннесредневекового искусства. Вышивка на льняной ткани при помощи шерстяных нитей разного цвета. Это «сценическое действо» свыше 70 м в длину и 50 см в вышину воссоздает историю завоевания Англии Вильгельмом Завоевателем. — Примеч. пер.
(обратно)5
Хотя, конечно, с тех пор немало бастардов занимали монарший престол в европейских странах.
(обратно)6
178 см.
(обратно)7
Около 132 см. — Примеч. пер.
(обратно)8
Значит, точно не француз.
(обратно)9
Эрл — титул высшей аристократии англосаксонской Британии в XI веке. — Примеч. пер.
(обратно)10
«Я ни о чем не жалею» (фр.) — знаменитая песня Эдит Пиаф.
(обратно)11
Автор обыгрывает фамилию графа Wido (Видо) и название оперетты Франца Легара Merry Widow («Веселая вдова»). — Примеч. пер.
(обратно)12
Позже Вильгельм, когда отправился на завоевание Англии, придумал еще более дурно пахнущее, чем кожевенный промысел, занятие — охрану выброшенных на берег китов до его возвращения домой.
(обратно)13
Разумеется, за исключением редчайшего случая, когда одному из них пришлось проткнуть копьем ничего не подозревающего противника из-под моста.
(обратно)14
Для французов наполовину кениец, наполовину ирландец Барак Обама тоже стал англосаксом в ту самую минуту, когда его избрали президентом США.
(обратно)15
А в культурном плане, как утверждают высокомерные южане, еще на несколько веков.
(обратно)16
Трейнспоттер — человек, хобби которого — отслеживать поезда и записывать номера локомотивов. — Примеч. пер.
(обратно)17
Вы говорите…? (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)18
Пиджин — вторичный язык, возникший в условиях межъязыковых контактов; использует лексику одного языка и грамматику другого. — Примеч. пер.
(обратно)19
Великая хартия вольностей — грамота, подписанная в 1215 году королем Иоанном Безземельным под давлением восставших баронов; ограничивала королевскую власть и предоставляла более широкие права крупным феодалам; основной массе английского народа — крепостному крестьянству — не дала никаких прав. — Примеч. пер.
(обратно)20
Томас Бекет — архиепископ Кентерберийский, одна из ключевых фигур английской истории XII века; вступил в конфликт с Генрихом II и был убит по наущению короля на ступенях алтаря Кентерберийского собора. — Примеч. пер.
(обратно)21
Ричард I Львиное Сердце — английский король из династии Плантагенетов, правивший в 1189–1199 годах. — Примеч. пер.
(обратно)22
Роберт I Брюс — король Шотландии (1306–1329), один из величайших шотландских монархов. — Примеч. пер.
(обратно)23
Королевы не допускались к английскому трону вплоть до 1553 года, когда на престол взошла Мария Тюдор.
(обратно)24
То, что оно к тому же сложно в написании, их совершенно не смущало, поскольку почти никто из них не умел писать.
(обратно)25
Антиохия-на-Оронте — город в древней Сирии, на юге современной Турции. — Примеч. пер.
(обратно)26
Римский вал — древнеримская стена, созданная для защиты северных границ Англии от нападения кельтских племен; Уилтшир — графство на юге Англии. — Примеч. пер.
(обратно)27
26 Wood (англ.) — лес. — Примеч. пер.
(обратно)28
Франция еще не создала свою превосходную систему здравоохранения.
(обратно)29
«Бог и мое право», не так ли? — Примеч. пер.
(обратно)30
Это англо-нормандское имя в переводе означает «Башковитый» и не имеет ничего общего с размером яичек.
(обратно)31
«Черная смерть» — название чумы в Европе в XIV веке. — Примеч. пер.
(обратно)32
Луковый суп (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)33
Тогда как его любимым блюдом были, разумеется, лягушки. Хотя в XIV веке слово «лягушатник» еще не использовалось как оскорбление в адрес французов — его обычно удостаивались живущие на болотах голландцы.
(обратно)34
В те времена Церковь, похоже, куда более либерально трактовала те из десяти заповедей, что имеют отношение к убийствам и кражам чужого имущества.
(обратно)35
Средневековый французский термин gent d'armes дал рождение современному «жандарму».
(обратно)36
Мне нравится это «снова»: звучит так, будто Господь включил солнце назло французам.
(обратно)37
Этот девиз принца Уэльского живет и поныне, хотя все последующие принцы не позаимствовали у короля Богемии привычки сражаться на привязи и вслепую. Не считая приватных вечеринок, само собой.
(обратно)38
Игра слов: burger — бургер, булочка (англ.); burgher — бюргер, зажиточный горожанин (англ.). — Примеч. пер.
(обратно)39
Современное правописание: «in all the grammar schools of England, children leave French and learn in English». — «Во всех средних школах Англии дети бросают французский и учатся на английском». — Примеч. пер.
(обратно)40
Наиболее точный перевод: «Пусть стыдится подумавший об этом плохо».
(обратно)41
«Бог и мое право» (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)42
Версия, будто виной тому была забастовка французских докеров, не соответствует действительности.
(обратно)43
После Ватерлоо, разумеется. Креси и Трафальгар французы благополучно забыли, а неудачу Наполеона в России считают стратегическим отступлением; нацистскую оккупацию они вообще не рассматривают как поражение — для них это был скорее период ожидания победоносного возвращения Шарля де Голля.
(обратно)44
Бернард Корнуэлл (р. 1944) — английский писатель и репортер, автор исторических произведений, в том числе романа «Азенкур». — Примеч. пер.
(обратно)45
Вопреки расхожему мнению, Генрих произносит свою знаменитую речь — «Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом…» — вовсе не перед Азенкуром. Судя по тому, что видно на экране, эти слова он говорит при осаде Арфлёра, имея в виду проломы в крепостных стенах города. Вот почему он добавляет, что в случае поражения «…трупами своих всю брешь завалим». (Пьеса Шекспира «Генрих V» здесь и далее цитируется в переводе Е. Бируковой — Примеч. пер.)
(обратно)46
С 1350 года вплоть до 1830 мужские наследники трона назывались дельфинами, но вовсе не из-за особых способностей к плаванию, а лишь потому, что на их личном гербе рядом с королевской лилией красовались эти игривые морские животные.
(обратно)47
Хотя форму швейцарских гвардейцев Папы уж никак не назовешь мужской.
(обратно)48
Жанне пришлось ждать более чем четыре века, прежде чем она снова смогла стать полезной Франции. О том, какие споры разгорались вокруг ее канонизации, читайте в главе 18.
(обратно)49
Хаггис — национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов (сердца, печени и легких), порубленных с луком, толокном, салом, приправами и солью и сваренных в бараньем желудке. — Примеч. пер.
(обратно)50
Черт возьми (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)51
Шотландия (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)52
Лэрд — в Шотландии помещик, владелец наследственного имения. — Примеч. пер.
(обратно)53
Это не стоит воспринимать как оскорбление, поскольку французам режет слух любой язык, кроме сами понимаете какого.
(обратно)54
Здесь и дальше я использую термин «протестант» исключительно для удобства, чтобы отделить англиканскую церковь и другие церкви от католической. Для целей этой книги куда важнее провести границу между теми, кто присягал на верность Папе, и теми, кто этого не делал.
(обратно)55
Кэдди — подносчик клюшек в гольфе. — Примеч. пер.
(обратно)56
Да, это красивое место (фр.). Название города Beaulieu созвучно фразе beau lieu — «красивое место». — Примеч. пер.
(обратно)57
Название города Portsmouth созвучно фразе pогt's mouth — «рот порта». — Примеч. пер.
(обратно)58
Позор, что ни в одном из писем к Елизавете Мария не обыграла свое французское имя. Сгодился бы, к примеру, такой каламбур: «Marie, которая могла бы стать твоим mary».
(обратно)59
Татбэри был заложен неким Анри де Ферьером, который сражался в армии Вильгельма Завоевателя при Гастингсе, и среди его потомков есть еще один трагический королевский персонаж — Диана, принцесса Уэльская.
(обратно)60
За участие в заговоре против Марии Гиффорду пожаловали пенсию в Англии. После ее казни он уехал во Францию, где стал священником, был арестован за бисексуальные оргии в борделе и умер в Бастилии.
(обратно)61
Этот Папа был папой не только Римским. Католическая энциклопедия признает, что он имел «отношения с римлянкой», которая родила ему четверых детей, включая знаменитую Лукрецию. Впрочем, энциклопедия умалчивает о трех детях от других любовниц.
(обратно)62
Мистер Дарси — вымышленный персонаж, один из главных героев романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», холодный и достаточно проницательный человек. — Примеч. пер.
(обратно)63
У Вольтера на самом деле не акр, а арпан, который во Франции составлял площадь в 220 «королевских ступней» (71,48 кв. м). В Нувель Франс, то есть во Французской Канаде, арпан равнялся всего 200 «королевских ступней» (64,97 кв. м). Даже единицы измерений пытались унизить французских канадцев.
(обратно)64
Здесь обыгрываются английское слово wolf — «волк» и фамилия генерала Wolfe — Вольф. — Примеч. пер.
(обратно)65
Добро пожаловать во Францию (фр.) — Прим. пер.
(обратно)66
Кстати, у этого нового принца, Людовика Оранского, было пять дочерей, четыре из которых в итоге оказались в объятиях короля Людовика Четырнадцатого.
(обратно)67
Америка (англ.) — Прим. пер.
(обратно)68
Америка (фр.). — Примеч. пер
(обратно)69
Справедливости ради стоило бы отметить, что victory, triumph, success, glory [победа, триумф, успех, слава (англ.) — Примеч. пер.] тоже французские слова, но это ослабило бы мои аргументы.
(обратно)70
Да, но (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)71
Почему бы нет? (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)72
Опунция — род кактуса. — Примеч. пер.
(обратно)73
Кризис фондового рынка Британии 1720 года в результате значительного падения цен акций «Компании Южных морей» после их спекулятивного роста. «Компания Южных морей» была основана в 1711 году для торговли с испанскими владениями в Южной Америке. Является примером финансовой пирамиды. — Примеч. пер.
(обратно)74
Пожалуй, это был единственный случай, когда Ло не соврал, но, к сожалению, нефть здесь нашли уже после того, как французы продали Луизиану.
(обратно)75
Будьте добры (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)76
Во всяком случае, американскими авторами. А вот французы любят подискутировать на эту тему.
(обратно)77
Можно сказать, что французская фамилия Montcalm складывается из двух слов: mont — «гора» и calm — «спокойный». — Примеч. пер.
(обратно)78
Рикки Джервейс (р. 1961) — современный британский комедийный актер, сценарист, режиссер. — Примеч. пер.
(обратно)79
Кстати, личным адъютантом Рошамбо служил шведский граф, красавец Ханс Аксель фон Ферзен, которого можно увидеть в роли соблазнителя Марии-Антуанетты в фильме Софии Копполы. Впрочем, королевский адюльтер так и не был доказан.
(обратно)80
Кстати, в бывшем доме Талейрана на площади Согласия сейчас находится американское посольство в Париже.
(обратно)81
На одной из карт, составленных французским министерством финансов, Луизиана простиралась к западу — фальшивка, конечно! — до самого штата Вашингтон.
(обратно)82
Роман, опубликованный в 1859 году, рисует целостную картину, в которой соединились всеобщий ажиотаж, идеализм и неприкрытый разбой времен Революции. Неслучайно повествование открывается словами: «Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, — век мудрости, век безумия…»
(обратно)83
Жан Ансельм Брийя-Саварен (1755–1826) — знаменитый французский эпикуреец и гастроном, кулинар и писатель. — Примеч. пер.
(обратно)84
Хотя не исключено, что парламентарии попросту заснули: речи Берка, бывало, растягивались часов на восемь.
(обратно)85
Хотя ни одной из них не удалось превзойти оглушительный успех романа Диккенса «Повесть о двух городах», опубликованного через пятьдесят с лишним лет и ставшего англоязычным бестселлером всех времен: всего продано двести миллионов экземпляров. Такая впечатляющая цифра лишний раз подтверждает, что ни один литературный сюжет не занимает англичан так, как Французская революция. Французам впору этим гордиться.
(обратно)86
Да здравствует разница (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)87
Хотя у Марии-Терезы тоже есть свои защитники, и они находят в этой реплике вполне здравое предложение. В то время при нехватке хлеба булочникам рекомендовали снижать цены на бриоши.
(обратно)88
Septem — семь (лат.), octo — восемь (лат.) — Примеч. пер.
(обратно)89
Кубок шести наций — самый престижный в Европе трофей в регби, неофициальный чемпионат Европы. — Примеч. пер.
(обратно)90
Лувр был преобразован в национальный музей в 1793 году.
(обратно)91
Прослеживается знаковая историческая параллель с президентом Саркози, которого часто сравнивают с Наполеоном из-за его роста и потребности постоянно демонстрировать свою боевую форму. Когда появились сообщения о том, что у второй жены Сарко, Сесилии, роман на стороне, тут же в СМИ просочилась информация о частых встречах президента с очаровательной французской журналисткой.
(обратно)92
Хотя не стоит верить тому, что говорит какой-то Кларк о своих похождениях в глухом переулке.
(обратно)93
Не так ли? (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)94
Игра слов: Water — отец (нем.) и Father-in-law — тесть (англ.) плюс созвучие с Waterloo — Ватерлоо. — Примеч. пер.
(обратно)95
До свидания (исп.) — Примеч. пер.
(обратно)96
Странно, что во время Первой мировой войны многие британские командиры забыли об особенностях бельгийской грязи и посылали свои войска на верную смерть под вражеские пулеметы.
(обратно)97
Впрочем, это ему не зачлось. Спустя полгода Ней был обвинен роялистами в государственной измене за переход на сторону Наполеона и расстрелян в Париже. До последней минуты оставаясь примером доблести и бесстрашия, он отказался завязывать глаза и лично отдал приказ расстрельной команде открыть огонь.
(обратно)98
Точно! (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)99
Булочные (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)100
Форин-офис (Foreign Office) — неофициальное название внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства. — Примеч. пер.
(обратно)101
В буквальном переводе с английского French означает «французский». — Примеч. пер.
(обратно)102
Прозвища солдат в Первую мировую войну: томми — англичане, оззи — австралийцы, киви — новозеландцы, пончики — американские солдаты-пехотинцы. — Примеч. пер.
(обратно)103
Не хотите ли переспать со мной сегодня? (фр.)
(обратно)104
«Вы говорите?» (искаж. фр.) — Примеч. пер.
(обратно)105
И как мы уже знаем, французы даже протащили поправку, защищающую французское шампанское от иностранных подделок.
(обратно)106
«Аксьон франсез» (Action française, буквально — «Французское действие») — реакционная монархистская политическая организация, возникшая во Франции в 1899 г. под руководством Ш. Морраса. — Примеч. пер.
(обратно)107
Большое спасибо, друзья (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)108
Вторая мировая война (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)109
Наоборот (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)110
Строго говоря, Франция лишь закончила строительство линии Мажино при Гитлере — работы на самом деле начались еще в 1928 году.
(обратно)111
Чемберлена зачастую неправильно цитируют, приводя слова «мир в наше время» — возможно, путая со строчкой из Книги общей молитвы: «Дай нам мир в наше время, Господи».
(обратно)112
Хотя у Черчилля были серьезные причины для того, чтобы хранить операцию в секрете. Де Голль, если бы его поставили в известность, мог запросто отправиться к местному аптекарю и спросить, какие лекарства против малярии следует взять с собой в поездку на Мадагаскар.
(обратно)113
Слово «колонии» я употребил в собирательном значении. На самом деле Марокко и Тунис были протекторатами, Алжир являлся частью Франции, и все алжирцы (формально) считались французскими гражданами. Однако для населения всех трех стран французы по-прежнему были колонистами.
(обратно)114
Да, да (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)115
Почему бы нет? (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)116
Я (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)117
Союзники не могли себе позволить отвлекаться на Нормандские острова, которые в итоге были освобождены лишь в мае 1945 года. К тому времени островитяне уже по-настоящему голодали, и даже солдаты нацистского гарнизона дошли до того, что тайком пробирались во Францию и воровали там еду.
(обратно)118
Говорят, фон Холтитц спас Париж, отказавшись выполнить приказ Гитлера взорвать город. Однако он заложил взрывчатку под многие ключевые здания и за несколько дней до капитуляции все- таки сжег Гран-Пале, разрушил склады с зерном и провел массовые расстрелы борцов Сопротивления. Так что святым Холтитца никак нельзя назвать.
(обратно)119
Не так ли? (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)120
Французское исключение (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)121
Какое оскорбление! (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)122
До свидания (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)123
Американского происхождения (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)124
Были, кстати, заимствования и в обратном направлении, и самый известный пример — песня My Way («Мой путь»), которая является англоязычной адаптацией французской песни Comme d'habitude («Как обычно») в исполнении Клода Франсуа. Если вы внимательно прослушаете английскую версию, то услышите, что это все-таки французская песня: мелодия представляет собой вариацию на одну тему, и ритм совершенно не танцевальный.
(обратно)125
Похоже, это настоящее имя агента, хотя в переводе с французского verge не что иное, как «пенис».
(обратно)126
Да (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)127
У французов «пользование» определяется двумя словами — «использование» и «применение», — видимо, чтобы показать все богатство родного языка, и закон дает их оба, хотя среднестатистический француз вряд ли объяснит разницу.
(обратно)128
Что это такое, «Старбакс»? (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)129
Он ошибся — моя книга вовсе не антифранцузская, если вы прочтете внимательно.
(обратно)130
Ларри Дэвид (р. 1947) — популярный американский комик. — Примеч. пер.
(обратно)131
Ложный шаг (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)132
Спасибо, друзья (фр.) — Примеч. пер.
(обратно)133
Сколько ни меняй — все одно и то же будет (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)134
Конец (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)135
Перевод А. Радловой.
(обратно)136
Перевод Н. Любимова.
(обратно)

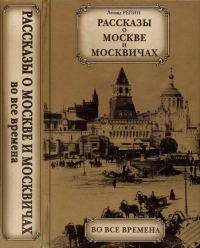
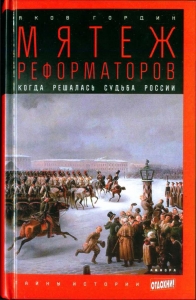
Комментарии к книге «Англия и Франция: мы любим ненавидеть друг друга», Стефан Кларк
Всего 0 комментариев