Андрей Леонидович Никитин ОСНОВАНИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ Мифологемы и факты
ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
О купчей на «землю Бояню»[1]
В № 3 журнала «Вопросы истории» за 1964 г. архитектор-реставратор С. А. Высоцкий опубликовал сообщение о найденном им в Апостольском приделе киевской Софии граффито с текстом купчей, в которой речь шла о «земле Бояновой». Позднее, без каких-либо дополнений, эта публикация вошла в первый выпуск Свода древнерусских надписей киевской Софии, осуществленного тем же автором. Открытый им текст гласил:
Высоцкий перевел его следующим образом:
«Месяца января в 30, на святого Ипполита, купила землю Боянову княгиня Всеволодова перед святою Софиею, перед попами, а тут были: попин Яким Домило, Пателей Стипко, Михалько Неженович, Михаил, Данило, Марко, Семьюн, Михал Елисавинич, Иван Янчин, Тудор Тубынов, Илья Копылович, Тудор Борзятич; а перед этими свидетелями купила княгиня землю Боянову всю, а дала за нее семьдесят гривен собольих, а в этом (заключается) часть семисот гривен»[2].
Отсылая интересующихся к первоисточнику, напомню лишь основные выводы первооткрывателя. Изучение палеографических особенностей надписи привело С. А. Высоцкого к выводу что наиболее вероятным временем ее возникновения является вторая половина XII века, хотя написания отдельных букв характерны и для второй половины XI века. Поскольку большинство аналогий указывало, как считал Высоцкий, на XII век, то решающим аргументом в пользу третьей четверти этого столетия стало для него упоминание «княгини Всеволодовой», которую публикатор отождествил с Марией Мстиславной, вдовой князя Всеволода-Ольговича, умершей в 1179 году, чье имя известно нам из Густинской летописи. Подтверждение такому решению он находил и в других именах, содержащихся в тексте. Так, одного из «Тудоров» он полагал «Тудором, тиуном, вышгородским», одного из «Михаилов» — «митрополитом киевским», «попа Семьюня» — «духовником киевского князя Ростислава Мстиславича», а «попина Якима Домило» — ставленником Всеволода Ольговича, туровским епископом Акимом, «имя которого читается в летописи (Ипатьевской. — А. Н.) под 1144–1146 гг.»
Далее Высоцкий специально остановился на рассмотрении гапакса «драниць» (винит. падеж мн. числа), до этого в памятниках древней письменности не встречавшегося. Отказавшись от грамматически точного прочтения этой фразы и опираясь на фиксируемое надписью соотношение 70 и 700 гривен как 1:10, исследователь заключил, что речь идет об уплате соболями церковной десятины от сделки. Что касается Бояна, то, упомянув о бытовании такого имени на Руси, С. А. Высоцкий допускал, что продаваемая земля могла некогда принадлежать поэту XI века, известному по «Слову о полку Игореве», хотя «ко времени написания граффито Бояна уже не было в живых, но память о нем и местах, связанных с его именем, могла сохраняться в народе»[3].
В. П. Адрианова-Перетц, рассмотрев в одной из своих работ находку С. А. Высоцкого, полностью приняла такую интерпретацию текста, в свою очередь пополнив и развив аргументацию исследователя. По ее мнению, определение «Якима Домило» «попином» было связано с тем, что после сведения туровского епископа Акима с кафедры в 1146 году он был уже не епископ, но и не простой «поп», поэтому его именовали «только по происхождению: „попин“ — из попов»[4]. Конечно, такое заключение выглядело довольно странно, поскольку под происхождением человека подразумевается нечто иное, тем более, что Аким не был лишен священнического сана и не был расстрижен в миряне, но об этом исследовательница, вероятно, не подумала. Владельцем земли она считала того самого Бояна, которого вспоминал автор «Слова о полку Игореве», и представляла его как «гусляра в колпаке, в длинной вышитой рубахе», которого «богато одаряли, и что среди этих даров были и земли, которые потомки продали в семью князей-покровителей их знаменитого предка»[5].
Более внимательно к находке С. А. Высоцкого отнесся Б. А. Рыбаков. Опираясь на палеографию, историк категорически отверг датировку первооткрывателя, указав на черты, характерные для второй половины XI века, а более точно — его последней четверти. Свидетелей сделки с «женскими отчествами» — Михаила Елисавинича и Ивана Янчина, Рыбаков посчитал священниками, связанными с великокняжескими семьями в Киеве: Михаила — духовником вдовствующей княгини Елисавы, матери Святополка Изяславича (ум. 4.1.1107 г.), а Ивана — духовником княжны Янки, дочери Всеволода Ярославича (ум. 3.11.1112 г.). Соответственно, и «княгиня Всеволодова» оказалась не вдовой Всеволода Ольговича, а женой Всеволода Ярославича — Анной. Последнее обстоятельство только и могло объяснить выступление клира киевской Софии в качестве гаранта сделки и участие в ее заключении духовников великокняжеской семьи, определять которых по именам их духовных дочерей можно было лишь при жизни последних[6]. Тем самым, по количеству и характеру исторических реалий дата надписи, предложенная Рыбаковым, — 80-е годы XI века — оказывается гораздо более аргументированной, чем предложенная С. А. Высоцким и поддержанная В. П. Адриановой-Перетц.
В отличие от своего предшественника, Рыбаков считал, что «семьдесят гривен собольих» являются не процентами («десятиной»), идущими в храмовую казну, а задатком от общей суммы в семьсот гривен, причем последняя для того времени сопоставима с доходом (податью) с семи небольших городков. Таким образом, в социальной иерархии киевской Руси конца XI века Боян по своему имущественному положению оказывался если не князем, то весьма состоятельным боярином. «Следует отметить, — писал Рыбаков, — что Бояня земля покупается неизвестно у кого: ее владелец (к моменту купли) не указан. Вероятно, сам Боян к этому времени уже умер, но его имя осталось за его (может быть, выморочной?) землей. Не этим ли объясняется то, что запись о купле сделана так всенародно у самого входа в Софийский собор?» И тут же добавлял: «Текст граффито сам по себе не дает нам права отождествлять Бояна-песнотворца с Бояном-землевладельцем, но хронологическое препятствие теперь устранено; последняя припевка Бонна относится к 1083 г., а Бояня земля могла быть куплена уже в 1086 г.»[7].
Как можно понять из этого краткого обзора, исследователи уникального граффито рассматривали лишь отдельные его компоненты, но не весь текст в целом, упустив из виду, что перед ними юридический документ, составлявшийся в строгом соответствии с формуляром, который, исходя из установлений Правды Руской, требовал указания не только объекта сделки и его покупателя, но, в первую очередь, продавца, без чего сделка не могла считаться действительной. Каждое слово такого акта имело строго определенное значение, не допускающее иных толкований, а порядок имен свидетелей («послухов») соответствовал их роли и полномочиям. Судя по всему, покупке «земли Бояна» придавалось совершенно исключительное значение, поскольку купчая, написанная на пергамене и скрепленная печатями присутствовавших лиц, была продублирована на фреске св. Онуфрия в главном соборном храме Киева. Между тем, без ответа остались главные вопросы: 1) кто продавал «землю Бояню», 2) кем были поименованные в тексте «послухи», 3) почему для покупки использованы два разных глагола — «крити» и «купити», 4) каковы были финансовые расчеты при заключении сделки и 5) что нам дает этот текст по выяснению личности Бояна? Попробуем в них разобраться.
Основную трудность вызывает определение продавца земли, имя которого должно находиться в синтагме «землю княгыни Бояню Всеволожаа», выступающей в первом случае с глаголом «крила», а во втором (без упоминания «Всеволожаа») — с глаголом «купила».
Следуя нормативам древнерусского языка, С. А. Высоцкий разделил ее на две части («землю Бояню» и «княгыни Всеволожаа»), каждая из которых грамматически согласована, хотя в тексте они переплетены между собою. Основанием для такого их расчленения является сочетание «княгыни Всеволожаа» (именит, падеж ед. числа), выступающее в качестве подлежащего. Сомнение в правильности такого членения вызывают два обстоятельства: нахождение лексемы «княгыни» внутри синтагмы «землю княгыни Бояню» и повторение той же синтагмы без имени «Всеволожаа» в конце купчей. Как я уже говорил, с точки зрения формуляра отсутствие имени продавца делает купчую недействительной, в то время как имя покупателя, обозначенное в начальных строках акта, в дальнейшем может уже не повторяться[8].
Другими словами, в синтагме «землю княгыни Бояню» было бы логично видеть указание на продавца («княгиня Боянова»), если форму «княгыни» рассматривать не как именительный падеж единственного числа, а как винительный при исходном (именит, падеж ед. числа) «княгыня». Сложность заключается в том, что, начиная с Изборника Святослава 1073 г., где на миниатюре находится древнейшее из пока известных написание «княгыни» (именит, падеж ед. числа)[9], и до XVI века родительный падеж единственного числа этого существительного представлен формой «княгыне» (или «княгыня») за одним, впрочем, примечательным исключением: в договоре Игоря с греками 945 г. по Лаврентьевскому и Радзивиловскому спискам летописи при перечислении послов указан «Искусеви, Ольги княгини»[10].
Последнее позволяет предположить древнейшую форму этого слова в именительном падеже единственного числа как «княгиня». Больше того, наблюдения над склонением существительных этого типа («земля», «княгыня») в новгородских берестяных грамотах открывает существование норматива, дающего в родительном падеже единственного числа такую же форму — «господыни» (грамота № 84), «полтини» (грамота № 354) и т. д.[11]
Исходя из этого норматива, продавцом земли оказывается «княгиня Боянова», т. е. вдова князя Бояна, что восполняет искусственную лакуну в формуляре купчей и соответствует оценке земельных владений Бояна, сделанной Б. А. Рыбаковым. Но не будем спешить с выводами. Внимательное изучение заключительной фразы купчей убеждает, что «семьдесят гривен собольих» являются ценой «всей» Бояновой земли, а не церковной десятиной от сделки, поскольку следующая синтагма «а в томь драниць семьсъту гривьнъ» недвусмысленно указывает, что гривны «драничные» являются эквивалентом семидесяти гривен «собольих». Другими словами, в тексте купчей оговорен курс «собольих» гривен при пересчете на курс «драничных» гривен, которые относятся к первым как 10:1. Что собой представляли гривны «драницы» и гривны «собольи» — неизвестно, поскольку эти денежные единицы до сих пор ни в одном документе не встречались, как неизвестно реальное содержание металла в «собольих» гривнах: скорее всего, они не эквивалентны «гривнам серебра», которые имел в виду Б. А. Рыбаков[12]. Подобная оговорка о содержании денежного эквивалента содержится в купчей конца XIV — начала XV века Михайловского Архангельского монастыря на Двине, где отмечено, что «дали… семь рублев, а по сту белки на рубль»[13].
Таким образом, «земля Бояня» оказывается много дешевле, чем предполагалось ранее, но оценена, по-видимому, достаточно высоко, даже если предположить, что она находилась в самом Киеве. И хотя ее оценка никак не может служить столь же весомым аргументом в пользу княжеского достоинства ее владельца, как о том говорит приведенный выше грамматический анализ, последний находит свое подтверждение в другом комплексе фактов этого документа, выпавших из поля зрения исследователей. Речь идет о свидетелях, представлявших интересы продавца.
Безусловной заслугой Б. А. Рыбакова следует считать произведенный им анализ имен двух послухов с «женскими» отчествами — духовника вдовствующей княгини Елисавы («Михаил Елисавинич») и духовника княжны Янки Всеволодовны («Иван Янчин»). Будучи связаны с великокняжеской семьей, оба они выступали при совершении сделки, скорее всего, от лица покупателя, жены Всеволода Ярославича, княгини Анны. Факт этот позволяет при дальнейшем анализе расчленить аморфную массу «послухов» на три функционально самостоятельные группы: 1) собственно свидетелей, представителей софийского клира, 2) лиц, представлявших интересы покупателя, и 3) представителей продавца.
В переводе и толковании С. А. Высоцкого первая группа, состоящая из священников («попы»), представлена людьми, названными то по имени, то по имени с отчествами. Между тем хорошо известно, что духовные лица, начиная с диакона и кончая патриархом, в древней Руси назывались только по имени. Высоцкий произвольно сгруппировал их имена, но оказался прав, выделив из общей массы «попина Якима», открывающего перечень свидетелей, однако не потому, что тот был якобы «сведенным епископом», а потому, что состоял благочинным (протоиереем) церкви св. Софии[14]. Именно поэтому за ним по именам названы члены софийского клира, простые попы — Домило, Пантелей, Степан, Михаил, Данило, Марк и Семен. Исключение составляет среди них «Михалько», имеющий определение «нежьнович», которое отличало его от следующего за ним тезоименного попа Михаила указанием на молодость («Михалько») и, по-видимому, на целибат («неженович» = «неженатик»), который в то время допускался православной церковью.
Вторая группа послухов, выступавшая свидетелями со стороны княгини Всеволожей, была определена Б. А. Рыбаковым и состояла из двух священников — Михаила и Ивана.
Остающиеся, таким образом, послухи — Тудор Тубынов, Илья Копылович и Тудор Борзятич — образуют компактную группу и, в отличие от попов, названы не только полными именами, но еще и с отчествами. Последнее указывает на их высокое социальное положение, позволяя считать их боярами, представляющими интересы продавца, который, таким образом, должен занимать более высокое социальное положение, чем его представители.
Однако у Бояна нет отчества — ни в «Слове о полку Игореве», ни в тексте купчей. Если в первом случае его социальный ранг не требует определения, то во втором — в официальном юридическом документе XI–XII века — без отчества могли выступать только три категории людей — 1) слуги, 2) духовные лица и 3) князья. Отнесение Бояна купчей к первой категории невозможно по социальному положению представляющих его интересы лиц и по отсутствию уменьшительного суффикса, наличествующего даже в имени одного из попов («Стипъко»); отнесение его к духовенству невозможно по тем же обстоятельствам и по причине его «мирского» имени. Таким образом, остается лишь третья возможность, которая находит подтверждение 1) в титулатуре его жены («княгиня Бояня»), 2) в социальном статусе его представителей, поименованных с отчествами, и 3) в специфике их имен, принадлежащих к той же этнической общности, что и имя «Боян», на рассмотрении которого следует теперь остановиться.
До находки С. А. Высоцкого имя «Боян» было известно на территории Восточной Европы, главным образом, из «Слова о полку Игореве» (Боян — поэт второй половины XI в.), «Задонщины» (куда он попал из «Слова…») и по двум письменным источникам, связанным своим происхождением с Великим Новгородом. Так, в тексте Новгородской Первой летописи дважды упоминается «Бояня улка» в связи с церковью св. Димитрия — сначала в 1300 году в связи с ее строительством, а затем при упоминании о происшедшем пожаре[15]. Второй документ, приводящий это имя — «рядная» Тешаты и Якима, датируемая 1266–1291 гг., в которой среди свидетелей упомянут и некий Боян[16]. Кроме того, при раскопках Новгорода были найдены три берестяных грамоты с упоминанием двух Боянов, из которых один жил в интервале 1065–1117 годов, а другой — в третьей четверти XII века[17].
Отсутствие имени «Боян» в корпусе древнерусской книжности XI–XVII вв. и дошедших от того времени документов официального характера как нельзя лучше свидетельствует о малой распространенности этого имени в среде восточнославянских народов, и, наоборот, имя это оказывается весьма популярно у южных славян, в первую очередь у болгар, где оно широко бытует в качестве антропонима с глубокой древности и по настоящее время.
Пришедшее в болгарскую (славянскую) среду от древних тюрок, имя «Боян» имело определенное сакральное значение[18], бытуя в среде староболгарской знати и более узко — в царской семье. Имя «Боян» носили: 1) сын хана Кубрата (VII в.)[19], 2) болгарский хан, заключивший в 764 г. мирный договор с Константинополем[20], 3) брат хана Омортага, казненный в 833 г. за приверженность к христианству[21], 4) сын того же Омортага[22] и 5) Боян-Вениамин, сын царя Симеона. Последний для нас особенно интересен. По словам кремонского епископа Лиутпранда, посетившего Константинополь в 949–950 гг., Боян-Вениамин получил блестящее образование в византийской столице, прославившись как поэт, музыкант и — волшебник, который по своей воле мог превращаться в волка или орла[23]. Подобная характеристика, приуроченная к имени «Боян», поразительным образом совпадает с тем, что двести с лишним лет спустя писал автор «Слова о полку Игореве» о своем предшественнике, который чаровал слушателей игрой на гуслях и «растекался… серым волком по земле и сизым орлом под облаками». Последнее обстоятельство позволило Е. Л. Мороз, основываясь на тюркском происхождении имени Бояна, представить его легендарным певцом-шаманом, память о котором восходит к глубокой языческой древности народа[24].
Случайно ли такое совпадение? Если на основании свидетельства Лиутпранда сначала Ю. Венелин, а вслед за ним Вс. Миллер склонны были видеть в Бояне «Слова о полку Игореве» воспоминание о Бояне-Вениамине, почерпнутое из болгарского источника[25], то реальный русский поэт, писавший во второй половине XI века об усобицах «ярославлих внуков», вполне мог быть прямым (хотя и далеким) потомком этого сына царя Симеона, уехавшего из Болгарии на Русь, правда, не в результате русско-болгарских и болгаро-византийских войн второй половины Х века, как о том писали Н. Балабанов и В. Пундев[26], а, как мне представляется, значительно раньше, в связи женитьбой Игоря на Ольге, которая в некоторых источниках оказывается «княжной болгарской». О последнем вполне определенно писали как архимандрит Леонид (Кавелин), открывший прямое на это указание в летописном тексте[27], Д. И. Иловайский[28], М. Н. Тихомиров[29], так и автор данной работы[30], полагавший, что Боян-Вениамин мог быть родным братом Ольги[31] и вероятным отцом ее племянника («анепсий»), который сопровождал русскую княгиню во время поездки в Константинополь, и чье участие в церемониале приема Ольги[32] иначе трудно объяснить. Сейчас, когда удалось уточнить вероятное время рождения русской княгини (вторая половина 20-х гг. Х в.), т. е. за 3–5 лет до смерти самого Симеона, ничто не препятствует считать ее младшей сестрой Петра и Бояна-Вениамина, детей от второго брака болгарского царя.
Связать имена Ольги и Бояна-Вениамина заставляет не только сам факт ее происхождения из древней болгарской столицы, какой была Плиска, но так же полная неизвестность о судьбе этого многообещающего сына царя Симеона и комплекс сведений о Бояне, киевском поэте второй половины XI века, который содержится в «Слове…». Того и другого разделяет, по меньшей мере, столетие, однако очень многие приметы в творчестве киевского Бояна (сравнение его автором «Слова…» в процессе творчества с белкой на дереве, серым волком на земле и сизым орлом под облаками, столь поразительно напоминающее «оборотничество» Бояна-Вениамина, о котором упомянул Лиутпранд), постоянные дунайские («тропа» и войны Траяна, дунайские девицы) и праславянские (борьба Всеслава с Хорсом, языческий пантеон) реминисценции вызывают естественный вопрос: не был ли древнерусский поэт Боян прямым потомком династов Первого болгарского царства, как это еще в 1920 году попытался представить болгарский исследователь Н. Балабанов.
Касаясь другой исторической загадки — появления в 70-х годах XI века в Киеве знаменитого «Изборника Святослава 1073 года» и некоторых других известных нам книг, являющихся копиями с подлинников, созданных некогда в Преславе или Плиске для личной библиотеки царя Симеона, — Балабанов предположил, что оригиналы могли быть принесены на Русь или воинами Святослава Игоревича, или же сыном царя Симеона, Бояном-Вениамином, который стал «придворным поэтом Святослава»[33]. В последнем Балабанов, скорее всего, ошибался, поскольку массовые переселения болгарской знати и духовенства в Киевскую Русь, в том числе и потомков царя Симеона, должны были принять массовый характер лишь после смерти Святослава, когда Византия оккупировала большую часть территории Болгарии, лишив автономии ее Церковь, запрещая богослужения на славянском языке и уничтожая книги кириллической письменности.
И всё же уход в пределы других государств представителей той или иной династии случался часто. Почти в каждом средневековом княжестве и королевстве той поры можно, было встретить младших отпрысков или боковые ветви правящих (или свергнутых) в соседних странах семей, изгнанных из отечества или бежавших по собственному почину. Они всегда пользовались широким гостеприимством у соседей и родственников, которые предлагали им не только убежище, но и содержание, соответствующее их рангу и титулу. Так происходило и на Руси когда к галицкому князю Ярославу Владимировичу («Осмомыслу») в 1165 году бежал из Византии его свойственник, будущий византийский император Андроник Комнин, «в утешение» которому (т. е. в кормление) галицкий князь выделил несколько городков на всё время его пребывания в добровольном изгнании[34]. Не отмеченные ПВЛ, потомки Бояна-Вениамина могли и в дальнейшем проживать в Киеве, обладать земельной собственностью, занимать достаточно независимое положение в киевском обществе наравне с «Рюриковичами». Более того, их присутствие в Киеве в 70-е годы XI века может объяснить, с одной стороны, появление именно в это время роскошных книг из библиотеки Симеона, которые нам известны по снятым тогда копиям — «Изборника 1073 г.». Евангелия Константина Преславского, Чудовской рукописи со «Словом Ипполита папы Римского» и ряда других[35], а с другой — болгарские имена свидетелей, выступающих со стороны продавца в записи о «земле Бояновой», поскольку в целом они более характерны для южных, нежели для восточных славян, т. е. именно для болгар[36].
Так получается, что даже если вернуться к первоначальному прочтению С. А. Высоцким синтагмы, заключающей в себе объект сделки, имя продавца и покупателя («землю княгыни Бояню Всеволожаа»), анализ остального текста всё равно ведет к заключению о высоком социальном статусе Бояна и к его связям с болгарским этническим массивом в Киеве XI в.
Приводя эти факты, я отнюдь не утверждаю обязательное тождество Бояна купчей и Бояна «Слова о полку Игореве», однако параллели достаточно ярки и красноречивы, чтобы задуматься об исчезающей вероятности одновременного существования во второй половине XI в. в Киеве двух разных людей, обладавших одним именем и сходными чертами биографии[37]. Сведения, содержащиеся в «Слове…» о Бояне (а теперь нет никаких оснований продолжать игнорировать этот источник), рисуют поэта XI века человеком эрудированным, достаточно независимым, выступающим на стороне Святослава Ярославича и его сыновей, Романа и Олега, в их борьбе против Всеволода Ярославича и Владимира Мономаха за отцовское наследство[38]. При этом косвенным подтверждением близости Бояна семье Святослава Ярославича служат не только вычлененные фрагменты поэмы Бояна из текста «Слова…», но и изготовление именно для Святослава Ярославича Изборника 1073 г., являющегося творчески переработанной копией с «Изборника» царя Симеона[39], хранившегося, скорее всего, в личной библиотеке Бояна.
О том, почему «земля Боянова» была продана жене Всеволода Ярославича, сейчас можно только гадать, как, впрочем, о судьбе самого Бояна и стечении обстоятельств, по которым продавцом наследственного владения «внуков Семионовых» выступала «княгиня Боянова», а не он сам. Причины могли быть самыми разными, начиная от смерти поэта, трений с новым киевским князем после его решительной победы над племянниками в 1079 году и кончая отъездом — на Дунай, где в 80-е годы XI века, одновременно с внутренними потрясениями в Византии, активизировалось движение болгар за освобождение, или к вернувшемуся с Родоса Олегу Святославичу. Как бы то ни было, факт ликвидации наследственного владения налицо, причем это событие могло иметь место в достаточно широком временном интервале — от 1079 г. (битва на «Нежатине ниве») до 1111 г. (смерть вдовы Всеволода Ярославича), хотя, вероятнее всего, его следует ограничить 80-ми или началом 90-х гг. XI в.
Вполне вероятно, что именно политическая подоплека отторжения «Бояновой земли» от его бывшего владельца заставила поместить «противень» подлинной купчей на одной из фресок главного храма Киева, призвав гарантом сделки софийский клир во главе с его благочинным, а вовсе не практика «утверждения земельных актов церковью», как посчитал в свое время Я. Н. Щапов, предположивший даже, что «пергаменного экземпляра (купчей. — А. Н.) могло не существовать»[40]. Присутствие соборных попов в качестве «послухов» никоим образом не дает оснований для такого утверждения, тем более, что в самом тексте документа можно найти прямое указание на функцию свидетелей, подтверждавших не столько факт продажи земли, который в отсутствие продавца и покупателя осуществляли представители сторон, сколько достигнутое соглашение о ее цене. На последнем стоит остановиться особо, поскольку имеющиеся в тексте данные впервые приоткрывают процедуру подобной сделки.
Как я уже отметил, при изложении сделки в купчей нотарием было использовано два глагола — «крити» и «купити» — до последнего времени воспринимаемых филологами как равнозначные, что отмечено во всех словарях древнерусского языка и в словоуказателях к текстам. Действительно, при наличии одного только глагола «крити» («шед на търг крити себе ризу»[41], т. е. «шел на рынок купить себе одежду») замена его глаголом «купити» вроде бы смысла не меняет. Но, исходя из предположения о жесткости формуляра купчей и особого, как можно убедиться, значения этой сделки, следует полагать, что между указанными глаголами существовало определенное смысловое отличие, поскольку каждый из них отражает разные этапы одного процесса.
Глагол «купити», как явствует из его положения в конце акта, употреблен для обозначения завершения сделки, ее итога, выраженного передачей денег представителям продавца перед свидетелями. Но сделке, как известно, предшествует торг и сговор, что описано с помощью глагола «крити» в первой фразе купчей. Именно для этой важнейшей части сделки и требовались свидетели достигнутой договоренности. Поэтому мне представляется, что глагол «крити», будучи юридическим термином, имел значение ‘сторговать(ся)’, ‘договориться о цене’, поскольку еще в прошлом веке реальное «рукобитье» (рукопожатие), скреплявшее достигнутую договоренность между продавцом и покупателем, обязательно накрывалось полой одежды.
В данном случае речь шла о том, что представители сторон «перед святой Софией и ее клиром» сторговались о цене земли.
Достигнутую договоренность и фиксировали «софийские попы» во главе со своим благочинным. Стоит заметить, что приведенный выше пример из словаря соответствует как раз такому значению: некто «шел на рынок сторговать себе одежду».
Теперь с учетом возможных вариантов объяснительный перевод записи о продаже «Бояновой земли» можно представить в следующем виде:
«Месяца января 30 [числа], в день святого Ипполита, перед попами святой Софии княгиня Всеволодова [Анна] сторговала землю княгини Бояновой. При этом присутствовал протопоп Яким, [попы] Домило, Пантелей, Степан, Михалко „неженатик“, Михаил, Данило, Марк [и] Семен, [тогда как со стороны покупателя были попы] Михаил [духовник княгини] Елисавы [и] Иван [духовник княжны] Янки, [а со стороны продавца были] Тудор Тубынов, Илья Копылович [и] Тудор Борзятич. И перед этими свидетелями [княгиня Всеволодова] купила землю княгини Бояновой всю [т. е. без остатка]. А за нее отдала семьдесят гривен собольих, а в них [содержится] семьсот гривен „драничных“».
Предлагаемый перевод, как и толкование текста, носят, конечно же, не окончательный характер: купчая на «землю Бояню» является древнейшим известным документом частного акта древней Руси, не имеющим аналогий на протяжении почти трех последующих веков. Мы не знаем ни формуляра таких актов, ни процедуры совершения подобных сделок, ни реального содержания денежных единиц той эпохи, выступающих в малопонятных для нас терминах (гривны — «драницы», «собольи», «серебра» и пр.[42]), ни особенностей синтаксиса и грамматики подобных актов, ни практики помещения «противней» (копий) на стенах общественных зданий и храмов — традиции, похоже, идущей еще из античного мира.
Дошедшие до нас памятники древнерусской письменности мало способствуют прояснению этих вопросов, так что приходится надеяться на археологов и реставраторов, в руках которых может оказаться схожий материал, позволяющий уточнить или пересмотреть предлагаемое прочтение. Точно так же остается гадать о событиях, которые привели к этой сделке, и о задействованных в ней лицах.
И всё же можно утверждать, что купчая на «землю Бояна», даже на этой стадии ее исследования, предстает исключительной важности документом для истории киевской Руси второй половины XI века. Во-первых, это древнейший известный нам земельный акт, дошедший в «противне» своего времени, который знакомит с процедурой сделки, ее оформлением, участием представителей сторон и привлечением в качестве свидетелей духовных лиц, причем количество последних — 9 человек во главе с благочинным Якимом — отличается от установлений византийской «Эклоги»[43], но соответствует рекомендациям «Закона Судного людем»[44], что особенно интересно в связи с признанным юго-славянским (болгарским) происхождением последнего.
Во-вторых, купчая знакомит нас с именами попов софийского клира 80–90-х годов XI века, с духовниками великокняжеских семей этого времени и с фактом исполнения ими весьма щекотливых посреднических функций в такого рода сделках, где, скорее всего, была замешана и политика. В-третьих, документ сообщает нам о проживании в Киеве на положении независимых землевладельцев и в окружении своего двора потомков болгарских царей, одним из которых был, по-видимому, Боян, чья семья вынуждена была уступить свое наследственное владение жене великого киевского князя.
Наконец, и это особенно интересно, наличие в Киеве XI века «князя Бояна» с его болгарским окружением в какой-то степени решает загадку, с одной стороны, появления в это именно время книжных феноменов эпохи царя Симеона, а, с другой, — присутствия в тексте «Слова о полку Игореве» пласта «дунайских реминисценций», заключенных в фрагментах поэтического наследия Бояна, о чем писали многие исследователи древнерусской поэмы. В этом плане особенный интерес вызывают наблюдения Н. М. Дылевского над орфографией и грамматикой Мусин-Пушкинского списка «Слова…», в котором он неизменно отмечал «строгую выдержанность системы средств болгаризированной орфографии», что, по его мнению, является безусловным доказательством «в пользу натуральности (т. е. изначальности в тексте. — А. Н.) этой системы»[45].
«Лебеди» Великой Степи[46]
О половцах упоминают все учебники русской истории, как о чем-то само собою разумеющемся и известном. Их можно встретить на страницах исторических романов и на сцене оперных театров. И всегда оказывается, что половцы — исчадия ада, злейшие враги Руси, коварные и алчные, косоглазые и меднолицые… Но так ли это? Не оказались ли мы в плену искусственных концепций, не поняв летописцев или поздних редакторов летописных сводов, смотревших на степных соседей сквозь призму уже новых, русско-монгольских отношений?
История половцев для непредвзятого исследователя полна парадоксов. Почти два века они жили бок о бок с древней Русью, иногда даже среди русских. Вместе с русскими воинами они участвовали в княжеских усобицах, ходили в помощь русским князьям на Венгрию, Польшу, Волжскую Булгарию, выдавали за них своих дочерей; вместе с русскими дружинами встали против монголов и — бежали, разбитые, чтобы потом снова возникнуть на исторической арене Восточной Европы сначала под именем кипчаков, а после насильственной исламизации в XV в. — в качестве казанских, астраханских и крымских «татар».
Сейчас наступило время, когда можно попытаться взглянуть на наших древних соседей новыми глазами. Сделать это достаточно трудно, как по причине установившейся тенденциозности, так и по крайней скудости материала, в первую очередь письменных известий об этом неуловимом народе, то появлявшемся, то исчезавшем за степным горизонтом. Но главная сложность заключается в другом: то явление, которое отмечено в русских летописях этнонимом «половцы», на самом деле представляло собой сложный и весьма пестрый конгломерат степных народов, у каждого из которых был свой язык, свой антропологический и бытовой облик, свои верования и обряды, свои традиции быта. Появившись в южно-русских степях, собственно половцы, куманы, представленные разными родовыми объединениями, судя по всему, тоже весьма отличными друг от друга вряд ли могли сильно повлиять на быт прежних обитателей степей, взимая с них дань, облагая повинностями и привлекая для участия в своих походах. Отсюда и такой разнобой в описании верований и облика куманов/кипчаков, который исследователь обнаруживает у средневековых путешественников XIV–XV вв.
В этом плане характерно свидетельство Гильома де Рубрука оставившего описание самых разных обрядов погребения у современных ему обитателей Степи, причисленных им огульно к половцам, на которое обычно ссылаются современные исследователи, когда говорят о верованиях и религии половцев:
«Команы насыпают большой холм над усопшим и воздвигают ему статую, обращенную лицом к востоку и держащую у себя в руке перед пупком чашу. Они строят также для богачей пирамиды, то есть остроконечные домики, и кое-где я видел большие башни из кирпичей, кое-где каменные дома, хотя камней там и не находится. Я видел одного недавно умершего, около которого они повесили на высоких жердях 16 шкур лошадей, по четыре с каждой стороны мира; и они поставили перед ним для питья кумыс, для еды мясо, хотя и говорили про него, что он был окрещен. Я видел другие погребения в направлении к востоку, именно большие площади, вымощенные камнями, одни круглые, другие четырехугольные, и затем четыре длинных камня, воздвигнутых с четырех сторон мира по ею сторону площади»[47].
Рубрук не был этнографом, но его описание свидетельствует, что речь идет о погребальных обрядах разных этнических групп, объединяемых общим термином куманы/кыпчаки, однако в большей своей части им не тождественных. Последнее надо иметь ввиду, поскольку всё, что будет сказано далее, относится к тем половцам, с которыми вступали в родственные контакты русские князья XI–XII вв., в первую очередь, к половцам подонским, во главе которых находились потомки Шарукана, т. е. «желтого» или «золотого хана»[48]. Наряду с потомками хана Асеня, возглавлявшими половцев подунайских, они резко выделяются из массы остальных половецких родов как по знатности, так, похоже, и по своему физическому облику и религиозным воззрениям. Основанием подобного выделения может служить и тот факт, что все русско-половецкие княжеские браки (как и половецко-грузинский брак Давида IV Строителя) связаны почти исключительно с Шаруканидами, тогда как на долю Асеновичей выпало создание Второго Болгарского царства, а дочь одного из них, Калояна, стала в 1207 г. женою Генриха, короля эфемерной Латинской империи[49]. Итак, что же мы знаем о них?[50]
1. «…самому Богу враги!»
«Того же лета (6686 — А. Н.), месяца августа, придоша иноплеменницы на Рускую землю, безбожнии измаильтяне, окаянные агаряне, нечистые исчадия делом и нравом сотониным, именем Концак, злу начальник, правоверным христианам, паче же всем церквам, идеже имя Божье славится, сими же погаными хулится, то не реку единым хрестьяном, но и самому Богу враги; то аще кто любит враги Божья, то сами что приимут от Бога?» [Ип., 612].
Пробегая глазами слова проклятий, в которые монах-летописец облек известие об очередном военном столкновении Руси со Степью в 1178 г., современный читатель воспринимает содержащуюся в них информацию как нечто естественное, поскольку она отвечает сложившемуся стереотипу мышления. Мы привыкли считать половцев «погаными», т. е. не только «язычниками», но и «нечистыми»; привыкли считать их «безбожными» т. е. агрессорами и насильниками, врагами христианства и даже мусульманами, поскольку они названы «сынами Измаила» и потомками его матери Агари. И вот тут поневоле задумаешься: а так ли это?
Что в XI–XIII вв. половцы не были мусульманами, известно достаточно определенно. Более того, можно утверждать, что всё это время они служили надежным живым щитом для славян и грузин от исламской экспансии с востока. Но были ли они язычниками, как считает большинство исследователей?
В самом деле, что несет в себе определение половцев «погаными», которое мы, не задумываясь, повторяем за летописцем и за позднейшими переработчиками «Слова о полку Игореве» на протяжении уже многих столетий? Язычники? Не-христиане? С формальной стороны, вроде бы, всё верно. Однако напрасно искать в летописях хотя бы намёк на религиозные воззрения половцев. Вряд ли это случайно. Пусть скупо, но летописи рассказывают о былом язычестве славян, обычаях «сыроядцев», обрядах евреев и мусульман, приходивших обращать Владимира Святославича в свою веру. По летописям мы можем представить себе даже «черную веру» монголов. А вот о религии народа, с которым Русь жила бок о бок на протяжении трех веков и даже успела породниться, ничего не находим.
Удивляет и другое обстоятельство. Иноверие народов воспринималось монахами-летописцами довольно безразлично, даже если те оказывались такими серьезными врагами, как печенеги или монголы. В чем же причина столь гневных филиппик по адресу половцев, напоминающих более поздние обличения Церковью «папежников»-католиков или старообрядцев? Подобную злобу и нетерпимость обычно вызывают не приверженцы чужих религий, а свои еретики и отступники. В таком случае летописцы совсем не случайно умалчивают об их вере, не приводя никаких доказательств их язычества, кроме «поганости» («ядуще мертвечину и всю нечистоту, хомякы и сусолы, и поимають мачехы своя и ятрови» [Ип., 11–12]), аналогично деревлянам, радимичам, вятичам, северо и даже кривичам, о которых сказано, что они «живяху в лесе, якоже всякыи зверь, ядуще все нечисто» [Ип., 10]. Вот почему, столкнувшись с очередным каскадом проклятий в летописях, невольно задумываешься: уж не были ли половцы христианами?
И не просто христианами, а христианами-еретиками.
Однако прежде чем ставить вопрос о конфессиональной принадлежности половцев, посмотрим, чем располагает в этом плане современная наука, в первую очередь — археология.
За последнее время археологами проведена большая работа по изучению погребальных памятников кочевых народов Средневековья. И всё же, как признают сами ученые, им до сих пор не удается выделять с достоверностью из массы тюркских погребений — древнебулгарских, печенежских, торческих, ясских (аланских), половецких, — представителей определенного этноса. Слишком все они похожи друг на друга в своем погребальном ритуале, украшениях, вооружении, одежде, как были похожи когда-то в языке и образе жизни.
Сложность заключена и в том, что названия «печенеги», «торки», «половцы» в конечном счете оказываются только условными ориентирами в пространственно-временном потоке народов, периодически заполонявших южно-русские степи в своем движении с востока на запад. При этом каждый раз происходила смена не всего населения, а лишь какой-то его части, отмеченная именем пришлого народа, который в глазах соседей олицетворял подчиненный ему конгломерат племен, продолжавших жить по своим обычаям и поклонявшихся своим богам. То же произошло и с термином «половцы/плавцы», которым сначала восточные, а затем и некоторые западнославянские народы со второй половины XI в. стали обозначать как собственно половцев (куманов), представленных сравнительно небольшой и, по-видимому, не однородной этнической группой со своей культурой, религией и антропологическим типом, так и огромный массив разноликих степных народов, имеющих свои обычаи, свои верования, свой лексический фонд и антропологические особенности, подпавший власти половцев. Прежние обитатели степей признали над собой господство нового этноса, покорились ему, но продолжали существовать в качестве обособленных родовых объединений. Поэтому в «эпоху половцев», отмечаемую с середины XI по начало XV в., т. е. когда они и пришедшие из казахстанских степей родственные им кипчаки стали основным этническим массивом Золотой Орды, внутри этого массива продолжали существовать этносы предшествующих времен, лишь формально причисляемые к куманам/кыпчакам.
Еще труднее для XI–XIII вв. в массе схожих кочевнических погребений определить христианское захоронение. С тех пор, как в Среднем Поднепровье прекратили сжигать покойников, отличить славянина от тюрка-кочевника стало возможным только по конструкции могильной ямы, по костям коня и положенным в могилу вещам, впрочем, не всегда. Крест как отличительная особенность христианских погребений встречается далеко не всегда даже в городских некрополях этого времени. Всё остальное — оружие, украшения, одежду и доспех, сосуды с заупокойной пищей, — славяне продолжали ставить и класть в могилу еще долгое время спустя после всеобщего крещения, поскольку рядом с христианством продолжало существовать язычество со своими святилищами, жрецами, жертвами и культом[51].
Однако могут ли кости коня, с которым половец не расставался при жизни, который был ему дороже брата, свидетельствовать о «язычестве» его хозяина? Нет, конечно. Тогда что же остается? Только «каменные бабы», которых, по свидетельству Г. Рубрука, приведенному выше, половцы ставили на своих могилах и которым, по свидетельству Низами, «поклонялись» в самом прямом смысле? Но можно ли считать эти знаки внимания и почтения — идолопоклонничеством, даже если возле таких изваяний археологи порою находят остатки жертвоприношений? В таком случае, к язычникам можно причислить и большую часть христианских народов Европы, в особенности славян, на кладбищах которых (особенно сельских) можно найти на могилах скорлупу яиц, рассыпанную крупу, конфеты, печенье, цветы, — всё то, что является зримым свидетельством памяти живых, навещающих своих усопших близких.
Между тем, если обратиться к дословному переводу поэмы Низами, который приводит в одной из своих работ С. А. Плетнева, оказывается, что речь идет не о половецких изваяниях, во множестве рассеянных по степям, а о какой-то «этой, единственной в своем роде статуе», которую почитают «все племена кипчаков, когда попадают сюда»[52]. Другими словами, ни о каких «идолах» в собственном смысле этого слова или «идолопоклонничестве» здесь речи нет, поскольку остается неизвестным, кого изображала статуя, по свидетельству Низами окруженная почитанием всех кипчакских (половецких) родов, — Будду, Иисуса или Богородицу. Поэтому следует с крайней осторожностью относиться к подобным утверждениям «очевидцев», не знавших сути религиозных воззрений того или иного народа, а потому и не имевших возможности адекватно передать увиденное. Это относится и к каменным изваяниям южно-русских степей, огульно зачисленным на счет половцев, тогда как, вероятнее всего, часть их могла быть воздвигнута совсем другими этническими группами, тем более, что недавно опубликованная совместная работа советского, историка Я. Р. Дашкевича и польского исследователя Э. Трыярского, посвященная «каменным бабам»[53], показала, как мало еще мы знаем о них и о тех, кто их высекал и устанавливал.
Дело в том, что действительная территория распространения таких «каменных баб» много шире, чем предполагали их исследователи, — от Верхней Волги до Добруджи и от Башкирии до Карпат. Но только ли половцы их возводили? По существу, мы даже не знаем, кого они изображают — предка рода, героя или портрет умершего. Если судить по разнообразию лиц, костюмов, по тому, что среди изваянных есть мужчины, женщины, юноши и пожилые люди, отличающиеся антропологическими чертами, почти наверное можно утверждать, что они представляют собой памятники мемориального характера, пытающиеся передать индивидуальные черты человека подобно христианским надгробным памятникам. Последнее в какой-то мере признавал и Г. А. Федоров-Давыдов, указавший, что «в „Codex Cumanicus“ имеется термин „sin“, который переводится как ‘изображение умершего’, на что обратил внимание еще В. В. Бартолъд; м. б. так назывались и половецкие „бабы“»[54], название которых в русском языке связано с другим тюркским словом — baba, т. е. ‘отец’, ‘предок’. Во всяком случае, это не «идолы» и не «объекты поклонения», если только почтение к памяти или изображению умершего соплеменника или родственника, характерное особенно для христианства, не трактовать как обязательный «культ предка».
Между тем, в мусульманской литературе и в русской народной традиции мы найдем схожее представление об этих каменных изваяниях как «идолах» или «болванах». Такое согласие столь несхожих конфессий лишь подтверждает ошибочность подобного толкования. Для ортодоксального мусульманина Средневековья «идолом» являлось любое изображение, всё равно, человека или животного. Это одинаково относилось к иконам, картинам, статуям и портретным надгробиям, поскольку Коран запрещал правоверным воспроизводить существа, сотворенные Аллахом. И с этой точки зрения все христиане оказывались для мусульман такими же «идолопоклонниками», как, скажем, первобытные племена Африки или браманисты Индии.
Схожих взглядов придерживалось, по-видимому, и духовенство православной (восточной) Церкви. Не случайно в истории русского церковного искусства тщетно искать до XVIII в. портретных или скульптурных надгробий, столь характерных для Западной Европы, точно так же, как живописных или скульптурных портретов в быту. И то, и другое появляется очень поздно в результате европейского влияния на изменившуюся русскую жизнь только в XVII в. Что же касается объемной скульптуры и декоративных барельефов на стенах владимиро-суздальских соборов XII–XIII вв., то они, как установлено, были занесены на Русь извне западно-европейскими (романскими) мастерами, не получив дальнейшего развития из-за монгольского нашествия.
Более того, на стенах Успенского собора Владимира на Клязьме легко разглядеть следы последующей стески орнаментального узора и фигурных композиций, аналогичных резьбе Георгиевского собора в Юрьеве Польском, как видно, смущавших русское духовенство. Насколько такое отношение к скульптуре на Руси было не случайным, показывает устойчивое наименование всяких объемных изображений «болванами» вплоть до XVIII в., даже если речь шла о статуях святых, как бы напоминая об их «идольских истоках».
Так получается, что «каменные бабы» и отношение к ним соседствующих народов не только не доказывает тезис о «язычестве» половцев, но в известной мере подтверждает мысль, что, не будучи мусульманами, иудаистами или буддистами, последователями «черной веры» монголов или зороастрийцами, собственно половцы, скорее всего, были последователями Христа. Предположение это не столь невероятно, как может показаться на первый взгляд, особенно, если не ограничивать рассмотрение истории половцев в южно-русских степях только узким отрезком XI–XII вв.
В самом деле, широкое распространение христианства в среде тюркских народов, в том числе и у прямых предков половцев, кимаков, давно известно, достаточно сослаться на работы академика В. В. Бартольда[55]. Но историки, изучающие половцев на территории Восточной Европы, по большей части забывают об остальных тюрках, в том числе и о кимаках, оставшихся в Азии и, так сказать, «подлежащих изучению» уже востоковедами, а не славистами[56]. Отсюда возникает искусственная ограниченность и просто искаженное представление о предмете исследования.
Одним из первых историков о христианстве половцев и даже части монголов вспомнил Л. Н. Гумилев. Он же первым указал на необычность, если можно так выразиться, «степного христианства», представленного несторианством, к тому же еще и сильно окрашенного манихейством. К сожалению, вместо того, чтобы выяснить роль и своеобразие христианства в политической и общественной жизни половцев насколько это возможно по состоянию источников, Л. Н. Гумилев ограничился попыткой объяснить несторианством содержание «Слова о полку Игореве» и взаимоотношения русских князей XII–XIII вв. Как часто бывает в таких случаях, второстепенные, яркие, хотя и не всегда обоснованные построения исследователя заслонили, а в ряде случаев и дискредитировали в высшей степени продуктивную идею, которая осталась даже не замеченной читателями талантливой, интересной, но далекой от науки книги[57].
И несторианство, и манихейство, сыгравшие исключительно важную роль в истории и культуре азиатских народов, заслуживают специального обстоятельного рассказа. Здесь же я только кратко остановлюсь на причинах, благодаря которым несторианство, как мне представляется, пользовалось таким успехом в среде кочевых народов Востока.
В отличие от ортодоксального христианства, равно западного и восточного, последователи учения Нестория, осужденного Эфесским собором в 431 г., придавали мало значения обрядовой стороне религии. Обязательны были только акты крещения и причащения, почему в ритуалах и символике несториан первенствующую роль играл священный сосуд, как правило, чаша («чаша Грааля»), изображение которой можно увидеть на скалах Азии от Каспия до Тихого океана. Несториане не были иконоборцами, однако не считали нужным почитание икон, а тем более — креста, который послужил орудием пыток и казней Учителя и его первых последователей. Отсюда отпадала необходимость в торжественной обрядовости богослужений и в специальных храмах, которые оказывались невозможны в условиях кочевой жизни. Отрицая церковную иерархию как привнесенный извне институт Церкви, несториане ограничивались наличием в своей среде священников, задачей которых была проповедь, наставление в учении и совершение двух главнейших обрядов — крещения и причащения.
Из этого можно видеть, что несторианство как нельзя лучше подходило для кочевого быта, поскольку его никоим образом не стесняло. Само учение было записано на свитках и в книгах, что предполагало обязательное распространение грамотности среди последователей Нестория. В основе его учения лежал тезис, что Иисус был не Богом, как учила ортодоксальная Церковь, а всего только совершенным и добродетельным человеком, избранным сосудом, наполненным божественной волей и благодатью. Подобный взгляд открывал возможность для проникновения в несторианство различных гностических учений, в том числе и манихейства, тогда как само учение Нестория может быть расценено в качестве возврата к первоосновам христианства и к попытке возрождения быта первых христианских общин, за что оно и было подвергнуто анафеме ортодоксами.
Такая религия, простая и понятная, находила живой отклик в душах кочевников. Вместе с тем, нет нужды пояснять, почему поиски каких-либо вещественных доказательств христианства половцев, не почитавших даже креста, для раннего периода их истории обречены на неудачу. Можно сказать, что духовность несторианства уводила половцев значительно дальше от язычества и идолопоклонства, чем ортодоксальность осудивших их представителей семи Вселенских соборов. В этом плане удивительно яркую картину иконоборчества половцев дает рассказ ПВЛ об их нападении на Киево-Печерский монастырь 20.7.1096 г., когда они «вземьше иконы, зажигаху двери и укаряху Бога и законъ нашь <…> глаголаху: где есть Богь ихъ; да поможете имъ и избавить я от насъ; и ина словеса хулная глаголаху на святыя иконы, насмихающеся» [Ип., 223].
Но если для установления христианства половцев мы не располагаем «крестными свидетельствами», то в руках «каменных баб», еще недавно во множестве стоявших на пространствах южно-русских степей, обнаруживаем не менее важные и убедительные доказательства. Традиционно считается, что в своих руках все они держат «сосуд»[58], хотя при внимательном изучении часть этих предметов оказывается более похожа на свиток, часть — на книгу, и только меньшая часть имеет сходство с сосудом, напоминая в этом случае о евхаристии («чаша Грааля»), а в двух других — об Учении. В последнем «каменные бабы» удивительно схожи с католическими надгробиями Западной Европы того же времени, на которых скульпторы точно также изображали умерших в парадных одеяниях или доспехах, вкладывая им в руки евангелие или молитвенник.
Аналогия оказывается столь полной, что трудно удержаться от сопоставления брани монахов-летописцев в адрес половцев с их же более поздними инвективами «богомерзких латинов» в «идольском богослужении»! Пропасть, разделявшая в сознании православного духовенства XVI–XVII вв. две Церкви, восточную и западную, оказывалась много глубже, чем между православием и мусульманством или действительным идолопоклонством, скажем, обских угров… Но разве не так же относилось к половцам полу-русское, полу-греческое духовенство в XII в.? Вот почему, с точки зрения ортодоксий, монах-летописец был прав, именуя половцев-несториан, смеющихся над иконами, «врагами Бога» и Церкви. Ересь Нестория была предана проклятию на вселенских соборах и порицалась всеми Церквами, поскольку, отказывая Иисусу в божественной природе и полагая Марию не «Богородицей», а всего только «человекородицей», последователи ересиарха «возводили хулу на Бога». Будь половцы действительно язычниками, в подобных тирадах не было бы никакого смысла…
В связи с вопросом о христианстве половцев весьма примечателен один пассаж, содержащийся в поучении «К невежам о посте», изданном по рукописи XVI в. Имп. Публичной Библиотеки, где говорится об обычае «невегласов» топить баню в «великую субботу» и кормить «навье», под видом которых приходят бесы и, обсуждая такой прием, решают остаться в доме таких людей, говоря, что других таких не встречали, хотя «мы же походили по болгаром, мы же по половцемь, мы же по чюди, мы же по вятичемь, мы же по словеном, мы же по инымь землямъ»[59]. Если указание на «чюдь» и «вятичи» содержит косвенное указание на время и место создания поучения как начало освоения этих окраин из поднепровской Руси в конце XI или в начале XII в. (вспомним слова Владимира Мономаха о его походе на вятичей), то помещение половцев в ряду «болгар» и «словен», безусловно к этому времени окрещенных, определенным образом, выделяет их из массы остальных кочевников.
Столь же примечательны и другие косвенные свидетельства христианства половцев, которыми располагает исследователь. Речь идет о русско-половецких браках, заслуживающих внимания по многим причинам.
В системе матримониальных связей древнерусских князей русско-половецкие браки занимают особое место уже потому, что это единственные известные нам браки Руси со Степью. Никто из предшествовавших половцам кочевников не удостоился родства с так называемыми «Рюриковичами» — ни печенеги, ни торки, ни берендеи, ни угры, ни исламизированные волжские болгары, ни даже хазары, породнившиеся с Византией. Можно полагать, что русские князья брали жен или из числа своих родственников, или из аристократии исключительно христианских народов. Обратных примеров до середины XIII в. у нас просто нет. Правило это подтверждают отдельные браки с ясами/аланами, предками современных осетин, которые в то время были распространены от Северного Кавказа до верховьев Дона и являлись христианами. Предполагать, что в конфессионально-матримониальном вопросе для половцев было сделано исключение, нет никаких оснований. Последнее тем более вероятно, что, упоминая о браках с половчанками, летописи ни разу не говорят об их крещении. Самое большее, что можно обнаружить, это церковное венчание «задним числом», как то произошло с Владимиром Игоревичем и дочерью Кончака, вернувшимися на Русь уже с первенцем, который крещен был, как можно догадаться, еще в степи.
Что же касается «еретичества» новоявленных русских княгинь, то оно, по-видимому, «гасилось» приобщением к православной обрядности и удостоверялось почитанием икон и креста. Впрочем, какой-то обряд мог иметь место при получении уже русского имени, хотя и это остается только в области предположений.
Любопытно и другое. Как ни мало нам известно о половцах, их жизни и обычаях, можно видеть, что и сами они в своих контактах и симпатиях отдают явное предпочтение христианским народам. На половчанке — внучке Шарукана, дочери Атрака и сестре Кончака — женился в 1118 г. вторым браком грузинский царь Давид IV Строитель, хотя придворная грузинская традиция строго соблюдала выбор царицы исключительно из круга христианских народов. Вместе с родственниками жены Давид пригласил для защиты Грузии 40 тысяч половцев, которые в нескольких решающих битвах спасли страну от порабощения турками-сельджуками, особенно прославив себя в битве при Дидгори 12 августа 1121 г.[60]
То же самое можно заметить и в отношениях половцев с дунайскими болгарами. Кроме их постоянного участия в антивизантийских выступлениях последних, внимание привлекает беспримерный в истории факт, когда при регулярной поддержке кочевых половцев было создано Второе Болгарское царство, первые правители которого происходили из рода половецкого хана Асеня. Если вспомнить, что восстание Асеней против Византии шло под знаменем борьбы за самостоятельность болгарской Церкви, выбор царей-иноверцев, а затем и цариц-половчанок был бы практически невозможен.
Отношения половцев с Болгарией и Византией заслуживают особого разговора[61]. Здесь же важно подчеркнуть, что и со стороны деятелей болгарской Церкви мы не видим такого обостренного отношения к половцам, зимовавшим в низовьях Дуная, как на Руси, где влияние константинопольского патриархата, а вместе с тем и самой Империи, было гораздо ощутимее. Впрочем, и время было другое. Половецкая династия болгарских царей вступила на престол накануне падения Константинополя под ударами крестоносцев, а потом Византии было уже не до вероисповедных различий…
Но если после всего сказанного и остаются сомнения в изначальном христианстве половцев, обитавших в южно-русских степях (Дешт-и-Кыпчак позднейших авторов), их должно окончательно развеять свидетельство такого авторитетного арабского путешественника первой половины XIV в. как Ибн-Баттута, который в своих записках — прямо заявляет, что «все кыпчаки — христиане»[62]. И это — спустя сто с лишним лет после того, когда еще можно было говорить о каком-либо влиянии православных русских княжеств на быт и культуру «диких» половцев! Следовательно, христианство их было не новым заимствованием, а давним установлением быта, т. е. несторианского толка.
Какого они толка, что исповедуют, что отрицают — именитого мусульманского путешественника не интересовало: главное заключалось в том, что они — христиане, а не идолопоклонники и не мусульмане. Половцы, именуемые в то время «кыпчаками», были составной частью Золотой Орды, которая, по сути своей, очень рано стала почти исключительно ордой половецкой, и только позднее в ней стал увеличиваться булгарский (татарский) элемент. Её правители из политических соображений рано приняли мусульманство, тогда как основная масса кочевых половцев до середины XV в. продолжала исповедовать несторианство. К сожалению, мы не знаем, как к этим христианам относилась специально образованная в Орде Сарайская и Подонская православная епископия, державшая в своих руках, кроме забот о «православных», еще и каналы дипломатической связи между Ордой и Константинополем. Если судить по тому, что в её сохранившихся документах — вроде бы — не находится упоминаний о прихожанах-половцах, обособленность последних от русско-византийской Церкви продолжала сохраняться и после их завоевания монголами, способствуя последующему переходу в ислам.
Ну, а как складывалась история взаимоотношений половцев с Русью до прихода монголов?
2. «…послал в Степь ко вуемъ своимъ»
Политическая история половцев на Руси официально начинается в 1056 г. Под этой датой в ПВЛ помещено краткое сообщение: «Иде Всеволод на торки зиме к Воиню, и победи торки. В семъ же лете приходи Блушь с половци, и створи Всеволодъ миръ с ними, и возвратишася половци вь свояси» [Ип., 151]. В такой скупой констатации двух, казалось бы, не связанных между собою фактов заключена подоплека постоянного повода для последующих конфликтов между половцами и русскими князьями. К ней мы еще вернемся. Сейчас важнее напомнить постулаты, которыми большинство наших историков определяет роль половцев в истории древней Руси. Им соответствуют и конечные выводы, которые рождают искаженное представление как о самом народе, так и о его участии в общеисторическом процессе.
Этими постулатами и одновременно выводами, с наибольшей яркостью и законченностью представленными в работах Б. А. Рыбакова, является убежденность в исконной агрессивности половцев, в их жестокости и вероломстве, наконец, в состоянии перманентной войны между Русью и Степью, поглощавшей все творческие силы русского государства[63].
Причин для появления такого отношения к половцам несколько. Первая коренится в некритическом использовании источников, в первую очередь летописей, рассматриваемых в качестве документа, а не литературно-художественного произведения, причем дошедшего до нас в поздней переработке. Вторая причина, о которой пойдет дальше разговор, может быть определена как научная небрежность, привычка полагаться целиком на мнение предшественников, не проверяя факты и не анализируя сделанные из них выводы. Наконец, существует обыкновенная предвзятость, когда факты толкуются в угоду той или иной политической или националистической концепции, и хотя все это лежит за пределами собственно науки, оказывает на нее самое пагубное воздействие.
Под влиянием этих трех факторов в научном и, следовательно, в общественном сознании сложилось убеждение в «исконном противостоянии» Руси и Степи. «Степные кочевники — половцы — делают отчаянную попытку прорвать оборонительную линию земляных валов, которыми Русь огородила с юга и с юго-востока свои степные границы, и осесть в пределах Киевского государства», — писал, опережая Рыбакова, Д. С. Лихачев[64]. В этом свете половцы предстают прямыми предшественниками монголов. Они «коварны», «хищны», «злобны», «алчны». Их основное желание — захватить русские города, «попленить всю землю Рускую», как выражается монах-летописец, с явным неодобрением относившийся к дружбе русских князей с половецкими ханами. Поскольку конфессиональные истоки неприязни монаха-летописца теперь понятны, при анализе описанных в летописи ситуаций следует вводить своего рода «коэффициент поправки». Наиболее добросовестные историки так и поступают. Более полувека назад Д. А. Расовский указывал:
«Русская историография несколько преувеличила значение боевой встречи Руси и половцев и в бесплодных и, в сущности, безопасных для существования Руси войнах ее с половцами видела серьезный натиск азиатского Востока на форпост европейской цивилизации.<…> Взгляд этот ошибочен. <…> За мелкими пограничными войнами не было замечено, что настоящего наступательного движения на Русь у половцев никогда не было и, добавим сейчас же, быть не могло из-за нежелания половцев выходить из степей и расширять свою территорию за счет лесостепной или лесной областей. Половецкие войны были статическими, а потому и не могли серьезно угрожать Руси, которая в эти века почти вся находилась в лесной полосе. Страдать могли лишь те, сравнительно незначительные части Руси, которые вклинивались в степи и оставались открытыми для половецких нападений. Но такие земли составляли не более одной пятнадцатой всего пространства, занимаемого тогда Русью». И далее историк констатирует: «северные пределы половецких кочевий и южные границы приднепровских русских княжеств оставались неизменными»[65].
Сразу же оговариваю: такой безупречный вывод для русско-половецких отношений XII и начала XIII вв. нельзя распространять на последующее время, как это делал, например, Л. Н. Гумилев для периода ордынского ига, вступая в резкое противоречие с фактами. Более взвешенно подходят к истории половцев на Руси Г. А. Федоров-Давыдов и С. А. Плетнева, которая даже включила «Половецкую землю» (так!) в систему княжеств Древней Руси[66].
Наоборот, примером крайне отрицательного отношения к половцам вообще предстают известные монографии Б А. Рыбакова, посвященные «Слову о полку Игореве». Утрируя негодование киевского летописца, историк рисует фантастическую картину беспощадной двухвековой схватки между обескровленной, обессиленной Русью и постоянно атакующей Степью, прорывающей «систему обороны» древнерусских княжеств, воздвигнутую якобы стараниями киевских князей на огромном пространстве от Подонья до Карпат на манер Великой китайской стены. Соответственно и характеристика того или иного князя дается, исходя из отношения последнего к князю киевскому: поддерживал ли тот антиполовецкие киевские выступления, не гнушаясь умерщвлять послов и гостей, как то делал «пламенный патриот» Владимир Мономах, или, наоборот, выступал за мир и дружбу со Степью, как поступал постоянно попрекаемый академиком Олег Святославич…
Считая излишним анализ подобной системы оценок, хочу напомнить, что реальная история русско-половецких отношений даже в том виде, как она предстает беглому взгляду историка на страницах наших летописей, оказывается куда сложнее, богаче и даже парадоксальнее такой искусственной схемы.
Летописание домонгольской Руси полно сообщениями о военных столкновениях русских князей с половцами, это общеизвестно. И хотя на временной шкале такие конфликты занимают неизмеримо меньшую протяженность, чем периоды мирных сношений, внимание привлечено именно конфликтами. Поэтому представляется целесообразным обратиться к статистике, чтобы одновременно выяснить причины возникновения экстремальных ситуаций и определить, как они соотносятся с периодами мирных контактов. Для этих целей наиболее показательным является интервал между 1056 и 1200 г., на которым обрывается так называемый «Киевский летописный свод», наиболее полно представленный в Ипатьевской группе списков. Такое ограничение оправдывается и другим обстоятельством: к началу XIII в. половецкая аристократия была уже связана с Русью столь тесными узами родства и дружбы в трех, четырех и более поколениях, что даже наиболее резкие в своих оценках половцев историки с осторожностью начинают говорить о «симбиозе» двух народов и культур. Да и как можно иначе оценивать обстановку, если знаменитый новгород-северский князь Игорь Святославич и его братья, «буй-тур» Всеволод и Олег, по крови были на 3/4 половцами?![67]
Итак, временной интервал — без малого полтора века, на протяжении которого все упоминания половцев летописцами могут быть определены шестью видами межэтнических контактов: 1) приходом половцев с предложением «вечного мира», 2) браками между половцами и русскими князьями, 3) участием половцев в княжеских усобицах в качестве союзников, 4) походами русских князей на половцев, 5) ответными набегами и 6) спонтанными нападениями половцев на Русь.
Приходы половцев для заключения очередного «вечного мира» с киевским («великим») князем, как представителем всей Руси отмечены в летописи 15 раз: в 6601/1093, 6602/1094, 6603/1095, 6609/1101, 6611/1103, 6621/1113,6632/1140, 6654/1146, 6655/1147, 6663/1155, 6654/1156, 6666/1158, 6671/1163, 6680/1172 и 6700/1192 годах. На самом деле, таких приходов должно было быть столько же, сколько раз за всё это время в Киеве «настоловался» очередной «великий князь». Как можно понять из сообщений летописи и их анализа, всякий раз, когда это происходило, половцы посылали к новому «главе русской земли» представителей ото всех орд с предложением подтвердить мир между Русью и Степью, «да ни мы начнемь боятися васъ, ни вы насъ» [Ип., 555]. Инициатива всегда исходила от половцев, и её трудно истолковать иначе, как неизменным желанием степняков жить в мире с Русью.
Мирным отношениям способствовали и русско-половецкие браки. Можно не сомневаться, что в летописи мы имеем далеко не полный их перечень. В отличие от западноевропейских хроник, в которых представительницам прекрасного пола уделено значительное внимание, русские летописи практически не замечают жен и дочерей русских князей. Даже если они и бывают упомянуты, то обозначены не собственными именами, а по мужу или отцу, исключения весьма редки. С другой стороны, мы совсем не знаем случаев обратных браков (а они должны были иметь место!), когда бы за степных ханов выходили замуж русские княжны. В том, что такие браки были, убеждают не только более поздние браки великокняжеских дочерей с ордынскими царевичами, но, в первую очередь, история вдовы черниговского князя Владимира Давыдовича. Так и не названная по имени дочь городенского князя Всеволодко Давыдовича овдовела в 1151 г., когда в битве погиб ее муж, и тут же бежала в Степь со своим сыном, Святославом Владимировичем, чтобы выйти за половецкого хана Башкорда.
Последний не только вырастил пасынка, но добился для него доли в отцовском наследстве, посадил на престол и затем приходил с ним на помощь к его стрыю, Изяславу Давыдовичу, со своей конницей [Ип., 501; ошибочно назван «Мстиславом»].
Здесь мы подходим к важному и примечательному явлению.
Летописи сохранили сведения о полутора десятках русско-половецких браках. На половчанках были женаты Олег Святославич, Изяслав Давыдович, Всеволод Ольгович, Юрий Владимирович (Долгорукий); у Всеволода и Святослава Ольговичей мать была половчанка; у Игоря и Всеволода Святославичей половчанками были и мать, и бабка (по отцу). Таким образом, уже к концу XII в. во всех князьях «черниговского дома» и в большинстве князей северо-восточной Руси текла половецкая кровь. На помощь себе половцев призывали: Олег Святославич — в 6586/1078 и 6602/1094 гг., Роман Святославич — в 6587/1079 г., Давыд Игоревич — в 6505/1097 г., Всеволод Ольгович — в 6636/1128, 6643/1135, 6644/1136,6647/1139 гг., Изяслав Давыдович — 6648/1140, 6662/1154, 6667/1159, 6668/1160, 6669/1161, 6670/1162 гг., Святослав Ольгович — в 6654/1146, 6655/1147 гг., Юрий Владимирович (Долгорукий) — в 6657/1149, 6658/1150, 6659/1151,6660/1152,6662/1154, 6663/1155 гг., Святослав Всеволодович — в 6675/1167, 6685/1177, 6688/1180 гг., Мстислав Андреевич — 6679/1171 г., Глеб Юрьевич — в 6680/1172 г., Ярослав Всеволодович — в 6703/1195 и 6704/1196 гг., Рюрик Ростиславич — в 6704/1196 г. Такая помощь отмечена летописью в 30 случаях. И вот что примечательно. За исключением Давыда Игоревича, нанявшего Боняка с отрядом, как об этом прямо говорит летописец, все остальные князья оказываются родственниками половцев — сыновьями, внуками и мужьями половчанок.
Прослеженная закономерность позволяет понять действительный механизм «высокой политики», на которую до сих пор ссылаются отдельные историки, пытаясь оправдать действия того или иного князя, чтобы обвинить его противника в «непатриотичности» или «корыстолюбии». Отсюда же проистекают попытки моральных оценок обращения князей за помощью к половцам, рисуя это как «предательство» по отношению к своей стране и народу и ставя в один ряд с расправами московских князей со своими тверскими или нижегородскими противниками с помощью карательных татарских отрядов. На самом деле всё было много проще и патриархальнее, а главное — естественнее. Но для этого надо напомнить, что собой представляла Русь XII века.
Известно, что территория Русской земли того времени состояла из множества крупных и мелких «уделов». Это верно. Однако уделы не были обособлены друг от друга, поскольку их соподчиненность и неопределенные очертания постоянно менялись. В отличие от других государств Европы и Азии, система управления Руси представляла в то время как бы гигантский «семейный княжеский подряд», поскольку на всех ее престолах, во всех городах сидели исключительно родственники, далекие или близкие. И все их распри, все их войны определялись не какими-либо «высокими идеями» или планами, о которых так любили писать советские историки, а постоянным переделом общего имущества и ссорами за общим семейным столом, как в прямом, так и в переносном смысле. Достаточно выяснить родственные связи князей в возникающих, распадающихся и вновь образующихся противоборствующих группировках на протяжении одного года, чтобы увидеть воочию этот кровнородственный монолит княжья и понять подлинные мотивы действий каждого из них. А ведь мы, как правило, имеем возможность судить о родстве и свойстве русских князей только по мужской линии. Можно представить, какое количество недоумений и спорных вопросов оказалось бы решено, если бы летописи донесли до нас сведения и о представительницах женской половины княжеских домов!
Между тем, родство обязывало. Сложные переплетения его нитей с начала XII в. протянулись в Степь, где законы родства были куда более непреложными, чем для русских князей которые в глазах степняков были полны лжи и коварства, приступая клятвы и естественный порядок вещей. Вот почему русские князья постоянно посылают за помощью в степь «къ оуемъ своимъ» («В то же веремя посла Святославъ в половце ко уемъ своимъ, и приде ихъ к нему вборзе 300» [Ип., 329]), а те регулярно присылают к русским родственникам с вопросом: «прашаемъ здоровия твоего; а коли ны велишь к собе со силою прити?» [Ип., 341].
Стоит заметить, что именно этот постоянный оборот, используемый в летописи — «ко уемъ», «къ оуемъ», «ко вуемъ», т. е. к дядьям (родственникам) по матери (ед. число — «уй»), — в ряде случаев не понятый последующими переписчиками, породил мифическое племя «ковуев» или «коуев». Впервые «коуи» появляются в статье 6659/1151 г. Ипатьевского списка летописи, в котором, как отмечено издателями, изначально стояло «оуи», а над ним едва приметное «к», и с этого момента в рассказе неизвестно откуда появляются «торки, ковуи, берендеи и печенеги», хотя раньше указаны только «черные клобуки» [Ип., 427, 517, 544, 638], до сих пор кочующие по страницам научных трудов наряду с реальными этнонимами[68]. Между тем, данный этнолингвистический курьез оказывается важным «сигналом» для исследователя, позволяя датировать появление «ковуев» в тексте Ипатьевского списка временем не ранее конца XIV в., поскольку в соответствующих статьях Лаврентьевского списка, законченного перепиской в 1377 г., нет ни «ковуев» (их вообще нет более ни в одной из летописей, кроме тех, что восходят к общему с Ипатьевской протографу, т. е. в списках Хлебниковском, Погодинским и Ермолаевском), ни «печенегов».
Можно ли на основании такой помощи считать половцев «агрессорами»? Между тем, тот же летописец отмечает порой, что именно степные родственники склоняли русских князей к установлению мира на Руси и к отказу от усобиц. Последнее тем более важно, что мир между Русью и Степью нарушали два постоянно действующих фактора: коллективные походы русских князей на половцев, которые без преувеличения можно называть «облавами», и — торки.
Начнем с походов русских князей. В летописи их отмечено около двух десятков — в 6611/1103, 6617/1109, 6618/1110, 6619/1111, 6624/1116, 6650/1152, 6661/1153, 6668/1160, 6675/1167, 6676/1168, 6678/1170, 6682/1174, 6691/1183, 6693/1185, 6695/1187 (трижды, что, скорее всего, является результатом неудачного соединения трех источников), 6698/1190, 6699/1191 и 6701/1193 гг. При этом последние четыре даты прямо совпадают по времени с уходами половцев на Нижний Дунай в помощь болгарам, боровшимся против Византии, когда «русские удальцы» грабили оставленные без охраны вежи, пленили слуг, женщин и детей и отгоняли их стада. Естественно, что каждый такой русский набег побуждал половцев к ответным действиям, т. е. их последующие появления на Руси оказываются не спонтанными, а спровоцированными. Такими являются набеги половцев на Русь в 6600/1092 (после убийства Романа), 6601/1093 (после ареста послов), 6603/1095 (после убийства Итларя и Китана с дружиной), 6604/1096 (выступление в защиту Олега), 6615/1107, 6618/1110 (ответы на походы князей 6617/1109 и 6618/1110 гг.), 6661/1153, 6668/1160, 6675/1167, 6693/1185, 6695/1187, 6698/1190, 6701/1193 гг. Они вызваны выступлениями в поддержку обиженных русских родственников, местью за предательски убитых ханов, являются ответными выступлениями после русских облав на их беззащитные вежи. Считать такие набеги «актами агрессии» нет никаких оснований.
Иначе выглядят другие 13 половецких походов — в 6613/1105, 6614/1106, 6624/1116, 6634/1126, 6663/1155, 6673/1165, 6680/1172, 6681/1173, 6682/1174, 6685/1177, 6695/1187, 6698/1190, 6701/1193 гг. Все они направлены исключительно против торков и берендеев, поселенных киевскими князьями в бассейне р. Рось на южных границах Киевского княжества. Их грабительский характер не вызывает сомнений, но при этом следует учитывать то самое обстоятельство, которое определило характер первого контакта русских князей с половцами еще в 6564/1056 г. — отношения половцев к торкам.
Согласно ПВЛ, Всеволод Ярославич встретился с половцами после того, как сам он наголову разбил у Воиня торков, которых гнали половцы. Торки враждовали с половцами издавна. Разбив-их, русский князь тем самым выступил в качестве естественного союзника половцев, что они засвидетельствовали самым недвусмысленным образом, заключив на последующие годы мир с Русью. Ситуация изменилась, когда бежавшие из степей от половцев торки попросили защиты у киевского князя и были расселены по Роси, образовав линию военных пограничных поселений. Для киевских князей торки стали стражами южных границ и союзниками, тогда как в глазах половцев они оставались их беглыми рабами, которых следовало возвратить и наказать. На протяжении сотни последующих лет половцы постоянно обращались к киевским князьям с просьбой отдать им торков и получали неизменный отказ. В этой ситуации и лежит корень более чем векового конфликта половцев с киевскими князьями, которые, в отличие от черниговских князей, к тому же неизменно придерживались провизантийской, т. е. антиполовецкой политики.
Напрасно пытаться установить, кто из них был прав: Степь жила по своим законам, отличным от законов земледельческих народов и государств. К концу XII в. торки успели породниться с половцами и теперь уже сами предупреждали степных «сватов» о приготовлениях против них киевских князей («В лето 6638/1170 <…> и бысть весть половцем от кощея от Гаврилкова от Иславича, оже идуть на не князи русьтии» [Ип., 539]; «В лето 6695/1187. Сдоумавъ князь Святославъ со сватомъ своимъ Рюрикомъ поити на половце <…> и с Черныхъ же Клобукъ даша весть сватомъ своимъ в половци» [Ип., 652]). Здесь важно установить, что и здесь «агрессивность» половцев направлена была не против Руси как таковой, а против родственного народа, с которым у них были свои счеты, тянувшиеся из глубин веков и глубин азиатских степей.
Так в чем же тогда выражалась «постоянная агрессия» половцев против Русской земли, заставляя последнюю «стонать» и «истекать кровью»? В трех набегах половцев: 6569/1061 г., когда произошло первое столкновение княжеских дружин с половцами, 6576/1068 г., когда объединенные силы русских князей — Изяслава, Святослава и Всеволода — были разбиты Шаруканом, после чего вскоре сам Шарукан попал в руки Святослава под Черниговом, и 6579/1071 г., причины и обстоятельства которого не совсем понятны. Вот и всё.
Стоит добавить, что уже в 1068 г., судя по всему, между Святославом Ярославичем и Шаруканом был заключен союз, скрепленный первым русско-половецким браком Олега, сына Святослава, в последующем родоначальника «ольговичей», и дочери Шарукана, сестры Атрака. С тех пор и на протяжении всего последующего времени черниговские князья и донские половцы, возглавляемые Шаруканидами, укрепляют дружеские и родственные связи, проводя последовательную линию на «срастание» Руси и Степи. Сейчас можно утверждать, что это была единственно верная политика соблюдения национальных интересов обеих народов, поскольку Русь испокон веков была открыта Степи и Востоку как для притока свежих сил, так и для развития торговли и распространения своего политического и культурного влияния на степные народы. К тому же союз с половцами-несторианами для Руси был единственным гарантом национальной независимости от мусульманской экспансии с востока и от колониалистской политики Византии с юга.
Последний вопрос, как можно думать, стоял особенно остро, поскольку для Константинополя половцы, выступавшие с конца XI в. в союзе с болгарами против Империи, оказывались не только идеологическими, но и политическими противниками. Сдерживать кочевников, традиционно стремившихся на Нижний Дунай, отвлекать их силы надлежало киевским князьям, в первую очередь «мономашичам», связанным родством с императорским домом и направляемым греками-митрополитами. В силу этого между походами половцев на границы Империи, в Подунавье, болгарскими антивизантийскими восстаниями и походами русских князей в Степь можно вывести прямую зависимость, особенно яркую для периода становления Второго Болгарского царства.
Так получается, что выдвинутый рядом историков лозунг «половецкой опасности», мягко говоря, не соответствует действительности и вводит читателей в заблуждение. Половцам не нужны были ни русские, ни византийские города. Куда бы они ни шли, где бы ни воевали, они неизменно возвращались в родные степи, прерывая даже военные действия, когда наступала пора сезонных перекочевок. Вот почему здесь уместно привести слова одного из самых глубоких исследователей истории половцев, Д. А. Расовского, который писал:
«Не раз половецким ханам представлялась возможность радикально изменить ход истории в причерноморском бассейне. В 1091 г. они держали в своих руках судьбы византийской империи; но, после того как они помогли византийцам разбить своих сородичей печенегов, половецкие ханы и не подумали использовать свое положение победителей: удовлетворившись византийскими подарками, они вернулись в свои степи. С силами, значительно преобладавшими в численности своих союзников, русских, половцы не раз вступали в Киев, однако они никогда не пытались воспользоваться своим преобладающим положением, чтобы создать здесь свое государство. Будучи главной опорой в армии грузинского царя Давида Восстановителя, половцы всегда оставались послушным вспомогательным войском, не стремясь создать на Кавказе независимое турецкое ханство. С Кавказа, из-за Балканских гор, из Киева и из еще более далекого Владимира-на-Клязьме, половцы неизменно возвращались в причерноморские степи, и в этом отношении вошедшие в эпос слова одного из виднейших половецких ханов, Атрака, о том, что „лучше на своей земле лечь костьми, нежели на чужой славным быть“, могут служить эпиграфом ко всей двухвековой истории половцев…»[69]
Так что это были за люди?
3. «…голубоглазые и златоволосые…»
Чтобы понять, что скрывается за абстрактным понятием «народ», следует вглядеться в лица людей, которые его составляют, проникнуться их судьбами, ощутить дыхание их повседневной жизни. Только тогда нам станут доступны их мысли, их идеалы, отношение к окружающему их миру.
От древних половцев нас отделяют разные барьеры — временные, этнокультурные, языковые, психологические. Целостную картину их жизни никто из исследователей не пытался составить, довольствуясь рассмотрением отдельных кусочков, выпавших из ее мозаики. Впрочем, даже если собрать всё, что осталось от прошлого, то и тогда перед нами окажутся только отдельные, мало связанные друг с другом фрагменты обширного панно. И всё же это единственный путь, которым можно куда-то прийти.
Обычно половцев изображают желтолицыми, черноволосыми, скуластыми и косоглазыми, т. е. типичными монголоидами. Такими они предстают нам в популярных и художественных произведениях, на книжных иллюстрациях, на театральной сцене, на экране кинематографа и даже в некоторых научных статьях. Это и так, и не так. Как я уже говорил выше, население Поля Половецкого в XII–XIII вв. и позднее представляло собой конгломерат остатков самых различных этносов, далеко не всегда схожих друг с другом по внешнему виду, но живущих в одних условиях и объединенных верховенством половцев или «куманов», как их называли на Западе. И если за более чем вековой период изучения древностей кочевников средневековья археологи, обследовавшие более 2000 погребений, смогли в общих чертах установить признаки хронологических изменений в их материальной культуре с тем, чтобы датировать находки, то вопросы различения печенежских, торкских и половецких захоронений XI–XIII вв. до сих пор не выходят за рамки более или менее остроумных предположений.
Еще хуже обстоит дело с антропологией, поскольку никто еще, насколько мне известно, не предпринял попыток изучения и обобщения всех тех человеческих останков, которые были открыты при раскопках. Из случайных же обзоров, которыми на данное время располагает наука, следует, что в среде кочевников этого периода были представлены как группы с более или менее выраженными монголоидными чертами, число которых увеличивается с течением времени по направлению к востоку, так и представители ярко выраженного «средиземноморского типа», представленного до сих пор на территории современной Украины — брахикефалы с высоким лбом, тонким с горбинкой носом, пропорциональными скулами и энергичным подбородком. Собственно говоря, это классический тип населения Балкан и Южной Европы, каким мы знаем его по мраморным портретам императорского Рима и погребениям эпохи бронзы Восточной Европы и далее, на всём необозримом пространстве евразийских степей от Дуная до Прибайкалья[70].
Ничего удивительного в этом нет. Половцы, как известно, принадлежат к тюркоязычной семье народов, а древние тюрки, такие как хазары и болгары, всегда славились красотой. О красоте половцев и, в первую очередь, половчанок сохранилось много свидетельств. Дочь хана Атрака, Гурандухт, ставшая женой Давида IV Строителя, как видно, с успехом конкурировала с красотой грузинских княжен; персидский поэт Низами Ганджеви, женатый на половчанке, воспевал исключительную красоту женщин этого народа. Наконец, стоит вспомнить эпитет Кончаковны, племянницы Гурандухт[71] — «красная девка» — употребленный в «Слове о полку Игореве» по отношению к ней и к половчанкам вообще: эпитет, выразивший высшее восхищение поэта и ни разу более не употребленный в отношении представительниц прекрасного пола других народов, в том числе и русского. К сожалению, сохранившиеся каменные половецкие изваяния, выполненные из грубого пористого известняка, пострадавшие от времени и мусульманской нетерпимости к «идолам», дают мало материала по этой проблеме, хотя в некоторых случаях можно угадать правильные черты мужских и женских лиц, выполненных резчиком в условной, очень схематичной манере.
Тот или иной антропологический облик, «вписывающийся» в привычный стереотип или, наоборот, встающий в противоречие с традиционными, хранящимися на уровне подсознания этноса канонами красоты, играет важную роль в установлении межэтнических контактов. Несоответствие привычному стереотипу вызывает инстинктивный всплеск ксенофобии, боязни нового, «чужого», препятствуя таким контактам, и, наоборот, при общем сходстве действительная «чужеродность» оказывается как бы незамечаемой. В древности этот фактор мог играть еще большую роль, чем в наши дни. А в случае с половцами, похоже, барьера для межэтнического общения не возникало. Такое наблюдение в первую очередь относится к половецкой аристократии, выделявшейся из общей массы половцев и, по-видимому, импонировавшей эстетическим представлениям славян, грузин и обитателей Подунавья. Объяснить этот феномен возможно лишь теми характерными чертами, которые выделяли половцев из массы остальных тюрков и определили имена, по которыми они были известны у других народов.
Сами половцы называли себя «куманами» или «кунами» — словом, которое некоторые тюркологи возводят к древне-тюркскому «кум/кун» — ‘лебедь’, ‘белые’, ‘белокрылые’, ‘лебеди’. Догадка возможная, но ведет она не к «тотемическому предку» или всеобщему тотемизму половцев (как то попытался недавно объяснить Г. В. Сумаруков[72], следуя за С. А. Плетневой, которая выводила имя рода Бурчевичей из тюркского bori — ‘волк’, полагая его «тотемом»[73], поскольку никаких реальных следов тотемизма у половцев проследить не удается[74]), а к тому названию, под которым эти странники степей вошли в историю своих восточноевропейских соседей. Так немецкое Falones, венгерское Palocz, польское и чешское Plavci/Plauci, армянское «хардеш» и русское «половцы» обозначают один и тот же цветовой оттенок — ‘соломенно-желтый’, ‘золотистый’, ‘белокурый’ — определяющий цвет волос куманов[75].
Как известно, пигментация волос неразрывно связана с определенным цветом глаз. В отличие от остальных тюрок, черноволосых и кареглазых, белокожие половцы представали в золотистом нимбе волос над яркими голубыми глазами, которые не могли не поразить черноволосых и смуглых грузин, болгар и таких же, как мы знаем по захоронениям, приднепровских славян. Столь характерная «цветовая гамма» половцев, вызывавшая восхищение современников, для историка оказывается своего рода «генеалогическим свидетельством», помогая связать их происхождение с загадочными динлинами китайских хроник («белой расой Центральной Азии»), а через них — с людьми так называемой «афанасьевской культуры», чьи погребения III тысячелетия до н. э. были открыты археологами в Прибайкалье[76].
Таким образом, в океане времен половцы предстают перед нами в качестве потомков древнейших европейцев, вытесненных из Восточной и Центральной Азии начавшейся когда-то широкой экспансией монголоидных народов. «Отуреченные» некогда «динлины», они потеряли свою древнюю родину, сменили язык, и общетюркский поток вынес на простор причерноморских степей вместе с другими уже последние остатки некогда сильного и многочисленного, а теперь вымирающего и теряющего среди других свой облик золотоволосого народа, отмеченного уже признаками своего азиатского прошлого[77].
Под стать облику и психологическая характеристика половцев, которую можно найти у разных авторов. Египетский историк XIV в. Ибн Фадлаллах Эломари с высокомерием аристократа арабского мира писал о простоте нравов половцев, но речь его сразу менялась, едва он касался их внешних и внутренних качеств: «Тюрки этих стран, говорю я, (один) из лучших родов тюркских по своей добросовестности, храбрости, избеганию обмана, совершенству своих станов, красоте своих фигур и благородству своих характеров»[78]. Сходную оценку дает испанец XV в. Педро Тафкар рабам-половцам. Говоря об их врожденной честности и верности, он заметил, что «ни один из них никогда не предавал своего хозяина»[79].
К сожалению, всё, чем сейчас мы располагаем о половцах — только случайно зафиксированные факты их долгой и богатой истории. Может быть, она и будет когда-нибудь написана на основании археологических исследований, работ антропологов, известий арабских, персидских, китайских и европейских источников. Половцы были отнюдь не «цыганами», кочующими в жалких кибитках по степи. Нельзя сравнить их ни с казахами, ни с туркменами в том виде, в каком застали эти народы этнографы, поскольку половцы стояли на гораздо более высоком уровне культурного и общественного развития. В отличие от печенегов и торков, о половцах можно говорить как о некоем устойчивом общественном образовании, предполагающем развитую социальную структуру, наследственную власть, религию, сохранявшую внутри несторианства остатки религии предков и, по-видимому, письменность.
Насколько мощным было воздействие половцев на окружающие народы, с которыми они вступали в контакт, показывают два примера.
Первым и самым поразительным можно считать открытие архива средневековой армянской колонии в Каменце-Подольском. Сохранившиеся юридические документы, относящиеся к XVI в., были написаны армянскими буквами, но на половецком языке. Получилось так потому, что после захвата в 1064 г. турками-сельджуками г. Ани, средневековой столицы Армении, начался исход армян на Северный Кавказ и на берега Черного моря, где они оказались связаны с половцами настолько тесно, что, сохранив алфавит, сменили свой язык на половецкий. В первую очередь это произошло в Крыму, где половцы и армяне оставались до завоевания его турками в 1475 г., после чего перебрались в Подолию, Галицию и на Волынь, где в городах уже имелись большие армянские колонии, и продолжали пользоваться такой «билингвой» по XVII в. включительно[80]. Наиболее крупным памятником такого взаимодействия стала так называемая «Венецианская хроника», охватывающая события 1492–1537 гг. на армяно-половецком языке, опубликованная в 1896 г. в Венеции армянским историком Г. Алишаном[81]. К сожалению, остается неизвестным, как происходило конфессиональное взаимодействие этих двух этносов, но вряд ли несторианство стало препятствием для слияния половцев с армено-григорианскими общинами.
Факт этот заставляет пристальнее вглядеться в русско-половецкие контакты, поскольку каждый смешанный брак означает мощное взаимодействие (или противоборство) культур в пределах достаточно больших человеческих коллективов. За личным знакомством наступает пора усвоения знаний и обычаев, обогащение словарного фонда, а затем и появление относительного двуязычия в быту. Найти доказательства этому в свое время пытался О. Сулейменов в книге, посвященной «Слову о полку Игореве»[82]. Его попытка изначально была обречена на провал, поскольку двуязычие в быту подчиняется нормам одного из превалирующих языков, а в литературе просто невозможно, за исключением разве только пародийных жанров. Между тем, приведенный выше летописный сюжет с ханом Башкордом убеждает, что дети русских князей, будущие князья, могли воспитываться в Степи у своих родственников по материнской линии, отправляясь туда на достаточно долгое время.
Есть и другой пример. Причиной одного из самых острых конфликтов между Владимиром Мономахом и Олегом Святославичем в 1095 г. стал отказ черниговского князя выдать на расправу киевским князьям сына хана Итларя, находившегося на воспитании при дворе Олега, когда Мономах предательски убил его отца, пришедшего из Степи для заключения мира [Ип., 219]. Стоит заметить, что подобный обычай воспитания сыновей рыцарей, князей и королей в дружественных семьях или в семьях вассалов был в то время широко распространен в Западной Европе, являясь почти обязательным для будущего рыцаря.
Сейчас трудно понять, почему сам институт рыцарства мы связываем исключительно с Западной Европой, отказывая в нем древней Руси, чья государственность и общество до середины XIII в. развивались в рамках западноевропейских традиций. Древнерусская юрисдикция (Правда Руская) была создана по образцу варварских «правд», начиная с упомянутого в договоре Олега с греками «Закона Рускаго»; институт Церкви с его «десятиной» был заимствован одновременно из Византии (иерархия) и от Рима (десятина); отношения города и князя, «земли» и правителя, институт общегородского вече — всё это находит прямые аналогии на европейском Западе. Сходным был, по-видимому, и институт рыцарства, скрытый от нас терминами «дружина», «отроки», «детскы» и пр. Это тем более важно, что, как сейчас выясняется, рыцарство отнюдь не принадлежит только Европе. Наоборот, можно думать, что оно пришло в Европу с Востока, где законы рыцарства, морали, этикета, как, например, у арабов, соблюдались гораздо строже, чем на европейском континенте[83].
По ряду признаков можно думать, что всё это с особой силой проявилось и у половцев. «Аристократы степей» имели свои города, только не прикрепленные к месту, а передвигавшиеся под солнцем и звездами. «Дворцы на колесах» стояли на огромных платформах, которые тащили десятки быков. «Мы увидели большой город, движущийся со своими жителями; в нем мечети и базары, дым от кухонь, расстилающийся по воздуху, потому что они варят еду и во время самой езды», — писал о ханской ставке Золотой Орды в середине XIV в. Ибн-Баттута[84], а Гильом де Рубрук в 1253 г. следующим образом описывал устройство «татарских» (на самом деле — половецких) жилищ:
«Дом, в котором они спят, они ставят на колеса из плетеных прутьев; бревнами его служат прутья, сходящиеся кверху в виде маленького колеса, из которого поднимается ввысь шейка, наподобие печной трубы; ее они покрывают белым войлоком, чаще же пропитывают также войлок известкой, белой землей и порошком из костей, чтобы он сверкал ярче; а иногда также берут они черный войлок. Этот войлок около верхней шейки они украшают красивой и разнообразной живописью. Перед входом они также вешают войлок, разнообразный от пестроты тканей. Именно, они сшивают цветной войлок или другой, составляя виноградные лозы и деревья, птиц и зверей. И они делают подобные жилища настолько большими, что те имеют иногда тридцать футов в ширину. Именно, я вымерил однажды ширину между следами колес одной повозки в 20 футов, а когда дом был на повозке, он выдавался за колеса по крайней мере на пять футов с того и другого бока. Я насчитал у одной повозки 22 быка, тянущих дом, 11 в один ряд вдоль ширины повозки и еще 11 перед ними. Ось повозки была величиной с мачту корабля, и человек стоял на повозке при входе в дом, погоняя быков. Кроме того, они делают четырехугольные ящики из расколотых маленьких прутьев, величиной с большой сундук, а после того, с одного краю до другого, устраивают навес из подобных прутьев и на переднем краю делают небольшой вход; после этого покрывают этот ящик, или домик, черным войлоком, пропитанным салом или овечьим молоком, чтобы нельзя было проникнуть дождю, и такой ящик равным образом украшают они пестротканными или пуховыми материями. В такие сундуки они кладут всю свою утварь и сокровища, а потом крепко привязывают их к высоким повозкам, которые тянут верблюды, чтобы можно было таким образом перевозить эти ящики и через реки. Такие сундуки никогда не снимаются с повозок. Когда они снимают свои дома для остановки, они всегда поворачивают ворота к югу и последовательно размещают повозки с сундуками с той и с другой стороны вблизи дома, на расстоянии половины полета камня, так что дом стоит между двумя рядами повозок, как бы между двумя стенами…»[85]
Такими же были и «телегы», упоминаемые в «Слове о полку Игореве», скрип деревянных колес которых далеко разносился над просторами ночной степи.
Пока половецкая аристократия кочевала, часть половцев, занимавшаяся торговлей и ремеслом, оседала в городах, основанных еще их предшественниками, возможно, даже создавала новые поселения на торговых путях и поблизости излюбленных мест ханских ставок, где возникали сады и виноградники, впервые заведенные в речных долинах еще хазарами. Однако «желтые/золотые» половцы там не жили и не могли жить. В новоявленных городах лесостепной полосы и даже в собственно степной зоне, в долинах рек и на перекрестке торговых путей садились зависимые от половцев народы, их предшественники и дальние родственники, чей жизненный порыв иссяк, а юность сменялась неминуемой зрелостью, требующей слияния с окружающими этносами.
Для самих половцев это время еще не наступило, как не наступало время оседлости для их кочующей аристократии. Своеобразие быта, истории и культуры накладывало отпечаток на психологию этих людей, на их мировоззрение, на отношение к окружающему миру. Я вовсе не намерен идеализировать половцев. Но для того, чтобы их понять, чтобы не упрекать напрасно весь народ в том, в чем он неповинен, надо освободиться от предвзятости. Как любой кочующий народ, живший натуральный хозяйством, торговлей скотом и «живым товаром», половцы смотрели на набеги и войны как на естественный образ жизни. В феодальном обществе, и не только кочевом, война была одним из основных «способов производства»: захваченная в бою добыча, затем делившаяся, определяла богатство и достоинство воина, его положение в структуре социума, давала право распоряжаться жизнью и имуществом побежденного. «Право сильного», регламентируемое внутри общества своими законами, являлось краеугольным камнем, на котором возвышалось здание феодализма. Логика была простой: идя в набег, вступая в битву, воин рисковал своей жизнью, таким образом, получаемая им доля общей добычи становилась «платой за риск». Русские князья, германские и венгерские феодалы, французские и английские рыцари в этом отношении были не лучше, а, может быть, даже хуже половцев, потому что меньше уважали своих противников.
Приняв как факт постулаты эпохи, мы сможем объективнее оценивать известия летописей. В сезонной жизни половцев важнее всяких войн и побед было соблюдение хозяйственного (природного) календаря. Сезонные перекочевки, правильная смена пастбищ, предохранявшая их от потрав, соблюдение, как сказали бы мы сейчас, «оптимального экологического режима хозяйствования» приводило к тому, что, участвуя в осаде какого-либо города, половцы могли за несколько дней до его неминуемой сдачи собраться и уйти. Так не раз происходило в Подунавье, где половцы помогали болгарам освободиться от ига Византии. Не раз и не два болгарские цари вынуждены были снимать осаду с византийских крепостей лишь потому, что в заботе о своих стадах половцы не могли задерживаться дольше конца мая[86]. Не помогали никакие уговоры. В этом отношении половцы оказывались столь же «легкомысленны», как скифы в известном рассказе Геродота, которые вместо того, чтобы сражаться с уже выстроившимися против них персами, бросились в погоню за внезапно появившимся зайцем[87].
До последнего времени историки смотрели на кочевников глазами оседлых народов, разделяя их антипатии и предубеждения. Сейчас нам следует быть более объективными и признать, что с точки зрения экологии, достижения равновесия между человеком и природой, половцы куда гармоничнее вписывались в окружавшую их среду, чем народы земледельческие, которые ее истощали и разрушали по своему усмотрению.
Мне трудно отказаться от мысли, навеянной изучением византийских источников, что половцы отнюдь не стремились к регулярным сражениям с кем бы то ни было. Похоже, что и на войну они смотрели, как на развлечение, достойную мужчины игру, но именно игру, предпочитая короткие стычки и маневр, легко отказываясь от разгрома противника, если это оказывалось сопряжено с лишениями и трудностями. Они не стремились жертвовать жизнью ради сомнительного успеха и легко «показывали плечи», ударившись в бегство. В обычных условиях война была для них разновидностью охоты, удальством, хотя в случае нужды они могли стоять насмерть, как то было в решающем сражении с турками-сельджуками при Давиде Восстановителе или в войнах с византийцами. Способные на молниеносный набег, сами они никогда не вели длительных осад, за исключением одного случая с торками [Ип., 212]. И столь же известный по летописи случай появления среди них какого-то «бесурменина», владевшего секретом «живого огня» (на этот случай обычно ссылаются те, кто обвиняет половцев в желании «попленить русские города») — явное недоразумение уже потому, с какой легкостью половцы отдали этого «бесурменина» русским князьям [Ип., 634–635].
Внимательный просмотр известий наших летописей о контактах с половцами приводит к заключению, что эти «дети степей» во многом поступали, как настоящие дети. Они оставались по-детски доверчивы к тем, кто, как русские князья, неоднократно нарушал договоры, кто убивал их заложников, их ханов и «братию», тогда как тщетно было бы искать обратные примеры. Брать в плен, чтобы отпускать за выкуп — таково было «правило игры» этих степных рыцарей, и оно соблюдалось на Востоке гораздо строже, чем у рыцарей Запада. Князь, хан, даже шах могли быть убиты в жаркой схватке. Но смерть их была или случайна, или обусловлена личными отношениями противников. Простой воин не имел права поднять руку на благородного; похоже, он был даже не в праве его пленить. Об этом свидетельствуют восточные историки[88] и писатели того времени, описывая схватки с крестоносцами в Палестине, и о том же самом повествует грузинская поэма XI–XII вв. «Амирандарежданиани».
Можно думать, что такие же правила определяли поведение половцев и на русских землях, когда они приходили в гости к родственникам или отправлялись в далекое кочевье. Об этом свидетельствует та легкость, с которой киевские князья убивали половецких ханов, захватывали их вежи, стада и семьи, остававшиеся без серьезной охраны на время долгих отлучек мужчин. Сами половцы вели себя иначе, как показывают многочисленные следы их пребывания в Верхнем Поволжье — во владимирском Ополье, в окрестностях Переславля Залесского и Ростова Великого, где сохранились топонимы «Половцы», «Половецкое», «Итларь». Да и в самом Боголюбове, резиденции владимиро-суздальских князей, тесно связанных кровным родством со Степью, за строками летописных известий встают живущие там степняки — половцы, торки, берендеи, аланы…
Всё это убеждает, что в отношении половцев следует говорить не о контактах с ними населения русских княжеств, а о симбиозе, начальном этапе постепенного слияния двух этносов, экологически вполне совместимых, если бы не последующее монгольское нашествие. Действительно, к XIII в. Русь и Половецкая Степь представляли единое образование, пронизанное бесчисленными нитями родственных, дружеских, политических и экономических связей. Образование многонациональное и интернациональное, как изначально складывалась древняя Русь. Эту особенность отметил уже один из авторов ПВЛ, который, перечислив племена и народы, закончил этот перечень многозначительными словами «яже ныне зовомая Русь». Собственно говоря, на это же указала и С. А. Плетнева, поставив «Половецкую землю» в один ряд с другими древнерусскими княжествами.
И здесь к месту вспомнить о втором, не менее ярком примере воздействия степной культуры на духовную культуру русского земледельческого населения. Это — былины.
Вот уже около двух столетий русский былинный эпос приковывает к себе внимание фольклористов, этнографов, историков, поэтов и художников. В нем видят и воспоминания об обрядах инициации, оставленных в темных далях тысячелетий, и пережитки общинно-родового строя, борьбу патриархата с матриархатом, явственные отзвуки языческих времен и отражение дружинного быта древней Руси. И всё же больше всего в былинах так называемого «Владимирова» или «киевского цикла» оказывается дыхания степи.
Подвиги былинных героев, наших «рыцарей круглого стола», богатырей русских, совершаются не в чащах среднерусских лесов, не в перелесках лесостепи, где оседало русское население и возникали города, а именно в самой степи — просторной, бескрайней, откуда изредка накатывается «вражья сила» и где герой обычно встречается со своим первым противником, таким же, как и он сам, искателем приключений. Как правило, бой завершается победой. Однако далеко не всегда эта победа предполагает гибель одного из борцов или поединщиков. Очень часто сам бой оказывается способом узнавания героем в своем противнике отца, брата или сестры (от другой матери), способом обретения жены или заключения побратимства. Это типично степной сюжет, как и «симбиотические» отношения героя со своим конем, как все аксессуары степного быта, дожившие в былинах до наших дней на далеком русском Севере, где и степей никогда не видели.
Оттуда, из степей, пришли в былину имена противников богатырей и их побратимов, половецких ханов.
Со всем этим мы свыклись, как с чем-то само собой разумеющемся. В самом деле, как представить русскую народную культуру северных лесов и холодных морей без речитатива былины, без сказителей? Но сама былина, как жанр, как форма — откуда она? Русский былинный эпос несопоставим с европейским сюжетно и структурно. Нельзя считать его и собственно славянским: ничего подобного былине западные славяне (да и южные тоже) никогда не знали. Так получается, что историко-географическая зона возникновения былин оказывается зоной контакта киево-черниговской и владимиро-суздальской Руси со Степью. Больше того. Ни один европейский эпос, описывающий деяния героев, не знает такого внимательного и любовного отношения к природе, как русский, — к просторам, ветру, солнцу и небу, к деревьям и травам, птицам и зверям, к быстротекущей воде и к облакам. И в этом русскую былину можно сопоставить только с тюркским эпосом, отразившимся в эпосах казахском и калмыцком.
О том, что тюркский и собственно половецкий эпос был известен на Руси, показывают летописи, в том числе Ипатьевская, сохранившая пересказ «Повести о траве емшан» о возвращении половцев во главе с ханом Атраком из Грузии в причерноморские степи [Ип., 716]. А разве не дыханием Степи наполнено наше «Слово о полку Игореве»? В отличие от летописи, оно доносит до нас шум схватки, блистание доспехов, ржание коней, многоцветье одежд, цветущую, наполненную жизнью степь, далекие горизонты, заросшие лозняком берега многочисленных речек со своими пернатыми обитателями. Ветер колышет сочные, поднимающиеся из земли травы, слышится клёкот орлов, вороний грай… У кого из поэтов европейского Средневековья, живших за каменными стенами маленьких и тесных городов, можно найти что-либо подобное?
Песни-речитативы степных акынов, сопровождавшиеся щипковым струнным аккомпанементом или ударами бубна, похожие на заклинания, околдовывали слушателей, разворачивая перед ними панораму степных просторов, создавая ощущение удивительной слиянности природы и всадника, рождали порыв «удали богатырской», которая питала дух русского народа в последующие исторические времена, поддерживая его в периоды лихолетья монголо-ордынского ига. И всё это было воспринято и усвоено так, что в исконно русском происхождении былины до последнего времени не возникало сомнений… Сейчас эта связь ни для кого не является секретом. И всё же очень мало кто задумывался над вопросом, как, в каких условиях происходила передача песенно-былинной традиции от этноса к этносу? Ведь если оружие можно захватить в бою, ткани и украшения — купить, то песенную культуру, имеющую всегда еще и подспудное магическое значение, можно было обрести только из уст в уста в результате долгого и плодотворного сотрудничества двух народов.
И тут я должен снова вернуться к русско-половецким бракам, поскольку историю одного из них мы можем восстановить используя летописи и «Слово о полку Игореве».
4. «Спала князю умь по хоти…»
Муза истории Клио удивительна в своих пристрастиях, сохраняя для потомков факты, на первый взгляд, малозначительные и ввергая в реку забвения народы и государства. События весны 1185 г., связанные с поездкой в степь новгород-северского князя Игоря Святославича, так же мало повлияли на ход мировой истории, как разгром басками арьергарда войска Карла Великого в Ронсевальском ущелье в 778 г. Однако и то, и другое оказалось благодарным сюжетом для поэтов, причем в «Песне о Роланде» историческая действительность, в конце концов, оказалась полностью искажена, если не сказать сильнее. По-видимому, те же процессы, определяемые законами жанра, повлияли и на содержание «Слова о полку Игореве», получив отражение и в летописи, которая поверялась поэзией так же, как содержание «Королевских саг» поверялось песнями скальдов, о чем предупреждал читателей Снорри Стурлусон:
«У конунга Харальда (Прекрасноволосого. — А. Н.) были скальды, и люди еще помнят их песни, а также песни о всех конунгах, которые потом правили Норвегией. То, что говорится в этих песнях, исполнявшихся перед самими правителями или их сыновьями, мы признаем за вполне достоверные свидетельства. Мы признаем за правду всё, что говорится в этих песнях об их походах или битвах. Ибо, хотя у скальдов в обычае всего больше хвалить того правителя, перед лицом которого они находятся, ни один скальд не решился бы приписать ему такие деяния, о которых все, кто слушает, да и сам правитель знают, что это явная ложь и небылицы»[89].
Как это могло происходить и к чему привести, можно видеть по судьбе Задонщины, созданной по образцу и в ответ на «Слово…», а также по литературной истории «Сказания о Мамаевом побоище», которое от редакции к редакции обрастало «историческими подробностями», как сказали бы мы сейчас, «под влиянием социального заказа», что хорошо показал в своей работе еще С. К. Шамбинаго[90].
Поэзия и реальность — вот извечный, яркий пример единства и борьбы противоположностей, приводящий в недоумение историков и литературоведов. В первую очередь, это относится к самому «Слову о полку Игореве» и к его исторической основе, о чем в последнее время высказано столько научных (т. е. аргументированных фактами) и эмоциональных (т. е. аргументированных домыслами) версий. Впрочем, одного мнения здесь нет и быть не может, поскольку любая версия несет в себе новое прочтение и истолкование не только собственно исторического источника, но и нашего прошлого в целом. Станет ли она достоянием науки и насколько долго продержится — уже второй вопрос: судьбу идеи предсказать нельзя. Важно только помнить, что единственная гарантия развития науки и общества заключается в постоянном наличии в обращении «множественных альтернатив», которые только и обеспечивают возможность выбора наилучшего решения.
Напоминать об этой истине приходится потому, что на протяжении последних десятилетий истолкование текста «Слова…», а вместе с тем и событий 1185 г., шло исключительно под углом зрения «половецкой опасности» для Руси конца XII в. При этом высказывающиеся закрывали глаза на дружеские связи князей и ханов, забывали межэтнические браки и их последствия, хотя, как я писал выше, тот же Игорь Святославич был по крови (и, вероятно, по воспитанию) на 3/4 половцем.
Не принималось в расчет и другое: с одной стороны, — тесная дружба Игоря и Кончака, которая, как свидетельствует летопись, крепла от года к году и завершилась женитьбой Владимира Игоревича на дочери Кончака, а с другой, — ожесточенная усобица Игоря с Владимиром Глебовичем, князем переяславльским, возникшая, кстати сказать, в результате именно этой дружбы.
Так сложилась парадоксальная ситуация, когда Игоря одни объявляли воином-героем, выступившем «за землю Русскую», а другие — «предателем русских национальных интересов». Вот как, к примеру, формулирует свои обвинения против Игоря Б. А. Рыбаков, считавший, что в «Слове о полку Игореве» отражена «неслыханная военная измена перед лицом половецкой опасности, когда Кончак шел на Киев»:
«Игорь, во-первых, поучаствовал в организованном Святославом общем успешном февральском походе 1185 г.; во-вторых, нарушив феодальную субординацию, он тайно от своего сюзерена задумал сепаратный поход; в-третьих, не сумел обеспечить разведку и обрек свое войско на неслыханное поражение; в-четвертых, нарушил общерусскую оборону и открыл дорогу половцам; в-пятых, сорвал большой поход на Дон, заставив вместо этого всех князей вести оборонительные бои на Днепре и Сейме; в-шестых, поставил Святослава и других князей, хотевших выкупить пленных, если верен рассказ о выкупе, под угрозу разорения»[91].
И это при том, что ни в одном из этих обвинений нет ни слова правды — достаточно внимательно прочитать летопись и текст «Слова…»! Любопытно, что никто не попытался рассмотреть ситуацию под углом чисто человеческих отношений, но такое было время, когда и в нашей общественной жизни предпочитали говорить о «народе», напрочь отказываясь признавать составляющих его «человеков»… В результате таких искусственных построений, призванных оправдать тезис о «половецкой опасности», искажалась историческая перспектива и под сомнение невольно ставилась подлинность замечательного поэтического произведения. Намеренно или бессознательно авторы подобных концепций, вопреки историческим фактам, утверждали национальную рознь в древней Руси, а главную идею поэмы — призыв к миру, провозглашенный русским поэтом XII века, — подменяли идеологией «крестового похода» против «поганых».
Столь же тенденциозно и восторженно-патриотически трактовался рассказ о походе Игоря и его первой встрече с половцами, звучавший почти барабанным боем: «в пятьк потопташа поганыя пълкы половецкыя…» А что было на самом деле?
Кроме текста «Слова…», современный историк располагает двумя версиями событий апреля-мая 1185 г., освещенных с диаметрально противоположных позиций. Рассказ, включенный в текст Ипатьевского списка летописи и несущий на себе отпечаток явного влияния поэмы («Каяла», «море» и пр.), повествует о случившемся наиболее подробно и с позиций, благоприятствующих новгород-северскому князю [Ип., 637–644][92], хотя теперь трудно сказать, что здесь соответствует действительности, а что является домыслом позднего обработчика. Наоборот, краткое изложение того же сюжета в Лаврентьевском списке можно назвать в первой его части памфлетом — столько в нем неприязни к черниговским князьям и издевки над их пленением половцами [Л., 397–399].
И вот что интересно: попыткой военного похода рисует это предприятие только Лаврентьевский список, тогда как внимательное прочтение начала рассказа Ипатьевского списка ставит такую посылку сразу же под сомнение. В своих статьях Д. С. Лихачев не раз подчеркивал, что древнерусские писатели в зависимости от цели и задач своей работы использовали разную терминологию, придерживаясь своего рода «этикета». Распространяя такой взгляд на лексику автора рассказа Ипатьевского списка, можно видеть, что Игорь не «выступил», не «исполчился», не «вступил в стремя», как обязан был бы сказать летописец о начале военного похода, а всего только «поехал» из Новгорода, «взяв с собой» своего брата, племянника и старшего сына, Владимира Игоревича, только что получившего в самостоятельное княжение Путивль, однако еще не женатого. Тем самым писавший указывал, что воинские подвиги не являлись целью данного похода. К тому же, собравшиеся ехали «не спеша», совсем не заботясь о том, что об их поездке может кто-либо проведать.
Еще более удивительно выглядит эпизод со «сторожами», то есть разведчиками, которые, вернувшись, сообщили Игорю, что «видехомся с ратными, ратницы ваши со доспехомъ ездять», поэтому надо или «поспешить» — куда? — или возвратиться домой, ибо «не наше есть время». Не правда ли, странная дилемма для собравшихся в набег?
Впрочем, ситуация требует некоторых пояснений. Без разведки, постоянно высылаемой вперед и по сторонам, в то время не отправлялись ни в какое путешествие, всё равно, ехали ли из одного замка в другой, двигались ли торговым караваном или предпринимая военный поход. Так было в Европе, так было в Азии и в Африке. Но кто такие «ратницы ваши» и почему автору было важно подчеркнуть, что они «ездят с доспехом»? В одной из своих предыдущих работ, опираясь на чтение Хлебниковского списка «наши», я предположил, что «сторожа» виделись с русскими дозорными, которые и предупредили их об опасности, исходя из того, что половцы никогда не расставались с оружием («доспехом») и что слово «ратный» означает только «военного», «вооруженного человека», но не «противника»[93]. Не отказываясь от возможности такого прочтения данного фрагмента, считаю необходимым указать на употребление данной лексемы также и в смысле «противник» в конце галицко-волынской части Ипатьевской летописи: «а кто не сретить мене, тыи ратный мне», находящийся в той же Ипатьевской летописи [Ип., 849]. А. И. Генсиорский в своем исследовании лексики и фразеологии галицко-волынского летописания приводит еще несколько подобных примеров под 1224, 1234, 1254 и 1261 гг.[94]
Однако возможно и другое понимание лексемы «доспех», которая в данном контексте может обозначать не воинский до-спех, а указание на поспешность половецких передвижений по степи, вызванной какой-то озабоченностью[95].
В связи с этим возникает вопрос: если новгород-северский князь ехал в степь не к врагам, а к друзьям, то к кому же? Таким другом, насколько известно, у него был только Кончак. Начиная с 1174 г. на страницах Ипатьевской летописи множатся свидетельства растущей дружбы русского князя и половецкого хана, старшего среди Шаруканидов. В 1180 г. оба они участвуют в совместных боевых операциях в составе войск Святослава Всеволодовича, причем половцы специально просят определить их под начало Игоря («Святославъ въеха с братома в Киевъ. Половци же испросиша у Святослава Игоря, ать ляжеть с ними под Долобьску» [Ип., 621]). В 1183 г. из-за Кончака, которого Игорь не дал ограбить и пленить Владимиру Глебовичу, развязывается кровавая усобица между новгород-северским и переяславльским князьями, которая к весне 1185 г. всколыхнула и другие русские княжества. Как известно, Владимир Глебович подверг земли Игоря такому же разгрому, какой в мае 1185 г. там же учинил Гзак.
Так не о новой ли опасности со стороны переяславльского князя, которому Игорь нанес ответный удар, предупреждали дозорные? Мне кажется, нет. Считается, что весной 1185 г. пограничные русские земли должны были ожидать набега половцев, которым нужен был полон для выкупа своих ханов, захваченных во время похода русских князей весной 1184 г. [Ип., 632]. В своих более ранних работах неожиданное появление Гзака, пленившего Игоря, я также склонен был объяснять этими причинами, не обратив внимания на то, что 21 апреля 1185 г., т. е. буквально за два дня до выступления Игоря из Новгорода Северского, полк Романа Нездиловича, посланного Святославом вместе с берендеями, взял вежи половецкие, много полона и коней («Тое ж весны князь Святослав посла Романа Нездиловича с берендичи на поганыа половцы. Божиею помощию взяша веже половецкиа, много полона и коней, месяца априля въ 21» [Ип., 637]), о чем Игорь просто не мог еще знать. Очень может быть, что о естественном обострении обстановки в степи, вызванной действиями киевского князя, и предупредили разведчиков «наши ратные»: степь полнилась слухами и волнением, поскольку половцам нужно было собирать выкуп или обменный полон. Готовясь продолжать путь, Игорь въезжал в тревожную неизвестность.
Между тем, Гзак, сыгравший трагическую роль в судьбе Игоря, пошел на Русь как раз за «обменным фондом»: ему нужно было золото или люди, чтобы вызволить «свою братию». Княжеская «потеха» оборачивалась кровавой данью для простых людей, расплачивавшихся жизнью и свободой за нарушенный мир со Степью. Вот почему, когда Игорь и его спутники оказались в плену, Гзак, если верить летописи, тотчас же послал в Киев гонца с вестью к князьям: или вы приходите к нам по свою братию, или мы идем к вам («И поиде путем гость, они же казаша рекуще: поидете по свою братью, али мы идем по свою братью к вам» [Ип., 399]). Как можно убедиться, «правила игры» оказываются именно такими, как я показывал выше.
Но всё это произошло несколько дней спустя. А пока в степь были высланы дозоры. И здесь весьма примечателен ответ, который вкладывает в уста Игоря автор летописного рассказа, что, дескать, не столкнувшись с опасностью, повернуть назад — «срам пуще смерти», т. е. вернуться можно только при неизбежности боя. Другими словами, здесь ясно сказано, что бой не был целью экспедиции. А что еще? Ведь ни опасность встречи с врагом, ни солнечное затмение, ни сопровождающие его зловещие знамения, столь ярко и поэтично описанные в «Слове…», ни предупреждение разведчиков не остановили Игоря и его спутников в их движении. Получается, что причина поездки была настолько важна, что зловещими приметами можно было и пренебречь.
Парадоксальная ситуация, которая возникает при анализе фактов, разрешается в летописном рассказе столь же парадоксально: Игоря ожидала в полном смысле слова бескровная победа. В описании первой встречи с половцами согласны все три, столь противоречащие друг другу источника — памфлет Лаврентьевской летописи, «Слово…» и текст Ипатьевской летописи, сохранивщий наиболее обстоятельное описание происходившего. Последуем за ним.
Русский отряд подошел к берегу реки Сюурлий в полдень. Половцы уже ожидали прибывших на противоположном берегу, выстроившись в боевой порядок. За ними стояли их «дворцы на колесах» — вежи, скрип которых разносился предшествующей ночью далеко по степи, как «крик распуганных лебедей». Князья не успели «исполчиться», т. е. построиться в боевой порядок (стоит отметить, что ни о каких «полках» ранее и речи не было, князей сопровождали только «дружины», что далеко не одно и тоже) и подойти к реке, как из рядов половцев выскочили лучники и, «пустиша по стреле на русь», тотчас же ударились в бегство. «Поскакали и те половцы, которые стояли далеко от реки», — пишет автор рассказа [Ип., 639–640]. Иными словами, не приняв бой, а лишь «отсалютовав» русским своими стрелами, половцы бежали, бросив на произвол судьбы свои дома и семьи. Русские, перебредя речку, бросились к вежам, но боя так и не было…
Не правда ли, странно? Во-первых, в случае военных действий вежи откочевывали глубоко в степь, где их не мог найти противник, а не выдвигались в район боевых действий. Во-вторых, половцы явно ожидали русский отряд, но не собирались с ним сражаться. В третьих, они бросили своих близких на милость победителя, словно были уверены, что с теми ничего не случится. И это — те самые половцы, которые уничтожили печенегов, неизменно разбивали войска византийских императоров, нанесли сокрушительное поражение объединенным силам русских князей в 1068 году и спасли Грузию от турок-сельджуков? Те самые, что потом неизменно обращали в бегство отряды крестоносцев?
В таком случае, перед нами не бой, а всего лишь его инсценировка. А следом начался «пир победителей», в описании которого наши источники тоже согласны. Он продолжался всю ночь, хмельной, радостный и беспечный. Последнее, может быть, самое невероятное, поскольку князья должны были ожидать не только возвращения половцев, но и подхода их других соединений. И всё же русские князья были настолько уверены в своей безопасности, что на следующее утро «изумились», по словам летописца, увидев себя окруженными половцами Гзака.
А что иное они могли ожидать?.
Странности на этом не кончаются. В руках русских князей находился богатый полон, которым они могли обеспечить свою свободу. Однако, как можно понять, вопрос об обмене не поднимался, как если бы Игорю и его спутникам нечего было предложить Гзаку. И возникает новый вопрос: а как же «красные девки»? Не здесь ли следует искать ключ к разгадке?
В ряде мест «Слово о полку Игореве» оказывается куда точнее, чем летописи, особенно там, где этого требовали законы рыцарской поэтики. В перечне трофеев, захваченных на берегу р. Сюурлий, нет ни рабов, ни женщин, ни стариков, — никого, кто должен был оставаться в вежах. Нет там ни золота, ни оружия, а только молодые половчанки, «красные девки половецкие», вместе с которыми был захвачен обоз с одеждами, украшениями и тканями: «И рассушясь стрелами по полю, помчаша красныя девкы половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты; орьтъмами и япончицами, и кожухы начашя мосты мостити по болотомъ и грязивымъ местомъ, и всякыми узорочьи половецкыми». Если вспомнить, что в конце «Слова…» синонимом дочери Кончака оказывается именно «красная девка», трудно освободиться от впечатления, что перед нами обоз с приданым невесты, которую сопровождают подружки-фрейлины. Ну, а поскольку известно, что результатом всех этих событий стал брак Владимира Игоревича с Кончаковной, логично предположить, что с самого начала «поход Игоря» преследовал заранее намеченную и задолго подготавливаемую обеими сторонами цель — женитьбу старшего сына новгород-северского князя на дочери половецкого хана, старшего в роду Шаруканидов.
Более того, описание этого приданого удивительно схоже с приданым Марии, дочери болгарского царя Калояна, половчанки по происхождению, выехавшей на встречу с женихом, Генрихом (Анри) Энно, императором Латинской империи, как это описывает Робер де Клари, называя ее ошибочно «дочерью» Борила, которому она приходилась племянницей:
«Потом он отослал ее к императору и велел подарить ему 60 лошадей, все они были нагружены добром, и золотом, и серебром, и шелковыми материями, и богатыми сокровищами; и не было там ни одного коня, который не был бы покрыт попоной из малинового шелка, столь длинной, что она волочилась позади каждой лошади на целых семь или восемь шагов; и никогда не продвигались по грязи или по худым дорогам, так что никакая материя не была разорвана, и все были исполнены великой красоты и благородства»[96].
Таким образом, загадочный инцидент на берегу Сюурлия оборачивается вполне реалистической картиной степной свадьбы, начавшейся столь характерным ритуальным «боем за невесту» с последующим «похищением» самой невесты и ее подружек (к слову сказать, тоже невест!), с «грабежом» приданого, с последующим «пиром победителей», на котором пили и пели и который, согласно степным законам, в этот день проходил обязательно без родителей невесты. Последние появлялись только на следующий день, когда невеста уже становилась женой «похитителя», с которого получали калым «за бесчестие».
Но первым на следующий день оказался не Кончак, а Гзак который шел за полоном. Предостережения «сторожей» были не напрасны. Кончак пришел, когда незадачливые сваты и новобрачные оказались уже в плену. Конечно, ни о каком «трехдневном бое» говорить не приходится хотя бы потому, что самые крупные сражения средневековья заканчивались к концу первого светового дня, а битва на Куликовом поле длилась «от шестого до девятого часа», т. е. менее трех часов: «до вечера» продолжалось лишь преследование бегущего противника. Предположение, что всё описание трехдневного сражения «идуще вкруг озера» было вставлено при позднейшей переработке летописного рассказа под влиянием «Слова…», подтверждается наличием в его тексте «черных людей» и «отроков боярских», поскольку первый из этих терминов появляется в документах не ранее XIV в., а второй известен только в данном контексте Ипатьевской летописи. Если же его признать идентичным термину «дети боярские», то последний начинает употребляться в документах Московского государства лишь во второй четверти XV в. Другими словами, рассказ Ипатьевской летописи, на основании которого Б. А. Рыбаковым и его последователями делаются далеко идущие интерпретации «похода Игоря» и его «пути в Половецкую степь», возник не ранее начала XV в., переработав уже имевшийся текст в соответствии с экспозицией уже переработанного «Слова о полку Игореве» и представлениями нового времени о прошлом. И с этой точки зрения академик был недалек от истины, выказывая свое недовольство «автором-галичанином» и «придуманном им рассуждении о черных людях»[97].
Что же касается Игоря и его спутников, то вероятнее всего, они были повязаны под утро половцами Гзака еще полусонными, а вместе с ними был захвачен и калым, который Игорь вез Кончаку, — то самое загадочное «руское злато», в связи с потерей которого, по свидетельству автора «Слова о полку Игореве» и к великому смущению его исследователей, оплакивали («каяли») Игоря различные народы[98]. В самом деле, откуда у Игоря, если он шел в набег на половцев, могло оказаться «русское злато»? Теперь и эта загадка получала объяснение.
Кончак прибыл слишком поздно: если верить Лаврентьевской летописи, Гзак успел даже послать известие в Киев князьям с предложением обмена пленных, хотя последнее могло произойти даже на следующий день. Вероятно, молодоженов и «красных девок» ему всё-таки пришлось освободить во избежание неприятностей со стороны Кончака и донских половцев, к числу которых, скорее всего, Гзак не принадлежал, будучи половцем поднепровским, пострадавшим от набега Романа Нездиловича. Но на Игоря и остальных такая неприкосновенность не распространялась. Если вспомнить, что в 1168 г. Олег Святославич, старший брат Игоря, захватил вежи Гзака, пленив его жену и детей, («Тои же зиме ходиша Олговичи на половци, бе бо тогда люта зима велми, и взя Олег веже Козины, и жену, и дети, и злато, и сребро, а Ярослав Беглюковы веже взя, и похваливше Бога и пречестную его Матерь, възвратишась въ свояси» [Ип., 532]), можно допустить, что половецкий хан взял своего рода реванш. Неизвестно, какие отношения у Гзака были с Кончаком, во всяком случае, не дружественные. Вот почему, отпустив Игоря на поруки, он всё-таки отправился в Посемье грабить земли новоявленного зятя Кончака, не поддавшись на уговоры обратиться против их общего с Игорем врага, переяславльского князя Владимира Глебовича, куда тотчас же отправился сам Кончак.
Насколько вероятна такая трактовка событий?
Она основана не на допущениях, а на точном прочтении источников и хорошо согласуется как с ними, так и с общим укладом русско-половецких отношений, разрешая многие недоуменные вопросы. Она объясняет характер экспедиции (или «поездку») Игоря, опасения и колебания его спутников, снимает загадку «первого боя» и согласуется даже в таких деталях, как наличие в руках Игоря «русского золота», являвшегося калымом за невесту для сына. Вместе с тем, можно привести еще ряд фактов, подтверждающих выдвинутое объяснение. Сватовство в те времена было делом длительным, даже среди друзей, и, судя по примерам, сохраненным летописями, между сговором и свадьбой проходило несколько лет в полном соответствии с греческими законами[99], причем малолетние невесты могли до свадьбы подрастать в доме своих будущих мужей, играя в куклы, как, например, Верхуслава, дочь Всеволода Юрьевича суздальского которой было всего только восемь лет, когда в 1187 г. ее венчали с Ростиславом Рюриковичем [Ип., 658].
Жениху ее в тот момент было около 15 лет — столько же сколько в 1185 г. было Владимиру Игоревичу. По тем временам это был «возраст зрелости», когда юноша обретал полную самостоятельность, мог заводить семью, а княжичу выделялся собственный удел. Вероятно, дочери Кончака было чуть меньше, т. е. 13–14 лет, а вернулись они на Русь в последних числах 1187 г. уже с первенцем, которому должен был исполниться год («Тогда же приде Володимерь ис половець с Коньчаковною, и створи свадбоу Игорь сынови своемоу, и венча его и с детятемь» [Ип., 659]). Что подготовка этого брака началась задолго до поездки, сомневаться не приходится. Летопись даже называет человека, занимавшегося переговорами с Кончаком: им был Ольстин Олексич, сопровождавший Игоря и жениха в степь. За два месяца до майских событий он тоже находился «в половцах» с какой-то миссией[100], и ехал он не с мифическими «ковуями», которые превратились в «черниговскую помощь», а просто «ко вуям своим», т. е. к дядьям по материнской линии: родственники среди половцев были как у князей, так и у бояр, каким предстает по полноте своего имени Ольстин Олексич.
Предрешенность женитьбы Владимира Игоревича можно вывести также из того, что молодой княжич выехал к отцу «из Путивля», только что полученного им в удел, т. е. уже не княжичем, а князем, что неизменно предшествовало свадьбе, которая, таким образом, завершала выделение юноши из семьи и свидетельствовала о его самостоятельности и независимости[101].
Тем самым разрешается и вопрос, неоднократно поднимавшийся исследователями «Слова…», о причине именно в Путивле, а не в Новгороде Северском, «плача» Ярославны, матери Владимира Игоревича, которая именно в «стольном граде» своего сына должна была ожидать возвращения мужа и первенца с невесткой.
Текст «Слова…» сохранил еще одну любопытную деталь, так и не понятую многочисленными исследователями древнерусской поэмы, более того, истолкованную в прямо противоположном смысле. Речь идет о желании Игоря «копие приломити конець Поля половецького», что всегда воспринималось как желание вступить в бой с половцами. Между тем, выражение «приломить копье», т. е. ликвидировать возможность продолжения боевых действий, было этикетной формулой заключения мира, тем более, что указывалось, где это должно произойти: не в Поле, а на его границе. Существование схожего обычая отмечено и в русско-литовских летописях под 1375 г., где Ольгерд, заключая мир с московским князем Дмитрием Ивановичем выговаривает себе право «копье о стену замковую сокрушити»[102], что, наряду с заключением мира, подчеркивает характер его «завоеванности».
Но если всё так, как возник традиционный взгляд на события?
Как показала в одной из своих работ Л. П. Жуковская, «Слово о полку Игореве» попало к А. И. Мусину-Пушкину в списке, созданном в последней трети XV в. Между 1185 г. и этой датой текст поэмы неоднократно переписывали и перерабатывали, причем орфография, как показала исследовательница, позволяет с уверенностью говорить, по крайней мере, о трех серьезных редактурах[103]. Как при этом менялось его содержание, сказать трудно. Однако перестановки, которые предлагал сделать в поэме Б. А. Рыбаков, «пополняя» ее текст «Словом о погибели земли Русской»[104], еще раз напоминают о фрагментарности сохранившегося текста.
Сейчас можно думать, что самые серьезные изменения «Слова…» могли иметь место после Куликовской битвы, будучи инспирированы ею. Для читателей и слушателей конца XII в. факт пленения русских князей половцами не представлял трагедии, поскольку надо всем главенствовал счастливый конец. После 1237–1238 гг. такой взгляд был невозможен уже потому, что половцы-кипчаки составляли основную массу ордынского войска, т. е. являлись безусловными врагами. Не случайно уже в Основной редакции «Сказании о Мамаевом побоище», восходящей к первой четверти XVI в., Дмитрий для выяснения замыслов Мамая снабжает посольство к нему толмачами, знающими «язык половецкий»[105]. Таким образом, действительные антиполовецкие настроения на Руси следует датировать не столько XI–XII, сколько XIII–XV вв., поэтому в новой исторической реальности, после победы над Мамаем, переработчик «Слова…» задним числом обращался к московскому князю Дмитрию Ивановичу, говоря, что «Дон ти, княже, кличет, зовет князи на победу».
Еще раз «Слово…» было извлечено из-под спуда во второй половине XV в., когда впервые в Московском государстве, окончательно освободившемся от ордынского ига и сочетавшемся в лице Ивана III браком с Софьей Фоминичной, как с последней реликвией погибшей Византии, возник естественный интерес к собственной истории. Именно в это время на основе «Слова о полку Игореве», заимствуя текст и замысел, была написана «Задонщина», занявшая в литературном процессе место древнерусской поэмы. Этим и только этим объясняется отсутствие последующих списков «Слова…», тогда как сама «Задонщина» представлена шестью известными списками. Для нас безусловная удача, что после такой кардинальной переработки «Слово…» сохранило свой первоначальный эпилог, где возглашается «слава» Владимиру Игоревичу. Это и был тот первый и главный итог поэмы, логическое завершение событий 1185 г., когда истинным героем оказывался не воин, а молодожен, скрепивший своим браком союз Руси и Степи.
Если поразмыслить, в условиях кровавой феодальной усобицы, в условиях религиозной и национальной розни, подогреваемых на Руси византийским императором и константинопольской Церковью, для которых половцы неизменно были врагами и «погаными», подобный призыв к миру и дружбе народов становился актом высокого героизма и подлинного патриотизма. И в этой обстановке личность новгород-северского князя предстает нам в неожиданном освещении. Будучи феодалом, человеком своей эпохи, вынужденным участвовать в княжеских усобицах (к слову сказать, летописи ни разу не указывают его их инициатором), Игорь Святославич по праву стал подлинным народным героем, потому что проводил постоянную линию против национальной и конфессиональной ограниченности, выступая за мир между народами, между Русью и Степью.
В XI в. к этому призывал Боян; в конце XII в. этот призыв вместе с возрожденными поэмами Бояна был снова поднят автором «Слова…».
Похоже, имя сына Игоря читалось и в начале поэмы. В одной из своих популярных работ Б. А. Рыбаков категорически заявил, что во фразе «Почнемъ же, братие, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря» имя Игоря «или вставлено позднее, или неудачно перемещено»[106], хотя дальше этого не пошел. С его заключением можно согласиться. Сохранившееся в тексте противопоставление «старого» — «нынешнему» требует соответствия имен, а из всех возможных «Владимиров» в данной ситуации возможен только Владимир Игоревич, поскольку его именем поэма и завершается. Появление здесь имени его отца легко объясняется ошибкой переписчика, если, исходя из ритмической структуры текста, представить первоначальное написание этой фразы как «от старого Владимира до нынешнего Игоревича».
Более того. Фраза «спала князю умь похоти и жалость ему знамение заступи», не понятая уже последующими переработчиками текста, по всем канонам лексики и грамматики древнерусского языка сообщающая, что «князем овладела мысль („умь“) о жене („по хоти“) и желание заслонило ему предзнаменования», которые предупреждали об опасности, не содержала никакой загадки[107], подтверждая, что первоначальным героем поэмы о событиях 1185 г. был именно Владимир Игоревич, а не Игорь Святославич.
И последнее. Женитьба Владимира Игоревича на Кончаковне оказалась своего рода «камнем преткновения» для многих исследователей «Слова…», всякий раз останавливавшихся перед подобным объяснением событий в силу очередной господствующей концепции. Поэтому саму женитьбу старались игнорировать, вынося ее как бы «за скобки». Однако они не могли пройти мимо поэтического языка «Слова…», в котором фигурировали «сваты», рисовались картины «пира», слышались обрывки свадебных «слав», а образность метафор прямо перекликалась с символикой свадебной обрядовости. Разгадка напрашивалась сама собой, но камертоном толкований служило упорное отнесение «Слова…» в разряд дружинной, воинской поэзии. Поэтому свадебная и пиршественная обрядовость была сведена к поэтическим метафорам, где битвы уподоблялись «пирам», противники — «сватам» и т. д. И лишь сравнительно недавно на страницах «Трудов Отдела древнерусской литературы» появилась заметка американского филолога Р. Манна[108], в которой был поставлен вопрос: а так ли случайны эти системы свадебной образности в «Слове…»?
Как я показал, о случайности говорить не приходится, поскольку только такое прочтение, вместе с вычленением в тексте «Слова…» фрагментов произведений Бояна, древнерусского поэта, жившего во второй половине XI в. в Киеве, позволяет разрешить абсолютное большинство исторических и филологических загадок древнерусской поэмы. Последнее одинаково касается «дунайского плата» болгарских реминисценций, которые отмечались большинством исследователей «Слова…», отголосков совершенно неизвестного нам общеславянского эпоса, главный герой которого, Всеслав, в сознании поэта конца XII в. окончательно слился с образом исторического Всеслава Брячиславича полоцкого, современника Бояна, наконец, совершенно невероятной ситуации, созданной переработчивами текста в конце XIV или в первой половине XV века, в результате чего новгород-северский князь отправляется то ли воевать Половецкую Степь, то ли отвоевывать у кого-то давно забытое Тмутороканское княжество.
И то, и другое в ситуации исторической реальности 1185 г. представлялось безусловно абсурдным, вызывая у исследователей XX в. справедливые подозрения в неаутентичности текста поэмы. Однако вместо того, чтобы разобраться с разновременными напластованиями и трансформацией сюжета, как это обязан был сделать подлинный исследователь, «скептики» предпочли огулом объявить весь текст подделкой конца XVIII в. продемонстрировав собственную ограниченность и некомпетентность. Впрочем, недалеко ушли от них и представители «охранного направления» в своем толковании «Слова…», во имя утверждения абсурда, постулированного грамотеями XIV–XV веков принесшие в жертву партийной борьбы и псевдопатриотизма доброе имя Игоря Святославича вместе с его половецкими родственниками и побратимами…
* * *
Народы меняются, как люди. Сейчас из анализа текстов, из глубин раскопов мы извлекаем наше прошлое, столь удивительное для нас, как если бы мы заглянули в историю совсем другого народа. И рядом с древней Русью, прочно вросшей в землю Восточной Европы фундаментами своих белокаменных храмов, башнями и стенами городов, начинает мало по малу материализоваться образ другого народа, нашего побратима, который так и не успел пройти положенный ему исторический путь развития, рассыпав впопыхах своих детей по другим странам, а здесь остался только в памяти былинных напевов, да и то искаженных невольной татарщиной.
Сможем ли мы извлечь память о нем из небытия, восстановить историческую справедливость, запечатлеть в веках его образ — покажет будущее. Но попытаться это сделать мы обязаны. Потому что в истории стран и народов непреложен закон, общий для всего человечества: никто не должен быть забыт.
Датирующие реалии Ипатьевской летописи о походе 1185 г. на половцев
События апреля-мая 1185 г. в междуречье Днепра и Дона, ставшие сюжетной основой «Слова о полку Игореве», в русском летописании отражены двумя, весьма отличающимися друг от друга источниками: рассказом Лаврентьевского списка летописи, получившем отражение в подавляющем большинстве последующих летописных сводов, и рассказом Ипатьевской летописи, значительно более подробном, но содержащемся лишь в группе связанных с ее протографом списков (Хлебниковском, Погодинском, Ермолаевском и Яроцкого). Эти версии отличаются друг от друга объемом фактических сведений и отношением их авторов к «ольговичам». В Лаврентьевской летописи и зависимых от ее протографа списках оно доходит до прямой издевки над незадачливыми князьями в похвальбе после первой победы («а ноне поидемъ по них за Донъ и до конца изобьемъ ихъ; оже ны будет ту победа, идем по них и [в] луку моря, где же не ходили ни деди наши, а возмем до конца свою славу и честь» [Л., 397–398]); и плачевном финале («а о наших не бысть кто и весть принеса за наше согрешение; где бо бяше в нас радость — ноне же въздыханье и плачь распространися» [Л., 398]), тогда как в Ипатьевской группе списков рассказ полон внимания и симпатии к новгород-северскому князю.
Такое неоднозначное отражение событий обычно объясняется, во-первых, исхождением архетипа рассказа Лаврентьевского списка из кругов «мономашичей», враждебных к «ольговичам», тогда как в Ипатьевском изводе использован текст черниговских летописцев, симпатизировавших Игорю Святославичу и уделявших ему достаточно большое внимание, а, во-вторых, отнесением написания Лаврентьевского рассказа к более позднему времени, чем Ипатьевский, когда уже стала забываться реальная картина происходившего. Последнее обстоятельство в какой-то мере находит свое подтверждение в тексте Новгородской IV летописи, где помещен сильно сокращенный рассказ Лаврентьевского списка, заканчивающийся после слов «похвальбы» словами, уже не имеющими ничего общего с действительностью:
«И поиде Игорь Святославличь съ двема сынома и съ братаници за Донъ, а не ведоуще Божиа строение; и тамо победиша ихъ безъ вести: некыи гость принесе весть в роусь»[109].
Примечательно и другое: в отличие от Лаврентьевского, текст рассказа Ипатьевского списка содержит большое количество лексем и фразеологических оборотов, перекликающихся с текстом «Слова…». А поскольку их последовательность в летописном рассказе соответствует их последовательности в тексте древнерусской поэмы, это дало основание одним исследователям указывать на зависимость летописи от поэмы, а другим, как, например, А. Мазону и А. А. Зимину, — на обратную зависимость поэмы от летописного повествования, ставя под сомнение аутентичность «Слова…»[110], тем более, что ряд историков находят в поэме отражение исторических фактов, имевших место после 1185 г. и даже прямо принадлежащих началу XIII в. К сожалению, все эти наблюдения, заслуживающие безусловного внимания для выяснения принципиальных вопросов взаимозависимости списков летописей и древнерусской поэмы, как и данные о фразеологических «репликах» «Слова…» в текстах вне-летописного характера[111], стали в советское время не только предметом изучения и обсуждения, но и предметами ожесточенного (и бесплодного) спора о «подлинности» древнерусской поэмы, когда спорящие стороны одинаково закрывали глаза на всплывавшие в пылу полемики факты[112].
Между тем, вопрос о времени появления каждого из указанных текстов (Лаврентьевского, Ипатьевского, известного нам текста «Слова…») в дошедшей до нас редакции, как и возможные между ними связи и взаимовлияния, не только принципиально важен, но и в определенной степени может быть решен путем сопоставления и анализа этих текстов и зафиксированных ими реалий, что существенно сужает рамки исследования и позволяет решать именно эти, конкретные вопросы, не уклоняясь в бесплодные дискуссии о вероятности того или иного события. Широкая известность всех трех названных текстов позволяет в дальнейшем ограничиваться самыми необходимыми на них ссылками без привлечения полного их объема, отметив только, что цитирование приводится по их изданию в корпусе «Полного собрания русских летописей» (т. е. для Лаврентьевского списка 1377 г. — т. 1, вып. 2. Л., 1927, стб. 397–400; для Ипатьевского, датируемого временем «около 1425 г.»[113] — т. 2, СПб., 1908, стб. 637–651), а «Слово о полку Игореве» — по изданию 1800 г.
Рассказ Лаврентьевской летописи представляет в данном случае безусловный интерес по причине старшинства его списка (1377 г.), хотя начинается с ошибочной даты 6694/1186 г., под которой помещено описание солнечного затмения, происшедшего 1 мая 1185 г., никак не связанного здесь с походом. За ним следует сообщение о рождении «в то же лето, того же месяца мая в 18 день» сына у Всеволода Юрьевича. Далее говорится, что Игорь с двумя сыновьями из Новгорода Северского, Всеволод из Трубеча, Святослав Ольгович из Рыльска и «черниговская помощь» собрались у Переяславля и «вошли в землю» половцев. Последние послали весть по всей земле своей, но не дождались помощи, были побеждены в первом бою «и биша и до вежь, множество полона взяша, жены и дети, и стояша на вежах 3 дни веселяся» [Л., 397]. Далее следует похвальба князей «пойти за Дон» и «в луку моря», после чего сами они были окружены половецкими «стрелками», которые в ожидании остальных войск «З дня» не давали русским отрядам подойти к воде, так что те «изнемогли бо ся бяху безводьемь, и кони, и сами в знои и в тузе», а когда те всё же прорвались, «ратные» бросились на них и «притиснули их к воде». В результате «князи вси изъимани быша, а боляре и велможа и вся дружина избита, а другая изъимана и та язвена», поэтому «где бо бяше в нас радость, ноне же въздыханье и плачь распространися» [Л., 398].
На Русь весть о пленении Игоря принес «гость, шедший мимо». Святослав выступил к Каневу, но половцы бежали «за Дон», и тогда он возвратился к Киеву. Услышав об этом, половцы тайно пришли к Переяславлю и «взяша все городы по Суле и у Переяславля бились весь день». Увидев, что острог у Переяславля уже захвачен нападающими, из города выехал князь Владимир Глебович «в мале дружине», в результате чего был ранен «треми копьи». Половцы же вернулись с полоном. «И по малых днехъ оускочи Игорь князь оу половець», так как «не оставить бо Господь праведнаго в руку грешничю: очи бо Господни на боящаяся его, а уши его в молитву их», поэтому половцы «гониша бо по нем и не обретоша его» [Л., 399].
Считать рассказ Лаврентьевского списка восходящим ко времени описываемых событий нет никаких оснований. Этому предположению противоречит наличие таких безусловных ошибок, как выступление Игоря от Переяславля, традиционного места сбора войск киевских князей против половцев (что в данном случае не могло быть как по причине усобицы между Игорем и Владимиром Глебовичем, так и по направлению похода), сообщение о трехдневном веселии «на вежах» и последующем трехдневном же (!) «удержании от воды» войска Игоря половецкими «стрелками», что является чисто эпическим преувеличением, позволяющим полагать здесь прямое воздействие «Слова о полку Игореве» с его «трехдневной битвой». Столь же существенным свидетельством об известной зависимости летописного текста от текста поэмы может быть истолковано желание князей «пойти за Дон» (в «Слове…» — «Игорь къ Дону вои ведетъ»), упоминание «луки моря» («а поганаго Кобяка изъ луку моря»), «безводье» и «туга» («въ поле безводне жаждею имь лучи съпряже, тугою имъ тули затче»), указание на захваченные половцами в Посулье грады («по Сули грады поделиша»). Менее вероятны параллели с ранами Владимира Глебовича переяславльского, упоминаемые в «Слове…» («а Володимиръ подъ ранами; туга и тоска сыну Глебову»), бегство Игоря («Игорь князь поскочи горнастаемъ») и напрасная погоня за ним половцев.
Вместе с тем, в рассказе Лаврентьевского списка присутствуют реалии, которых нет в известном тексте «Слова…», как, например, упоминание «черниговской помочи», наличия в захваченных вежах «жен и детей», упоминание, наряду с князьями и дружиной, «боляр и велмож», плененных половцами (откуда они?), причем в Лаврентьевском списке представлены как бы две версии происшедшего — «князи вси изъимани быша, а боляре и велможа и вся дружина — избита, а другая (? — А. Н.) изъимана и та язвена», неведомый «гость», принесший весть о пленении черниговских князей «на Русь». Все они могли попасть в текст как в момент создания архетипа, так и при последующей литературной обработке сюжета.
В этом плане особенно интересно сравнение Лаврентьевского списка с текстом Ипатьевской летописи. Однако прежде, чем к нему приступить, следует напомнить о зависимости протографа рассказа о походе 1185 г. Ипатьевского списка от текста «Слова о полку Игореве», причем значительно большем, чем полагали А. И. Лященко[114] и А. А. Зимин[115], считавшие, что «Слово…» написано на основе рассказа Ипатьевской летописи.
Рассказ Ипатьевской летописи начинается с того, что «Святославичь Игорь, вноук Олговъ поеха из Новагорода (Северского. — А. Н.)», взяв с собой Всеволода из Трубецка, Святослава Ольговича и сына Владимира, испросив у Ярослава (черниговского) в «помочь Ольстина Олексича, Прохорова вноука, с коуи черниговьскими». Произошло это 23 апреля 1185 г., «и тако идяхоуть тихо». Возле Донца их встретило солнечное затмение, происходившее «в год (т. е. час) вечернии» (т. е. «во время службы вечерней», что в православном богослужении определяется от 2 до 5 часов пополудни[116] и хорошо согласуется со временем действительного затмения 1.5.1185 г.[117]), после чего путешественники, перейдя Донец, пришли к Осколу, где два дня ждали Всеволода из Курска, а оттуда вместе перешли к Сальнице. Здесь их встретили «сторожа» (т. е. разведка), посланные «ловить языка», которые сообщили, что они «виделись с ратными, ратници наши (вар. „ваши“) со доспехомъ ездять» [Ип., 638–639], и предложили вернуться домой. На совете решено было продолжать поездку, и на следующий день «во обеднее время» они встретили «полки половецкие», стоявшие перед вежами на противоположной стороне реки Сюурлия.
Приехавшие «изрядиша полковъ 6»: в середине полк Игоря, справа — Всеволода, слева — Святослава Ольговича, впереди «дроугыи полкъ Ярославль, иже бяхоу с Ольстиномъ кооуеве, а третии полк на переди же — стрелци, иже бяхоуть от всихъ князии выведени», и начали спускаться к реке. Не успели они перейти реку, как половецкие стрельцы «пустиша по стреле на роусь и тако поскочиша», после чего ударились в бегство и все остальные силы половцев, бросив на произвол судьбы свои вежи. За ними помчались все, кроме Игоря и Всеволода, о которых сказано, что «роусь дошедше вежь и ополонишася», остальные вернулись «с полоном» ночью. На совете было предложено тотчас же уходить, воспользовавшись победой, поскольку «видихомъ полки половецькии, оже мнози соуть», но оказалось, что кони Святослава Ольговича «не могоуть». На следующее утро половецкие полки окружили русскую ставку, «аки борове», и оставшиеся увидели вокруг себя «землю всю — Кончака и Козоу Боурновича, и Токсобича, Колобича и Етебича, и Терьтробича». Окруженные, желая «бо бьющеся доити рекы Донця», спешились, объясняя это тем, что «оже побегнемь оутечемь сами, а черныя люди оставим, то от Бога ны боудеть грехъ» [Ип., 641]. Так бились до вечера, затем настала ночь субботняя, и продолжали биться, а на рассвете воскресенья «возмятошася ковуеве в полкоу побегоша». Игорь поехал вслед за ними, желая вернуть, но был схвачен половцами, причем сказано, что с «ковуями» никого «добрых» не ушло, разве кто «от простыхъ или кто от отрокъ боярскихъ». Что же касается «добрых» людей, то они бились пешими, идя «вокруг озера», пока не были перебиты или схвачены. «И тако во день святого воскресения наведе на ня Господь гнев свои, в радости место наведе на ны плачь и во веселье место желю на реце Каялы» [Ип., 642–643], заключает автор.
За описанием битвы следует покаянный «плач» Игоря, в котором он корит себя, что «взяхъ на щить городъ Глебовъ: оу Переяславля тогда бо не мало зла подъяша безвиньнии христьани», спрашивает, где теперь его брат, племянник, сын, «где бояре доумающеи, где моужи храборьствоующеи… где кони и ороужыя многоценьная», и молит: «Господи, Боже мои, не отригни мене до конца». Рассказ заканчивается «разводом» пленных с указанием, кто кого взял: Игоря — «Тарголове моужь именемь Чилбоук, а Всеволода, брата его, ял Роман Кзичь, а Святослава Олговича — Елдечюкъ въ Вобурцевичахъ, а Володимера — Копти в Оулашевичихъ»; тогда же Кончак поручился «по свата Игоря, зане бяшеть ранен» [Ип., 643–644]. Что касается остальных, то, по сведениям летописца, «роусь съ 15 моужь оутекши, а ковоуемь мнее, а прочии в море истопоша».
По изложении действий Святослава киевского, который после встречи с Беловолодом Просовичем, прибежавшим с поля битвы, отправил своих сыновей в Посемье, а Давыда смоленского — к Треполью, рассказ Ипатьевской летописи возвращается к Кончаку, пришедшему к Переяславлю, где Владимир Глебович в схватке был «язьвен… треми копьи» [Ип., 647][118].
Услышав о приближении сил русских князей, половцы ушли от Переяславля и на обратном пути осадили Римов, взяв в полон всех, кто не успел уйти из города.
Игорь же «тотъ годъ (т. е. „тогда“. — А. Н.) бяшеть в половцехъ», которые «слоушахоуть его и чьстяхоуть его… бесъ пря творяхоуть повеленое им». Самым замечательным оказывается, что он «попа же бяшеть привел из Роуси к себе», что можно считать безусловной правкой редактора, понявшего выражение «тот год» как год календарный, а не как ‘тот час’ или ‘в то время’. В рассказе о пребывании Игоря в плену и обстоятельствах его побега, представляющем самостоятельный сюжет, особого внимания заслуживает фраза, что «избави и Господь за молитву христьяньску», предваряющая последующее повествование, в котором сообщается, как «доумци» Игоря убедили его бежать с «половчином именемь Лавор»: Игорь дождался, когда «половци напилися бяхоуть коумыза… пришед ко реце и перебредъ, и вседе на конь, и тако поидоста сквозе вежа, и иде пешь 11 денъ до города Донца, и оттоле иде во свои Новъгородь», после чего «еха ко Киевоу к великомоу князю Святославоу, и рад бысь емоу Святослав, также и Рюрикъ, сватъ его» [Ип., 651].
Из этого видно, что у рассказа Ипатьевской летописи со «Словом…» не просто больше общих мест, чем у Лаврентьевского списка, но сам рассказ если не написан, то кардинально переработан под воздействием древнерусской поэмы. В последнем убеждают не только смысловые, но и текстуальные совпадения: затмение, встреченное на пути («солнце ему тьмою путь заступаше», «тогда Игорь възре на светлое солнце и виде отъ него тьмою вся своя воя прикрыты»); ожидание Всеволода у Оскола («Игорь ждетъ мила брата Всеволода»), идущего из Курска («а мои ти готови, оседлани у Курьска»); поездка через ночь («нощь стонущи ему грозою»); указание на пятницу, как на день первой встречи с половцами («въ пяткъ потопташа поганыя плъкы половецкыя»); погоня Святослава Ольговича и прочих за половцами («и рассушясь стрелами по полю помчаша»); выступление половецких полков («половци идуть отъ Дона, и от моря, и отъ всехъ странъ»); битва с утра субботы до вечера, затем через ночь и в воскресенье («съ зарания до вечера, съ вечера до света летят стрелы», «бишася день, бишася другый: третьяго дни къ полуднию падоша стязи Игоревы»); поворот полков («Игорь плъкы заворочаетъ»); о мужестве Всеволода («яр туре Всеволоде, стоиши на борони»); Каяла («с тоя же Каялы», «ту ся брата разлучиста на брезе быстрой Каялы»); гибель в «море» остатков войска («Олегъ и Святъславъ… в море погрузиста»); упоминание Римова («се у Римъ кричать подъ саблями половецкыми»); раны Владимира Глебовича («а Владимиръ подъ ранами; туга и тоска сыну Глебову»); Лавор («Овлуръ свисну за рекою»); описание бегства и указание на «город Донец» («въверъжеся на бръзъ комонь, и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ лугу Донца»); приезд в Киев и радость князей («Игорь едетъ по Боричеву… Страны ради, града весели»).
Одновременно в рассказе Ипатьевской летописи обнаруживаются реалии и сюжеты, не находящие себе соответствия в тексте «Слова…». К ним относятся: точная дата поездки; указание на мирный характер поездки («не спеша»); «помочь Ольстина Олексича, Прохорова внука»; «ковуи»; точное время затмения-маршрут с Донца на Оскол, Сальницу и Сюурлию; эпизод со «сторожами» и решение Игоря; установление полков; описание первого боя; обстоятельства задержки на ночь; перечень ханов и родов «земли Половецкой»; наличие в войске Игоря «черных людей», «добрых людей» и «отроков боярских»; бегство «ковуев» и пленение Игоря; битва в пеших порядках вокруг озера; перечень кто кого взял в плен; покаяние Игоря и его молитвы об освобождении; указание на Беловолода Просовича, как вестника о поражении и пр. Так перед нами постепенно проясняется структура летописного повествования, изначально со «Словом…» не связанная уже потому, что обладает собственной информационной ценностью и художественной цельностью даже в случае изъятия из текста реалий, обусловленных влиянием поэмы.
Попробуем теперь сопоставить фактологическую канву рассказа Ипатьевской летописи о походе и бое с канвой рассказа Лаврентьевского списка. Общих мест у того и другого оказывается крайне мало — «черниговская помочь» и поражение «у воды», поскольку сообщение о первой победной стычке, присутствующее во всех трех текстах (Лаврентьевском списке, Ипатьевской летописи и «Слове…») следует исключить как историческую основу самого сюжета. В таком случае сообщение о «черниговской помочи», как и странный пассаж Лаврентьевского рассказа (после сообщения о том, что «изнемогли бо ся быху безводьемь… в знои и в тузе… по 3 дни бо не пустили бяху их к воде») «устремишася на нь и притиснуша их к воде» [Л., 398], можно объяснить только влиянием «Слова о полку Игореве», где «безводье» сопряжено с известием о «потоплении».
Что же касается более серьезных совпадений — сообщения о действиях киевских князей, рассказа об осаде Переяславля и ранах Владимира Глебовича, наконец, сообщения о судьбе Игоря, переданное в форме, указывающей на зависимость данного места Лаврентьевского списка от рассказа Ипатьевской летописи («и по малых днехъ ускочи Игорь князь у половець, не оставить бо Господь праведного в руку грешничю: очи бо Господни на боящагося его, а уши его в молитву ихъ» [Л., 399] и «но избави и Господь за молитву христьяньску, им же мнози печаловахугься и проливахуть же слезы своя за него» [Ип., 649]), то все они находятся не в самом рассказе о походе, а в его «конвое», восходящем к какому-то общему источнику этих сведений, представленному в южно-русском летописании XII в.
Теперь, сравнивая между собою все три памятника — «Слово о полку Игореве», рассказ Лаврентьевской и рассказ Ипатьевской летописей, — можно заметить, что зависимость летописных текстов от «Слова…» в каждом случае особая. Так, рассказ Лаврентьевской летописи отразил в своем тексте такие моменты древнерусской поэмы, как эпическую «трехдневность», распространенную не только на битву, но на «пир победителей» и на «жажду и тугу», использовал упоминание «Дона» и «луки моря» для усиления издевки, а загадочную фразу «по Рси и по Сули гради поделиша» (что никак не может относиться к половцам и, скорее всего, пришло в поэму из наследия Бояна или явилось следствием каких-то иных обстоятельств), преобразовал в утверждение, что половцы захватили «все города по Суле». Если учесть, что все перечисленные моменты оказались органически связаны с текстом, являя его сюжетную структуру, то в данном случае приходится говорить не о влиянии текста «Слова о полку Игореве» на протограф рассказа Лаврентьевского списка, а о памфлетной реплике на текст древнерусской поэмы, какой является этот рассказ о самом походе, заместившей в одном из протографов Лаврентьевского списка первоначальный его вариант, судя по сохранившемуся продолжению (выступления князей, осада Переяславля, сообщение о побеге Игоря), выдержанный в лояльных по отношению к новгород-северскому князю тонах[119].
Когда произошла такая замена? Тот факт, что древнейшему новгородскому летописанию рассказ о походе 1185 г. оставался неизвестен до XV в., следует из его отсутствия во всех списках НПЛ и подтверждается находящимся там описанием солнечного затмения 1.5.1185 г., которое в НПЛ[120] резко отлично от того что представлено в Лаврентьевском списке[121]. Более того, в НПЛ рассказ о походе 1185 г.[122] представлен предельно сокращенным текстом рассказа Лаврентьевского списка, который в своем полном виде читается практически во всех более поздних общерусских летописных сводах (в списках Радзивиловском, Летописца Переславля Суздальского, летописях Симеоновской, Ермолинской, Воскресенской и др.). Поскольку известны крайне сжатые сроки, в которые Лаврентий с двумя писцами[123] осуществил переписку текста — с 14 января по 20 марта 1377 г., не имея времени на литературную редактуру, можно считать, что, за вычетом сокращений, в Лаврентьевском списке представлен его протограф 1305 г. Тем самым текст рассказа Лаврентьевского списка оказывается архетипным для всех последующих списков данного извода, а время создания его собственного архетипа вряд ли может быть старше второй четверти XIII в.
Значительно более сложной представляется история рассказа Ипатьевской летописи и его зависимости от «Слова о полку Игореве». Если судить по обилию точных дат, имен действующих лиц, топонимов и реалий, его архетип был создан вскоре после событий 1185 г. Позднее он вошел в состав южнорусского (киевского) свода XII в., который был продолжен в XIII в. галицко-волынской летописью, известной нам только по 1292 г. включительно, поскольку на этой записи обрывался протограф Ипатьевской летописи, список которой, как известно, был выполнен во второй половине 20-х гг. XV в. В этих временных рамках, заключающих более двухсот лет сложной жизни еще более сложного текста летописного свода, рассказ о походе 1185 г. претерпел правку, вызванную желанием его редактора согласовать показания текстов летописного рассказа и «Слова о полку Игореве». Только так можно объяснить появление в его тексте лексемы «Каяла» (при наличии «Сюурлия», на берегах которого произошло сражение), упоминание «моря», в котором «истопоща» остатки отряда Игоря, использование гидронима «Донец» («и потече къ лугу Донца») в качестве указания направления выхода из боя («хотяхуть бо бьющеся доити рекы Донця») и топонима («до города Донця»), — осмысление фразы «претръгоста бо своя бръзая комоня» как потери Игорем своего коня («и иде пешь 11 денъ до города Донця») и пр. Очень вероятно, что влиянием «Слова…» («наведе своя храбрыя плъкы», «храбрыя плъкы Игоревы», «Игорь плъкы заворочаеть») объясняется и внезапное появление у Игоря на берегу Сюурлия «полков», вместо «дружины», которая упоминалась ранее. Таким образом, речь должна идти не о текстуальных заимствованиях из «Слова…», а о переосмыслении летописного рассказа в соответствии с текстом древнерусской поэмы в направлении их большей согласованности.
Наряду с этим и как бы в развитие такой редактуры, исследователь обнаруживает в тексте рассказа Ипатьевской летописи эпизоды и реалии, которые не могут быть отнесены ни на счет архетипа, ни на счет правки, связанной с текстом «Слова…», в то же время не дающие основания исключить их одновременность тексту. Речь идет здесь о деталях экспозиции, поскольку собственно канва повествования — выступление, поход, первая стычка, захват веж, последующий бой, пленение и побег из плена, равно как и описание набега половцев на Переяславль и действия киевских князей, как я уже писал, принадлежат событийной реальности, которая начинает изменяться под пером редактора, лишь когда сами события начинают исчезать из памяти живущих.
С этих позиций историческая канва рассказа Ипатьевской летописи, сохранившего точную дату поездки, состав экспедиции, имена действующих лиц, маршрут до Сюурлия, перечень половцев, указание, кто кого пленил и т. д., представляется вполне достоверной. Сомнения в аутентичности текста впервые возникают при описании стычки на Сюурлие, когда «дружина» Игоря вдруг оборачивается «полками», строящимися в боевой порядок, напоминающий «уряжение полков» перед Куликовской битвой по так называемой «летописи Дубровского» и «Сказанию о Мамаевом побоище»[124]. Еще менее вероятным представляется «спешивание» войска Игоря при наступлении половецкой конницы (это могло быть оправдано только при построении копейщиков «ежом», как то было на Куликовом поле) и его последующее движение «вокруг озера», неизвестно откуда возникшего. Не рассеивают сомнений и внезапно появляющиеся в рассказе «черные люди», «простые люди», «добрые люди» и «отроци боярские», о которых ничего не сказано ранее. Столь же замечательны и кооуи/ковуи Ольстина Олексича, Прохорова внука, которые из указания «ко уям» (т. е. «к братьям матери») однажды превратились под пером редактора и переписчика летописи, как видно не понявшего текст, в новый тюркский этнос, получивший хождение по страницам современных научных работ. Стоит напомнить, что эта ошибка характерна лишь для протографа Ипатьевской летописи, другие летописи никаких «ковуев» не знают, как не знает их и Лаврентьевский список (только «черниговская помочь»)[125]. Всё это наводит на мысль, что первоначальная основа рассказа, имевшегося в архетипе Ипатьевской летописи, при редактировании его протографа с позиций большего соответствия «Слову…», обогатилась фрагментом об «уряжении полков», экспозицией двухдневного боя «при озере» и рядом второстепенных деталей, в том числе и указанными категориями действующих лиц — «отроци боярские», «черные люди» и пр., резко изменив лексику рассказа о походе 1185 г. по сравнению со включающим его текстом.
Опираясь на эти лексемы, естественно задаться вопросом о времени создания новой редакции и тем самым хотя бы в общих чертах наметить время возникновения протографа Ипатьевской летописи, предстающего архетипным для последующих списков ее единственного извода.
Наибольший и вполне понятный интерес у большинства исследователей «Слова о полку Игореве» и рассказа Ипатьевской летописи вызывали «черные люди», понимаемые как «пешие воины», ответственность за судьбу которых («оже побегнемь-утечемь сами, а черныя люди оставимъ, то от Бога ны будеть грехъ») заставила русских князей сойти с коней, обрекая себя на поражение и плен. Между тем, о пеших воинах «Слово…» не упоминает даже намеком, о них не говорится в экспозиции летописного повествования, и они отсутствуют в «уряжении полков» на берегу Сюурлия перед первой стычкой. Более того, их участие в конном походе, длящемся почти три недели, физически невозможно и никогда не применялось, также как и «спешивание перед боем», которое Б. А. Рыбаков относит на счет «монашеской переработки чужих сведений без достаточного знания дела»[126]. Не будем спорить с академиком о «знании дела», тем более что его замечание не проясняет вопрос о появлении в Ипатьевской летописи термина «черные люди», неизвестного в конце XII в., а в более позднее время обозначавшего податное, тяглое население Руси. Но когда он возник?
В Ипатьевской летописи термин «черные люди» встречается единственный раз в рассказе о походе Игоря.
В Лаврентьевской летописи термин «черные люди» тоже единственный раз встречается в ст. 6791/1283 г. («а что изъимано людеи черных и з женами и з детми»), от которой сохранилось только окончание [Л., 481], что позволяет датировать начало его бытования еще до 1305 г. (времени создания протографа Лаврентьевского списка), хотя он мог быть внесен во время переписки в 1377 г.
В Синодальном списке Новгородской первой летописи, датируемом первой половиной XIV в., термин «черные люди» употреблен дважды — в ст. 6763/1255 г. о мятеже в Новгороде («и уведавше черныи люди, погнаша по немь» [НПЛ, 81]) и в ст. 6776/1269 г. при перечислении потерь от поражения новгородцев и псковичей под Раковором («а иныхъ черныхъ людии бещисла» [НПЛ, 86]), будучи повторен в тех же статьях Комиссионного списка, датируемого серединой XV в., а также в ст. 6850/1342 г.: «и въсташа чорныи люди на Ондрешка, на Федора на посадника Данилова» [НПЛ, 308, 317, 356].
В Рогожском летописце, датируемом 40-ми гг. XV в., наиболее раннее упоминание термина «черные люди» находится в ст. 6859/1351 г. («тако же же и бояре его и велможи и купци и чръные люди»[127]), тогда как в Симеоновском списке летописи, созданном в первой половине XVI в., единственное упоминание «черных людей» содержится в ст. 6873/1365 г. о постройке в Торжке каменной церкви Преображения «замышлениемъ богобоязнивыхъ купець новогородцкихъ, а потягнутьемъ черыхъ людеи»[128], т. е. практически в то же самое время.
Эти примеры, почерпнутые из древнейших списков летописных сводов, позволяют говорить, во-первых, о сравнительной редкости употребления термина «черные люди» в летописании периода XIII–XIV вв. (в противоположность летописанию XV–XVI вв.), во-вторых, о том, что нижней границей его появления в древнерусской письменности, исходя из датировок списков, следует считать конец XIII — начало XIV в.
Такому выводу не противоречат и данные документов.
Несмотря на то, что термин «черные люди» известен в тексте Уставной грамоты новгородского князя Всеволода Мстиславича о привилегии церкви Ивана Предтечи на Петрятине дворище, данной в 1134–1135 г. («три старосты от житьих людей, и от черных тысяцкого»[129]), сама грамота дошла до нас только в списках конца XVI в. и более позднего времени. Поэтому первым по времени новгородским документом, содержащим это термин, является дошедшая в подлиннике на пергамене грамота Великого Новгорода 1372 г. послам Юрию и Якиму с наказом об условиях заключения мирного договора с тверским великим князем Михаилом Александровичем, посланная «от посадника Михаила, от тысяцкого Матфея, от бояръ, и от житьихъ людеи, и от чорныхъ людеи, и от всего Новагорода»[130]. Оставляя под вопросом аутентичность преамбулы Уставной грамоты великого князя Василия Дмитриевича Двинской земле, данной в 1397 г. («пожаловал есмь бояр своихъ двинскихъ, также сотского и всехъ своихъ черныхъ людеи Двинские земли») по причине сохранения ее только в списке XV–XVI вв.[131], следующим документом новгородского происхождения, содержащим упоминание «черных людей», оказывается жалованная грамота Великого Новгорода Соловецкому монастырю 1459–1469 гг. («и житьимъ людемъ, и куппемъ, и чернымъ людемъ»[132]), выводящая нас уже в XV в.
Согласные показания списков летописей, указывающие на XIV в. как время появления термина «черные люди», и новгородских документов, дающие первую абсолютную дату — 1372 г., подтверждаются и уточняются появлением этого термина в «докончательных» грамотах великого князя Дмитрия Ивановича московского с князем серпуховским и боровским Владимиром Андреевичем, первая из которых датируется временем около 1367 г. («а которыи слуги потягли къ дворьскому, а черныи люди к сотникомъ, тыхъ ны въ службу не приимати»[133]), вторая — 25 марта 1389 г. («а которыи слуги к дворьскому, а черныи люди къ становщику, тыхъ вь службу не приимати»; «а хто будет покупил земли данные, служнии или черных людии»[134]). В последующих «докончаниях» этот термин используется неоднократно, однако не далее конца XV в.[135] Несколько иную картину представляет актовый материал XIV–XVI вв., изданный Л. В. Черепниным, где наиболее раннее упоминание «черных людей» отмечено в жалованной грамоте великого князя Василия Васильевича игумену Троице-Сергиева монастыря Зиновию, датируемой временем 1432–1445 гг. и известной только в списке середины XVI в.[136], тогда как самый ранний подлинник помечен 25.8.1448 г.[137]
Другим термином рассказа Ипатьевской летописи о событиях 1185 г., требующим своего рассмотрения, является синтагма «отроци боярские», которая, судя по указателю Г. Е. Кочина, формально может считаться гапаксом, поскольку встречена только один раз в данном контексте[138]. Уникальность указанной синтагмы не позволяет сколько-нибудь категорически утверждать ее адекватность термину «дети боярские», появляющемуся в московском делопроизводстве только в 30-х гг. XV в., как то показал в обстоятельном исследовании В. А. Кучкин[139]. Правда, в указанной его работе, содержащей обширный документальный материал и убедительные выводы, оставался нерешенным вопрос о времени появления и бытования последнего термина в новгородском обиходе. Между тем он встречается не только в ст. 6767/1259, 6894/1386, 6906/1398 и 6953/1445 гг. Комиссионного списка НПЛ («В лето 6767/1259. <…> И повеле князь стереци их сыну посадницю и всемъ детемъ боярьскымъ по ночемъ»; «В лето 6894/1386. <…> Той же зимы ездиша за Волок Федоръ посадникъ Тимофеевич, Тимофеи Юрьевич, а с ними боярьскии дети, брати 5000 рублев что возъложилъ Новъгород на Заволочкую землю»; «В лето 6906/1398. <…> И биша чолом <…> бояри и дети боярьскыи и житьии люди и купечкыи дети, и вси их вои», «И в то время воеводы послаша Дмитриа Ивановича, Ивана Богдановича, а с ними дети боярьскии, воеваша волости князя великаго», «Тои же зиме приихаша изъ Заволочия <…> и бояре, и дети боярьскыи, и все вои»; «В лето 6953/1445. <…> много добрых людеи, детеи боярьскых и удалых людей избиша» [НПЛ, 310, 380, 391–393,425]), о чем упоминал В. А. Кучкин и что с натяжкой можно объяснить редакторскими анахронизмами, поскольку Комиссионный список по филиграням устойчиво датируется 40-ми гг. XV в. [НПЛ, 7–8], но присутствует и в ст. 6767/1259 г. Синодального списка [НПЛ, 82], датируемого в этой своей части концом XIII в. [НПЛ, 5–6], что исключает сомнения в аутентичности текста.
Таким образом, материал новгородского летописания позволяет говорить об использовании термина «дети боярские» в новгородско-псковских землях уже во второй половине XIII в., значительно увеличивая время его бытования по сравнению с отрезком, установленным В. А. Кучкиным.
Что же касается возможности рассмотрения синтагма «отроки боярские» в качестве некоего переходного варианта к «детям боярским», то она представляется нереальной как потому, что нигде более не встречена, так и потому, что обуславливающая её лексема «отрок» (т. е. ‘слуга’, ‘дружинник’) исчезает уже к началу XII в. (в НПЛ последнее упоминание «отрока княжеского» содержится в ст. 1071 г. [НПЛ, 192]), будучи заменено термином «детьскы», в то время как лексема «отрок» становится принадлежностью исключительно религиозной литературы. В том, что это не случайность, убеждают наблюдения над лексикой новгородских берестяных грамот, где лексема «отрок» преимущественно наблюдается в XI и первой половине XII в., не выходя ни разу в XIII в. (грамоты из Новгорода — 241, 509, 642, 644, 666; грамоты из Старой Русы — 6, 7, 15[140]). К аналогичным результатам на материале русской письменности и специально ПВЛ пришел в свое время и А. С. Львов, полагавший, что такая замена «отрока» на «детьскы» произошла раньше всего на севере Руси[141].
Исключением оказывается опять Ипатьевская летопись, в которой термин «отрок» в его изначальном значении встречается не только в рассказе о первой мести Ольги деревлянам (ст. 6453/945 г.) и в повести об ослеплении Василька (ст. 6605/1097 г.), но и в сюжетах середины и второй половины XII в.: «всадиша и в посад с 4-ми отрокы» (ст. 6657/1149 г.); «и послаша отрока», «и посла к нимъ с тем же отрокомъ» (ст. 6667/1159 г.); «или кто отъ отрокъ боярьскихъ» (ст. 6693/1185 г.). Более того, после определенного перерыва этот термин снова возникает на страницах этой летописи в сюжетах 1231–1256 гг.: «оставьшуся въ 18 отрок верныхъ» (ст. 6739/1231 г.), «отроки держа коне» (ст. 6740/1232 г.); «и бе Батый у города и отроци его обьседяху градъ» (ст. 6748/1240 г.); «и уби вепревъ шесть, самъ же уби и рогатиною 3, а три отроци его» (ст. 6763/1255 г.); «сам же еха въ мале отрок оружныхъ», «король посла отрока Андрея» (ст. 6764/1266 г) [Ип,373,501,642,763,769,784,830,832].
Настойчивое использование термина «отрок» в сюжетах 1231–1256 гг. позволяет видеть здесь не случайный анахронизм, допущенный автором или редактором, а, скорее, его привычку к определенной лексике, в частности, к лексике духовной литературы. Более того, наличие в ст. 6764/1256 г. гапакса «отроци оружные», сразу приводящего на память «отроци боярские» ст. 6693/1185 г., позволяет думать, что оба они принадлежат одному автору, работавшему над протографом Ипатьевского списка в конце XIII — начале XIV в. Однако значит ли это, что в его руках был список «Слова о полку Игореве» и что ему же принадлежит кардинальная переработка рассказа о событиях 1185 г. с «полками», «черными людьми» спешиванием всадников и обходом озера? Единственная возможность хоть как-то прояснить этот вопрос — обратиться к истории текста протографа Ипатьевской летописи, насколько исследователь может ее реконструировать по имеющимся данным. И тут мы сталкиваемся с весьма существенным препятствием.
Хотя Ипатьевская летопись является одним из древнейших исков летописных сводов и занимает одно из первых мест по своему значению в историографии древней Руси, до сих пор не существует работы, заключающей в себе всестороннее исследование ее списков, ее содержания и истории ее текста. Этот парадоксальный для науки факт объясняется, с одной стороны, составом Ипатьевской летописи, включающей в себя ПВЛ, так называемый «Киевский (или южнорусский) свод 1201 г.» и «Галицко-Волынскую летопись» до 1292 г., на котором заканчиваются ее известия, с другой же — интересом исследователей не к летописи в целом, а лишь к отдельным ее сюжетам или частям, да и то привлекаемым в качестве параллельного материала. В равной степени это относится к А. А. Шахматову, который всё свое внимание концентрировал на ПВЛ в составе НПЛ и Лаврентьевского списка[142], к Б. А. Рыбакову, который использовал Киевский свод XII в. только для извлечения из него «княжеских посланий» и обнаружения «авторов летописцев», в том числе гипотетического автора «Слова о полку Игореве»[143], к А. С. Орлову[144], В. Т. Пашуто[145], Н. Ф. Котляр[146], А. Н. Ужанкову[147], которых интересовали в Ипатьевской летописи только галицко-волынское летописание и содержащиеся в нем сведения, и к А. И. Генсиорскому, который посвятил два своих исследования истории и языку галицко-волынского летописания, но опять же не летописи в целом[148]. Соответственно, исследователей «Слова о полку Игореве» интересовал в ней только рассказ о походе 1185 г., за пределы которого они стали заглядывать только в последнее время, когда выяснилось, что многие разгадки происшедшего лежат в предыстории событий — в родственных связях Ольговичей со Степью, крепнущей дружбе Игоря с Кончаком и обусловленной ею усобице с переяславльским князем.
Между тем, внимательное знакомство с Ипатьевским и более поздними списками этого памятника, имеющего совершенно исключительное значение по своему содержанию как для историографии, так и для истории литературы древней Руси, убеждает, что, в отличие от других летописных сводов, Ипатьевская летопись представляет не механическое соединение разновременных текстов и сводов, а следующую (после ПВЛ) попытку создания на имеющемся материале всеобъемлющей истории Руси, сходную с той, что была предпринята в XVI в. при создании так называемой Никоновской летописи, а еще через два столетия — В. Н. Татищевым. Убеждают в этом наблюдения над текстом, позволяющие проследить на всем его протяжении, хотя и далеко не равномерно, определенные стилистические обороты и повторы[149], которые трудно объяснить «стилем эпохи»[150], наличие единой рубрикации по княжениям, прослеживаемой до конца списка, а также чрезвычайно любопытным объяснением автора о расчете хронологии событий по различным счислениям[151], в котором объясняется отсутствие дат в протографе, начиная с 6710/1202 г., как то показывают списки Хлебниковский и Погодинский, и «пустых лет» с 6747/1239 г.
Но кто был этим автором, и когда он работал? Сложность найти ответ на эти вопросы предопределена незавершенностью Ипатьевской летописи, чье повествование обрывается на событиях 1292 г., не давая никакого представления о том, принадлежит ли этот дефект самому списку или оригиналу, с которого был списан. Сомнения не разрешают и другие, более поздние списки Ипатьевской летописи (Хлебниковский, Погодинский, Ермолаевский), которые хотя и обладают своими разночтениями, порою давая более верный текст, чем Ипатьевский список, порою — менее верный, однако заканчиваются на том же месте, оставляя, таким образом, вопрос о полноте и составе протографа после 1292 г. открытым. Густинская летопись XVII в., в части своей использующая сокращение протографа Ипатьевской летописи, также не разрешает этого вопроса[152]. Предположение В. Т. Пашуто, что автором последней части Галицко-волынской летописи (так наз. «Летописного свода князя Владимира Васильковича» и «Летописца времени князя Мстислава Даниловича») был владимирский епископ Евстигней[153] или близкий к нему человек, непосредственно связанный с Владимиром (Волынским) и г. Каменцем, который также отмечен особым вниманием в тексте, оспорил в своей работе А. И. Генсиорский, вычленивший в тексте «Галицко-волынской летописи» (1201–1292 гг.) следы пяти сводов, продолжавших друг друга (I — до 1234 г., II — до 1266 г. в Холме, III — до 1286 г. в Перемышле, IV — до 1289 г. в Любомле, V — до 1292 г. в Пинске) и, соответственно, указавший возможных их авторов (I — холмский епископ Иван (ок. 1255 г.), II — Дионисий Павлович, государев дьяк (ок. 1269 г.), III — перемышльский епископ Мемнон (ок. 1285 г.), IV — духовная особа, близкая князю Владимиру Васильковичу (ок. 1289 г., переработал всё с 1261 г.), V — житель Пинска, ранее связанный с Мстиславом Даниловичем (в начале XIV в.)[154].
Как бы то ни было, все эти выкладки и предположения указывают на территорию, где мог храниться оригинал и откуда могли идти в Россию известные нам списки, в том числе и протограф Ипатьевского. Подтверждением этому служит «список Яроцкого», полученный от директора Коммерческого училища в Кременце Я. В. Яроцкого, тождественный рукописи Ермолаевского списка. Его списал в 1651 г., как обозначено на рукописи, «Марко Бунъдур, законник и послушъник монастыря Николы Пустынника», дополнив «Повестью о побоищи Мамаевом с князем Дмитрием Ивановичем Владимирским в лето 6889», т. е. 3-й редакцией «Сказания о Мамаевом побоище» по классификации С. К. Шамбинаго[155], а также идущие с Волыни списки Густинский и Мгарский того же XVII в.[156]
Список Яроцкого, тождественный Ермолаевскому и всей группе списков Ипатьевской летописи, не получивших в своей галицко-волынской части абсолютных дат, позволяет думать, что автор «владимирского летописца» не успел закончить свой труд, и собранный им свод так и не перешагнул рубеж XIII–XIV вв. Но как складывалась судьба его списка, попавшего на Русь и ставшего в середине 20-х гг. XV в. протографом (или архетипом) для списка Ипатьевского? Неизбежен и другой вопрос: можем ли мы считать Ипатьевский список сохранившим свои изначальную полноту, или до того, как был переплетен, он успел потерять какие-то тетради так же, как они были потеряны в его протографе, общем для всей группы этих списков, что отмечено в Ипатьевском соответствующими пробелами в тексте? Вопрос этот приобретает особую остроту и интерес, поскольку в рассказе о походе 1185 г., как это было показано выше, исследователь обнаруживает вторжение социальной лексики второй половины XIV в., отсутствующей во всех остальных текстах летописи («черные люди», «отроци боярские»), а наряду с этим — заимствования из ее собственного текста, которые могут быть объяснены (учитывая местоположение данного рассказа в тексте) только наличием последующей редактуры, т. е. созданием последующего списка, в интервале между 1292 и 1425 г.
Напомню, о чем идет речь.
В рассказе о походе 1185 г. мною были выделены эпизоды и реалии, которые не могли восходить ни к реально-событийной основе повествования конца XII в., ни быть почерпнуты из текста «Слова о полку Игореве» — «коуи/ковуи», присутствующие только в тексте Ипатьевской летописи, где они возникли по недоразумению, поездка «сторожей… языка ловить», «уряжение полков» на берегу Сюурлия, «спешивание» во время боя, «черные люди», «добрые люди», «отроци боярские» и, в особенности, боевой ход «вкруг озера». При этом следует отметить, что некоторые из перечисленных реалий, как выяснилось, присутствуют в самом тексте Ипатьевской летописи, в то время как другие ей совершенно неизвестны.
К числу первых относятся «ковуи», появляющиеся впервые в ст. 6659/1151 г. вместе с «печенегами» («отрядила Володимера, брата свое, по веже с торкы и с коуи, и с берендеи, и с печенегы»), хотя ранее речь шла только о «черных клобуках» [Ип., 427]. Та же четверная формула употреблена в ст. 6670/1162 г. («с куи»), причем точно так же она сразу же заменяется «черными клобуцами» [Ип., 517]. Третий и последний раз за пределами рассказа 1185 г. «коуи» фигурируют в ст. 6678/1170 г. («послал Мьстислав Михалка князя Дюргевича Новгороду къ сынови с коуи, Бастеевой чадью») [Ип., 544], после чего они исчезают. Такое положение ошибки впереди рассказа позволяет считать ее присущей данному комплексу известий (1151–1170), перенесенной и развитой в событиях 1185 г., так что для ее объяснения не требуется допущение промежуточной редакторской работы.
Совсем иначе обстоит дело с реалиями, которые содержит текст Ипатьевской летописи в составе более поздних, чем поход 1185 г., сюжетов. В первую очередь это сравнение выступающих половецких полков с «бором» (лесом) («иачаша выстоупати полци половецкии акъ борове»), что встречает точное соответствие в ст. 6676/1268 г. «бяхоуть бо полчи видениемь акы борове велицеи» [Ип., 866] и 6789/1281 г. «и сташа около города аки борове величеи» [Ип., 885]. Безусловно, оба примера можно посчитать калькированием текстов более ранних («ипоидоша полци половецьстии, аки борове» 6611/1103 г. [Ип., 254]; «иноплеменницы собраша полки своя многое множество, и выступиша, яко борове велиции» 6619/1111 г. [Ип., 267]), а то и вообще никак с ними не связанными, однако о них следует помнить, тем более, что они принадлежат к тому же хронологическому комплексу известий, что и параллель с «битвой вкруг озера», вызывающей особый интерес.
Напомню, что в рассказе 1185 г., к удивлению всех без исключения исследователей, в том числе и специалистов по истории военного дела, воины Игоря «вси соседоша с конии <…> и поидоша бьючеся <…> идоуще в кроугъ при езере <…> а прочии в море истопоша» [Ип., 641–644]. Что и когда послужило примером для правщика, создавшего столь оригинальную интерпретацию событий? Частичную разгадку происхождения этого текста дает, как мне представляется, сообщение Ипатьевской летописи в ст. 6770/1262 г. о набеге «литвы» на г. Каменец, после чего «угониша я у Небля (Невель? — А. Н.) города», где ее притиснули к берегу озера и полностью уничтожили в последующем сражении. Вот эти два фрагмента Ипатьевской летописи, свидетельствующие о своей безусловной текстуальной взаимозависимости.
И тако оугадавше вси соседоша с конии, хотяхоуть бо бьющеся доити рекы Донця <…> и поидоша бьючеся <…>-и биаху бо ся идоуще в кроугъ при езере <…> не бяшеть бо лзе ни бегаючимъ оутечи, зане яко стенами силнами огоро-жени бяхоу полкы половецьскими <…> а прочии в море истопоша [Ип., 641–644]. Литва же бяше стала при озере, и видевше полки, изрядишась и седоша во три ряды за щиты по своемоу норову. Василко же, изрядивъ свое полкы, поиде противоу имъ и сразишася обои. Литва же [не] стерпевше, оустремишася на бегъ, и не бысь лзе оутечи, обишло бо бяшеть озеро около, и тако начаша сечи е, а дроузии во озере истопоша, и тако избиша я все, и [не] оста от нихъ ни одинъ [Ип., 856].Однако для того, чтобы текст, принадлежащий владимиро-волынскому летописцу конца XIII в. мог повлиять на сюжет конца XII в., находящийся в той же летописи, необходимо создание хотя бы одного последующего по времени списка, способного воспринять такие дополнения, причем для этого требуется еще и наличие определенного интереса именно к данному сюжету.
О том, что такой интерес был и что работа над рассказом 1185 г. велась во второй половине XIV или в первой четверти XV в. свидетельствуют реалии этого времени, появившиеся в протографе Ипатьевской летописи только в данном сюжете — «черные люди», «отроци боярские», возникающие de facto лишь во второй половине XIV в. К перечисленному, по-видимому, следует добавить также «уряжение полков», напоминающее такое же «уряжение» в памятниках Куликовского цикла, и «сторожей» с их задачей «имания языка», сразу же приводящее на память соответствующий эпизод «Сказания о Мамаевом побоище»[157], которому сюжетно предшествуют «вести» еще Краткой и Пространной Летописной повести[158]. Я особенно подчеркиваю датирующее значение «уряжения полков», потому что на протяжении всей Ипатьевской летописи, посвященной «бесчисленным ратям и великим трудам, и частым войнам, и многим крамолам» [Ип., 750], мы не обнаруживаем ни одного подобного «уряжения», как отсутствуют они и в других летописных памятниках вплоть до XV в.[159]
Насколько имеющиеся факты способны помочь в определении времени такой переработки? Для этого, как мне представляется, необходимо еще раз сопоставить имеющийся в нашем распоряжении текст «Слова о полку Игореве» с текстом рассказа о походе 1185 г., потому что только знакомство с поэмой могло подвигнуть книжника второй половины XIV в. на «исправление» и обновление именно этого, а не какого-либо иного текста. И здесь исследователя ожидает неожиданность, позволяющая предположить, что в руках древнерусского книжника был иной, чем известный нам теперь текст «Слова о полку Игореве», поскольку иначе невозможно объяснить полное отсутствие в рассказе Ипатьевской летописи гидронима «Дон», который в Мусин-Пушкинском списке «Слова…» является чуть ли не господствующей смысловой и фонетической доминантой. Все устремление Игоря в известном нам тексте «Слова…» направлено на Дон, и туда же, на Дон, направляет автор других князей. Если отсутствие Тмутороканя, «сна» Святослава и его «золотого слова», исторических экскурсов о Всеславе и «плача» Ярославны в летописном рассказе вполне понятно, поскольку не находит себе места при изложении последовательности происходившего, то отсутствие темы «Дона», «поганого Кончака» и защиты «земли Русской» можно объяснить только их отсутствием в тексте, имевшемся в руках переработчика.
Причин тому может быть две: дефектность списка, что касается только объема, но не основной идеи, поскольку указанные темы пронизывают всё повествование о походе и битве в поэме вплоть до «истопоша» и «Каялы», внесенных в рассказ, или же иной состав самой поэмы, о чем я не раз писал, полагая, что свое патриотическое звучание «Слово…» получило только после 1380 г., будучи переработано в соответствии с требованиями времени после победы русских князей на Куликовом поле и «маркировано упоминанием Дона»[160]. Первую из предложенных причин следует сразу же исключить, как несостоятельную, тогда как вторая может стать единственно продуктивной гипотезой, открывающей возможности дальнейшего изучения судьбы текста «Слова…» в XIV–XV вв. вместе с изучением места и времени возможного появления протографа Ипатьевского списка, основывая его на исследовании бумаги, чернил, почерков, лексики и палеографии других памятников письменности этого периода.
Полагаю бесполезным сейчас гадать о времени и путях прихода в Московское государство из Литвы (Волыни, Киева и др.) как списка архетипа Ипатьевской летописи, так и его «встречи» со списком «Слова…», ввиду оживленных культурных и политических сношений в XIV и в начале XV в. России с территорией будущей Украины. Однако памятуя, что fata libelli оборачивается historiam libelli, я полагаю, что систематические поиски в указанных направлениях (филигранографические, графологические, лексикографические и текстологические наблюдения над рукописями XIV — начала XV вв.) могут принести свои плоды и в отношении взаимодействия «Слова…» с Ипатьевским списком летописи[161], тем более, что изложенные выше наблюдения над текстом ее протографа позволили сузить отрезок времени в котором мог осуществиться такой контакт, с двух с половиной веков до полувека. В свою очередь, эти наблюдения позволяют сформировать новый взгляд на время появления памятников так называемого «Куликовского цикла», в первую очередь «Задонщины» и «Сказания о Мамаевом побоище», чья текстуальная зависимость от «Слова…» и Ипатьевской летописи неизменно подчеркивалась всеми их исследователями.
Ковуи, каепичи и турпеи (О некоторых «тюркских этнонимах» Ипатьевской летописи)
Начиная с 40-х гг. прошлого века, когда была опубликована Ипатьевская летопись, сохранившая в своем составе корпус сведений Киевской (иначе — южно-русской) летописи XII в., внимание отечественных историков, а затем и тюркологов, было привлечено неизвестными ранее названиями тюркских народностей, состоявших, как можно было понять из текста, на службе у киевских и черниговских князей. Кроме уже известных по Лаврентьевскому списку торков и берендеев, носивших в середине XII столетия обобщающее имя «черных клобуков» («каракалпак»), Ипатьевская летопись называла «коуев/ковуев» и «каепичей», участвовавших в походах русских князей на половцев. Если о «каепичах» практически ничего больше не было известно, поскольку они упоминались только один раз под 6668/1160 г., то «коуи/ковуи» вызывали особенный интерес к себе тем обстоятельством, что они фигурировали в рассказе о походе новгород-северского князя 1185 г. как «черниговская помочь», т. е. состояли на службе у Ярослава Всеволодовича, и своим бегством с поля боя предопределили захват Игоря в плен и поражение его отряда.
«Каепичи», «коуи/ковуи» и «турпеи» за полтора столетия изучения «Слова о полку Игореве», русского летописания, филологических и археологических исследований прочно вошли в международный научный обиход и справочную литературу в качестве тюркских этнонимов[162].
«Коуи, — писала С. А. Плетнева, подводя итоги многолетней работы, — четвертое по величине (и значимости) этническое соединение, входившее в союз черных клобуков. Местоположение их веж и пастбищ в 50–70-е годы XII в. устанавливается только косвенно. Дело в том, что они постоянно выступают вместе с торками, берендеями и печенегами в составе черных клобуков. Поскольку этот союз образовался и локализовался на территории Поросъя, то логично предположить, что коуи жили там же, где и остальные этнические группировки этого союза. Однако под 1185 г. летописец неоднократно упоминает[163] особую группу этого этноса, названную им „коуи черниговские“. Следовательно, помимо Поросъя, коуи раскинули в то десятилетие свои вежи и пастбища и в Черниговском княжестве: на его границах и, возможно, даже частично в окрестностях самого Чернигова — по широкой деснинской пойме»[164].
Но так ли это? Оставив в стороне «раскинутые ковуями» пастбища в широкой деснинской пойме, попробуем заново познакомиться с тем, что нам дают источники, которыми в данном случае для «ковуев» и «каепичей» является только Ипатьевская летопись, а для «турпеев» — еще и Лаврентьевская.
Первое упоминание «коуев/ковуев» в Ипатьевской летописи содержит ст. 6659/1151 г., рассказывающая о борьбе за Киев между Юрием Владимировичем, князем владимиро-суздальским, опиравшемся на союзных ему половцев, и киевским князем Изяславом Мстиславичем с братьями, имевшими в союзниках «черных клобуков». Когда суздальская рать перешла Днепр у Заруба и киевским войскам, стоявшим у Воиня, пришлось возвращаться, чтобы организовать оборону самого Киева, «черные клобуки» предложили князьям отрядить с ними Владимира Мстиславича к их вежам, чтобы они могли забрать жен, детей, стада «и што своего всего», и уже к вечеру этого дня придти и встать у стен Киева. Мотивировали они свое решение так: «хочемъ же за отца вашего, за Вячьслава и за тя (вар.: зятя), и за брата твоего Ростислава, и за всю братью и головы свое сложити <…> а Гюргя не хочемъ». В результате князья послушали совета «и тако отрядиша Володимера, брата свое, по веже с торкы и с кооуи и с берендеи и с печенегы, а сами поидоша къ Треполю»[Ип.,427].
Второе упоминание «коуев/ковуев» содержится в начале ст. 6670/1162 г., сообщающей, что «поиде Мьстиславъ из Володимиря полком своимъ с галичьского помочью, а Рюрикъ поиде ис Торцьского с Володимеромъ съ Андреевичем и с Василкомъ съ Гюргевичем, и с берендеи, и с куи, и с торкы, и с печенегы» на Изяслава Давыдовича, после чего действуют просто «черные клобуки» [Ип., 517].
Третье упоминание мы встречаем в ст. 6678/1170 г. в связи с тем, что Мстислав Изяславич послал «Михалка князя Дюргевича Новугороду, къ сынови, с коуи, Бастеевою чадью; и бысь весть Рюрикови и Давидови… и яста Михалка за Межимостьемъ ко Мозырю идуща; ту же льсть издея Бастии надъ Михалкомъ» [Ип., 372].
Наконец, четвертое и основное упоминание «коуев/ковуев» находится в ст. 6693/1185 г. в рассказе о походе новгород-северского князя Игоря Святославича, на этот раз выступая уже в качестве сюжетообразующего элемента. Здесь сообщается, что, поехав из Новгорода, Игорь «оу Ярослава испроси помочь Ольстина Олексича, Прохорова вноука с кооуи черниговьскими» [Ип., 63 8], которые снова всплывают в рассказе об уряжении полков: «Игоревъ полкъ середе, а по правоу брата его Всеволожь, а по левоу Святославль, сыновця его, на переде емоу сынъ Володимерь и дроугии полкъ Ярославль, иже бяхоу с Ольстиномъ кооуеве» [Ип., 639]. Когда половцы ударились в бегство, «Святослав же Олгович и Володимерь Игоревич и Ольстинъ с кооуи стрелци поткоша по нихъ» [Ип., 640], после чего «кооуи» упоминаются еще трижды в связи с их бегством: «бысь же светающе неделе, возмятошася ковоуеве полкы побегоша» [Ип., 641–642], «не бяхоуть бо добре смялися с ковоуи» [Ип., 642] и в заключении, что «съ 15 моужь оутекши, а ковоуемь мнее» [Ип., 644].
Вот всё, что известно о «ковуях», поскольку ни в одном другом летописном своде, кроме списков, восходящих к протографу Ипатьевского (Хлебниковский, Погодинский, Ермолаевский, Яроцкого, а также летописей типа Густинской, восходящих к архетипу Ипатьевской, но передающих его в сильном сокращении), какие-либо упоминания «ковуев» отсутствуют.
Что же касается Лаврентьевского списка, содержащего статьи Киевского свода XII в., то в нем они представлены в сильно сокращенном виде, по сравнению с Ипатьевской летописью, или же не представлены вовсе. Так, в ст. 6659/1151 г. выпущен эпизод с отходом «черных клобуков» за своими вежами, в ст. 6679/1170 г. — эпизод с пленением Михалка, ст. 6670/1162 г. вообще отсутствует, а в ст. 6693/1185 г. упоминается просто «черниговская помочь». И все же приведенные примеры редкого и случайного употребления данного этнонима, собранные воедино, дают возможность подойти к ним с иной, чем это делалось до сих пор, стороны.
Начнем с известного, т. е. с торков и берендеев, расселенных по р. Рось на южных границах Киевского княжества, которые с середины XII в. получили общее наименование «черные клобуки». Очень вероятно, что на том же Правобережье Днепра были размещены и те торки с печенегами, которые были захвачены у половцев во время похода 6611/1103 г. [Л., 279; Ип., 255], поэтому формулировка, которую мы находим в первых двух примерах из Ипатьевской летописи («с торки, с берендеи и с печенеги») и, соответственно, под 6660/1152 г. в Лаврентьевском списке («Изяслав же <…> отряди сына своего Мстислава на половци с берендеи и с торкы, и с печенегы» [Л., 339]), не вызывает сомнения в своей аутентичности, как расшифровка обнимающего их понятия «черные клобуки», в то время как упоминаемые здесь же «кооуи» оказываются инородным телом.
С другой стороны, внимание привлекает необычное написание этнонима «кооуи» («−ооу−»), что также не находит себе аналогии как в древнерусской письменности, т ак и в передаче тюркской лексики. Пытаясь выяснить этимологию, происхождение и значение данной лексемы, Н. А. Баскаков, следом за К. Г. Менгесом[165], писал:
«Ковуй — название племени черных клобуков. <…> Наиболее вероятной и по существу единственной этимологией этого названия является сближение этого названия с названием птицы и связанного с этой птицей цветовым оттенком, а именно… ‘племя, имеющее своим тотемом лебедя’, ‘племя лебединцев’; ‘бледный, серый, голубой, сивый, светло-желтый, буланый’»[166].
Поскольку такое заключение никак не проясняет вопроса, попытаемся посмотреть на эту лексему со стороны русской, а не тюркской орфографии.
Всего в распоряжении исследователя девять фактов написания этой лексемы: «с кооуи», «с куи», «с коуи Бастеевою чадью», «с кооуи черниговськими», «бяхоу кооуеве», «с кооуи», «возмятошася ковоуеве», «ковоуи», «ковоуемь». Посчитав второй из приведенных примеров («с куи») обычной опиской, можно видеть устойчивое написание удвоенного «о» перед «у», заставляя предполагать наличие здесь непонятого переписчиком (или редактором) предлога «ко» перед дифтоногом «оу». В таком случае мы получаем обычный ряд — «ко уи», «к уи», «ко уи», «ко оуи», «ко оуеве», «ко оуи», «ко воуеве», «ко воуи», «ко воуемь», сопоставимый с соответствующими лексемами Ипатьевской летописи (6478/970 г. «и бе Добрыня оуи Володимиру» [Ип., 57]; 6493/985 г. «иде Володимиръ на болъгары съ Добрынею, оуемъ своимъ» [Ип., 71]; 6654/1146 г. «посла Святославъ в половце к оуемъ (вар.: „оуеви“) своимъ и прииде ихъ к немоу в борзе 300» [Ип., 329]; 6665/1147 г. «Святославъ же поведа Иванкови Гюргевичю… и половцемъ дикымъ, оуемъ своимъ, Тюнракови Осоулоуковичю и братоу его Камосе» [Ип., 334].; «и тогда придоша к немоу сли (вар.: „послы“) ис половець от оуевъ его съ Василемъ половциномъ» [Ип., 341]; 6665/1147 г. «придоша к нем бродничи и половци придоша к немоу мнози оуеве (вар.: „рода“) его» [Ип., 342]; 6746/1238 г. «идоста Михаилъ и Ростиславъ ко оуеви своемоу в ляхы» [Ип., 783]; 6748/1240 г. «потом же Михаилъ иде от оуя своего на Володимер» [Ип., 788]; 6749/1241 г. «се ли твори возмездье оуема своима во добродеанье» [Ип., 791]; 6760/1252 г. «изгна Миндовг сыновца своего <…> пославшомоу на воину со воемь (вар.: „съ вуемь своим“) своими» [Ип., 815]; 6760/1252 г. «Тевтевилъ же прибеже во Жемоить ко воуеви (вар.: „къ оуеви“) своемоу» [Ип., 817];
6787/1279 г. «поведе Володимероу оуи его, князь Болеславъ, на сыновча своего, на Кондрата» [Ип., 880]) и Лаврентьевского списка (6478/970 г. «бе Добрына оуи Володимеру» [Л., 69];
6488/980 г. «посади Добрыну оуя своего в Новегороде» [Л., 79];
6493/985 г. «иде Володимеръ на болгары съ Добрыною съ воемъ (РА — „оуемъ“) своимъ» [Л., 84]; 6636/1128 г. «и бе оу него оуи (РА — „уи“) его Добрына» [Л., 299]), практически повторяющего чтение НПЛ [НПЛ, 121, 128, 132, 138].
Количество этих примеров я полагаю достаточным, чтобы раз и навсегда отказаться от «племени ковуев», признав в таком написании ошибочное соединение предлога «ко» с формой множественного числа существительного «уй/оуй» — «оуи», т. е. ‘братья матери’, а более широко — ‘мужчины рода матери’, как то можно видеть по фразеологии Ипатьевской летописи в ст. 6654/1146 г., когда к Святославу «пришло их 300».
Из всех приведенных выше четырех примеров с использованием лексемы «кооуи/ковоуи» практически не требует корректуры при объяснении третьего в ст. 6678/1170 г., где указывается что Михалко был послан к Новгороду «с [к]оуи», т. е. с родом своей матери, каким в данном случае являлась «Бастеева чадь». Менее ясны два предшествующих примера, однако тот факт, что в 1151 г. «черные клобуки» просили отправить «ко оуям» за вежами и семьями с ними именно Владимира Мстиславича, позволяет предполагать или «штамп» позднего редактора, который изначально не понял выражения «ко оуям», сделав из этой лексемы этноним, и тут же использовал его еще и в ст. 1162 г. (что наиболее вероятно), или (что маловероятно) какие-то родственные связи Владимира Мстиславича с «черным клобуком» по женской линии.
Более сложен и требует обстоятельного разбора рассказ 1185 г. о походе новгород-северского князя в степь, и вот почему. В одной из предшествующих работ я обратил внимание на некоторые его реалии («черные люди», «отроци боярские» и др.), принадлежащие времени не ранее второй половины XIV в.[167] Другими словами, эти лексемы не могли попасть в данный текст не только в конце XII в., к какому времени его обычно относили исследователи, но и в конце XIII или в самом начале XIV в., как определяли окончательное время сложения на Волыни протографа Ипатьевской летописи[168]. В то же время, они отсутствовали в остальном тексте. Из этих наблюдений следуют два вывода:
1) указанные термины попали в текст рассказа о походе 1185 г. протографа Ипатьевской летописи во второй половине XIV или в первой четверти XV в. при кардинальной переработке именно этого рассказа, и 2) обращение к указанному рассказу при игнорировании всего остального корпуса летописных известий архетипа Ипатьевской летописи может объясняться только знакомством редактора-переработчика со списком «Слова о полку Игореве». Отсюда с неизбежностью проистекает заключение, что именно тогда из текста «Слова…» в протограф Ипатьевской летописи попали «Каяла», «море», «Лавор», «Донец», «трехдневный бой», «заворачивание полков» и прямые текстуальные заимствования, — всё то, что в противном случае приходилось бы объяснять двукратным обращением редакторов свода к древнерусской поэме.
Такой вывод нашел свое подтверждение и в ряде других обстоятельств похода и боя, почерпнутых редактором, по всей видимости, уже из владимиро-волынских статей Ипатьевского архетипа второй половины XIII в. (напр., пеший бой вкруг озера), в котором якобы поначалу принимали участие «ковуи», ударившиеся затем в бегство.
Как появились в повествовании и какое место в протографе рассказа занимали собственно «уи», породившие «ковуев»? Ответ, как мне представляется, подсказывает, во-первых, подчиненность в рассказе данной лексемы имени «Ольстина Олексича, Прохорова внука», о чем говорится не только в начале, но напоминается и далее («иже бяху с Ольстином ковуеве»), и, во-вторых, упоминание в ст. 6692/1184 г. — в действительности относящееся к 6693/1185 г., как то показывают переставленные фрагменты, — о поездке Ольстина Олексича, «мужа» Ярослава Всеволодовича черниговского, к Кончаку: «Ярославъ же… посла к нимъ моужь свои Ольстина Олексича» [Ип., 635]; «азъ есмь послал к нимъ моужа своего Ольстина Олексича, а не могоу на свои моужь поехати» [Ип., 636]. Тот факт, что Игорь, отправляясь в Степь, «испроси» у Ярослава «в помочь» именно Ольстина Олексича, незадолго до этого ездившего к Кончаку в связи с какими-то переговорами, в том числе и о «мире», делает в высшей степени вероятным предположение, что «Прохоров внук» был наполовину половец и ехал «ко уи» или «с оуями» (в тексте — «с коуи»), и должен был стать гарантом мирных намерений Игоря, пополняя своей дружиной еще и физическую защиту. Таким образом, первоначальный вид фразы можно реконструировать как ‘испроси у Ярослава помочь Ольстина Олексича, Прохорова вноука, ко оуи’, к чему сначала было добавлено «черниговскими», а затем развернуто «уточнение» по типу В. Н. Татищева.
При переработке «оуи» превратились в «кооуев/ковоуев», оказавшихся тем более к месту, что переработчику требовалось объяснить отсутствие дальнейших упоминаний о судьбе самого Ольстина Олексича.
Такое переосмысление «оуев» в конце XIV или в начале XV в. можно считать весьма симптоматичным, как, впрочем, появление данного термина в письменности киевской Руси в середине XII в. и его полное забвение и выпадение из активной лексики в последующий период. В системе славянских родственных связей, всё равно, «большой» или индивидуальной семьи, определяющими всегда были «мужские линии», почему женщина у славянских народов в доме занимала подчиненное положение, а за его пределами практически не играла никакой роли. Об этом лучше всего свидетельствуют древнерусские летописи, как правило, не знающие женских имен, а в случае необходимости указывающие или на происхождение женщины (отчеством) или на ее принадлежность (по мужу). Как и в Европе, на Руси выдаваемые замуж женщины в дальнейшем не становились для своих мужей гарантами получения помощи от ее отца или братьев, будучи разве что причинами последующих наследственных притязаний или семейных раздоров. Совсем иначе обстояло дело у половцев, где кровное родство по материнской линии ценилось выше, чем по линии отца. Можно сказать, что ребенок принадлежал всему роду его матери, в первую очередь, ее братьям, «уям», накладывая на всех членов рода обязательство оказания ему помощи и защиты, и тем самым распространяя на них «уйство», подтверждение чему можно видеть в уже цитированных фрагментах ст. 1146 г.
Упрочение с конца XI в. симбиотических отношений между Степью и Русью привело, с одной стороны, ко всё возрастающему числу межэтнических браков, причем не столько среди аристократии, сколько среди массы русского оседлого и половецкого кочевого населения (уводы в полон, побеги, оседание на землю, расселение выходцев из орды и пр.), а с другой — к резко возросшему значению «института уев», связавшего Степь с Русью и внесшего в междукняжеские конфликты фактор «второго этноса». По мере того, как половцы всё более втягивались в повседневную жизнь русских княжеств, наполненную внутрисемейными сварами, вероломством, борьбой, они менялись сами и изменяли свои отношения к родственникам, пройдя «от кочевий к городам», как выразилась С. А. Плетнева. Конец всему этому положили монголы, захватившие степи с оставшимися половцами и вырезав всю половецкую аристократию, которая до тех пор оставалась гарантом сохранения степных традиций. Вместе с половцами из русских летописей ушел и сам термин — «уй», «уи» — в новой реальности потерявший свое основание и смысл, поскольку всё вернулось на круги своя.
История и реальное содержание термина «уй» в русской жизни хорошо показывает Ипатьевская летопись. Он появляется на ее страницах в легенде о Владимире и Добрыне, неся с собой от голоски не славянской архаики, а русско-половецких связей XII в., активно используется с 1146 по 1185 г., исчезает на полстолетия, и с 1238 г. вновь появляется на страницах летописи, повествующей о событиях середины и второй половины XIII в. в Галицко-Волынской Руси, где в литературном и бытовом обиходе до польско-литовского завоевания лексика предшествующего периода сохранялась значительно лучше, чем на землях Северо-Восточной Руси.
Именно так сейчас может быть представлена история «народа кооуев», вызванная в конце XIV или в начале XV в. ошибочным прочтением слитного написания лексемы «ко оуям» и породившая столько недоумений, догадок и прямых фантазий со стороны историков, археологов и даже филологов. Надеюсь, что теперь им положен конец.
Еще проще выглядит загадка лексем «каепичи», «бастии» и «турпеи», которые С. А. Плетнева принимает за этнонимы.
«Что касается турпеев и каепичей, — пишет археолог, — то оба эти небольшие этноса обитали, видимо, на переяславльско-черниговском пограничье, поскольку упоминаются в летописи в связи с военными действиями, ведшимися князьями друг против друга именно на территории этих княжеств. Иных, более веских доказательств о месте их обитания у нас нет»[169].
Здесь всё верно, за исключением термина «этнос». Получив от отца, Изяслава Мстиславича, занявшего Киев, приказ «Переяславля добыти», Мстислав Изяславич «послася на ону сторону (т. е. на Левобережье) к Турпеемъ и к дружине, веля имъ ехати к собе <…> Ростислав же <…> сгони Турпее у Днепра, и поимав е, приведе е Переяславлю» [Ип., 398], из чего следует, что затея эта не удалась. В тех же словах передает этот эпизод 6658/1150 г. и Лаврентьевский список [Л., 326]. На то, что под «Турпеями» следует понимать никакой не этнос, а род, некоего Турпея, указывает наличие у них общей «дружины», а также то, что перехватить их и привести назад к Переяславлю смог один Ростислав Юрьевич, естественно, в сопровождении собственной дружины, в которой было вряд ли более двух десятков воинов.
Подобно «ковуям», «каепичи» встречены только в Ипатьевской летописи, причем лишь единожды, тем самым уже изначально позволяя думать, что перед нами очередная описка: «а молодь, перебравъ [с] берендичи, и с каепичи пусти на половци ити» [Ип., 507]. Разбирая тюркские этнонимы, Н. А. Баскаков пояснил, что «каепичи — название огузского племени древних узов — черных клобуков русских летописей. Структура этого этнонима ясна, она состоит из названия тюркского племени qaj или собственного мужского имени + apa ‘почтительное обращение к старшему в роде’ (ср. apa/aba/awa ‘отец, мать’ или oba ‘род, родовое подразделение, большая семья’»[170]. Между тем, здесь, скорее всего выступают потомки какого-то Аепы, двое из которых, как известно, в 6615/1107 г. заключили мир с русскими князьями и способствовали двум тогда же заключенным бракам половецких принцесс — с Юрием Владимировичем, сыном Владимира Мономаха, и со Святославом Ольговичем, сыном Олега Святославича [Л., 282–283; Ип., 259].
В отличие от этих псевдоэтнонимов, лексема «Бастеева чадь», упоминаемая только в Ипатьевской летописи под 6678/1170 г. («послалъ Мьстиславъ Михалка <…> с коуи, Бастеевою чадыо» [Ип., 544]), и 6680/1172 г. («и Глебъ князь прислалъ бяше Григоря тысячкаго своего с помочью, и половци дикие, Концакь с родомъ своимъ, и свои берендичи, Бастеева чадь» [Ип., 548]), имеет дополнение в имени самого Бастия — дважды в ст. 6678/1170 г. («Бастии же и инии мнози гонища по них» и «ту же льсть издея Бастии над Михалкомъ» [Ип., 540 и 544]). Из всего этого комплекса следует, что речь идет не о народе, а только, как и в случае с «турпеями», о роде берендея Бастия, бывшего «своим» для Мстислава Изяславича.
Вся эта путаница с несуществующими тюркскими этносами, извлекаемыми по мере надобности (и ненадобности!) из описок Ипатьевской летописи, объясняется, с одной стороны, слепым доверием филологов и историков к «Указателю» издания Археографической Комиссии (СПб., 1871), где все эти лексемы сопровождаются пометкой «нар.» (т. е. «народ»), а со стороны С. А. Плетневой — еще и отсутствием представления о разнице между «социумом» и «этносом», что достаточно ярко предстает в ее последней, в целом нужной и интересной монографии о половцах. Так она пишет, что у черных клобуков основу общества «составляла большая семья (аил), называемая русскими летописцами чадью. В нее входили как кровнородственные члены, так и их слуги из других обедневших семей и даже домашние рабы. Богатые семьи достигали очень больших размеров и превращались <…> в новые этнические единицы»[171]. Это, безусловно, новое слово в науке, так же, как и другие утверждения на эту же тему, например: «Процесс выделения из большой массы новых малых этнических образований, получавших имя от главы семьи или куреня, был, видимо, характерен для степняков»[172]. И далее: «Таким образом, сложный процесс этнообразования <…> заключался не только в слиянии мелких групп, но и в выделении из старого, давно сложившегося этноса небольших группировок, нередко перераставших в новые этносы»[173].
Как можно видеть, автор говорит здесь о процессе не этнообразования, а только социального расслоения, упадке одних родов и возвышении других в рамках одного этноса и в структуре одной социальной формации. Ссылаясь в монографии на работу 3.В. Анчабадзе о кипчаках Северного Кавказа, С. А. Плетнева могла бы вспомнить в связи с этим, что у половцев «каждая родовая единица совпадала с определенной военной единицей», во главе которых стояли главы родов[174], т. е. то самое, что было отмечено русскими летописцами, писавшими о «турпеях», «аепичах» и «Бастеевой чади». Одновременно следует отметить и слишком большую ее доверчивость к летописным текстам, воспринимаемым в качестве документов, а не историко-литературных произведений, что прямо относится к Ипатьевской летописи (походы русских князей «за Дон и за Яик», попытки половцев «попленить города» и пр.).
Такие примеры еще раз напоминают о необходимости точного употребления терминов науки, критического использования древних текстов и крайне осторожного отождествления их сведений с данными, полученными при изучении материальных источников, которые и должны быть положены в основу этнокультурных реконструкций. Всё остальное, прежде чем быть использовано, должно быть подвергнуто жесточайшей проверке, как это выяснилось на примере «коовуев» и остальной «чади», позволив вернуться к трем степным этносам, только и представленным в археологических памятниках южно-русских степей — печенегам, торкам и половцам.
Александр Пересвет и Сергий Радонежский[175]
1
В русской исторической традиции имена Сергия Радонежского и героя Куликовской битвы Александра Пересвета до сих пор прочно связаны друг с другом преданием о встрече князя Дмитрия Ивановича с настоятелем обители Святой Троицы. Последний благословил московского князя на битву с Мамаем и отправил с ним двух братьев-иноков, Пересвета и Ослебю, один из которых пал в поединке с «печенежином Челубеем». Эти сюжеты до сих пор вдохновляют художников, поэтов и писателей на создание произведений, многие из которых стали восприниматься как своего рода исторические свидетельства. Неслучайно накануне празднования 600-летия Куликовской битвы в научной статье, посвященной этому событию, один историк прямо писал, что «столкновению главных сил (ордынцев и москвичей. — А. Н.) предшествовало единоборство двух богатырей — Пересвета и Темир-мурзы (Челубея). Этот поединок имел целью воодушевить войска обеих сторон. Гибель богатырей в результате единовременного удара копьями произвела сильное впечатление на наблюдавших за традиционным поединком»[176], после чего пересказал сюжет известной картины В. М. Васнецова, используемой на уроках истории в школе.
Действительно, именно этот момент сражения, вычлененный из всего остального, стал в дальнейшем для большинства россиян и центральным событием битвы, и своего рода символом победы Руси над Золотой Ордой, торжеством «честнаго креста» над «неверными», так что образ чернеца в развевающейся схиме, несущегося с копьем на ордынского воина, вполне смог бы заменить на гербе Москвы столь сходного с ним «копейщика». Но, может быть, так это и было? Стоит вспомнить, что образ Георгия Победоносца, поражающего поверженного дракона (на ранних московских монетах изображен всадник не с копьем, а с саблей), получил своего рода канонизацию не ранее конца XV века, и в сознании народа неизменно ассоциировался с освобождением от татаро-монгольского ига.
Однако «стоп-кадр», созданный Васнецовым, у действительного исследователя той эпохи вызывает множество недоуменных вопросов. Например, о какой «традиции поединков» перед битвой[177] может идти речь, если в ордынских войсках они запрещались? Как мог принимать непосредственное участие в сражении монах, тем самым отринув данные им при постриге обеты? Почему о встрече Дмитрия Ивановича с Сергием не сообщает ни одна летопись, ни один документальный источник, а имя героя-чернеца отсутствует в синодиках Троице-Сергиевой лавры так же, как и его брата Ослеби? Не означает ли всё это, что участие знаменитого подвижника русской Церкви в событиях 1380 года, как и геройский подвиг Пересвета — не более чем благочестивая легенда, а сам Пересвет — одна из мифологем нашей истории?
Попробуем в этом разобраться. Однако, чтобы стало понятно дальнейшее, кратко перечислю события, которые предшествовали битве на Дону, отчасти спровоцировав ее и, безусловно, повлияв на ее исход.
В 1374 г. Москва отказала Орде в выплате традиционной дани, воспользовавшись смутами и заговорами вокруг ордынского престола и верно рассчитав, что там будет «не до нее»[178]. Затем, в 1377 г. в Литве умер великий князь Ольгерд[179]. Ему наследовал сын от второго брака, Ягайло, против которого вскоре подняли мятеж его старшие братья[180], в первую очередь, Андрей Ольгердович, князь полоцкий. В столкновении с Ягайло он был разбит и вместе с семьей, дружиной и боярами бежал во Псков[181], который его принял, поскольку присягал ему еще в 1341 г.[182] Оттуда Андрей Ольгердович направился в Москву, куда еще в 1371 г. была выдана его родная сестра, Елена Ольгердовна, за серпуховского и боровского князя Владимира Андреевича, двоюродного брата московского князя Дмитрия Ивановича[183], так что им обоим он приходился шурином, почему и был принят с почетом и радостью.
Для радости основания были не только родственные. Вокняжение Андрея Ольгердовича в Пскове позволило московскому князю зимой 1379/80 г. провести удачную военную операцию против Ягайло, отодвинув свои западные границы от Москвы. Как пишет летописец, «князь великии Дмитреи Ивановичь събра воя многы, и посла с ними брата своего князя Володимера Андреевичя да князя Андрея Олгердовичя Полотьского, да князя Дмитриа Михайловичя Волыньскаго <…> литовскыя городы и волости воевати <…> Они же сшедшеея взяша город Трубьческыи и Стародубъ»[184]. Это военное предприятие оказалось вполне «семейным делом», чем и объясняется его успех: в Трубчевске княжил Дмитрий Ольгердович, родной брат Андрея и шурин Владимира Андреевича. Естественно, он «не стал на бой, не поднял рукы противу великаго князя, и не бьяся, но выйде из града съ княгинею своею, и з детми и съ бояры», пришел в Москву, где был «с любовью» принят великим князем и получил «на прокормление» город Переславль Залесский «со всеми его пошлинами»[185].
За два года до «выхода» Дмитрия Ольгердовича произошло еще одно событие политического порядка, имевшее важные последствия: в августе 1378 г. московские войска, без предупреждения и договоренности вступив в пределы Рязанского княжества, наголову разбили на р. Воже двигавшихся к Москве ордынцев[186]. Впервые московские воеводы предприняли тактику контрудара, причем не на своей, а на чужой территории, показав, что они не намерены считаться с «рязанским суверенитетом». Ответный удар Мамая, прошедшего «огнем и мечом» Рязанскую землю[187], но не рискнувшего переступить московские рубежи, не повлиял на сложившуюся политическую ситуацию, хотя всем было ясно, что скорого столкновения между Москвой и Ордой не избежать.
Наконец, весной 1380 г. в Москве был подписан договор о мире и дружбе с Новгородом Великим[188]. Он развязывал руки московскому князю, который теперь мог не опасаться возможного сговора новгородцев за его спиной с Литвой или с Тверью. Договор оказался как нельзя более кстати: в августе того же 1380 г. рязанский князь Олег Иванович прислал в Москву сообщение, что Мамай стоит на реке Воронеже и собирает войска, договорившись о совместных действиях с Ягайло[189].
Последующие события историческая традиция рисует следующим образом[190].
Московское войско и дружины союзных князей должны были собраться в Коломне, у впадения в Оку Москва-реки, к 15 августа 1380 г. Три дня спустя, 18 августа, Дмитрий Иванович с князьями и боярами посетил обитель преподобного Сергия, получил благословение на битву, а в помощь — двух иноков, братьев Пересвета и Ослебю. 20 августа он уже был в Коломне, преодолев за сутки около 200 километров пути от Троицкой обители до берега Оки, потому что утром этого дня войска выступили из города. 24-го августа они перешли Оку возле Лопасни, а 5-го сентября вышли к верховьям Дона. Простояв на берегу Дона около двух суток, 7-го сентября войска форсировали реку и к вечеру того же дня вышли к речке Непрядве, за которой и было решено дать сражение Мамаю. На следующее утро, перед битвой, к Дмитрию пришел посланец троицкого настоятеля с благословенной просфорой и «грамоткой»[191], после чего была одержана полная победа над ордынцами[192]. Что касается Пересвета и его брата Ослеби, то, согласно распространенному преданию, оба они погибли в битве и были вместе похоронены в Москве «близ монастыря Симонова»[193].
Такова — традиционно — общая последовательность событий. Однако, насколько она верна и какое место занимают в ней интересующие нас Пересвет и Ослебя?
2
О событиях сентября 1380 г. мы знаем по четырем произведениям, весьма отличным по своему характеру и содержанию. Это так называемая Летописная повесть, «Житие Сергия Радонежского», «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». Начать их рассмотрение следует с Летописной повести, источника наиболее раннего, сохранившегося в составе летописных сводов в двух редакциях — Краткой и Пространной.
Большинство исследователей согласно, что Краткая редакция летописной повести возникла вскоре после самого события и до 1409 г., как определяют создание пергаменной Троицкой летописи, которая погибла в московском пожаре 1812 г. О том, что она содержала интересующий нас текст в его Краткой редакции, известно по выпискам из этой летописи Н. М. Карамзина[194]. Такие же списки Повести, повторяющие друг друга почти дословно, сохранились в составе Рогожского летописца (середина XV в.) и Симеоновской летописи (начало XVI в.)[195]. Вчитываясь в ее текст, можно заметить, что ее Краткая редакция представляет своего рода микро-свод из следующих сюжетов: 1) сообщения о битве, обрывающейся на указании ее точной даты («Се бысть побоище месяца септября в 8 день, на Рожество святыя Богородица, в субботу, до обеда»), 2) краткого перечня погибших князей и бояр, 3) сообщения о торжестве победителей («стояше на костех») и возвращении их с трофеями в Москву. К этому присоединены: 4) сообщение о рязанском князе Олеге, бежавшем с семьею от татар, и 5) о судьбе Мамая и отправке к Тохтамышу послов с дарами и поздравлениями.
При всей сюжетной стройности в рассказе о битве явственно проступает соединение двух текстов, повествующих об одном событии, отчего происходит как бы удвоение факта[196]. В других случаях можно заметить уточнения, например: «И переехав Оку, прииде ему пакы другыя вести. Поведаша ему Мамая за Доном собравшася, (в поле стояща и) ждуще к собе Ягайла на помощь, (рати литовскые). Князь же великий поиде за Дон. И бысть поле чисто и велико зело, и ту сретошася поганые половци, (татарские полци), (бе бо поле чисто на усть Непрядвы)» и т. п.
Взятые в скобки слова и фразы звучат вторично по отношению к основному тексту, достаточно емкому и лаконичному, восходящему, скорее всего, к первоначальной записи конца XIV или начала XV века. Нет здесь и названия поля «Куликово»: оно появилось в текстах не ранее середины XV в. или еще позднее. Особое значение приобретает тот факт, что даже в переработанном к середине XV в. варианте этого текста нет никакого намека на поединок Пересвета с ордынским богатырем. Согласно повести, битва началась сразу: «И ту исполчишася обоим и устремишася на бой, (и соступишася обои), и бысть (на долзе часе) брань крепка и сеча зла. (Чрес весь день сечахуся и падоша мертвых множество бесчислено от обоих). И поможе бог князю великому Дмитрию Ивановичю». О том, что фраза «чрес весь день…» вторична, говорит тот факт, что во всех остальных источниках, в том числе и в Пространном варианте Повести, продолжительность сражения указана предельно точно: «с шестого до девятого часа», т. е. по современному счислению времени — с 11-ти часов утра до 2-х часов пополудни.
В Краткой редакции имя Пересвета находится только в перечне погибших князей и бояр, причем в самом конце списка. Сейчас можно считать доказанным, что этот перечень воспроизводит официальный государственный синодик, причем в одном из его древнейших списков середины XV в. имя Пересвета отсутствует[197], как отсутствует оно и в синодике Троицкого монастыря, в который Пересвет должен был быть внесен, если он был троицким иноком.
В Пространной редакции летописной повести, сохранившейся в составе сводов конца XV — первой половины XVI в., содержится та же фактическая основа, расширенная за счет отступлений, картин, объяснений, превративших изначальный текст в литературное произведение с диалогами и психологическими характеристиками героев, на материале которого позднее будет создано «Сказание о Мамаевом побоище»[198]. Кроме точных календарных дат и часов суток, повесть дополнена сообщениями, что на помощь московскому князю пришли два сына Ольгерда, Андрей, князь полоцкий, но не с полочанами, а, как и следовало ожидать, с псковичами, и Дмитрий, князь брянский и трубчевский, «со всеми своими мужи». Здесь же читатель узнает, что московского князя и его войско на битву благословил не Сергий, о свидании с которым летописец не знает, а коломенский епископ Герасим. Последнее представляется тем более правдоподобным, что при заданных календарных сроках на поездку к Троице и возвращение к войску просто не оставалось времени. И как бы подтверждая такой вывод, Пространная повесть сообщает, что троицкий игумен послал московскому князю вдогонку «грамоту» с благословением, которую тот получил за два дня до Рождества Богородицы, то есть 5-го или 6-го сентября, когда войско стояло на берегу Дона в раздумье перед дальнейшим шагом. Письмо от Сергия, ободрившее Дмитрия, сыграло свою роль: в тот же день началась переправа через Дон, навстречу Мамаю [Ск., 19].
В Пространной редакции летописной повести тоже ничего не говорится о поединке Пересвета с ордынцем. Битва началась столкновением армий: «И бысть сеча зла и велика, и брань крепка <…> и много руси побьени быша от татар, и от руси татары, паде труп на трупе». Только в конце, в значительно расширенном перечне павших (но опять на последнем месте) мы находим имя Александра Пересвета [Ск., 22]. Однако расширение списка героев не должно вводить в заблуждение. Как выяснил Ю. К. Бегунов, увеличение количества имен произошло не за счет уточнения действительных потерь, а за счет людей, погибших или до, или же — много позже интересующей нас даты[199]. Однако именно в этом перечне к имени Пересвета дано примечание, которое трудно посчитать случайным или выдуманным, поскольку оно никак не связано ни с битвой, ни с действующими лицами: называя Александра Пересвета, автор заметил, что он — «бывый прежде болярин брянский».
Вторым по своей значимости источником, содержащим сведения о событиях 1380 г. и текстуально не зависящим от обеих редакций летописной повести, является «Житие преподобного Сергия Радонежского» в его древнейших вариантах, изданных еще Н. С. Тихонравовым[200].
Автором первой редакции «Жития…» традиционно полагают инока Троицкой обители Епифания (Премудрого), сподвижника Сергия. На протяжении многих лет он близко знал преподобного, а затем опрашивал современников, собирая сведения о детстве и юности своего наставника. Труд Епифания был закончен между 1418 и 1420 годами, то есть четверть века спустя после смерти самого Сергия[201], однако его текст известен лишь по отдельным фрагментам, с той или иной степенью достоверности вычленяемым из текста «Епифаниевских редакций», принадлежащих в большей своей части перу Пахомия Логофета (Серба), работавшего во второй четверти XV в.[202] Последнее обстоятельство позволяет рассматривать тексты суммарно, поскольку дело касается исключительно рассказа о свидании московского князя Дмитрия Ивановича с Преподобным.
В древнейших списках «Жития Сергия» Епфаниевско-Пахомиевской редакции середины или второй половины XV в. сообщается, что к Сергию «некогда» приехал «князь великий» и начал жаловаться на угрозу со стороны Мамая, собирающегося «разорить церкви». В последующей, более развернутой редакции (по Н. С. Тихонравову — 2-й Епифаниевской с изменениями Пахомия) речь идет уже о «князе великом Дмитрии Ивановиче», сообщившем Сергию, что «безбожные татары идут <…> на Русскую землю, хотя разорити святые церкви и погубити наше христианство». Игумен благословил князя выйти навстречу врагу, после чего Дмитрий обещал, если останется жив, построить монастырь. Вернувшись с победой, он заложил монастырь на р. Дубенке в память Успения пресвятой Богородицы. Вот как об этом повествуют жития.
‘‘Некогда же приде ‘‘По времени ж некоем прииде князь велики в монастыр к князь великый Дмитрей Ивано преподобному Сергиу, и вич къ преподобномоу Сергию в рече ему: отче, велия пе монастырь и рече старцю: веси чаль обдержит мя. Слы- ли, отче, велика меня скорбь об щах бо, яко Мамай держит и печаль, и всемоу хрис- въздвиже всю орду и идет тианьствоу скорбь. Слышим, что на Русскую землю, хотя Мамай, ординьскый князь, по- разорити церквы, их же движе всю ордоу безбожных та Христос кровию своею ис тар, идоут на мою отчиноу, на купи. Тем же, отче святый, Роусскоую землю, хотя разорити помоли Бога о том, как святыа церкви и погубити наше сия печаль обща всем хри- христианство. Тем же, отче свя стианом есть. Преподоб тый, помоли Бога о нашем хрис ный же отвеща: иди про- тианстве, да избавит нас Бог от тиву их, и Богу помагающе таковыа беды. Блаженный же ти победиши, и здравъ с отвещавъ, рече: господини царю вои своими възвратишася, нашь русскый, ты еси пастырь токмо не малодушествуй. великомоу стадоу всему христи- Князь же отвеща: аще убо анствоу. Подобает ти пещися о Бог поможет ми молитва своем стаде крепко, и должно ти ми твоими, то пришед по и душю свою положити о нем в ставлю церковь въ имя Христовъ образ, яко ж и Хрис- пречистыа владычица на тосъ о нас кровь свою излиа и ша Богородица честнаго душу свою положи. И поиди, господини еа успениа и монастыр царю нашь, противоу имъ съставлю общаго житиа. съ правдою и покорением, яко ж Слышанно ж бысть, как пошлина твоа дръжить покаря- Мамай идет с татары с ве тися ординьскому царю должно. ликою силою. Князь же, А чрес то надеемся на человеко събрав воя, изыде противу любие Божие и на пречистоую чх. И бысьть по пророчь- Богоматерь, поможет ти Богь ству святого Сергиа. И, победити их, и здравъ возврати- победив, татары прогна, и шися съ вои своими. Дръзаи, гос сам здравъ съ вои своими подини нашь, Богъ с тобою, и възвратися. И тако моливь прославит Господь имя твое в род святаго Сергиа обрести и род. Князь же великыи рече: место подобно, иде ж отче святыи, аще ми Бог помо церъков сътворити. И тако обретше место подобно, жет и възвращуся здравъ, поставлю церков во имя пречистые призва и князя великаго, и основаста церковь, иже и Богородица честнаго оуспениа, и монастырь съставим общаго жи вскоре сътворише церков тиа. И се князю глаголящу. Слы- красну въ имя пречистыа на Дубенке, и съставиша обще житие’’. шано бысть въскоре: се Мамай грядет съ татары съ силою многою. Князь же великыи събрався изыде въскоре противу их, и бысть сеча зело велика, и по пророчеству святаго побежени быша безбожные татарове, избиша их множство бесчислено. Самь же князь великыи здравъ возвратися съ своими вой, радуяся’’ и пр.[203]Вот и все. Ни о каких иноках, посланных с князем, ни одна из древних редакций жития Сергия, оставшихся от XV в., не упоминает.
Текст этот в высшей степени примечателен. Он свидетельствует, что до второй половины XV в., если не еще позже, никто из окружения Сергия в Троицкой обители не знал о посылке с Дмитрием иноков, в противном случае факт этот вряд ли мог быть обойден молчанием. С другой стороны, сбор Епифанием материалов о жизни Сергия и использование Пахомием Сербом исключительно только собранного Епифанием позволяет полагать, что до указанного времени в Троицкой обители не вели никакой летописи или хроникальных заметок, из которых позднейшие сочинители могли почерпнуть сведения о событиях 1380 г. Единственное, что осталось от того времени — известные записи на листах Троицкого стихираря XIV в., сделанные неким «Епифаном» (в котором традиция склонна видеть Епифания Премудрого), даты которых читались И. И. Срезневским и его последователями как 21 и 26 сентября 1380 года, однако их содержание не проясняет, а еще больше запутывает вопрос:
«М(е)с(я)иа септябр въ 21 д(е)нь в пят(ок) на памят(ь) о(агио)с аи(о)с(то)ла Кондрата по литурги почата быс(ть) пис(а)т(ь) татр[адь] 6. Во т(о)жь […] […] симоновскии приездиль, во т(о)ж д(е)нь келарь поехалъ на Резань, во т(о)ж [д(е)иь] чернпа уе[…] […]ьр д(е)нь Исакиi Андрониковъ приехалъ к намь, во т(о)ж д(е)нь весть прид(е), яко летва грядеть с агаряны […]»[204]
Так получается, что единственным фактом, отложившимся в памяти иноков Троицкой обители о взаимоотношениях преподобного Сергия с московским князем, остался его приезд перед сражением с татарами и последующее строительство монастыря на р. Дубенке. Но когда произошло это свидание?
В текстах жития об этом не сказано. По умолчанию считалось само собой разумеющимся, что обращение московского князя к троицкому игумену, с которым у него тогда были довольно сложные отношения из-за кандидатов на митрополичью кафедру, могло произойти только в самый критический момент, т. е. накануне битвы на Дону. Об этом — вроде бы — свидетельствовал и княжеский обет, реализованный постройкой монастыря на р. Дубенке. Однако именно наличие монастыря позволяет в таком приурочивании усомниться, поскольку, как показал В. А. Кучкин, монастырь основан не в память Рождества Богородицы, приходящегося на день победы на Дону, а в память Успения Богородицы, приходящегося на 15 августа. Более того, современные событию летописи закладку обетного монастыря на Дубенке и его храма отмечают в августе 1379 г., т. е. за год до Куликовской битвы. Всё это безусловно доказывает, что Дубенский монастырь явился памятником не Куликовской битвы, а предшествующей ей битвы на р. Воже, которая произошла 11 августа 1378 г., за три дня до праздника Успения Богородицы, с чем и был связан приезд Дмитрия к Сергию[205].
Визит этот был вызван крайней необходимостью. Впервые московский князь выступал против своего ордынского сюзерена, которому приносил некогда присягу на верность, и освободить от нее князя могла только Церковь, ибо он целовал Орде крест; впервые без предупреждения и договоренности он вторгался со своим войском на территорию дружественного Москве Рязанского княжества, что могло привести к долгому размирью и даже к выступлению рязанского князя против Москвы в союэе с ее многочисленными врагами… Другими словами, Дмитрий не мог предпринять эти шаги, не обратившись за советом и благословением к своему крестному отцу, каким являлся Сергий Радонежский, причем не один, а вместе со всей своей боярской «Думой».
В августе же 1380 г., после получения известия о движении Мамая к Москве, все эти вопросы уже были разрешены победой на Воже, и на поездку князя к Сергию не оставалось времени; следовало спешить навстречу врагу, чтобы перехватить его за пределами московских рубежей. В Троицу Дмитрий мог только послать с известием нарочного, не более. Именно поэтому рассказ о присылке Сергием благословляющей «грамоты» вдогонку князю, которую тот получил за два дня до битвы, при отсутствии предшествующего личного свидания, представляется если не реальным, то вполне вероятным фактом.
Следует ли из этого заключить, что Пересвет и Ослебя являются мифом? Не будем спешить с выводами, потому что уже четверть века спустя после работы Пахомия Серба появилось произведение, в котором впервые Пересвет и Ослебя выступают в качестве действующих лиц. Это — «Задонщина».
Посвященная событиям 1380 г., «Задонщина» состоит как бы из двух пластов, взаимно проникающих и обуславливающих друг друга: поэтических образов и переработанных текстуальных заимствований из «Слова о полку Игореве» и рассказа о событиях 1380 г., заключающего безусловные анахронизмы. И в том, и в другом она удивительно повторяет свой прототип, поскольку и «Слово о полку Игореве», рассказывающее о событиях 1185 года, облекает их в образы и тексты Бояна, поэта второй половины XI в.[206] Как автор «Слова…» начинает свой зачин с обращения к Бояну, так и безвестный автор «Задонщины» сохраняет эту традицию, называя Бояна «гораздым гудцом в Киеве»[207].
В «Задонщине», сохранившейся в шести списках, два из которых представлены отрывками, четко прослеживаются «сюжетные блоки», которые можно сопоставлять и сравнивать. Подобно Краткой летописной повести, «Задонщина» ничего не сообщает о каком-либо участии Сергия Радонежского в описываемых событиях, зато Пересвету и Ослебе посвящен отдельный «блок» с чрезвычайно интересной информацией. Вот как он выглядит в древнейшем списке, происходящем из Кирилло-Белозерского монастыря, датируемом 70–80 гг. XV века:
Хоробрый Пересвет доскакивает на своем вещем сивце, свистом поля перегороди, а ркучи таково слово: «Лучше бы есмя сами на свои мечи наверглися, нежели нам от поганых положенным пасти». И рече Ослебя брату своему Пересвету: «Уже, брате, вижю раны на сердци твоемь тяжки. Уже главе твоей пасти на сырую землю на белую ковылу моему чаду Иякову. Уже, брате, пастуси не кличють, ни трубы не трубять, только часто ворони грают, зогзици кокуют, на трупы падаючи» [Тексты, 5 50].
Совсем в ином оформлении предстает этот же сюжет в списке Ундольского XVII в.:
Пересвета чернеца бряньского боярина на суженое место привели. И рече Пересвет чернец великому князю Дмитрию Ивановичи: «Лутчи бы нам потятым быть, нежели полоненым от поганых татар». Тако бо Пересвет поскакивает на своем добром коне, а злаченым доспехом посвельчивает. А иные лежат посечены у Дуная великого на брезе. И в то время стару надобно помолодети, а удалым людям плечь своих попытать. И молвяше Ослябя чернец своему брату Пересвету старцу: «Брате Пересвете, вижу на теле твоем раны всликия, уже, брате, летети главе твоей на траву ковыль, а чаду твоему Якову лежати на зелене ковыле траве на поле Куликове на речке Напряде за веру крестьянскую и за землю за Рускую и за обиду великого князя Дмитрия Ивановича» [Тексты, 538].
Оставляя в стороне использование здесь фразеологии «Слова о полку Игореве», отметим другое: «Задонщина» не знает ни о каком поединке Пересвета с «печенежином» или «татарином», а в ее древнейшем списке, несущем на себе отпечаток сокращений монаха Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина, ни Пересвет, ни его брат Ослебя не имеют никаких признаков «иночества». Больше того, вместе с ними на поле боя оказывается еще и сын Ослеби, Яков, племянник Пересвета, который в поздней версии ошибочно назван сыном самого Пересвета. Все трое представлены здесь воинами, облаченными не в «манатьи» и «куколи», а в щеголеватый ратный доспех, которым Пересвет, не скрывая, гордится. Следы такого первоначально рыцарского образа сохранились и в позднем списке Ундольского, несущем уже отпечаток легенды о «чернечестве» братьев, но усваивающем — и это стоит особенно выделить — Пересвету вместе с рыцарским обликом чин «брянского боярина», заимствованный, по-видимому, из Пространной летописной повести.
Так получается, что в середине XV в., когда Пахомий Серб составлял окончательный вариант жития троицкого игумена, никто еще не подозревал последнего в подготовке победы на Куликовом поле, что представляется нам сейчас чуть ли не аксиомой, единственным основанием которой оказывается «Сказание о Мамаевом побоище», известное сейчас в полутораста списках, подразделяемых на восемь редакций, не считая внутриредакционных вариантов.
«Сказание о Мамаевом побоище» возникло не ранее конца XV в.[208] или, что представляется более вероятным, в первой трети XVI века. Его историческая основа достаточно прозрачна: автор «Сказания…» использовал в качестве сюжетной канвы Пространную летописную повесть, взяв из нее лишь то, что привлекло его внимание или отвечало стоящим перед ним задачам, и «Задонщину», которую в значительной степени переработал. Одновременно он использовал паремийные «Чтения о Борисе и Глебе», «Житие Александра Невского» и русские летописи, из которых заимствовал ряд сюжетов.
Обилие использованных автором историко-литературных источников для написания собственного сочинения, далеко не полностью выявленных исследователями «Сказания…», привело некоторых из них к убеждению, что в руках автора было еще какое-то произведение, написанное по свежим следам со слов участников битвы, которое и сохранило большое количество имен персонажей, нигде более в этой связи не упоминаемых. Так Р. Г. Скрынников полагал, что произведение это восходит к рассказам очевидцев битвы из кругов, близких боровскому и серпуховскому князю Владимиру Андреевичу и боярам Всеволожичам, тесно связанным с Троицким монастырем.
«Самое существенное значение для определения времени и места составления „Сказания“, — писал Р. Г. Скрынников, — имеет прямая ссылка автора на источники информации, которыми он пользовался. <…> Одна небольшая, нехарактерная деталь подкрепляет свидетельство книжника о его беседах с воином из удельного полка. В „Сказании“ обозначены имена одного-двух, очень редко трех воевод из состава „великих“ полков Дмитрия Донского, зато названы имена пяти воевод сравнительно небольшого полка Владимира Андреевича»[209].
Основанием для такого утверждения Р. Г. Скрынникова явилась также фраза «Се же слышахом от верного самовидца, иже бе от пълку Владимера Андреевича», находящаяся в одной из редакций «Сказания…». К сожалению, именно эта ссылка на свидетельство «очевидца» ничего не стоит, поскольку тот рассказывает не о битве, а лишь о «венцах мученических», опущенных из облаков руками ангелов над бьющимися русскими полками:
«Се же слышахом от верного самовидца, иже бе от плъку Владимера Андреевича, поведаа великому князю, глаголя: „В шестую годину сего дни видех над вами небо развръсто, из него же изыде облак, яко багрянаа заря над плтьком великого князя, дръжашеся низко. Тъй же облакъ исплъненъ рукъ человеческих, яже рукы дръжаще по велику плъку ово ироповедникы, ово пророчес-кы. Въ седмый же часъ дни облакъ тъй много венцевъ дръжаше и опустишася над плъкомъ, на головы християньскыя“ [Ск., 44]. Можно, конечно, предположить, что речь идет о появлении над полем сражения НЛО, если бы это не было прямым заимствованием из „Жития Александра Невского“: „Се же слышах от самовидца, иже рече ми, яко видех полкъ Божий на въздусе, пришедши на помощь Александрови“[210]. Справедливости ради следует заметить, что автор „Сказания…“ был не первым в использовании „самовидца“, поскольку данный сюжет его предшественник заимствовал из повести о походе Владимира Мономаха на половцев в 6614/1111 г. с описанием знаменитой „битвы на Сальнице“, где „падаху половци предъ полкомъ Володимеровымъ, невидимо бьеми ангеломъ, яко се видяху мнози человеци, и главы летяху невидимо стинаеми“ [Ип., 267–268].
Как я уже отметил, использованию „Сказания…“ в качестве исторического источника препятствует наличие в его тексте вопиющих анахронизмов. Во всех его редакциях союзником Мамая указан не Ягайло, а Ольгерд, хотя этот противник Москвы умер тремя годами ранее Куликовской битвы. В Киприановской и некоторых других редакциях „Сказания…“ Дмитрия Ивановича на брань с Мамаем благословляет митрополит Киприан [Ск., 52–56], находившийся тогда в Киеве, а вместо епископа Герасима войска в Коломне (по Основной редакции) напутствует епископ Геронтий [Ск., 34], занимавший коломенскую кафедру с 1453 по 1473 год, т. е. почти сто лет спустя после описываемых событий. Наконец, покидая Москву, Дмитрий Иванович совершает молебствие перед иконой Владимирской Богоматери, тогда как на самом деле эта икона перешла из Владимира на Клязьме в столицу только пятнадцать лет спустя после битвы.
Недостоверны или сомнительны оказываются и поименованные персонажи, количество которых в различных редакциях „Сказания…“ возрастает от столетия к столетию[211], причем иногда причины таких ошибок или фантазий удается найти. Вот один из подобных примеров.
В Распространенной и последующих редакциях „Сказание…“ включает в себя особую повесть о приходе на помощь московскому князю рати, собранной новгородскими посадниками по благословению новгородского же архиепископа Евфимия [Ск., 86–88]. В действительности новгородцы в 1380 г. на помощь Москве не приходили и не могли прийти. Что же касается „архиепископа Евфимия“, то с таким именем владык было двое: Евфимий Брадатый был избран на новгородскую кафедру в 1423 г. и умер 1 ноября 1429 г.; его сменил Евфимий Вяжицкий, умерший 10 марта 1458 г.[212] Как можно видеть, оба владыки жили много лет спустя после Куликовской битвы, когда новгородским архиепископом был Алексий. Источником такого анахронизма, скорее всего, стала Новгородская Первая летопись младшего извода и сходные с нею летописные своды, где перед повестью о побоище на Дону содержится сообщение о новгородском посольстве в Москву в начале 1380 г. [НПЛ,376]. С другой стороны, на возникновение данного пассажа в „Сказании…“, похоже, оказала влияние „Задонщина“, впервые поднявшая тему помощи московскому князю со стороны Новгородской республики против ордынцев[213].
Между тем, именно в „Сказании…“ сообщается, что, назначив день сбора войска в Коломне, Дмитрий Иванович с двоюродным братом и „со всеми князи“ отправился к Троице, где прослушал литургию, вкусил монастырской трапезы, получил благословение Сергия и испросил у него двух иноков, Пересвета и Ослебю, „которых ранее знал как опытных военачальников и богатырей“. Вызвав иноков, Преподобный „повелел им вместо золоченых шлемов возлагать на себя схиму с нашитым крестом“ [Ск., 56–57]. Это достаточно важная деталь, по-видимому, была предназначена для „исправления“ образа Пересвета в Задонщине, где он на поле „поскакивает, золоченым доспехом посверкивая“. Оттуда же в Киприановскую редакцию заимствовано указание, что иноки — „братья“, а Печатный вариант „Сказания…“ добавляет, что они еще и „брянские бояре“ [Ск., 109]. Всё это, как показал С. К. Шамбинаго в своем исследовании списков памятников Куликовского цикла, в том числе и „эпизод о посещении великим князем обители взят из Жития (Сергия. — А. Н.) по Никоновской редакции“[214].
Замена автором „Сказания…“ Ягайлы на Ольгерда позволила ему более драматично представить приход на помощь московскому князю Андрея и Дмитрия Ольгердовичей „с ратью литовскою“, готовых за правое дело пойти даже против родного отца, „возненавидевшего их мачехи их ради“ [Ск., 36]. Теперь нерешительность московского князя перед форсированием Дона снимает не письмо Сергия, как в Пространной летописной повести, а совет Ольгердовичей, напоминающих князю о его предках, Ярославе Мудром и Александре Невском, утверждавших свои победы переходом рек: первый — Днепра под Любечем для битвы со Святополком, второй — якобы переходом Невы [Ск., 37–38].
Соответственно, и посланец троицкого игумена теперь появляется в стане московских войск перед самым началом сражения с письмом („книгами“) и освященной просфорой („богородичным хлебом“) [Ск., 42], как последним напутствием на ратный подвиг, что становится своего рода увертюрой к последующему единоборству Пересвета, который видит выезжающего из рядов ордынцев „злого печенега“. Названный в тексте полным именем, Александр Пересвет оказывается здесь, как видно, под влиянием текста „Задонщины“, отцом Якова, которому передает благословение („Чаду моему Иакову — миръ и благословение“), после чего вступает в единоборство и погибает. Судьба Ослеби в „Сказании…“ остается неизвестной. Он — как бы случайная фигура, статист, оттеняющий подвиг своего брата и не имеющий собственной роли в происходящих событиях. Таким же мы видим его и в „Задонщине“, откуда, по-видимому, Ослебя и пришел в „Сказание…“. Но если об Ослебе никаких новых данных варианты редакций „Сказания…“ не содержат, то о Пересвете мы узнаем, что выехал он на поединок из полка Владимира Всеволодовича (Всеволожского), а в Распространенной редакции поименован не только „чернецом“, но еще и „любоченином“ [Ск., 98], что позволило некоторым исследоваелям считать его выходцем из города Любеча.
Впервые из „Сказания…“ мы узнаем и о его противнике, называемом то просто „печенежином“, то „Темир-мурзой“ [Ск., 64 (Киприановская редакция)], то „Таврулом“ [Ск., 406], то „Челубеем“ [Редакция „Синопсиса“ и лубочных изданий], что, конечно же, не способствует доверию к тексту, заставляя предполагать здесь контаминацию разных историко-литературных версий и просто редакторский произвол в изложении сюжета и обрамляющих его реалий. Об этом достаточно подробно писал Л. А. Дмитриев, пытаясь в то же время „подтянуть“ время создания древнейшей редакции „Сказания…“ к событиям 1380 г.[215]
Вот, собственно, почти весь комплекс сведений, непосредственно относящихся к герою Куликовской битвы, каким располагает историк. Остается выяснить, что из этого соответствует действительности, если она вообще доступна такой поверке.
3
Ситуация, с которой сталкивается исследователь событий 1380 г., действительно необычна. С одной стороны, он не может пожаловаться на скудость материала, скорее, на его изобилие; с другой стороны, материал этот оказывается противоречивым или заведомо ложным. Остается единственный путь; собирая по крохам, постараться восстановить биографии Пересвета и Ослеби, чтобы или признать их мифичность или объяснить сложившуюся ситуацию.
При всей скупости данных, содержащихся в рассмотренных выше источниках, можно заключить, что Александр Пересвет был человеком военным, „бывшим брянским боярином“, хотя в одной из редакций „Сказания…“ он назван „чернецом любочанином“ [Ск., 98]. Поскольку это никак не согласуется с его поведением на поле боя, как то изображено в „Задонщине“, приходится задаться вопросом: а под какими именами нам известны братья Александр Пересвет и Андрей Ослебя — под крестильными, мирскими, или под иноческими, принятыми при постриге.
Если в отношении Пересвета, названного „Александром“ уже в Краткой летописной повести[216] решить вопрос практически невозможно, то с его братом Ослебей дело обстоит иначе. Вопреки легенде, полагающей гибель обеих братьев в битве на Дону и повествующей об их совместном захоронении на территории Старого Симонова села в Москве (В. Л. Егоров, исследовавший приписываемый им склеп в Симоновом монастыре, показал безусловную невозможность его принадлежности братьям[217])» Ослебя не погиб в сражении. Более того, как выяснил в свое время С. К. Шамбинаго, разбирая акты местнических споров между монахом Геннадием (Бутурлиным) и М. Б. Плещеевым, в 1390–1393 гг., т. е. уже после смерти преподобного Сергия, Андрей Ослебя был жив и служил боярином при дворе митрополита Киприана[218], к тому времени переселившегося в Москву. Другими словами, спустя десятилетие после Куликовской битвы Ослебя всё еще оставался мирским человеком. Иноческий чин он принял только по прошествии 5–7 лет. Об этом изменении в его жизни свидетельствует статья 1398 г. Московского летописного свода конца XV века, где сказано, что великий князь Василий Дмитриевич послал в Царьград, осаждавшийся перед этим турками, «много серебра в милостыню (патриарху. — А. Н.) с черньцомъ Родионом Ослебятемъ, иже пре-же былъ боярин Любутьскы»[219]. Эти два документа практически снимают все неясности в вопросе происхождения как Андрея Ослеби, так и его брата Александра Пересвета, объясняя истоки их «чернечества» и происхождение эпитета «любочанин», который указывал не на черниговский Любеч, а на брянский Любутск. Последнее особенно важно.
В XIV в. город Любутск входил в состав брянских земель Великого княжества Литовского, а более точно — в состав владений князя Дмитрия Ольгердовича. Переход этого князя на службу к Москве определил и судьбу обоих братьев, последовавших за своим сюзереном. Этим и только этим обстоятельством определялось их появление в составе княжеской дружины, возглавлявшей Передовой полк на Куликовом поле и принявшей на себя первый удар ордынцев[220]. В таком случае понятно и присутствие на Куликовом поле сына Ослеби, Якова Ослебетина, павшего, как можно полагать, вместе со своим дядей, Александром Пересветом, и отсутствие имени Пересвета в официальном московском синодике XV в., поскольку для Москвы он был чужим не только по происхождению, но и, так сказать, по юрисдикции. Отсюда может идти и легенда о захоронении двух героев Куликовской битвы, спутавшая Якова Ослебетина с его отцом, только не на территории нынешнего Симонова монастыря, а, как указывал Н. М. Карамзин, на территории села Старого Симонова, в склепе, который мог служить временной усыпальницей для Пересвета и его племянника в ожидании перенесения их праха на родовое кладбище в Любутске.
Однако такое отождествление «Андрея Ослеби» и «Иродиона Ослебетина» в свое время вызвало протест В. А. Кучкина предположившего, что в данном случае речь идет о разных людях, поскольку имя «Андрей» для Ослеби было, скорее всего, не мирским, а монашеским[221]. В качестве доказательства историк привел заключительную часть подтвердительной грамоты 1483 г. о совершении обмена между великим князем Василием Дмитриевичем и митрополитом Киприаном г. Алексина на слободку Караш, что имело место между 6.3.1390 г. и 13.2.1392 г.[222], где в числе митрополичьих бояр, совершавших обмен, указан «чернец Андрей Ослебятя»[223].
Далее, развивая свою аргументацию и обнаруживая среди митрополичьих бояр, кроме Андрея и Родиона, еще и «Акинфа Ослебятева», упоминаемого летописью уже под 1425 г.[224] (судя по всему, этот же Акинф находился в окружении митрополита в 1391 г., поскольку отмечен в качестве одного из главных действующих лиц в Уставной грамоте Владимирскому Царевоконстантиновскому монастырю[225]), В. А. Кучкин предположил, что «вообще род Ослябей/Ослебятевых служил русским митрополитам»[226], упустив из виду, что во всех источниках, упоминающих о прошлом Андрея Ослеби, он указан в качестве «боярина любутского», т. е. выходца из Литвы. Более того. Ссылка историка на один из пунктов Уставной договорной грамоты Василия Дмитриевича и митрополита Киприана, датируемой 28.6.1392 г. или 28.6.1404 г., согласно которому в случае войны «митрополичимъ бояром и слугамъ» надлежит выступать «под митрополичимъ воеводою, а под стягом моимъ»[227] (т. е. княжеским), якобы объясняющая появление Ослеби на Куликовом поле в составе «митрополичьей дружины»[228] (которой нет в росписи полков), не может в данном случае служить доказательством правильности определения в меновом акте Андрея Ослебяти «чернецом». И не потому только, что обязанности бояр митрополичьих участвовать в военных действиях исключают присутствие среди них «чернецов», но потому, что «чин чернеческий» несовместен как с «саном боярским», так и вообще с каким-либо саном. Что же до грамоты 1483 г., то присутствие в ней определения Андрея Ослеби «чернецом» поддается объяснению.
Как я сказал, Ослебю не знают ни Краткая, ни Пространная летописная повести. Впервые, но без имени, он появляется в Кирилло-Белозерском списке «Задонщины», который датируется по филиграням на бумаге от 1470 до 1480 г.[229], участвуя в сражении вместе со своим сыном Яковом. Указание Пересвета и Ослеби без крестильных имен сохраняется во всех без исключения списках «Задонщины», в то время как в летописной повести Александр Пересвет представлен с полным именем. Собственное имя Ослеби — «Андрей» — впервые возникает только в «Сказании о Мамаевом побоище», появившемся не ранее первой четверти XVI в., с чем согласен и сам историк[230], т. е. оно заимствовано из летописи или, что даже вероятнее, из цитированной уже «меновой». Как известно, грамота 1.3.1483 г., заменившая подлинник конца XIV в., в свою очередь дошла до нас не в подлиннике, а в составе копийной книги актов на земельные владения московского Митрополичьего Дома, составленной не ранее второй четверти XVI в.[231] Любопытно, что в середине прошлого века была известна другая ее копия, тоже восходящая к концу XV в., опубликованная М. А. Коркуновым, где точно так же указывалось, что митрополит Киприан «менил <…> своими бояры: чернпомъ Андреемъ Ослебятемъ, Дмитриемъ Офинеевичемъ» и т. д.[232]
Поскольку оба эти списка являются копиями не первоначальной, а всего только подтвердительной грамоты, выданной вместо подлинника в последней четверти XV в., то определение «чернец», стоящее перед именем Андрея Ослебяти, легко может быть объяснено пометой при его имени, сделанной на подлиннике конца XIV в. после пострига Ослеби, как выбывшего из числа митрополичьих бояр, и механически перенесенной в новый текст. Все это убеждает, что Андрей Ослебя, будучи боярином любутским и выехав из Литвы с Дмитрием Ольгердовичем, после битвы на Дону остался в Москве и был определен в бояре к митрополиту Киприану, после чего, по-видимому, овдовев, он принял постриг под именем Иродиона, в то время как в митрополичьих боярах остался его второй сын, Акинф Ослебятев. Другими словами, при наличии монашеского имени «Иродион» и примечания, что «прежде он был боярин любутский», мы должны признать имя «Андрей» таким же мирским именем Ослеби, как «Александр» Пересвета.
Подтверждением литовского происхождения Пересвета и Ослеби могут служить разыскания А. А. Зимина о родословии «выезжего из Литвы» известного Ивана Пересветова, который в челобитной Ивану IV именовал Александра Пересвета и Андрея Ослебю «своими пращурами» («поминая своих пращур и прадед, как служили верно государем <…> Пересвет и Ослебя в чернцех и в схиме со благословением Сергия чюдотворца на Донском побоищи при великом князе Дмитрие Ивановиче за веру християнскую и за святыя церкви <…> пострадали и главы свои положили»[233]), и тот факт, что имена братьев появляются в произведениях куликовского цикла — «Задонщине» и «Сказании о Мамаевом побоище» — лишь после того, когда к Москве были присоединены брянские земли, на которых еще в начале XVII в. существовали владения некоего Захара Пересветова[234].
Восстановив, насколько это возможно, происхождение Александра Пересвета, убеждающее в легендарности причисления его и брата Ослеби к троицким инокам, можно попытаться выяснить каким образом брянский боярин оказался связан преданием с именем преподобного Сергия и его обителью в повествовании о Куликовской битве. Как мне представляется, загадка эта напрямую связана со свидетельством о «заочном благословении» московского князя троицким игуменом.
Историки в большинстве своем склонялись к тому, чтобы рассматривать известие о приходе посланца Сергия к Дмитрию на Дон в качестве позднейшей выдумки, забывая при этом, что приход посланца отмечен еще в Пространной редакции летописной повести, возникшей намного раньше «Сказания…», откуда он и был заимствован сочинителем, не решившимся полностью порвать с уже существующей традицией. Так возникло «двойное» благословение — личное и заочное. Теперь, когда можно с определенностью утверждать, что личной встречи князя с Преподобным перед битвой не было, версия о заочном благословении оказывается единственно возможной.
Но кто был посланцем? Кому мог вручить троицкий игумен свое письмо и просфору для великого князя? Кто мог не только разыскать, но и успеть догнать войско, спешно идущее на битву? До последнего времени никто эти вопросы не ставил и не пытался их разрешить. А именно в них, как мне представляется, и заключена разгадка Пересвета, потому что принести послание Сергия мог только он. Тем более, что по одной, далеко от Троицкого монастыря сохранившейся легенде, посыльным прямо назван «инок Александр Пересвет». Насколько мне известно, факт этот никем из исследователей до меня не учитывался, хотя он опирается не только на предание, но и на комплекс историко-архитектурных памятников, ныне совершенно забытых.
Начать следует с того, что Куликово поле, имя которого возникает в летописных текстах не ранее второй половины XV в.[235], оказывается в местности, крайне неудобной для продвижения войск, причем в стороне от обычного пути ордынских набегов, проходивших восточнее, по водоразделу между рекой Воронеж и Доном. Об этом свидетельствует интересный документ второй половины XVII в., хранившийся в Московском архиве Министерства юстиции, где, в частности, говорится о приходе ордынских войск на Москву двумя «сакмами»:
«по первой, из-за Волги, на Царицынский и на Самарский перевозы, и через реку Дон на Казанский брод и на урочище Казар, где ныне город Воронеж, на Рязанския и на Коломенския и на иныя места; по второй перешод реку Волгу, а Дону реки не дошод, промеж рек Хопра и Суры, чрез реки Лесной и Польный Воронежи, на Ряские и на Рязанския и на Щацкия места»[236].
В то же время в 40 километрах на восток от Куликова поля неподалеку от г. Скопина Рязанской области, на левом берегу реки Верды, на горе близ деревни Дмитриевки вплоть до 20-х гг. нашего века существовал мужской Дмитриевский Ряжский монастырь. В качестве местночтимой реликвии в монастыре сохранялся костыль из яблоневого дерева, с которым, согласно преданию, на это место пришел к Дмитрию Ивановичу от Сергия Радонежского Александр Пересвет с «грамоткой» и просфорой. Отсюда вместе с войском Пересвет двинулся к Дону, оставив ненужный более костыль у некоего отшельника, жившего на этой горе. Позднее, в ознаменование своей победы и в память о полученном благословении от Преподобного, на месте встречи с его посланцем московский князь основал монастырь с двумя церквами — во имя великомученика Дмитрия Солунского и преподобного Сергия Радонежского[237].
Подобная версия прихода Александра Пересвета к Дмитрию Донскому накануне сражения никем из исследователей не рассматривалась и не учитывалась при реконструкции событий. Между тем, она заслуживает внимания уже потому, что не связана ни с одной из существующих историко-литературных версий и подтверждается реликвией, сохранившейся до наших дней в Особой кладовой Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника за 3888. Конечно, реликвия не доказательство, тем более, что это не дорожный посох (который не был нужен Пересвету), а именно костыль, опора для раненого или искалеченного человека, вряд ли принадлежавший историческому Пересвету, если только не предположить, что в битве герой был не убит, а лишь смертельно ранен и какое-то время пользовался этой палкой[238]. Но последнее относится уже к области домыслов, тогда как единственное рациональное зерно легенды — встреча московского князя и Пересвета на берегах речки Верды — подтверждается достаточно убедительными аргументами.
Действительно, костыль — не дорожный посох. Пересвет — не инок, однако основание Дмитриевского монастыря московским князем на территории Рязанского княжества, притом с храмами, исключающими какое-либо иное объяснение, кроме связанного с битвой на Дону (в память св. Сергия и св. Димитрия) — аргумент, исключающий иное толкование. Выбор данного места заставляет предполагать, что с ним действительно связано какое-то важное событие кампании 1380 г., к которому причастен Сергий. Из всего, что нам известно, единственной причиной могло быть получение от него письма, что совпало с еще одним немаловажным событием похода: обнаружением неприятеля.
Уже в Пространной летописной повести отмечена остановка московского войска на берегу Дона, без уточнения, впрочем, где и почему это произошло. В «Сказании…» эта остановка приурочена к месту, «нарицаемом Березуй, яко за двадесять и три поприща до Дону» (т. е. 25–30 км), причем именно здесь войско «наехали» (т. е. догнали) братья Ольгердовичи [Ск., 37], с которыми должны были прибыть Пересвет и Ослебя. Принятый в современной историографии маршрут движения московского войска из Коломны к устью Лопасни для переправы через Оку, а затем прямо на юг, к верховьям Дона и к устью Непрядвы[239], исключает возможность нахождения ставки московского князя в районе нынешнего г. Скопина. Однако этот маршрут, зафиксированный «Ска. занием…», выдает свое позднее происхождение, когда московскому войску приходилось выступать против набегов крымских татар, появлявшихся возле Каширы и западнее, у Серпухова, поскольку левый фланг Московских земель в это время был надежно прикрыт линиями засек и землями бывшего Рязанского княжества. Во второй половине XIV в. ситуация была совсем иной, и движение московского войска через Лопасню оказывалось невозможным по трем причинам.
Во-первых, маршрут обычных набегов ордынцев, как я уже сказал, проходил восточнее — по высокому левобережью Дона на Переяславль Рязанский и на Коломну. Именно так в 1378 году шел Бегич, разбитый затем наголову московскими войсками, которые переправлялись через Оку у Коломны и далее шли прямо на Вожу, встречь традиционному пути ордынских набегов. Во-вторых, уходя из Коломны со всем войском на устье Лопасни, а затем двигаясь после переправы через Оку прямо на юг, к верховьям Дона и Непрядве, Дмитрий открывал Мамаю беспрепятственный традиционный путь на Рязань и Коломну, т. е. оставлял открытыми «ворота Москвы», а в это невозможно поверить. В третьих, именно сюда, в район нынешнего Скопина должен был направиться московский князь, получивший первоначальное известие Софония Алтыкулачевича, мнимого автора «Задонщины», что Мамай «сталь на реце на Воронеже»[240]. Наконец, именно сюда его должны были вывести донесения разведки, что ордынцы находятся в верховьях р. Цны [Ск., 37 и 401][241].
Задачей московских воевод было как можно раньше встать на пути ордынцев, преградив им дорогу на Рязань и Москву на самых далеких рубежах. Вот почему можно утверждать, что двухдневная задержка была вызвана растерянностью москвичей, когда, выйдя южнее застав между Чюром и Михайловым, они не обнаружили Мамая. Волнение оправдывалось тем, что, оторвавшись от русской разведки и оказавшись в тылу московских войск, Мамай мог беспрепятственно направиться к беззащитной Москве. И только к началу третьего дня местоположение Мамая, двигавшегося на соединение с силами Ягайло, было обнаружено за Доном, на его правом берегу. Именно поэтому потребовалось срочно форсировать Дон, чтобы отсечь Мамая от спешившего к нему великого князя литовского.
Похоже, в этот момент в ставке московского князя и появился посланец троицкого игумена. Он знал, где следует искать Дмитрия; знал, что именно здесь проходит «ордынская сакма», что здесь удобно следить за приближающимся противником и есть подходящее место для битвы[242]. Более того, можно думать, что этот пункт был изначально назначен для сбора запаздывающих подкреплений, и промедли Дмитрий еще немного — Мамай сам бы вышел сюда с правобережья Дона, но уже с войском Ягайло. Одновременность двух радостных известий — письма Сергия и возвращения разведки — могла вызвать благодарственный молебен и заронить мысль об основании монастыря в случае победы, как то уже становилось традицией.
Если принять версию о ставке московского князя на месте будущего Дмитриевского монастыря 5 сентября 1380 г. (за два дня до праздника Рождества Богородицы), то последующее время оказывается как раз достаточным для перехода к Дону, переправы через него и выхода к Непрядве. Здесь время и расстояние на местности совпадают с теми, что указаны в Пространной летописной повести, хотя вопрос о действительном месте сражения остается открытым. Другое дело — мог ли быть Пересвет посланцем Сергия, если, как мы с достоверностью установили, он не был иноком Троицкого монастыря?
Полагаю, что мог. Более того, мне представляется, что именно у Пересвета, более чем у кого-либо другого, была возможность принять и выполнить подобное поручение.
Как известно, по приезде в Москву с семьей и дружиной князь Дмитрий Ольгердович получил в кормление город Переславль Залесский. Это означало, что он имел там свой двор, получал ранее поступавшие в казну городские платежи, а вместе с тем отвечал за выполнение горожанами государственных повинностей, в том числе за экипировку и своевременное выступление городского ополчения. Согласно «Сказанию…», переславский полк на Куликовом поле возглавлял воевода Андрей Серкизович, погибший в битве, чье имя с самого начала фигурирует в синодике [Ск., 15, 22, 34, 58, 68 и др.]. Но кто передал весть о походе горожанам? Дмитрий Ольгердович со своей личной дружиной находился при московском князе, и на поездку в Переславль Залесский у него не оставалось времени. Выполнить эту миссию должен был кто-то из его доверенных людей, а для появления в Переславле Пересвета было достаточно причин: он мог сопровождать туда семью своего князя, поехать для устройства городских дел, за переславским полком и так далее. Наконец, при получении известия о сборе войск Пересвет просто мог находиться в Переславле, откуда поспешил с городским ополчением на Дон. Не будем гадать, какая из этих причин сыграла свою роль. Важно установить, что именно в это время брянский боярин Александр Пересвет с наибольшей вероятностью мог ехать из Переславля, как сказали бы теперь, «в действующую армию». Путь его проходил мимо обители преподобного Сергия[243], где он должен был заночевать и где неминуемо должен был встретиться с настоятелем. Последний же вряд ли упустил возможность послать своему «крестнику», князю московскому, благословляющее письмо и освященную просфору к грядущему празднику Рождества Богородицы.
Я не настаиваю на том, что всё именно так происходило, тем более, что известные приписки от 21 и 26 сентября 1380 г. на л. 48 известного пергаменного Стихираря Троице-Сергиевой лавры вроде бы свидетельствуют, что весть об угрозе нашествия «литвы с агарянами» достигла монастыря только в последний из указанных здесь дней[244]. Однако это единственная возможность объяснить тот факт, что Пересвет оказался связан исторической традицией с преподобным Сергием, а ратный подвиг брянского боярина приобрел поистине эпические размеры. В этом случае становятся понятны колебания авторов и редакторов повествований о Куликовской битве между «иноком», «чернецом» и «боярином», поскольку — следуя логике — кого, как не инока своей обители, Сергий мог послать к великому князю? И кто, как не инок, мог совершить действительно эпический подвиг освобождения Русской земли, причем не от простого ордынца, а вообще от «басурманина»?!
Здесь мы подходим крещению последней загадки Пересвета — к его единоборству, о котором нам известно только по «Сказанию о Мамаевом побоище».
4
Картина Куликовской битвы и предшествующих ей событий, развернутая в различных версиях «Сказания о Мамаевом побоище», оказалась столь насыщенной фактами (пусть вымышленными) и именами (пусть и не историческими), что поединок Пересвета с ордынцем как-то не стал темой специального рассмотрения исследователей. Между тем, сам факт устойчивого наименования разными редакциями и вариантами «Сказания…» (за немногими исключениями) противника Пересвета «печенегом» требует рассмотрения и объяснения уже потому, что в реальном ордынском войске никаких печенегов не было и быть не могло.
Исчерпывающие сведения о реальном составе ордынского войска дает Краткая летописная повесть, называя два основных составлявших его этнических массива — татары и половцы, к которым Мамай присоединил наемников из «фрязей, черкасов и ясов» [Ск., 14]. Памятью об этой исторической реальности конца XIV в. является упоминание в некоторых списках «Сказания…» «толмачей, умеющих языку половецкому»[245]. Пространная повесть прибавляет к перечню «бессерменов, арменов и буртасов»[246], именуя ордынцев то «половцами», то «татарами», а иногда и теми, и другими, но «печенегов» летописи не знают так же, как не знают поединка Пересвета.
И тот, и другой сюжеты принадлежат исключительно «Сказанию…», однако по-разному проявляется в разных редакциях. Так, например, в Киприановской редакции нет ни «печенега», ни «половцев», войско Мамая именуется исключительно «татарским», Пересвет сражается с «татарским богатырем», названным «Темир-мурзой», в других списках — «Таврулом» [Ск., 64 и 406]. В Распространенной редакции, Основной, Летописной и др. против Пересвета выступает «печенег, подобный древнему Голиаду», противниками московской рати являются «татары», «половцы», «агаряны», и только в Забелинском списке, непосредственно за поединком Пересвета, противниками московского войска однажды названы «печенези»[247], что следует считать безусловной опиской.
Последнее обстоятельство, привлекая внимание филологов и историков литературы, давало повод относить все упоминания половцев и печенегов за счет «исторической традиции в соэнании русского народа», не разбиравшегося якобы в степняках, рядом с которыми он жил, или даже на счет «нарочитой архаизации», вызванной использованием текстов «Задонщины» и «Слова о полку Игореве». Однако ни «Слово…», ни «Задонщина» никаких «печенегов» не знают. Что касается «половцев» и всего с ними связанного, то здесь проявлялось нечто иное.
Как известно, основным населением Золотой Орды и главной составляющей силой ее войска в XIV в. были не монголы, а болгары (известные позднее в качестве «казанских татар») и половцы. Те самые, что населяли южнорусские степи до прихода монгольских завоевателей.
Об этом часто забывают, полагая, что половцы исчезли из степей, изгнанные и уничтоженные монголами. На самом деле они не только остались, но и очень скоро ассимилировали остатки своих завоевателей, которые почему-либо не ушли в монгольские степи, как об этом писал Ибн Фадлаллах Эломари, и уже к концу XIII в. официальным языком Золотой Орды стал половецкий (тюркский) язык: «В древности это государство было страною кипчаков, но когда им завладели татары, то кипчаки сделались их подданными. Потом они (татары) смешались и породнились с ними (кипчаками), и земля одержала верх над природным и расовым качеством их (татар), и все они стали точно кипчаки, как будто они одного (с ними) рода, оттого, что монголы (и татары) поселились в земле кипчаков, вступали в брак с ними и оставались жить в земле их»[248]. Как сейчас выясняется, большая масса половцев до прихода монголов была христианской (несторианской)[249], и она осталась такой даже после того, как государственной религией ордынцев стал ислам. Если имя несет в себе определенную вероисповедную информацию, то Мамай был половцем и происходил из христианской семьи: его правильное имя — Маммий — легко найти в православных святцах. Вот почему не анахронизмом, а точным отражением исторической действительности следует считать сообщение «Сказания…», что московский князь, отправляя разведчиков, посылает с ними толмачей, знающих «язык половецкий».
Противником Пересвета должен был быть половец. Откуда же появился печенег? Хотя потомки печенегов, как полагают этнографы, до сих пор обитают в низовьях Дуная под именем гагаузов, живая память о печенегах («пацинаках» византийских авторов) исчезла уже к концу XII века, сохранившись только в русских летописях, которые, как и жития русских святых, использовал автор «Сказания…». Это позволило ему создать с точки зрения современного историка фантастическую, а для тогдашнего читателя вполне убедительную картину о прихождении на помощь Дмитрию новгородского ополчения, по-своему представить действия сыновей Ольгерда, ввести в текст несуществующую переписку между Олегом, Мамаем и Ольгердом, дать развернутую картину свидания Дмитрия с преподобным Сергием и даже показать неоднократные консультации московского князя с отсутствовавшим в Москве митрополитом Киприаном.
Особенно внимательно автор «Сказания…» использовал жития Александра Невского: подобно тому, как Пелгусий, старейшина ижорцев, несших стражу на невских берегах, видел святых Бориса и Глеба, спешащих «с небесною дружиною» на помощь «сроднику нашему князю Александру»[250] (Невскому. — А. Л.), так и в «Сказании…» стоящий в дозоре «некий разбойник Фома Кацибей» («Хеиыбеев», «Хаберцыев», «Халцыбеев» различных списков) удостоился видеть, как Борис и Глеб еще перед битвой посекли «полки, идущие с востока» на Русь [Ск., 40–41, 62,95–96,118–119].
Судя по всему, автор «Сказания о Мамаевом побоище» гораздо шире использовал в своей работе тексты «Повести временных лет», «Задонщины» и «Жития Александра Невского», чем это сейчас представляется. Не случайно к историческим параллелям конца Х — начала XI веков и к опыту Александра Невского обращаются в «Сказании…» Ольгердовичи, уговаривая Дмитрия перейти Дон; к памяти славных деяний Владимира Святославича, крестившего Русь, обращается в своих речах к московскому князю его двоюродный брат Владимир Андреевич. На память приходит и многое другое: гадание Дмитрия Волынца перед битвой заставляет вспомнить гадание перед битвой Боняка в 1097 г. в новелле Ипатьевской летописи [Ип., 245], а помощь небесного воинства на Дону приводит на память обстоятельства победы Владимира Мономаха над половцами на Сальнице 27 марта 1111 г. [Ип., 267–268]. Стоит отметить, что автор архетипа «Сказания…» был настолько увлечен историческими реминисценциями, что заставил Дмитрия Ивановича выступить против Мамая «совокупи всю русь и словены» («Князъ же Олгордь Литовьскый <…> прииде кь граду Одоеву, и слышав, яко князь великий съвокупи многое множество въинства, всю русь и словены, и пошолъ к Дону противу царя Мамаа» [Ск., 35]), — фраза, которая в последующих редакциях (Киприановской, Распространенной и пр.) неизменно оказывается уже опущенной.
Как можно видеть из этих примеров, автор «Сказания…» использовал в своей работе именно тот хронологический пласт русских летописных сводов, где содержатся упоминания о единоборствах: Мстислава с касожским князем Редедею (поименованным, однако, не «касогом», а «князем») [Ип., 134 (1022 г.)] и безымянного юноши-кожемяки с печенегом [Ип., 106–108 (992 г.)]. Последний выходит из полков печенежских «превелик зело и страшен». Именно так рисует противника Пересвета и «Сказание…»: «выеде злой печенег… подобен бо древнему Голиаду: пяти сажен высота его, а трех сажен ширина его». Когда юноша-кожемяка в новелле под 6501/993 г. «удави печенега в руку до смерти», то «вьскликоша русь», бросившись на врагов. То же самое происходит и при поединке Пересвета с «печенегом» на поле Куликовом.
Параллели, сходные имена и сравнения приоткрывают нам ассоциации, о которых средневековый автор заботился больше, чем об исторической достоверности. Поэтому, если бы мы не были теперь уверены в существовании реального Александра Пересвета, то были бы в праве предположить, что его прозвище «Пересвет» обязано «Повести временных лет», возникнув «по сосмыслию и созвучию» с именем города, заложенного Владимиром якобы в память победы юноши («Переяславль»), поскольку тот «переял славу» печенежского богатыря. С другой стороны, христианское имя Пересвета — «Александр» — наводило читателя на мысль, что в облике брянского боярина, а главное — инока, посланного Сергием Радонежским, из рядов войска московского князя выехал его небесный защитник и «сродник» — князь Александр Ярославич, точно так же открывший Невское сражение со шведами на коне и с копьем, ранив ярла Биргера[251]. Поскольку же сомнений в историчности Александра Пересвета теперь нет, все эти явные и напрашивающиеся реминисценции заставляют предположить обратный путь авторской мысли — от имени Пересвета к поединку и к печенегу.
Однако насколько реален поединок?
Похоже, этот сюжет «Сказания…» никто из его исследователей не подвергал сомнению. Л. Г. Бескровный, В. Т. Пашуто и другие называли его «традиционным», однако на протяжении всей военной истории России летописи не знают ни одного случая поединка перед битвой, кроме двух легендарных, упомянутых «Повестью временных лет» — кожемяки с печенегом и Мстислава с Редедей. Однако тот и другой — всего только факты литературы, а не истории. С таким же успехом эти историки могли бы сослаться на поединки былинных богатырей или на «поединщиков», предусмотренных Русской Правдой, поскольку поединки на Руси существовали исключительно в сфере судопроизводства («поле»).
В самом деле, только кабинетный, далекий от реальности исследователь может предположить, что войско, подогреваемое еще с вечера к предстоящему сражению, настроившееся на сокрушительную атаку, чтобы вырвать желанную победу, разгоняющееся, чтобы как можно сильнее обрушиться на стремящегося к нему противника, может вдруг остановиться в двух десятках шагов от врага и спокойно ожидать сначала вызова поединщиков, затем их приготовления к бою и, наконец, исхода самой схватки. Каждый, кто попытается представить себе атаку, где всё решается единым натиском и порывом, поймет, как трудно, а порою невозможно снова поднять и бросить в схватку ряды остановившихся бойцов.
Но дело даже не в этом. Как согласно показывают авторы восточных хроник и европейские путешественники, оставившие записки о монголах и ордынцах, не только поединки, но и какое бы то ни было индивидуальное проявление в бою у тех и других было категорически запрещено. На войско противника обрушивался стремительный удар конной лавы, предваряемый дождем стрел, а если натиск был остановлен, лава откатывалась, перестраивалась и повторяла атаку. Особенно строго ордынские военачальники следили, чтобы никто не разрывал строя и не вырывался из него. Виновных, пусть даже показавших чудеса храбрости, ожидала смертная казнь. Дисциплина, превращавшая людей в «колесики и винтики» единого механизма, как будут говорить позднее, была куда важнее для аппарата власти, чем случайный успех.
К слову сказать, русские войска терпели поражения от монголов, а затем от ордынцев, до тех пор, пока вели бой обособленными княжескими дружинами, «стягами», которые уничтожались нападавшими поодиночке. Для того, чтобы появился первый успех, русская армия должна была перенять стратегию и тактику своих противников. Похоже, к этой мысли первым прищел самый удачливый воевода Дмитрия Ивановича, которого великий князь даже женил на своей родной сестре — Дмитрий Михайлович Боброк (Волынский). Победы на Воже, а затем на Дону как нельзя лучше свидетельствуют об этом. Такой вывод подтверждает и Краткая летописная повесть, рассказывая о сражении: «И ту исполчишася обои и устремишася на бой и соступишася обои, и бысть на долже часе брань крепка зело и сеча зла…» Поэтому, когда в «Сказании…» мы обнаруживаем постепенность развития событий, следует помнить, что перед нами не историческое свидетельство, а литературный сюжет развертываемый по законам нарастания эмоционального воздействия на читателей и слушателей.
Описание поединка Пересвета с ордынским богатырем, точно так же, как введение в круг действующих лиц отсутствующего митрополита Киприана, Сергия Радонежского, уже умершего Ольгерда, новгородских полков, архиепископа Евфимия и т. д., для читателей и слушателей «Сказания…» было не ложью, не выдумкой автора, а естественной героизацией своего национального прошлого, кстати сказать, настолько забытого, что подобные анахронизмы ими просто не замечались. Для читателей XVI и XVII веков все эти люди оказывались «современниками», подобно тому, как в современники когда-нибудь наши потомки станут зачислять Екатерину II, Наполеона, Пушкина и Чернышевского. Ведь ничего не стоило автору «Сказания…» на место исторического епископа коломенского Герасима поместить Геронтия [Ск., 34] — тоже коломенского епископа, однако жившего сто лет спустя после битвы.
Находясь в первом ряду Передового полка братьев Ольгердовичей, как показывает дошедший до нас «уряд полков» в летописи Дубровского[252], Пересвет погиб одним из первых, открыв счет русским потерям. Из общей массы героев Куликовской битвы он был выделен народной памятью, вероятнее всего, потому, что предание связало его имя с преподобным Сергием — вначале как «посла», затем — как «инока». В самом деле, кто еще, кроме посланца игумена Троицкого монастыря мог совершить главный подвиг? Поэтому появление (в «Сказании…») перед Пересветом «печенега», единственного известного летописи и фольклору противника-поединщика, не должно вызывать удивления. Русский богатырь, по воле автора облаченный в схиму с крестом, просто не мог вступить в борьбу с обыкновенным ордынцем. Слившись в народном сознании с порождениями русского эпоса, Пересвет должен был победить такого же эпического противника, каким рисовался и он сам!
В последнем нетрудно убедиться, обратившись к именам, которые усвоены «печенежину» в различных редакциях и вариантах «Сказания…». В Киприановской редакции это «Темир-мурза», соответствующий историческому Темир-Аксаку (Тамерлану); затем — «Таврул», двойник захваченного под стенами Киева татарина из войска Батыя, как следует из летописной статьи 1240 г. [Ип., 784]; наконец, в третьем издании «Синопсиса», откуда берет начало лубочная традиция «Сказания…», в значительной большей степени повлиявшая на литературу и искусство XVIII–XIX вв., чем собственно рукописная традиция, противником Пересвета оказывается «Челубей» — Челяби-эмир, сын султана Мурада I, взявший в 1393 г. Тырново, столицу Второго Болгарского царства, «последнего православного царства»[253]. Другими словами, все три имени противника боярина-инока принадлежат «врагам рода христианского», против которых на Куликовом поле в лице Пересвета — согласно подтексту «Сказания…» — выступает даже не московский князь, а сама русская православная Церковь.
* * *
Подведем итоги. Рассмотрение летописных и историко-литературных текстов XV–XVI вв. показывает, что первые свидетельства о связи Сергия Радонежского с победой на Дону появляются не ранее середины XV в. в виде посланца троицкого игумена на Дон с «грамоткой» и благословением, зафиксированных Пространной летописной повестью. Имело ли это место в действительности, сказать трудно. Сомнения в реальности данного факта вызывает молчание по этому поводу текстов древнейших житий преподобного Сергия, соединяющих набег ордынцев 1380 г. с набегом 1378 г., но главное — содержание приписок к Троицкому стихирарю, согласно которым первые вести о военной угрозе со стороны объединенных сил ордынцев и Литвы были получены в Троицком монастыре только 26 сентября 1380 г., т. е. спустя две с лишним недели после победы. Наоборот, в пользу реальности такой посылки свидетельствует предание о Пересвете, основание Дмитриевского Ряжского монастыря, «посох Пересвета», упоминание «Березуя», двухдневная заминка в ожидании противника и прочие факты, позволяющие скорее поставить под сомнение «приписки Епифания» (вернее, их прочтение исследователями), чем отвергнуть данную версию.
Что же касается благочестивой легенды о свидании Дмитрия с Сергием, то ее не знает не только Пространная летописная повесть, но и Хронограф 1512 г., отодвигая время ее возникновения к 30–40-м гг. XVI в., когда, по-видимому, и возникла Основная редакция «Сказания…», содержащая рассказ о приходе Дмитрия к Троице и «испрошении» у Преподобного братьев-иноков, но не ранее[254].
Таким образом, рассмотренные выше обстоятельства появления в Москве Александра Пересвета и его брата Андрея Ослеби в составе двора Дмитрия Ольгердовича и их последующие судьбы, получившие столь неожиданное отражение в литературе московской Руси и последующего времени, позволяют окончательно отказаться от легенды с поединком, однако выдвигают другие вопросы — о действительном месте битвы 1380 г., об обстоятельствах основания Дмитриевского Ряжского монастыря и о причинах возникновения легенды об иноках-воинах в стенах Троице-Сергиева монастыря, с которым они в действительности никак не были связаны.
Что написал «Софроний Рязанец»?[255]
Начиная с открытия первого, позднего по времени, однако наиболее полного списка «Задонщины» В. М. Ундольского и до сего дня, когда опубликованы все известные списки этого произведения, в том числе и отрывки из них[256], внимание исследователей возвращается к вопросу о загадочном «Софонии рязанце». Его имя вынесено в заглавие двух списков в качестве имени автора — «Писание Софониа старца рязанца, бл(а)г(о)с(ло)ви от(че): Задонщина великог(о) кн(я)зя г(о)с(поди)на Димитрия Иванович(а) и брата его кн(я)зя Володимера Ондреевич(а)» [К-Б] и «Сказание Сафона резанца, исписана руским князем похвала, великому кн(я)зю Дмитрию Ивановичу и брату его Володимеру Ондреевичу» [С], специально «поминается» в тексте трех наиболее сохранившихся списков — «Аз же помяну резанца Софония» [У], «Ияж(е)помяну Ефон(и)я ерея резанца» [И-1], «И здеся помянем Софона резанца» [С], а также указано в заглавиях пяти списков «Сказания о Мамаевом побоище» по каталогу Л. АДмитриева[257].
Еще одно упоминание имени Софония содержится в ст. 6888/1380 г. Тверской летописи с пояснением, что он является «брянским боярином», и приводится следующее его «писание»;
В лето 6888. А се писание Софониа резанца, брянского боярина, на похвалу великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимиру Андреевичу: «Ведомо ли вамъ, рускымъ государямъ, царь Мамай пришелъ изъ (За)волжиа, стал на реце на Воронеже, а всемъ своимъ улусомъ не велел хлеба пахать; а ведомо мое таково, что хощетъ ити на Русь, и вы бы, государи, послали его пообыскать, туго ли онъ стоить, где его мне поведали»[258].
Следом в рукописи идет текст, зачеркнутый киноварью, соответствующий завершающим фразам «Задонщины» (по спискам У и И-1):
«Темъ же всемъ суженое место межу Дономъ и Днепромъ, на поле Куликове, на реце на Непрядве; а положили главы своа за землю Рускую и за веру христианскую. А мы поидемъ въ свою отчину, в землю Залескую, кь славному граду Москве, и сядемъ на своемъ великомъ княжении; чести есмя собе добыли и славнаго имяни. Конец»[259].
Если при этом учесть, что первый фрагмент, вероятнее всего, заимствован из архетипного начала «Задонщины», которое известно сейчас только по сокращенному виду списков У и Ж[260], то остается предположить, что в руках редактора Тверской летописи находился список «Задонщины», близкий к списку Ундольского, но более полный, из которого он заимствовал начало и конец, однако затем оставил только первый фрагмент, потому что в последующем к тексту Тверской летописи он присоединил «Сказание о Донском бою»[261], т. е. Распространенную редакцию «Сказания о Мамаевом побоище»[262].
Факт этот, почему-то выпавший из поля зрения исследователей «Задонщины», позволяет с новых позиций рассмотреть известные ее тексты и роль Софония не только в литературном процессе XIV–XV вв., но и в событиях 1380 г.
Кем был Софоний и какое отношение он имеет к «Задонщине» и к «Сказанию о Мамаевом побоище»? Эти вопросы поднимались неоднократно, и к настоящему времени можно считать утвердившимся мнение А. А. Шахматова, высказанное им еще в 1910 г., что Софоний был не автором «Задонщины» или «Сказания о Мамаевом побоище», а предшествовавшего им произведения о победе на Дону, которое исследователь условно обозначил как «Слово о Мамаевом побоище»[263]. Следует подчеркнуть, что вывод этот базировался исключительно на текстологических наблюдениях и практически не затрагивал вопроса о личности самого Софония.
Первыми, кто попытался прояснить эту загадочную фигуру, наделяемую столь противоречивыми эпитетами как «резанец»[264], «старец»[265], «брянский боярин»[266], «иерей»[267], был А. Д. Седельников, а за ним — В. Ф. Ржига, которые отождествили «рязанца Софония» «Задонщины» с Софонием Алтыкулачевичем[268], боярином рязанского князя Олега Ивановича, известным из текста жалованной грамоты рязанскому Ольгову монастырю, датируемой началом 70-х гг. XIV в.[269] К сожалению, изложенная гипотеза не вызвала интереса у позднейших исследователей, оставивших ее без обсуждения, может быть, потому, что всё их внимание оказалось направлено на текстологические исследования «Задонщины» и «Сказания о Мамаевом побоище» в их отношении к «Слову о полку Игореве»[270].
Своего рода итог в разысканиях автора «Задонщины» подвела в 1982 г. Р. П. Дмитриева, которая писала:
Гипотеза А. А. Шахматова о не дошедшем до нас «Слове о Мамаевом побоище» и о том, что написано оно было при дворе серпуховского князя Владимира Андреевича человеком из окружения литовских князей Дмитрия Ольгердовича и Андрея Ольгердовича, не противоречит нашему заключению о Софонии как предшественнике автора «Задонщины». Он как очевидец сражения или как человек, получивший сведения от участников сражения, смог написать свое произведение, которым затем воспользовался автор «Задонщины». И далее: «Следует признать, что автор „Задонщины“ воспользовался двумя поэтическими произведениями — сочинением Софония и „Словом о полку Игореве“»[271].
Между тем, как я отметил еще в 1985 г.[272], в руках исследователей находились все данные, позволявшие им решить загадку того пиетета, с которым Софоний упоминается неведомым автором «Задонщины».
Существование не дошедших до нас архетипов, на основе которых создавались последующие редакции произведений «Куликовского цикла», представляется весьма вероятным уже потому, что в сохранившихся поздних списках мы находим ситуации, не находящие объяснения в контексте. Так, из содержания Пространной летописной повести нельзя понять причину яростных инвектив в «лести» (т. е. во лжи) по адресу Олега рязанского, поскольку из повествования следует, что рязанский князь прислал в Москву абсолютно правдивое сообщение о готовящемся походе Мамая вкупе с великим князем литовским Ягайло[273]. Столь же загадочным остается для читателя причина двухдневной остановки московского войска где-то на берегу Дона, в «Сказании о Мамаевом побоище» определенном как «место, рекомое Березуй», после чего войско вышло к устью Непрядвы как раз накануне сражения[274].
На первый взгляд, оба эти факты никак не связаны друг с другом, тем более, с загадкой Софония, но это не так. Как я показал в одной из своих работ[275], традиционно принятый маршрут войска Дмитрия от устья Лопасни прямо на юг к Куликову полю не выдерживает критики, поскольку это направление оказывается много западнее пути, по которому совершались обычные ордынские набеги на Москву по направлению: Ряжск — Переяславль Рязанский — Коломна[276]. Именно там, на последнем отрезке пути в 1378 г. московскими войсками на р. Воже был перехвачен и разбит корпус Бегича. Реальным подтверждением сказанного может служить факт основания на этом пути, неподалеку от нынешнего г. Скопина, Дмитриевского (Рижского) монастыря, связанного с преданием, что на данном месте за два дня до сражения на Куликовом поле «инок Александр Пересвет» догнал войско Дмитрия и передал ему письмо от Сергия Радонежского с благословением на битву[277].
Насколько мне известно, эта монастырская легенда ранее не учитывалась историками то ли по причине ее малой известности, то ли по причине кажущейся невероятности такого удаления московского войска от места битвы. Между тем, удивляться следует тому маршруту на устье Непрядвы, которым до сих пор отправляют историки московское войско на встречу с Мамаем[278]. Ведь в приведенном выше «писании» или «поведании» Софония, адресованном московскому князю и его двоюродному брату, местом нахождения Мамая указан отнюдь не Дон, куда направляют войска все без исключения тексты Пространной летописной повести, «Задонщины» и «Сказания о Мамаевом побоище», а река Воронеж, с верховьев которой по высокому водоразделу открывался путь к Рязани и к Москве.
Исходя из такой ситуации, следует полагать, что задачей московских воевод было как можно раньше перехватить только еще формирующееся на перекочевках ордынское войско. Поэтому представляется единственно возможным выдвижение московского войска именно в район нынешних Скопина и Ряжска, туда, где в более позднее время проходили мощные линии «засечной черты». Место это было, видимо, хорошо известно, и туда должны были подойти запаздывавшие полки и дружины, как об этом сообщает «Сказание о Мамаевом побоище»[279]. Если же вспомнить, что два дня стояния «на Березуе» были вызваны замешательством разведки, которая обнаружила Мамая не на юге, как ожидалось, а на юго-западе, за Доном[280], то автор Пространной летописной повести, составлявщий ее полвека спустя после событий, вполне мог посчитать такое расхождение «поведания» с действительностью коварным замыслом («лестью») рязанского князя. Между тем, никакой «лести» и в помине не было, поскольку в «писании» Софония после сообщения о приходе и намерениях Мамая следовало предложение князьям «пообыскать, тут ли он стоит, где мне поведали»[281].
В этой ситуации по-иному звучит и топоним «Березуй», который следует выводить не от ‘березы’, как то делается обычно[282], а от ‘берега’ или ‘бережения’, подразумевая под ним традиционное место сторожевого форпоста, выдвинутого «на берег» Половецкого поля[283].
Выявленные обстоятельства, сохранившиеся в поздних текстах и восходящие, скорее всего, к гипотетическому «Слову о Мамаевом побоище», позволяют по-новому взглянуть на личность Софония и на его роль в событиях 1380 г., вернувшись к гипотезе Седельникова-Ржиги о его аутентичности рязанскому боярину Софонию Алтыкулачевичу.
Софоний не был и не мог быть автором ни «Задонщины», как правильно показал Л. А. Дмитриев[284], ни гипотетического «Слова о Мамаевом побоище», как это полагала Р. П. Дмитриева[285] и допускал с некоторой осторожностью Л. А. Дмитриев[286], поскольку его единственным произведением («писанием», «поведанием») оказывается сообщение о появлении Мамая и намерениях последнего, сохранившееся в составе Тверской летописи, дошедшей до нас в списке начала XVI в. Более того, можно думать, что реальное сообщение включало также сведения о переговорах между Мамаем, Ягайло и Олегом рязанским, сам факт которых был использован в Пространной редакции летописной повести, а позднее литературно развернут в «Сказании о Мамаевом побоище». Стиль послания Софония, тон обращения к московскому князю, сведения, содержащиеся в нем, и ссылка на источник («мне поведали», т. е. доложили), делают вполне достоверным отождествление его автора с рязанским боярином, выступающим секретным посредником между рязанским и московским князем в предупреждении братоубийственной войны.
Вопреки уверениям автора Пространной летописной повести, рязанский князь Олег Иванович не был изменником и не мог испытывать никаких симпатий к Орде и ордынцам, находясь между Ордой и Москвой, как между молотом и наковальней, так что любая их стычка губительнейшим образом отзывалась на Рязанском княжестве, подвергавшемся огню и разорению. «Москва страшна, но ордынцы — страшнее», — так можно сформулировать точку зрения всех без исключения обитателей Рязанского княжества в то время. Вот почему мне представляется вполне вероятным, что рязанский князь использовал именно Софония Алтыкулачевича, своего первого и, похоже, наиболее доверенного боярина, чтобы подать весть Москве о грозящей опасности и сообщить об «открытом коридоре» для прохода по Рязанской земле до «Березуя» навстречу Мамаю. В противном случае вторжение московского войска означало неизбежный вооруженный конфликт с немедленным оповещением ордынцев — об этом историки почему-то забывают. И зря, поскольку самым красноречивым свидетельством наличия секретных договоренностей между Олегом рязанским и Дмитрием Ивановичем оказывается основанный вскоре после победы 1380 г. московским князем на рязанской земле монастырь во имя своего патрона, Димитрия Солунского, позднее дополненный престолом св. Сергия Радонежского.
Стоит заметить, что «Задонщина» донесла до нас еще одно полустершееся заимствование из протографа, бросающее свет на роль Софония в указанных событиях и на его личность: заимствование, которое в протографе играло, как можно думать, сюжетоформирующую роль, но в «Задонщине» оказалось настолько затушевано, что не привлекло специального внимания исследователей. Между тем, оно дает определенные представления о среде, в которой могло возникнуть гипотетическое «Слово о Мамаевом побоище».
Речь идет об упоминании «Микулы Васильевича» — сына последнего московского тысяцкого, свояка великого князя московского, Николая Васильевича Вельяминова, женатого на сестре жены Дмитрия Ивановича и, таким образом, находившегося также в свойстве с боровским и серпуховским князем Владимиром Андреевичем. Последний же, как известно, был не только двоюродным братом московского князя, но и свояком Дмитрия и Андрея Ольгердовичей, на сестре которых был женат[287]. Последнее дает основание именно в окружении данного князя искать авторов произведений Куликовского цикла, как известно, особое внимание уделивших самому князю и его шурьям. Теперь в этот круг мы должны ввести и Н. В. Вельяминова с его женой Марией Дмитриевной, дочерью суздальского князя, так как по сохранившемся остаткам начала двух наиболее полных списков «Задонщины» (У и Ж) можно видеть, что это произведение в своем протографе открывалось указанием на пир, происходивший в доме Вельяминова, где присутствовали оба князя и куда пришло послание Софония о Мамае. Если учесть, что Н. В. Вельяминов был в это время воеводой в Коломне[288], ближайшем к Рязани пограничном московском городе, то его знакомство с рязанским боярином и постоянные между ними контакты, как сказали бы мы теперь, «по линии общественной безопасности», вряд ли можно подвергнуть сомнению. Таким образом, следует говорить не о «вести с Поля», полученной от безымянных «сторожей», а о задействованных дипломатических каналах самого высокого ранга, по которым в Москву (или в Коломну) была доставлена депеша Софония, если только он не привез ее сам, воспользовавшись приглашением на пир, присутствие на котором Для него было не только возможно, но и вполне естественно.
Для последующего изучения «Задонщины» в свете изложенного небесполезно обратить внимание на фрагменты с упоминанием как самого Микулы Васильевича, который, похоже, в гипотетическом «Слове о Мамаевом побоище» мог играть роль третьего по значению героя повествования, так и его жены, открывающей «плач» московских жен, поскольку, вероятнее всего, эти фрагменты связаны с протографом, носившим более документальный характер, как мы можем видеть по стилю «писания» Софония и сохранившемуся началу с «пиром», чем его последующие переработки в «Задонщине» и в «Сказании о Мамаевом побоище».
Подведем итоги.
Как мне представляется, изложенные выше факты позволяют с высокой степенью вероятности отождествить Софония «Задонщины» с рязанским боярином Софонием Алтыкулачевичем, по всей видимости, крещеным выходцем из Орды. В этом убеждает редкое имя, точное указание на происхождение, узкий временной интервал, общественное положение и тот объем информации, включая упоминание о секретных переговорах рязанского князя с Мамаем и Ягайло, который был передан в Москву и вряд ли был доступен кому-либо другому. Всё это дает основания полагать, что акция оповещения Москвы была проведена Софонием Алтыкулачевичем с ведома и по поручению рязанского князя, сообщившего таким способом о намерениях Мамая и об открытых для прохода московского войска рубежах Рязанской земли. Единственным произведением Софония было то «писание», которое дошло до нас в списке Тверской летописи. Никакого другого произведения Софоний не создавал, будучи упомянут в «Задонщине» в благодарность за свою миссию, способствовавшую победе над Мамаем. Поэтому усвоение ему какого-то историко-литературного, тем более поэтического сочинения, от которого до нас не дошло ни одной сколько-нибудь достоверной строки, вполне безосновательно и бесперспективно[289].
Появление имени Софония в заголовке некоторых списков «Задонщины» (К-Б и С) объясняется сокращением под перьями редакторов и переписчиков упоминания пира и полученного на нем известия, которое было внесено в Тверскую летопись из полного текста «Задонщины», восходившего к ее протографу. Другими словами, при переписке и редактуре имя Софония из «пира» переместилось в заголовок, поскольку переписчики фразу о «поведании» воспринимали шире, чем только известие о Мамае, распространяя ее на весь текст. Однако при всех сокращениях в списках бережно сохранялась «похвала Софонию», возникшая по принципу обратного параллелизма со «Словом о полку Игореве»[290], что может служить дополнительным подтверждением вьщвинутой мною гипотезы об отсутствии первоначального противопоставления автором «Слова…» своего творчества — творчеству Бояна, которому он на самом деле следовал, используя поэтические тексты XI в. так же, как автор «Задонщины» использовал лексику и фразеологию «Слова о полку Игореве»[291].
Итак, я считаю возможным утверждать, что известие Софония Алтыкулачевича московскому князю о грозящей опасности, дошедшее до нас в составе Тверской летописи, не только предотвратило внезапность нападения ордынцев, но и послужило причиной внесения имени этого рязанского боярина в поэтическое произведение, прославляющее победу московского князя на Дону. Любопытно, что сделано это было по типу «похвалы Владимиру» в известном «Слове о законе и благодати» Илариона («Похвалимъ же и мы по силе нашей» и т. д.[292]), но со ссылкой на автора «Слова о полку Игореве», утверждая, таким образом, преемственность в развитии древнерусской поэтики уже московского периода.
Загадка «Троицы Рублева»[293]
Весной 1905 г. в художественной жизни России произошло событие, последствия которого трудно переоценить. По приглашению отца-наместника Троице-Сергиевой лавры в самом ее «историческом сердце» — Троицком соборе, иконописец и реставратор В. П. Гурьянов, сняв перед этим золотой чеканный оклад, впервые освободил от позднейших записей и почерневшей олифы храмовую икону «Троицы»[294]. К этому времени мысль, пошедшая с легкой руки И. М. Снегирева, что икона принадлежит кисти Андрея Рублева[295], одного из немногих известных по имени русских иконописцев, была уже господствующей.
Подобно другим именам древнерусских художников, имя Андрея Рублева впервые стало известно русскому образованному обществу только в XIX в., когда появился, а затем начал быстро расти интерес к произведениям древнего искусства, в том числе и к русскому иконописанию[296]. Не будет ошибкой утверждать, что первые коллекционеры и знатоки древнерусской иконописи услышали это имя от старообрядцев. В среде «древлего благочестия», собиравшей предметы старины до-никоновской эпохи, — рукописные и старопечатные книги, реликвии, мощи, иконы, облачения, утварь церковного обихода, — имя Андрея Рублева произносилось с почтением, поскольку его авторитет был утвержден «самим» Стоглавым собором 1551 г., чьи постановления для старообрядцев были столь же непререкаемы, как и писания отцов Церкви.
В 41-й главе «стоглавого» сборника постановлений собора «О тридцати двух царских вопросах» речь шла о том, как надписывать «Троицу», в то время сюжет излюбленный в русском иконописании. Согласно библейскому преданию, к Аврааму и Сарре, двум праведникам, достигшим преклонных лет, но не имевших детей, однажды явились три мужа, принятые стариками почтительно и гостеприимно. После обильной трапезы один из прибывших предрек, что у хозяев скоро родится сын. Дальнейшее развитие самого сюжета для нашей темы интереса не представляет, и я напомнил о нем только потому, чтобы воскресить в памяти читателей сцену, которая воспроизводилась иконописцами, — три гостя-ангела за столом под сенью Мамврийского дуба с прислуживающими им Авраамом и Саррой. Ограничусь только одним замечанием: трактуемая первоначально как идеал вознаграждаемого гостеприимства, со временем «Троица» стала терять свой реалистический антураж — сервировку стола, сцену заклания барашка на дворе слугами, даже фигуры престарелых хозяев, став изобразительным символом триипостасности божества — «Троицей духовной».
К середине XVI в., когда Стоглавый собор принимал свои постановления, накопилось много недоумений как в жизни самой русской Церкви, так и по части иконописания. Одно из них касалось иконографии Троицы и заключалось в следующем вопросе, поданном на обсуждение: «Глава МА, вопрос А: У святей троицы пишут перекрестие, ови у средняго, а иные у всех трех, а в старых писмах и в греческих подписывают святая троица, а перекрестья не пишут ни у единого, а ныне подписывают у средняго IC ХС святая троица, и о том разсудити от Божественных правил, како ныне то писати.
О том ответ: Писати иконописцем иконы с древних переводов, како греческие иконописцы писали, и как писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы, и подписывати святая троица, а от своего замышления ничтоже предтворяти»[297].
Если для нас в этом тексте наиболее важным оказывается утверждение, что Андрей Рублев в своих работах придерживался старовизантийских традиций и писал иконы «с древних переводов» (то есть, следуя графическим канонам), а не по собственному «замышлению», то для старообрядцев главную ценность представляло имя, выделенное в ответе. Оно получало своего рода канонизацию, приобретая при этом еще и «знак качества» — единственное имя, указанное собором, так сказать, «на века» почему иконы кисти Андрея Рублева приобретали особую духовную и материальную ценность. Их разыскивали, доверяясь молве или преданию, за ними охотились, их перекупали, и каждая такая икона становилась украшением старообрядческой молельни или домашней коллекции.
Никакого достоверного, т. е. научного, критерия для определения икон Рублева не было. И всё же к началу XX в. в среде знатоков сложился совершенно определенный взгляд на «рублевские письма», определяемые как «дымные». По словам Гурьянова, к ним относили иконы:
«…на которых лики написаны тонкослойно с соблюдением крайней последовательности в переходе от освещенных мест к неосвещенным, выглядят определенно зеленоватыми в тенях и моделированы коричневой („темной“) охрой без отметок, т. е. без ударов на наиболее светлых местах для обозначения белою краскою бликов; в соответствии с ликами так же слабо моделированы и фигуры, а контур обозначен лишь тонкой описью»[298].
Основания для такой характеристики «рублевских» икон были. Именно такими перед зрителями представали деисусные чины Благовещенского собора московского Кремля, Успенского собора Владимира, Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — тех храмов, где по свидетельству письменных источников вместе с другими мастерами иконописного дела работал и Андрей Рублев. Однако насколько можно было доверять такой атрибуции?
К началу нашего века все эти памятники древнерусского искусства претерпели неоднократные поновления, искажавшие их красочную гамму и даже, порой, рисунок. Кроме того, обращение к многофигурным ансамблям, составленным из отдельных произведений, делало указанный критерий весьма неопределенным. Древнерусские иконописцы на храмовых подрядах работали артелями, в которых соблюдалось строгое разделение труда: одни специализировались на ликах, другие — на «доличном», третьи — на архитектуре, четвертые — на пейзаже, тогда как «артельщики», чьи имена только и попадают в документы, как тот же Андрей Рублев, его товарищ Даниил или «Прохор с Городца», будучи «знаменщиками», исполняли самую важную часть работы — наносили на доску или на стену храма прорись будущего изображения. Из этого следует, что стилистически выделить работу только одного из них, чтобы определить именно ему присущие особенности, практически невозможно. Следует учесть и другое немаловажное обстоятельство: широкое использование в работе иконописцев прорисей или «переводов», о чем так настоятельно напоминал «Стоглав» в цитированном ответе.
Всё это объясняет, почему, по мере того как разрастался интерес к древнерусскому искусству и накапливались открытия в этой области, мысль исследователей и собирателей всё чаще обращалась к иконе «Троицы», занимавшей главное место — справа от царских врат — в «местном» ряду иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Что этот образ мог принадлежать кисти самого Андрея Рублева, указывали одна из редакций «Жития Никона», написанного Пахомием Логофетом (Пахомием Сербом) в середине XV в., и «Сказание о святых иконописцах», возникшее два с лишним века спустя, где прямо говорилось, что Рублев написал образ «Троицы» по заказу игумена лавры Никона[299]. Естественно было полагать, что этот образ сохранился вместе со всем иконостасом Троицкого собора и был тем самым, на который указывал «Стоглав», поскольку ни о каких других заказанных Рублеву «Троицах» известно не было, как не было известно и о каких-либо перемещениях этого образа.
Архивные разыскания убеждали, что «Троица Рублева», как ее стали именовать в научной литературе, была одной из наиболее почитаемых в монастыре икон, привлекавшей богатые вклады сначала Ивана IV, а затем Бориса Годунова и его семьи. Ее изучение могло дать в руки историков искусства своего рода надежный эталон, сверяясь с которым можно было получить исчерпывающее представление о стиле и методах работы прославленного мастера. Вместе с тем, эти данные позволили бы проводить экспертизу других икон, которые приписывали Андрею Рублеву на основании легенды или расхожего мнения.
Сделать это было не так просто. До конца 1904 г. «Троица» Рублева была спрятана от глаз любопытствующих тяжелой золотой ризой, оставлявшей открытыми только лики и руки англов, восхищавшие знатоков изяществом рисунка и светлостью красок. Последнее заставляло обращаться памятью к более ранним греческим образцам, с которых предлагал писать иконы «Стоглав», что еще раз подтверждало мысль об авторстве Рублева.
Была и другая причина связывать икону с именем знаменитого художника. В отличие от большинства своих предшественников, ее автор отказался от жанровой трактовки сюжета, исключил из композиции Авраама и Сарру и оставил за столом только трех ангелов, сконцентрировав, таким образом, на них всё внимание зрителя. Собственно говоря, это был уже новый сюжет, полный символики и глубины толкования, изображающий триединое совершенство божества, а не традиционное «гостеприимство Авраама»[300]. Подобный иконографический тип «Троицы» был знаком историкам искусства, однако все остальные иконы этого типа оказывались написаны несколько позже, чем эта. Возникало естественное предположение, что прославленный мастер первым ввел этот тип в русскую иконографию, заслужив признательность и восхищение современников, которые и стали копировать образец. Оставалось только увидеть саму икону.
Когда В. П. Гурьянов, сняв три слоя напластований, открыл авторский слой (как выяснилось при повторной реставрации в 1919 г., в некоторых местах он до него не дошел), и сам реставратор, и очевидцы его открытия испытали настоящее потрясение. Вместо темных, «дымных» тонов темнооливкового вохрения ликов и сдержанной, суровой коричнево-красной гаммы одежд, столь привычной глазу знатока древнерусской иконописи того времени, перед пораженными зрителями открылись яркие солнечные краски, прозрачные, поистине «райские» одежды ангелов, сразу же напомнившие итальянские фрески и иконы XIV, в особенности — первой половины XV века. «Троица Рублева», как оказалось, не имела ничего общего с привычным византийским каноном, воспринятым и переработанным к этому времени московскими мастерами. Среди темных одежд и строгих ликов прочих икон первой половины XV в., «Троица» представала подлинным «светом Фаворским», вполне достойным и сюжета, поскольку он должен был изображать триединство «неизреченного и неописуемого» божества, и художника, прославленного преданием.
Чтобы оценить интерес и восторг, вызванный новым обликом «Троицы» и, соответственно, новым представлением о Рублеве, следует напомнить, что они оба предстали перед истинными ценителями искусства начала XX века, искушенными как в русской иконописи, так и в мировом искусстве в целом. Наши соотечественники уже открыли для себя солнечные полотна французских импрессионистов и российских художников этого направления, уже познакомились с первыми расчищенными древнерусскими иконами, с итальянскими «примитивами» Предвозрождения, но даже на фоне всего этого вынуждены были склониться перед замечательным мастером, перекинувшим радужный мост своей палитры не только между Московией и Италией первой четверти XV в. (в этом тогда сходились многие[301]), но и между своим временем и XX веком, в который автор «Троицы» сразу же вступил как гениальный художник. Первым, кто еще до раскрытия иконы заподозрил, что она была написана «итальянским художником», оказался Д. А. Ровинский, чье мнение «было сразу потушено запиской митрополита Филарета, и снова, на основании предания, образ был отнесен к числу произведений Рублева, продолжая служить одним из главных памятников при изучении манеры этого иконописца»[302]. Далее, на основании собственных впечатлений и опыта, Н. П. Сычев следующим образом характеризовал раскрытую реставраторами «Троицу»: «Если в технике иконы уже видны приемы греко-итальянской живописи, в стиле ликов ангелов еще сохранены формы, наблюдающиеся у Чимабуэ и Дуччио, а в архитектурной декорации удержаны правильные перспективные формы архитектоники Джотто с ее античными отражениями, то в посадке фигур характерно удлинение их торсов, а также в общем сужении композиции, ясно отразился готический стиль, соединенный на иконе св. Троицы, как и на иконах лучших итальянских мастеров, с красотою чисто венецианских красок»[303]. Два с лишним десятилетия спустя, как бы подводя итоги впечатления современников от «Троицы», Б. И. Пуришев писал, что в этой иконе «Рублев достиг исключительных высот, создав произведение, естественно вызвающее в памяти различные замечательные образцы мирового искусства. Рублева называли „русским Рафаэлем“ и „русским Беато Анжелико“, сравнивали с Перуджино, Джорджоне, мастерами Сиенской и Умбрийской школ, Чимабуэ, с Дуччо и Симоне Мартини»[304].
С этого момента имя Андрея Рублева, осеняемое «Троицей», начинает победоносное шествие по миру, привлекая восторженные взоры к сокровищам древнерусского искусства, вызывая растущий поток публикаций, исследований и просто панегириков, освещая отблесками славы, излучаемой «Троицей», события и людей своей эпохи[305].
К сожалению, не обошлось и без потерь.
Открытие «подлинного Рублева» мгновенно перечеркнуло и обесценило все те иконы, которые приписывались преданием его кисти, поскольку ничего общего между ними и «Троицей» не оказалось. На первый взгляд, не было у нее ничего общего и с деисусными чинами Успенского (владимирского), Благовещенского (кремлевского) и самого Троицкого соборов, хотя участие Рублева в работе над ними вроде бы подтверждалось летописями. Впрочем, по мере того, как в середине нынешнего столетия происходило открытие художественной культуры древней Руси и утверждалась мысль о ее национальном своеобразии, исследователи обнаруживали в изображениях этих иконостасов особое, по сравнению с прочими, изящество линий, одухотворенность лиц, особую гармоничность традиционных красок, что можно было объяснить опять-таки выдающимся талантом Андрея Рублева, для которого эти традиционные работы служили как бы внутренней подготовкой к написанию «Троицы».
Так был сформулирован тезис, согласно которому «Троица» и в творчестве самого Рублева оказывалась явлением исключительным. Последнее объясняли тем, что до ее создания он работал с другими иконописцами, следуя заветам своих наставников и византийскому канону. Здесь же, на склоне прожитых лет, исполняя личный заказ игумена Троице-Сергиевой лавры Никона «в похвалу Сергию», учеником которого считался, Андрей Рублев дал волю своему страстному, долго сдерживаемому темпераменту, создав в «Троице» «лебединую песню» художника…
Версия эта стала своего рода «догматом о Рублеве». Исходя из такой посылки, стало проще искать другие возможные произведения самого Рублева, отвечающие сложившемуся представлению о манере работы и палитре выдающегося мастера. Эти произведения должны были быть написаны в конце XIV или в первой четверти XV века, обладать признаками московской иконописной школы того периода и резко выделяться на общем фоне своим совершенством. Вместе с тем они должны нести на себе легкое влияние той греко-итальянской школы, отпечаток которой на иконописи Новгорода и Москвы традиционно связывался с Феофаном Греком — старшим современником, если не учителем Андрея Рублева, поскольку они работали одновременно над росписями еще первого каменного Благовещенского собора московского Кремля.
Такими памятниками, явно выпадавшими из традиционного ряда и получившими почти единодушное признание «рублевских», стали три замечательные иконы из деисусного чина Успенского собора в Звенигороде, находящиеся теперь в собрании Третьяковской галереи в Москве. От уже известных деисус-ных чинов того же времени они отличались более радостным колоритом, иным характером написания ликов, отчасти напоминающим лики ангелов на «Троице», и несколько неожиданными композиционными приемами, поскольку, в отличие от обычного чина, персонажи были даны не в полный рост, а по-грудно, что производило впечатление особой мощи и приближенности к зрителю.
Не меньший восторг искусствоведов вызвало и открытие в Успенском соборе г. Владимира фресок, сохранившихся кое-где под позднейшими записями и относящимися именно к тому времени, когда над росписью храма работала артель, возглавляемая Даниилом и Андреем Рублевым. И если все обнаруженные фрески нельзя было усвоить именно Рублеву, поскольку как в росписи, так и в их «назнаменовании» явно проступали разные почерки, то фигура трубящего ангела, входившего в композицию «Страшного суда», большинством голосов была отдана Рублеву.
Наконец, в результате долгих поисков выяснилось, что Рублев оставил свой след в русском искусстве не только как иконописец и фрескист, но и как миниатюрист. Он был объявлен автором прекрасных миниатюр так называемого «Евангелия Хитрово» и с меньшей достоверностью — еще нескольких первоклассных кодексов. На протяжении всей истории изучения Древнерусской иконописи Рублеву приписывали авторство де-ятков икон, отдельные фрески, миниатюры и даже произведе-ия прикладного искусства, обнаруживающие высокий художественный вкус и изящество мастера. Вот что по этому поводу писал современный исследователь творчества Рублева И. Е. Данилова:
Круг произведений, связанных с именем Рублева, предельно расширен. Крайним произведениям мастера, созданным до 1405 г., отнесены, кроме фресок собора Успения на Городке в Звенигороде росписи алтарной стенки Рождественского собора Саввино-Сто-рожевского монастыря в Звенигороде, три иконы Звенигородского чина; из икон Благовещенского иконостаса приписаны Рублеву иконы «Благовещение», «Рождество Христово», «Сретение» «Крещение», «Воскрешение Лазаря», «Вход в Иерусалим», «Преображение», при том В. Н. Лазарев предполагает, что Рублев был учеником Прохора с Городца. Из фресок Успенского собора во Владимире к работам Рублева отнесены, кроме росписей центрального нефа, также фигуры святых Онуфрия, Антония Великого и пророков Исайи и Давида. Из икон Васильевского иконостаса Рублеву приписаны все чиновые иконы, а из икон Троицкого иконостаса — «Крещение», «Архангел Гавриил», «Апостол Павел». Помимо перечисленных выше произведений с именем Рублева ряд исследователей связывал «Георгия» и «Дмитрия Солунского» из Благовещенского иконостаса, фигуры Саввы Освященного и Макария Египетского из фресок Успенского собора во Владимире; четыре праздничные иконы из иконостаса Успенского собора во Владимире: «Сретение», «Благовещение», «Вознесение», «Сошествие во ад»; архангела Гавриила и архангела Михаила с дверей того же иконостаса; «Богоматерь Владимирскую» из Владимира; икону «Успение» из Кирилла-Белозерского монастыря; «Умиление» из Русского музея, «Спас в силах» из ГТГ, икону «Сретение» из Троицкого иконостаса, миниатюры евангелия Хитрово, изображающие символ евангелиста Матвея (ангел), символ евангелиста Иоанна (орел), а также инициалы; шитую пелену с изображением Сергия и Троице-Сергиевой лавры; икону Иоанна Предтечи из музея Рублева и, наконец, даже средник иконы «Архангел Михаил» из Архангельского собора в Кремле.
Таким образом, число произведений, приписываемых в настоящее время Рублеву, доходит до пятидесяти, то есть оказывается примерно таким же, сколько в свое время ходило среди старообрядцев икон «Рублевых писем»[306].
Рублев был объявлен «гением», и в качестве такового стараниями искусствоведов, стремившихся заполучить в реестр открытий «еще одного Рублева», стал «обирать» своих современников, присваивая всё лучшее, что было создано за XIV–XV вв. Чтобы разорвать порочный круг бездумного клеймения именем Рублева всего выдающегося, как когда-то делали по отношению к нему старообрядцы, следовало обратиться от восторженных славословий, заливавших страницы монографий, к архивам, к запасникам музеев, к черной, но необходимой: научной работе. Первым это сделал В. А. Плугин, человек, влюбленный в Андрея Рублева и посвятивший изучению его. творчества и его жизни большую часть жизни своей.
Работая над изучением приписываемых Рублеву произведений, Плугин столкнулся с фактом совершенно удивительным, который замалчивали или обходили большинство его предшественников, а именно: вопреки распространенному мнению, что «Троица» Рублева с момента своего создания служила образцом для бесчисленных копий и воспроизведений, «была любимейшей иконой древнерусских художников»[307], единственным сколько-нибудь достоверным ее воспроизведением (если не считать копии Годунова, заказанной царем в 1598–1600 гг., чтобы перенести на нее с подлинной иконы золотую ризу Ивана IV, заменив ее своей), оказалась «Троица» из Коломны, датируемая искусствоведами в широком интервале времени — от середины XV до середины XVI в.[308] Более того, выяснилось, что среди многочисленных изображений «ветхозаветной Троицы» на иконах, сохранившихся до наших дней, только единицы следуют иконографическому типу «Рублевской Троицы», изображающей трех ангелов без Авраама и Сарры, свидетельствуя тем самым, что столь символически трактованный образ, наполненный глубоким философским содержанием, не вызвал интереса и понимания на Руси.
«„Троица“ Рублева оказалась в стороне от магистрального пути троичной иконографии», — вынужден был с удивлением констатировать в одной из своих итоговых работ исследователь[309].
Было и еще одно немаловажное обстоятельство, мимо которого не могли пройти искусствоведы. При написании икон древнерусские художники обычно пользовались «переводами», о которых упоминал «Стоглав», то есть прорисями, снятыми с древних оригиналов, благодаря чему сохранялся тип или «извод», проносимый в целостности через века. Задачей художников-знаменщиков, возглавлявших артели, был перенос этих прорисей с бумаги на стену храма или на доску будущей иконы с необходимым изменением размера, но при безусловным сохранении пропорций. В отношении артели, связанной с А. Рублевым, это не предположение, а установленный исследованиями И. Э. Грабаря и В. Н. Лазарева факт, выявленный при сравнении икон деисусного чина и праздничного яруса Благовещенского и Троицкого соборов. Хотя работы разделяет промежуток в двадцать с лишним лет, они «почти точно друг друга повторяют»[310], то есть сделаны по одним и тем же прорисям.
Совсем иначе обстоит дело с «ангельской Троицей», как можно обозначить вид «Троицы Рублева», чтобы отличить его от «ветхозаветной Троицы», где он является центральной частью.
Как я уже отметил, за исключением «Троицы» из Коломны, все остальные известные образцы отличаются от «Троицы» Рублева рисунком и композицией ангелов, деталями одеяний, присутствием на столе различной сервировки трапезы (у «Рублевской Троицы» только одна чаша), наконец, пейзажем, не говоря уже о манере письма и колорите. Именно колорит резко выделяет «Троицу Рублева» из числа остальных «ангельских», в том числе и двух ее копий, годуновской и коломенской, позволив такому серьезному знатоку древнерусской и византийской иконописи, каким был В. Н. Лазарев, написать знаменательные слова, что рублевская «палитра отличается не только своим предельно высветленным характером, но и редкой прозрачностью. Странным образом она напоминает палитру одного из величайших итальянских колористов — Пьеро делла Франческа»[311].
Однако дело не только в палитре. «Троица Рублева» даже в черно-белом, «графическом» воспроизведении оказывается непревзойденным шедевром по своей пропорциональности и лаконичности. В полном смысле слова она завершает возможный эволюционный ряд, начинаемый традиционной «ветхозаветной Троицей», решаемой на бытовом, событийном уровне жизни. Другими словами, все известные нам иконы «ангельской Троицы», вопреки преданию, типологически (и психологически!) не могут быть производными от «Троицы Рублева»: их прототипы (поскольку их датируют временем после 1430 г.) должны ей предшествовать.
Чтобы примирить возникающее противоречие, в результате которого Рублев оказывается вовсе не первым создателем извода «ангельской Троицы» на Руси, как то молчаливо считалось, В. А. Плугин в одной из своих работ выдвинул гипотезу, согласно которой Андрей Рублев всю свою жизнь работал над созданием нового извода «Троицы» — именно этой, «ангельской», — написав множество вариантов, ни один из которых (кроме троицкого) до нас не дошел, но о которых мы имеем представление по известным нам более поздним копиям.
«Их иконографические „разногласия“ с „Троицей“, — пояснял исследователь, — легко (? — А. Н.) объясняются тем постоянным художественным поиском, который вел мастер, задачами, которые он в разное время решал, наконец, разными жанрами, в которых он воплощал задуманное (икона, фреска, а вероятно и миниатюрные изображения для панагий, клейм шитья и икон и т. д.)»[312].
Что касается «разнообразия жанров», то вопрос более чем спорен. Ремесленная регламентация в средние века всегда и везде была достаточно жесткой. Пока же следует заметить, что при всем остроумии гипотезы (хотя и нарушающей закон «бритвы Оккама» не увеличивать числа сущностей сверх необходимого), она не выдерживает критики с точки зрения нарушения тех пропорций, которыми как раз и характеризуется творчество Рублева в «Троице», отличающего его как замечательного рисовальщика («знаменщик»), равного по своему искусству Джотто, от того, что мы видим на так называемых «копиях».
Получается, что взаимоотношения «Троицы Рублева» со всеми остальными иконами этого типа, не являющимися ее копиями, остается загадкой, требующей разрешения не на гипотетическом уровне, а на фактическом материале. Не случайно ни В. А. Плугин, ни такой тонкий исследователь древнерусского искусства, как Г. И. Вздорнов, выпустивший антологию, посвященную «Троице Рублева», за исключением двух упомянутых копий, не нашли ни одного полностью соответствующего ей изображения, кроме разве что гравированного на створке серебряного панагиария 1435 г. из Софии Новгородской[313].
Однако, как выяснил Плугин, взаимоотношения оригинала и «копий» оказались не самой главной загадкой «Троицы Рублева».
Во втором номере журнала «История СССР» за 1987 г. В. А. Плугин опубликовал статью, написанную им на основании своего доклада на кафедре источниковедения Исторического факультета МГУ. Последнее обстоятельство специально оговорено в редакционном вступлении, где подчеркнуто, что, при всей спорности конечных выводов, основное содержание доклада, построенного на данных письменных источников, заслуживает самого серьезного внимания.
Суть открытия историка заключалась в том, что, согласно прямого свидетельства вкладных книг Троице-Сергиева монастыря, «Троица Рублева» появилась в местном ряду Троицкого собора только в 1575 г., будучи вкладом Ивана IV. В то время эта икона Андрею Рублеву не приписывалась и была «вложена» в монастырь вместе с другими ценными иконами и прочими драгоценностями. Уже в момент вклада она была «одета» богатой золотой чеканной ризой, которую позднее, в 1598–1600 гг. Борис Годунов заменил своей, тоже золотой, но еще более богатой и пышной, а предыдущую ризу перенес на специально выполненную для того копию, которую поставил по левую сторону «царских врат» в том же местном ряду.
Как убедительно показал В. А. Плугин, ошибка предшествующих исследователей заключалась в том, что они, вслед за известным историком А. В. Горским, считали, что Иван IV только «одел» золотой ризой уже имеющийся образ[314], хотя во вкладной книге 1673 г., воспроизводящей записи отписных ризных книг 1575 г., прямо указано: «Государя ж царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Русии вкладу написано в отписных ризных книгах 83 [1575] году <…> образ местной живоначальныя Троицы, обложен златом, венцы златы»[315] и т. д. Другими словами, «Троица Рублева» если и была написана Андреем Рублевым, то не для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, а для какого-то другого храма. Какого?
Автор статьи полагал, что «стиль, колорит, композиция, образное решение, размеры и пропорции доски свидетельствуют о том, что она („Троица“. — А. Н.) была написана для иконостаса с поясным деисусным чином типа и размеров звенигородского»[316], который, как известно, без каких-либо документальных оснований исследователи приписали кисти Андрея Рублева.
Если оставить в стороне Звенигород, то замечания В. А. Плугина оказываются чрезвычайно меткими. Исследователям творчества Рублева и иконостаса Троицкого храма всегда оставалось удивляться, почему центральная по замыслу храмовая икона так яростно (другого слова я не могу найти) дисгармонирует со всем остальным иконостасом. И не только своими красками. За исключением головы архангела Гавриила, самый придирчивый исследователь не обнаруживает ничего общего между «Троицей Рублева» и остальными многочисленными фигурами деисусного и праздничного рядов. Больше того, в глаза бросается несоразмерность «Троицы» и пространства, выделенного под нижний, «местный» ряд. «Троица Рублева» по своей высоте меньше расстояния между тяблами, куда она должна была плотно входить, поэтому для нее была сделана специальная рама. Между тем, если бы «Троица» была написана для этого иконостаса, она должна была соответствовать ему как своей палитрой, так и своими размерами.
Правда, история «местного ряда» Троицкого собора, затронутая в свое время В. И. Антоновой[317], еще ждет своего документального изучения, поскольку в настоящее время в нем не осталось ни одной изначальной иконы. Исключением считали «Троицу», но, как теперь выяснилось, последнее было ошибкой.
А как быть со «Сказанием о святых иконописцах», литературным памятником конца XVII в., сообщающим о создании Андреем Рублевым по повелению игумена Никона «образа пресвятые Троицы» в похвалу Сергию Радонежскому? Но как показал тот же Плугин, в одном из сохранившихся списков, восходящем, по-видимому, к более раннему времени, на месте слова «образ» стоит «церковь»[318], что подтверждается фактом росписи Троицкого храма и созданием его иконостаса по прорисям, которыми за двадцать с лишним лет до этого пользовались Фео-фан Грек, «Прохор с Городца» и тот же Андрей Рублев. Церковь — а не образ. И это стоит запомнить.
Столь же неожиданно В. А. Плугин обнаружил еще один серьезный аргумент, позволяющий со всей категоричностью утверждать, что еще в 1547 г. в Троице-Сергиевой лавре не было «Троицы Рублева», и вот почему.
Как известно, в то лето страшный пожар опустошил Москву, выгоревшую чуть ли не целиком, причем сильно пострадали и храмы Кремля. До нас дошел ряд документов, благодаря которым известно, как происходило восстановление их иконного убранства[319]. Для этого в Москву были вызваны новгородские и псковские иконники, в центральные храмы были свезены самые замечательные иконы из крупных городов и монастырей России и с них снимали копии. Однако, как писал в своей «Жалобнице» знаменитый поп Сильвестр, игравший немаловажную роль в кремлевской жизни начала 50-х гг. XVI в. и, судя по всему, прямо отвечавший за эти восстановительные работы, в Троице-Сергиевой лавре брали не иконы, а только прориси с них[320]. Если бы в это время там находилась «Троица Рублева», она безусловно стала бы образцом для новых икон. Между тем, именно тогда написанная для Кремля «Троица с деяниями» никоим образом не повторяет «Троицу Рублева», которую через четыре года «Стоглав» — как принято считать — указывает иконописцам в качестве образца[321].
Стоит заметить, что, несмотря на такое прямое указание, иконописцы продолжали игнорировать тип «ангельской Троицы», воспроизводя и после «Стоглава» только тип «Троицы ветхозаветной», может быть, потому, что, вопреки представлениям современных искусствоведов, цитирующих этот документ, на самом деле там говорилось не об изображении «Троицы», как это ошибочно повторяют исследователи, а всего только о крестах в нимбах и о надписях. Примером столь характерной ошибки может служить типичное для данного случая утверждение Г. В. Попова, что споры о написании «Троицы» закончились «своего рода канонизацией рублевского варианта на Стоглавом соборе 1551 г.»[322].
Однако Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре не мог существовать без «Троицы», которую Андрей Рублев должен был написать вместе с иконостасом, если он работал над ним. Следовательно, такая икона существовала, так что вклад Ивана IV был сделан не на пустое место. Он должен был заменить собой какую-то другую «Троицу», которая, скорее всего, и принадлежала кисти Рублева. И у меня есть основания утверждать, что эта икона не только сохранилась, но и хорошо нам известна.
В 1920 г. во время национализации Лавры, когда ее имущество делили между собой Комиссия по охране памятников Лавры и Сергиевский исполком, на паперти церкви св. Зосимы и Савватия была обнаружена ветхая, весьма пострадавшая от времени, поновлений и просто небрежения икона «Троицы ветхозаветной». После того как в 1958–1960 гг. реставратор Н. А. Баранов расчистил ее от позднейших записей и укрепил, стало ясно, что она была создана в первой половине, а, быть может, и в первой четверти XV в.[323]
Нельзя сказать, что новооткрытая «Троица» выпала из поля зрения специалистов. Г. И. Вздорнов с присущей ему проницательностью понял то исключительное значение, которое представляет эта икона для атрибуции «Троицы Рублева» и более широко — для решения «рублевского вопроса» вообще.
«Это безусловно местный образ, связанный с каким-то Троицким храмом, — писал он в своем исследовании. — Точное происхождение иконы неизвестно, но правильнее всего считать, что она возникла в Троице-Сергиевом монастыре или написана для этого монастыря, где оставалась в последующее время»[324].
Далее исследователь анализировал возможные варианты и приходил к выводу, что икона, скорее всего, была написана для деревянного (первого) храма Троицы в 1411 г., т. е. до «Троицы Рублева», однако самим Рублевым или кем-то «из его круга». Логично было предположить также, что после гибели деревянного храма 1411 г. икону перенесли на подобающее ей место в новый каменный Троицкий собор, однако этому мешала укоренившаяся уверенность, что «Троица Рублева» была написана как раз для этого нового храма.
Исходя из такой посылки, Г. И. Вздорнов нашел компромиссное решение, как мне представляется, не слишком убедительное для него самого: «Ко второй половине XVI в. в Троице-Сергиевой лавре имелось три каменных храма, посвященные Троице. В одной из этих церквей и должна была стоять в ряду местных образов указанная икона. Но в белокаменном соборе находилась „Троица“, написанная Андреем Рублевым, а сооружение Успенского собора заканчивалось полтора столетия спустя после того, как новооткрытая икона была водворена на предназначенное для нее место в каком-то другом храме. Этим последним, следователъно, была третья Троицкая церковь, а именно — церковь св. Духа, где, вероятно, и находилась в XV в. наша икона»[325].
Теперь, после находки В. А. Плугина, мы знаем, что «Троицы Рублева» в XV в. в Троицком соборе не могло быть, а ее место скорее всего, занимала найденная в 1920 г. икона, по своему колориту, рисунку и деталировке фигур несравненно лучше вписывающаяся в ансамбль троицкого иконостаса, чем все остальные известные нам иконы. Даже размеры ее доски — 161x122 см. гораздо лучше соответствуют расстоянию между тяблами иконостаса в местном ряду, чем «Троица Рублева» (142x114 см.) и ее году невская копия (146x116 см.). Оценивая новооткрытую «Троицу», все искусствоведы, касающиеся этой темы, согласны с ее большей близостью византийским изводам и с ее явным старшинством по отношению к «Троице Рублева».
Другими словами, при постройке Никоном нового (каменного) Троицкого собора в 20-х гг. XV в. у него уже должна была быть икона «Троицы» для местного ряда, если принять датировку Г. И. Вздорнова. Однако, учитывая удивительную близость этой «Троицы» деисусному чину Троицкого собора и соответствие ее размеров местному ряду иконостаса, вернее будет предположить, что они были созданы одновременно. Следовательно, если Андрей Рублев действительно писал по заказу Никона «Троицу», то ею может быть только эта, «ветхозаветная», найденная в 1920 г. на паперти церкви Зосимы и Савватия. Именно с этой иконы, как можно думать, были сделаны прориси 1547 г., использованные собранными в Москве иконописцами, тем более, что сама она полностью укладывается в то представление «образцового подлинника» в сознании людей XVI в., какими были иконостасы, связанные с именем Андрея Рублева.
Наконец, — и это немаловажно — новооткрытая «ветхозаветная Троица», восходящая по датировке специалистов к первой половине XV в., то есть ко времени, когда она могла находиться только в Троицком соборе лавры (церковь Сошествия св. Духа была построена лишь в 1476 г.), несет на себе следы богатого оклада, косвенным образом подтверждающие ее нахождение в местном ряду центрального храма монастыря.
Откуда же появилась «Троица Рублева»?
Пытаясь ответить на этот вопрос, В. А. Плугин, чтобы не разрушать легенду, ограничил себя постулатом о создании Андрей Рублевым «Троицы Рублева» для звенигородского Успенского собора, откуда образ мог быть взят в Москву в 1547 г., а затем, богато украшенный Иваном IV, мог быть передан в Троице-Сергиеву лавру, причем значительно ранее 1575 г. Он полагает, что подобный подарок монастырю Иван IV мог сделать во второй половине 50-х и даже в 60-х гг. XVI в.[326] Вряд ли. Оснований для таких пожертвований мы не знаем, и фактов таких в эти годы не видим. Гораздо достовернее данные вкладных книг, поскольку именно в первой половине 70-х гг. XVI в. Иван IV делает щедрые вклады в монастыри по убиенным, замаливая свои опричные грехи. В таком случае происхождение «Троицы Рублева» следует связывать не со Звенигородом, а с новгородским походом Ивана IV, с ограблением Старицы, Твери, Торжка, Новгорода и окрестных монастырей, откуда он отправлял в Москву сотнями возов изъятую местную «святость».
Версия «звенигородского» происхождения «Троицы Рублева» не выдерживает критики еще и потому, что до сих пор никем не доказано (и вряд ли будет доказано без соответствующих архивных находок) авторство Андрея Рублева по отношению деи-сусного чина, происходящего из Успенского собора в Звенигороде. Последний не имеет ничего общего ни в палитре, ни в технике, ни в рисунке ни с «Троицей», ни с теми чиновыми иконами, в создании которых мог принимать участие Андрей Рублев. Стоит напомнить, что само усвоение звенигородских икон Рублеву произошло исключительно под влиянием «мифа о Рублеве», в котором главнейшую роль сыграло раскрытие «Троицы», разом выпавшей из ряда привычных представлений о древнерусской иконописи того времени.
Другими словами, перед нами две загадки — «Троица Рублева» и «звенигородский чин», — сходства между которыми, кроме, может быть, некоторых использованных красочных пигментов, практически нет.
Пока можно утверждать только, что «Троица Рублева» и звенигородские иконы были созданы первоклассными мастерами, имена которых нам с достоверностью неизвестны. Но если звенигородский чин, несмотря на свою исключительность, не выпадает из круга иконописи «московской школы» XV в., продолжая и развивая византийские традиции, то в «Троице Рублева», как совершенно справедливо замечали некоторые исследователи, перенесены на русскую почву художественные традиции северной Италии, а среди русских иконописных школ ее истоки вероятнее всего искать в Новгороде. Косвенным подтверждением такого вывода может служить, с одной стороны, гравированное изображение именно такой (этой?) «Троицы» на уже упоминавшемся серебряном панагиарии 1435 г. из Софии новгородской, а с другой — время поступления иконы в Троице-Сергиеву лавру после известного погрома Новгорода в 1570 г.
Есть и еще одно немаловажное отличие этих шедевров русской иконописи друг от друга. «Звенигородский чин» создан иконописцем и отмечен всеми характерными особенностями техники иконописания, в то время как «Троица Рублева» несет явный отпечаток руки мастера смелых и ярких фресковых росписей, кстати сказать, ничего общего не имеющих с фресками Успенского собора во Владимире, в которых видят произведения Рублева. В какой-то степени техника письма «Троицы» стоит ближе к той, что мы видим на иконе «Преображение» работы Феофана Грека, но только в какой-то степени, а по своему колориту, как ни странно, икона оказывается гораздо ближе к фрескам XIV в., выполненными итальянскими художниками в храме у с. Лыхны в Абхазии.
А как же Андрей Рублев?
Загадка самого Андрея Рублева много сложнее и острее, чем загадка приписываемой ему «Троицы». В последнем случае перед нами действительно исключительное по художественным достоинствам произведение русского иконописного искусства, работа художника, сумевшего отразить в нем всё лучшее, что было создано к этому моменту на Руси, в Италии и в Византии, поэтому не так уж важно, как звали этого мастера. Интересно? Да. Но если он оставил нам себя не в имени, а в совершенстве своего творения, то тем самым он и остался для нас бессмертным. Мы видим именно его творение, а не чье-либо иное, только приписываемое ему преданием или домыслами исследователей.
К сожалению, теперь мы уже не можем сказать того же о самом Андрее Рублеве. И чтобы хоть немного продвинуться в этом направлении, следует разобраться: а что нам вообще о нем известно? Практически — почти что ничего, если не считать двух его художественных биографий, выпущенных в свое время издательством «Молодая гвардия»[327] и состоящих целиком из домыслов их авторов. Между тем, еще три десятилетия назад В. Д. Кузьмина сумела собрать все упоминания письменных источников об этом художнике, прокомментировать их и подвергпуть научной критике[328]. Опираясь на ее великолепную работу, к которой время вряд ли сможет добавить что-либо новое и существенное, познакомимся с материалом, которым располагает историк.
Начать следует с того, что собственно документов, в которых упоминалось бы имя Андрея Рублева, нам неизвестно. Таким образом, следующим по достоверности письменным источником становится погибшая в пожаре 1812 г. пергаменная Троицкая летопись, реконструированная М. Д. Приселковым на основании выписок Н. М. Карамзина. Из нее мы узнаем, что весной 1405 г. «почаша подписывати церковь каменную святое Благовещение на князя великаго дворе, не ту, что ныне стоит, а мастеры бяху Феофан иконник Гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев, да того же лета и кончаша ю»[329]. По этому поводу М. Н. Тихомиров заметил, что в данном случае у Карамзина нет ссылки на Троицкую летопись, а оговорка «не ту, что ныне стоит», могла появиться не ранее конца XV в., хотя за всем тем сомневаться в точности самого известия нет оснований[330].
Через три года имя Рублева всплывает снова: в 1408 г. «мая в 25 начата подписывати церковь каменную великую соборную святая Богородица иже во Владимире повелением князя великаго, а мастеры Данило иконник да Андрей Рублев»[331].
И это — всё. Две фразы в летописи — всё, чем мы располагаем в отношении Андрея Рублева, его работы и его сотоварищей. Более поздние списки летописей эти известия повторяют или сокращают вплоть до полного опущения имен.
Из всего этого можно извлечь только, что в 1405 г. Андрей Рублев был уже монахом («чернец»), происходил, скорее всего, из боярского рода (указан не по имени только, а и по фамилии) и был достаточно искусным мастером фресковой росписи, потому что его имя упомянуто на третьем месте после такого прославленного художника, как Феофан Грек, вызванного к работе из Новгорода. Через три года он работает на росписи Успенского собора во Владимире, судя по упоминанию на втором месте, под началом «иконника» Даниила, который, согласно преданию, становится его другом и спутником до конца жизни[332].
Стоит обратить внимание, что в обоих записях указывается об исполнении Рублевым именно фресковых работ и отсутствует какой-либо намек на собственно иконописание. Более того, специальное указание Даниила «иконником» как бы противопоставляет его Рублеву и подчеркивает различие между ними. Я не могу утверждать, что Рублев был только мастером фрески, хотя, как известно, в эпоху средневековья разделение труда и его специализация строго соблюдалась как в Европе, так и в Азии, а Русь не была в этом смысле исключением из правила. Рублев мог писать иконы, например, в зимний период, однако обе заказных работы, отмеченные летописью, связаны именно с работами альфреско. Об этом недвусмысленно свидетельствует запись под 1405 г., сообщающая, что, начав весною, к осени художники уже закончили роспись церкви Благовещения.
Даже при наличии большой артели столь определенный временной интервал позволял завершить лишь роспись стен, не более, после чего только и можно было на следующий год, когда роспись «устоится», приступать к установке арматуры иконостаса и наполнению храма иконами и прочей «святостью». Последнее требовало значительно большего времени, поскольку до написания икон и построения иконостаса требовалось заготовить для икон доски соответствующего размера, а главное — выдержать их, высушить, проклеить, загрунтовать, так что все эти операции, как и само написание образов, растягивались не на месяцы, а на годы. Примером того, как много времени требовала работа иконописца, причем над срочным царским заказом, служит ситуация, отраженная в материалах собора 1554 г., когда разбирался «мятеж» дьяка И. М. Висковатого против «новомысленных» икон, созданных псковскими и новгородскими мастерами. Работать над ними они начали сразу же, как только получили задание, т. е. в 1547 г., а сдали заказ — как это получается по делу, возбужденному И. М. Висковатым, — шесть лет спустя[333].
Не расходятся в показаниях с летописью и другие, гораздо менее надежные источники, сообщающие о дальнейшей жизни Рублева — «Житие Сергия Радонежского» и «Житие Никона», его ученика и преемника на игуменстве, написанные известным агиографом Пахомием Логофетом (иначе — Сербом) в период между 1430 и 1450 годами. Используя записи своего предшественника, Епифания, Пахомий составил несколько редакций того и другого жития, отличающихся фактами и их освещением. Не будучи очевидцем, во второй редакции «Жития Сергия» он пишет о постройке Никоном в Сергиевом монастыре Троицкого собора на средства князя Юрия Дмитриевича звенигородского (отсюда и допущение современных исследователей, что Рублев мог работать в Звенигороде), что Никоном:
«…умолены быша <…> чюднии добродетельнии старцы и живописцы, Даниил и Андрей. <…> И яко украсиша подписанием (выделено мною. — А. Н.) церковь сию в конец своего богоугодного жития блаженного, и тако к господу отидоша во зрении друг с другом в духовном союзе, якоже и зде пожиста»[334].
Казалось бы, свидетельство однозначное: Даниил с Андреем были приглашены Никоном «подписывать» собор фресками и по окончании работы оба умерли в этом же монастыре. Однако в так называемой Первой пространной редакции «Жития Никона», написанной, как предположила В. Д. Кузьмина, в 1450 г., тот же Пахомий по завершении работы художниками в Троицком соборе отпустил их в московский Спасо-Андроников монастырь, где они расписали Спасский собор и на этот раз умерли там. Последующие редакции «Жития Сергия» вплоть до середины XVI в., откуда дошли до нас великолепные «лицевые» рукописи, представляют обе версии смерти художников, не добавляя ничего нового, за исключением немаловажного факта: на всех этих миниатюрах Андрей Рублев изображен расписывающим стены храмов фресками[335].
Другими словами, ни летописи, ни предание, исходящее из стен Троице-Сергиева монастыря, где работал Пахомий, ничего не говорят о создании художником икон. В этом смысле В. А. Плугин совершенно прав, полагая, что Никон приглашал Даниила и Андрея писать не «образ», а «церковь» Троицы[336].
Противоположное мнение, утверждающее Андрея Рублева в качестве именно иконописца, опирается на свидетельство Иосифа Волоцкого, восходящее к началу XVI в., т. е. спустя столетие после описанных событий. Основатель Волоколамского монастыря упоминает в письме к Б. В. Кутузову полученные им от Феодосия, сына знаменитого иконописца Дионисия, «иконы Андреева письма»[337]. Как свидетельствует челобитная волоколамских монахов старцу Ионе Голове, датируемая 1515–1522 гг., личной собственностью игумена были три иконы «Рублева письма Андреева»[338]. Видимо, эти же иконы были отданы им князю Федору Борисовичу, о чем упоминает в «Житии Иосифа Волоцкого» его биограф Савва Крутицкий, писавший в 1540 г.[339]
Менее определенно Иосиф Волоцкий говорит об Андрее Рублеве и Данииле в той части своей «Духовной», которая известна как «Сказание вкратце о святых отцех, бывших в монастырях, иже в Рустей земле сущих». Он пишет общими словами о дружбе между Андреем Рублевым и его «спостником» Даниилом и о том, что «по всяк час», свободный от работы, они предавались любованию и лицезрению святых икон[340]. Всё это можно расценивать как зарождение и развитие церковной легенды, весьма мало заслуживающей доверия уже потому, что, не говоря уже об Иосифе Волоцком, писавшем о Рублеве восемь десятков лет спустя после его смерти, даже Пахомий, собиравший материал о художнике по свежим следам и среди людей, помнивших его, не мог однозначно ответить на вопрос, где и когда тот умер и что расписывал раньше, а что позже — Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре или Спасский собор в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве.
Больше того. Позиция, занимаемая Иосифом Волоцким и его монастырем в общественно-политической и церковной жизни Москвы конца XV — первой половины XVI в., когда «презлые иосифляне», выступая в защиту неукоснительного соблюдения церковной старины, беспощадно боролись со всякими новыми веяниями, не только со свободомыслием, но и просто с инакомыслием, позволяет предположить, что по каким-то причинам Андрей Рублев оказался выгодной фигурой в борьбе с их противниками. Причина же может быть только одна: в своем творчестве Андрей Рублев был сугубо традиционен и консервативен в следовании византийскому подлиннику, но «зело изящен» в его исполнении. Отсюда и ссылка на Рублева в «Стоглаве», предполагающая образцом «Троицы» отнюдь не «ангельский» извод, а «ветхозаветный», с Авраамом и Саррою, как можно видеть по написанному тогда же для Кремля образу «Троица в деяниях».[341]
С тех же позиций, как мне представляется, следует рассматривать и «Сказание о святых иконописцах» — компиляцию рубежа XVII–XVIII вв. Внимательное изучение текста, относящегося к Андрею и Даниилу, открывает истоки сведений, которыми пользуются до настоящего времени все, пишущие о творчестве Рублева, не подвергая их сомнению или критике. Ввиду исключительного значения этого текста привожу его полностью.
«Преподобный отец Андрей радонежский, иконописец, прозванием Рублев, многая святыя иконы писал, все чудотворные. Яко же пишет о нем в Стоглаве святого чудного Макария митрополита, что с его письма писати иконы, а не своим умыслом. А преже живяше в послушании у преподобного отца Никона Радонежского. Он повеле при себе образ написати святыя Троицы в похвалу отцу своему святому Сергию Чудотворцу. <…> Преподобный отец Даниил, спостник его, иконописец, зовомый Черный, многая с ним святыя иконы чудесныя написаша, везде неразлучно с ним. И зде при смерти приидоша к Москве в обитель Спасскую и преподобных отец Андроника и Саввы, и написаша церковь стенным письмом и иконы призыванием игумена Александра, ученика Андроника святаго и сами сподобишася ту почити о господе, яко же пишет о них в житии святаго Никона»[342].
Текст этот интересен тем, что он раскрывает нам источники компиляции неизвестного автора, трудившегося явно в Троице-Сергиевом монастыре, поскольку Андрей Рублев, подобно Никону, оказывается у него безо всяких на то оснований «радонежским». Как видно, он пользовался «Житием. Никона» (пространной редакции Пахомия), «Стоглавом» и летописью — если не самим Троицким списком, то таким, чьи известия за 90-е гг. XIV в. прямо к нему восходят. Очень похоже, что на основании знакомства с этим текстом под его пером впервые возникло здесь невероятное сочетание «Даниил Черный», столь широко пущенное на страницы научных работ современными искусствоведами и историками, хотя на самом деле речь в первоисточнике шла о двух разных художниках: под 1395 годом — о Семене Черном[343], а под 1408 годом — об иконнике Данииле[344]. Этого мифического «Даниила Черного», сопровождающего Андрея Рублева по жизни, можно встретить теперь во всех работах о Рублеве, хотя простое ознакомление с первоисточником, т. е. с Троицкой летописью, показало бы любому интересующемуся всю фантастичность подобного имясочетания. Не таким ли путем возник миф и о «многих чудотворных иконах» письма Андрея Рублева, местонахождение которых, однако, ни в одном списке чудотворных икон не указывается?
Подводя итоги предпринятому разысканию сколько-нибудь документальных биографических сведений об Андрее Рублеве, приходится констатировать их неутешительность, если не бесперспективность. Единственное, о чем, как мне представляется, можно говорить уверенно, так это о том, что Андрей Рублев, отмеченный Троицкой летописью в начале XV в., был преимущественно мастером фресковой росписи и принимал участие в украшении четырех храмов: исчезнувшей к концу XV в. церкви Благовещения в московском Кремле, Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре и Спасского собора Андроникова монастыря в Москве.
О качестве этих росписей мы можем судить только по сохранившимся фрескам в Успенском соборе Владимира: первоначальная роспись Троицкого и Спасского соборов позднее была безжалостно срублена. Факт этот, достаточно интересный для размышления о возможных причинах уничтожения прекрасных фресок (об их достоинствах и колорите можно было судить по множеству сохранившихся фрагментов, открытых под настилом пола Спасского собора Андроникова монастыря при реставрационных работах в 50-х гг. нашего века и, я надеюсь, до сих пор хранящихся в запасниках нынешнего Музея древнерусского искусства им. Андрея Рублева), может свидетельствовать о какой-то «еретичности» реального Рублева, его учителей и коллег в глазах последующих поколений российских церковников, уничтожавших произведения художника, но канонизировавших его имя, которым освящалось дальнейшее развитие духовной живописи.
Мысль эта, при всей своей парадоксальности, может оказаться не бесполезной при попытке представить действительное художественное наследие Рублева. Однако сейчас я хочу остановиться еще на двух моментах биографии художника, один из которых по какой-то причине игнорируется его исследователями, а второй не попал в поле их зрения. Речь идет о происхождении Рублева и времени его смерти.
Среди иконописных мастеров, поименованных Троицкой летописью, только Андрей Рублев назван по имени и фамилии, что может служить указанием на его аристократическое происхождение. Остальные иконописцы — Феофан «Гречин», Прохор «с Городца», Семен «Черный» — отмечены по этническому признаку, по месту происхождения или прозвищем. Косвенным подтверждением родовитого происхождения «чернеца Андрея» могут служить упоминания в Псковских летописях под 1474, 1477, 1484 и 1486 гг. боярина Андрея Семеновича Рублева[345] (он мог приходится внуком или внучатым племянником художнику, поскольку в каждой ветви рода обычно использовался ограниченный набор имен), а равно и топонимы «Рублево», происходящие от фамилии владельца села. Разыскания в этом направлении среди актового материала могут дать интересные, хотя и не бесспорные результаты.
Более определенно можно говорить о времени смерти Андрея Рублева и его «спостника» Даниила, опираясь, как это ни покажется странным, на сочинения Пахомия, содержащие взаимоисключающие версии, по одной из которых друзья умирают в Троице-Сергиевой лавре, а по другой — в Андрониковой монастыре. Но вот что здесь примечательно. По обеим версиям Пахомия: 1) настоятели обоих монастырей приглашают Даниила и Андрея («умаливают») откуда-то со стороны, после чего их торжественно встречают, т. е. они не принадлежат к братии этих монастырей, что можно считать безусловным фактом; 2) вне зависимости от того, в какой последовательности шла роспись монастырских соборов, Спасского и Троицкого, смерть «спостников» наступила после завершения этих работ, и 3) оба художника умерли одновременно, что подчеркивается и текстом, и миниатюрами лицевых житий, где они лежат рядом на смертных одрах.
Последнее мне представляется особенно важным. Судя по тому, что Пахомий, работавший в 40-х гг. XV в. в Троицком монастыре, не мог собрать достоверных известий о конце художников, место их смерти правильно приурочивается к Андроникову монастырю. Но сам факт одновременной смерти наводит на мысль, что причиной ее явилась какая-то эпидемия, кстати сказать, унесшая и большинство свидетелей последних лет жизни Даниила и Андрея.
Действительно, 27 мая 1425 г. в Москве и на окружающих ее землях начался «великий мор», который свирепствовал на протяжении последующих двух лет[346]. Если принять за достоверное, что Троицкий собор был начат строительством в 1422 г. (год открытия мощей Сергия), то Даниил и Андрей, уже закончившие роспись Спасского собора, могли успеть расписать Троицкий за лето 1425 г. (два года на строительство, год — на усадку и просушку), после чего возвратились в Москву в самый разгар морового поветрия и умерли между 1425 и 1427 годами.
Что же касается известного устного сообщения П. Д. Барановского о виденной им в копии XVIII в. надписи на могильной плите Рублева в Андрониковой монастыре, содержавшей известную дату смерти художника — 21 января 1430 г.[347], — то оно вызывает сомнение как точностью своей, необычной для того времени, так и хорошо выясненным обстоятельством, что первые надписи на могильных камнях московских некрополей появляются не ранее самого конца XV в., т. е. много десятилетий позже описываемых событий[348].
* * *
Задачей этой работы было показать, как мало в действительности нам известно об Андрее Рублеве и о его творчестве, как всё это обросло непроницаемыми слоями легенд и домыслов исследователей, так что и концов, казалось бы, не найти. Сейчас, после открытия В. А. Плугина, позволяющего освободиться от гнета легенды, настало время пересмотреть устоявшийся «миф о Рублеве», истоки которого уходят в XV–XVI вв.
Вряд ли надо доказывать, что «Троица Рублева», потеряв имя своего автора, ничуть не проиграла в своей прелести и значимости для мирового искусства, подарив нам еще одного неизвестного ранее мастера, создавшего столь же яркое художественное произведение, как дошедшее до нас «Слово о полку Игореве». Если же быть точным, то, отказываясь от фиктивного «наследия Рублева», мы обретаем произведения нескольких новых, совершенно блистательных и столь же неизученных художников XV в., оставивших нам, кроме «Троицы Рублева», «звенигородский чин», евангелия Хитрово, Морозова и Кошки, и все остальные первоклассные, совсем друг на друга не похожие шедевры, расширяющие наши представления о богатстве и разнообразии художественной культуры Руси XV в.
В связи с этим на память невольно приходят пророческие слова одного из ранних исследователей творчества Рублева, писавшего после раскрытия В. П. Гурьяновым «Троицы», что даже если эта икона и не будет впоследствии признана работой Андрея Рублева, мы ничего не потеряем, потому что у нас останется, с одной стороны, имя художника, работавшего в XV веке, а с другой — выдающееся произведение искусства, созданное не менее великим мастером[349].
Действительно, отделение «Троицы Рублева» от имени ее предполагавшегося автора открывает перед исследователями широкие возможности поиска подлинного наследия Андрея Рублева, к которому теперь можно подойти уже непредвзято, освободившись от невольных «фильтров» и «шор», которые налагала на нас «Троица». Исследователи Рублева всё открываемое сознательно и бессознательно поверяли «Троицей» и, как часто бывает в таких случаях, в угоду кажущемуся отказывались от действительного. Начать можно хотя бы с исследования тождества прорисей, использованных при создании деисусного чина и праздничных рядов московского Благовещенского собора (сомнение в аутентичности которых весьма обстоятельно аргументировала Л. А. Щенникова[350]), Успенского во Владимире и Троицкого в Троице-Сергиевой лавре, то есть комплексов, в украшении которых принимал (или мог принимать) участие Рублев. Не исключено, что именно они позволят выяснить систему признаков, по которым можно определять почерк артели, с которой работали Даниил и Андрей Рублев.
К чему это приведет, предугадать трудно. Очень может быть, что в этом случае знаменитая икона «Успение» из Кирилло-Белозерского монастыря, создание которой предание упорно приписывало именно Андрею Рублеву[351], окажется действительно его работой, а вместе с ней — какие-то другие иконы, которым до расчистки «Троицы» Гурьяновым тоже усваивалось имя «Рублевских». Как бы то ни было, на место восторженных эмоций теперь должен прийти сухой и безжалостный анализ, не выдающий желаемое за действительное, а освобождающий истину из плена домыслов и догадок.
Рублев безусловно заслуживает этого уже потому, что его имя столь долго связывалось с одним из самых прекрасных произведений нашего средневекового станкового искусства — с «Троицей», которая навсегда вошла в историю мирового искусства как «Троица Рублева». Вероятно, под этим именем она будет жить и впредь — не как «Троица» Андрея Рублева, а как просто «Троица Рублева». О такой возможности четверть века назад косвенно предупреждал Г. И. Вздорнов, когда писал:
«С тех пор, как расчищена рублевская „Троица“, прошло более полувека, но история этой иконы всё еще остается неясной. Главная трудность в ее изучении состоит в том, что о ней не сохранилось ни одного известия, не только современного жизни великого художника, но и такого, которое можно было бы уверенно отнести к XV столетию. В сущности, нет даже и прямых доказательств того, что икона „Троица“ из иконостаса Троицкого собора Сергиевой лавры написана именно Рублевым, а не другим художником»[352].
Теперь пришло время всерьез заняться и ее изучением. Мы, действительно, ничего о ней не знаем. А вопросов много. Например, кто ответит с достоверностью, какими красками она написана и когда эти красители появились на Руси? Откуда они к нам пришли — с Востока, из Византии или из Западной Европы? Где впервые были использованы — в Новгороде или в Москве? Как, в каких составах использовались, откуда заимствована их технология? Как она соотносится с другими памятнй ками и другими школами?
Наконец, мы должны возможно точнее выяснить, когда именно была написана «Троица».
До сих пор все определения времени создания недатированных икон проводились методом сравнения: «похоже» — «не похоже», «напоминает» или «не напоминает». Между тем, физиками, химиками, криминалистами разработано достаточное количество самых разнообразных методик определения состава, технологии и возраста, не требующих разрушения красочного слоя. Самым простым в данном случае методом можно считать дендрохронологию, шкала которой детально разработана для Новгорода и Новгородской земли нашими археологами. Конечно, обтесанные доски, составляющие основу для красочного слоя «Троицы», не дадут нам точного указания на год, когда были срублены деревья, из которых они сделаны. Но их изучение даст интервал хотя бы в 20–25 лет, который на первых порах будет вполне достаточен для определения времени написания иконы. То же самое предстоит выполнить и в отношении ее ближайших аналогов — «Троицы» Паисия 1485 г. из Успенского собора Иосифо-Волоколамского монастыря, «Коломенской Троицы», датировка которой образует интервал почти что в сто лет, «Махрищенской Троицы» и, конечно же, «Ветхозаветной Троицы», найденной в 1920 г. на паперти церкви Зосимы и Савватия в Троице-Сергиевой лавре.
Лишь когда это будет сделано, мы сможем из области догадок и мифотворчества ступить на твердую почву фактов нашего действительного прошлого.
Место Кирилло-Белозерского списка в рукописной традиции «Задонщины»[353]
Вопрос о времени возникновения того или иного историко-литературного текста Средневековья и о его дальнейших метаморфозах в случае отсутствия точной даты или же свидетельства современников всегда остается открытым для дискуссий и внесения уточнений на основе фактов, не замеченных или иначе интерпретированных предшествующими исследователями. Одним из таких дискуссионных памятников является «Задонщина», известная сейчас по шести спискам, датируемым временем от второй половины XV в. (К-Б) до второй половины XVII в. (Ж), и представляющим, по мнению Л. А. Дмитриева и Р. П. Дмитриевой, которые следуют в этом за Р. Якобсоном, «текст одной редакции, но в двух изводах»[354]. Исчерпывающая библиография, приведенная в их работах, освобождает меня от необходимости излагать историю изучения данного памятника, тем более, что в настоящей заметке делается попытка уточнения лишь одного частного вопроса, не требующего рассмотрения его истории ab ovo. Речь идет о выяснении рукописной истории «Задонщины» и взаимозависимости ее списков, разночтения которых не всегда можно объяснить, а также связям «Задонщины» с текстом «Слова о полку Игореве», которому в ряде фрагментов она следует текстуально, репликационно и композиционно.
Как известно, решение последнего вопроса осложняется наличием «Сказания о Мамаевом побоище», в котором представлены реплики тех же фрагментов «Слова о полку Игореве», что и в «Задонщине». Поскольку «Сказание…» появилось позднее «Задонщины», т. к. его самые древние списки датируются не ранее первой половины XVI в., часть исследователей[355] полагает вслед за А. А. Шахматовым, что источником заимствований для «Задонщины» и «Сказания…» было не само «Слово о полку Игореве», а некий промежуточный текст, названный им «Словом о Мамаевом побоище»[356]. Однако такое предположение, как и многие другие гипотетические построения Шахматова, до сих пор не нашло никакого реального подтверждения. Это вынуждает снова обратиться к рассмотрению имеющихся списков «Задонщины» и к вопросу о времени ее создания.
Попытку очередного решения этой задачи предпринял в 1985 г. В. А. Кучкин[357]. Изложив историю изучения вопроса своими предшественниками, большинство которых склонялось к признанию «Задонщины» памятником середины или второй половины XV в., историк, будучи сторонником ранней даты создания произведения и следуя здесь за М. Н. Тихомировым[358] и Г. Н. Моисеевой[359], попытался использовать для своих целей содержащийся в текстах «список городов», к которым «шибла слава» (т. е. весть) о поражении Мамая и победе русских войск на Куликовом поле:
«Шибла слава к Железнымъ врагом, к Риму и к Кафы по морю, и к Торнаву, и оттоле к Царюграду» [И-1, Тексты, с. 543].
«А глава шибла к Железным вратам, ли къ Караначи, к Риму и х Сафе по морю и к Которнову, и оттоле ко Царюграду» [У, Тексты, с. 538].
«Шибла слава к мору и Ворнавичом и к Железным вратом, ко Кафе и к турком и ко Царуграду» [С, Тексты, с. 553].
Наличие в этом перечне города Тырново (Торнав, Котор. нав), столицы Второго Болгарского царства, захваченного тур. ками в 1393 г., дало основание М. Н. Тихомирову заключить, что «первоначальный текст „Задонщины“ составлен был не позднее этого года»[360]. В. А. Кучкин пошел в этом направлении дальше воспользовавшись отождествлением Г. Н. Моисеевой «Каранача» и «Воронавича» с городом Орначем/Ургенчем[361], разрушенном Тимуром в 1388 г., который он посчитал возможным использовать в качестве terminus ante quern.
«Таким образом, — писал историк, — автору Задонщины упоминать Орнач (Ургенч) в качестве одного из крупнейших городов известного ему и его читателям европейского и азиатского мира, которого достигла слава о победе русских на Куликовом поле, после 1388 г. уже не имело смысла. Отсюда можно заключить, что Задонщина (или ее источник, повествовавший о Донском побоище) создавалась до 1388 г.»[362]
Как известно, любое заключение в отношении ряда компонентов, сделанное на основе истолкования одного из них, должно соответствовать всем остальным. Однако, подобно своим предшественникам, В. А. Кучкин обошел молчанием причину упоминания в этом ряду остальных городов, заставляя предполагать в них, как в Орначе/Ургенче, крупные торговые центры Средневековья, для которых это известие могло представлять определенный интерес. На самом деле, это не соответствует действительности, поскольку ни Рим (в Италии), ни Тырново (в Болгарии) не только в конце XIV в., но и вообще когда-либо такой роли не играли.
Другим аргументом в пользу раннего (в 80-х гг. XIV в.) возникновения «Задонщины», который В. А. Кучкин привел в своей следующей работе[363], стало «родословие» Ольгердовичей («сынове Олгордовы, а внуки мы Доментовы, а правнуки есми Сколомендовы» [У, Тексты, с. 536]), рассмотренное в свое время Е. Охманьским[364]. То, что данная характеристика восходит к архетипу «Задонщины», подтверждает Кирилле-Белозерский (К-Б) список, где читаются «дети Вольярдовы, внучата Едиментовы, правнучата Сколдимеровы» [Тексты, с. 549]. Выяснив, что Сколоменд был не прадедом, а прапрадедом Ольгердовичей, польский историк решил, что столь подробную (хотя и с ошибкой) информацию автор «Задонщины» мог получить только от самих Ольгердовичей или из их непосредственного окружения, а сами они, в первую очередь Андрей Ольгердович, могли слышать ее от самого Гедимина. Полностью согласившись в этом с Е. Охманьским, В. А. Кучкин уточнил время пребывания литовских князей в Москве и сделал вывод, что «если свою родословную помнил только князь Андрей, то автор „Задонщины“ мог получить эти сведения до 1385 г. и около того же времени внести их в свое произведение»[365].
Если бы не наличие специального примечания 11 на с. 349 цитируемой работы, которым В. А. Кучкин восстанавливает свой приоритет в оценке данного факта, всё это можно было посчитать ироническим выпадом в отношении польского историка, поскольку для династов и дворянства в целом рассматриваемой эпохи доскональное знание генеалогии собственной и всех остальных представителей привилегированных классов своего государства было обязанностью и главным предметом образования «с младых лет». Именно на этих знаниях основывались все последующие между ними отношения и «счеты», одинаково при заключении браков, мира, дележа земель, места в процессиях, на приемах, за столом или на поле брани. Естественно, что в Москве XV в., которая постоянно то враждовала, то роднилась с Литвою, узнать родословие великих князей литовских по нисходящим и восходящим линиям для книжного человека, каким являлся автор «Задонщины», не представляло никакого труда. Поэтому остается лишь удивляться настойчивости В. А. Кучкина, которого вряд ли кто заподозрит в наивности, продолжающего использовать подобный «аргумент» для датирования «Задонщины»[366].
Но вернемся к перечню городов, который, за исключением «Рима», фигурирует только в списках так называемой Полной редакции и отсутствует в Кирилло-Белозерском списке, чье открытие вызвало непрекращающиеся до настоящего времени и далеко идущие споры между исследователями как о нем самом так и о проблемах, связанных с «Задонщиной» в целом — ее отношении к «Слову о полку Игореве», а также времени и месте ее написания, приурочиваемом А. Д. Седельниковым к Пскову[367], что теперь вызывает особенный интерес в связи с наблюдениями Л. П. Жуковской над историей Мусин-Пушкинского текста «Слова о полку Игореве»[368], и пр.
Исключительный интерес списка К-Б обусловлен тем обстоятельством, что известен его переписчик, инок Кирилло-Белозерского монастыря Ефросин, и время его работы — 80-е гг. XV в. Более точно датировать время написания списка К-Б не представляется возможным потому, что лл. 123–129 об. сборника Ефросина, происходящего из Кирилло-Белозерского собрания ГПБ, которые занимает «Писание Софониа старца рязан-ца», как названа здесь «Задонщина», не имеют филиграней и датируются только по бумаге других листов сборника 9/1086[369]. Тем не менее, список К-Б является древнейшим из известных и, что особенно любопытно, содержит ряд чтений, отличных от более поздних списков, которые не могут быть объяснены только «сокращениями Ефросина»[370], а потому приобретают принципиальное значение.
К их числу принадлежит фрагмент «воды возпиша, весть по-даваша порожнымь землямь, за Волгу, к Железнымь вратомь, к Риму, до Черемисы, до Чяховъ, до Ляховъ, до Устюга поганых татар, за дышущеемь моремь» [Тексты, с. 549–550], который находится в списке К-Б на месте упомянутого перечня городов, куда «шибла слава». Последнее тем более неожиданно, что весь этот фрагмент традиционно полагают «репликой» на соответствующее место текста «Слова о полку Игореве» («дивъ… велить послушати земли незнаеме, Влъзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню»). Между тем, здесь, кроме реминисценций «Слова о полку Игореве» («земли незнаеме» — «порожние земли», «Влъзе» — «за Волгу»), мы находим перефразированное заимствование из «Слова о погибели Русской земли» («до ляховъ, до чаховъ… до Устьюга, где тамо бяху тоймици погании, и за дьгшючимъ моремъ… до черемисъ… а угры твердяху… городы железными вороты»[371]). Другими словами, здесь имеет место безусловная контаминация мотива «Слова о полку Игореве» («весть подаваша») и топонимов и этнонимов «Слова о погибели…» («ляхи», «чяхи», «черемисы», «Устюг», «дышащее море», «железные врата») при усвоении Устюга (о котором, как видно, автор никогда не слышал) «поганым татарам» и осмыслением городских «железных ворот», которыми «угры… городы твердяху», в качестве топонима «Железные врата», т. е. г. Дербента средневековых русских текстов[372].
Естественно задаться вопросом: какой смысл вкладывал автор Задонщины в этот перечень ориентиров, выстроенный на рецензии двух поэтических памятников весьма отличного друг от друга содержания? Ответ, как мне представляется, подсказывает сама ситуация, поскольку из «Слова о полку Игореве» заимствована идея «вести», только теперь уже вести о победе, адресованной всем тем «порожным землям», которые испытали последствия поражения от «поганых» («и оттоля Руская земля седит невесела… тугою и печалию покрышася, плачющися, чады своя поминаюты» [Тексты, с. 535]). Этот же факт позволяет объяснить появление в К-Б списке «Рима», поскольку в данном контексте он мог быть заимствован автором «Задонщины» только из текста «Слова о полку Игореве», где «у Рим кричат под саблями половецкими», т. е. испытывают агрессию тех самых «поганых», над которыми «православными князьями» наконец одержана победа. При этом совершенно неважно, насколько для автора «Задонщины» оказывался реален этот Римов/Рим, ибо используемый им текст в новом произведении обретал такую же виртуальную реальность, какой для его современников была вся Священная история, совершавшаяся одновременно как в прошлом, так и «здесь и сейчас».
Поскольку реализация идеи «славы» осталась неизменной и после появления в Пространной редакции «Задонщины» перечня городов, попробуем разобраться, когда и почему перечень списка К-Б при сохранении всего остального текста потребовалось заменить другим, уже не связанным ни со «Словом о полку Игореве», ни со «Словом о погибели…». Вопрос тем более интересен, что данный пассаж характерен только для «Задонщины». Он отсутствует в Пространной летописной повести и во всех редакциях «Сказания о Мамаевом побоище», будучи внесен уже компиляторами XIX в. в текст печатного (лубочного) варианта Основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище», содержащего многочисленные заимствования из «Задонщины»[373]. Последнее обстоятельство позволило Р. П. Дмитриевой, задача которой состояла в опровержении постулата Я. Фрчека и А. Мазона, «что Кирилла-Белозерскт вариант „Задонщины“ — древнейший»[374], предположить наличие в К-Б не только сокращений, сделанных Ефросином в процессе переписки, но также и двух дополнений. Первым из них она посчитала фрагмент «не одина м(а)ти чада изостала, и жены болярскыя мужей своихъ и осподаревъ остали, гл(агол)юще к себе: уже, сестрици наши, мужей нашихъ в животе нету, покладоша головы свои у быстрого Дону за Рускую землю, за с(вя)тыя церкви, за православную веру з дивными удалци, с мужескыми с(ы)ны» [Тексты, с. 550], вторым — «перечень адресатов», обосновывая это бережным отношением Ефросина к фактам и, наоборот, стремлением освободиться от поэтических описаний путем сокращений[375].
Посмотрим, насколько последнее утверждение соответствует действительности.
В своей работе Р. П. Дмитриева следовала Р. О. Якобсону, который выделил списки К-Б и С (а с ними и Печатный вариант) в особый «Синодальный извод» (Син) «Задонщины», отличный от остальных списков (извод Унд) и непосредственно восходящий к архетипу[376], хотя уже сравнение заимствований в «Задон-щину» из «Слова о полку Игореве», предпринятое В. П. Адриановой-Перетц по всем спискам[377], и затем более подробно — А. А. Горским[378], показало несостоятельность разделения списков «Задонщины» на изводы.
Сравнивая тексты списков К-Б и С в той части, которая соответствует К-Б, можно обнаружить, что Ефросин сократил при редактировании такие исторически важные факты, как поминание Софония и князей («И здесь помянем Софона резанца, сего великого князя Дмитрея Ивановича и правнука с(вя)того князя Володимера Киевского и брата его Владимера Андреевича» [Тексты, с. 551]), сообщение о новгородской подмоге, читающейся во всех остальных списках извода Унд («Як тые слова измовили, а уже какъ орли слетишася, выехали посадники все из Великого Новогорода 70 000 кованыя рати к великому Дмитрею Ивановичу, ко брату его кн(я)зю Володимеру Андреевичу» [там же]), указание на то, что Андрей Ольгердович — «брянский», а Дмитрий Ольгердович — «волынский» [Тексты, с. 552], большой фрагмент с родословием московских и литовских князей (от «и рече кн(я)зь Дмитреи Иванович брату своему кн(я)зю Володимеру Ондреевичу» до «ищут бо собе чести и славы и великого имени») [Тексты, с. 553], а также список бояр и князей бе-лозерских (от «не турове рано возрули» до «лежит побита и постреляна» [там же]).
Вместе с тем, в списке К-Б можно видеть сохраненными поэтические, по классификации Дмитриевой, «необязательные» Фрагменты, соответствующие фрагментам списка С, — обращение к жаворонку (от «а жаворонок, летъняя птица» до «поле Половецкое» [Тексты, с. 551]), описание московской рати (от «уже, брате, стук стучит и гром гримит» до «а мои подеманы» [Тексты, с. 4), и последующие картины приближающейся битвы, перекликаающиеся с текстом «Слова о полку Игореве» (от «вжо, брате, звеяцщ силъныя ветри» до «а лисицы на костех брешут» [там же]).
Как можно убедиться, приведенные примеры расходятся с выводами Р. П. Дмитриевой так же, как и с ее предположением о «правке» (точнее — замены) Ефросином фрагмента с перечнем конкретных городов весьма поэтическим и расплывчатым текстом, якобы именно им сконструированным из двух произведений — «Слова о полку Игореве» и «Слова о погибели Русской земли». Такому предположению противоречит искажение заимствованного текста, который приобрел вид «до Устюга поганыхъ татаръ» (вместо «до Устьюга, где тамо быху тоймици погании»), что никак не мог сочинить Ефросин, живший сравнительно недалеко от этого Устюга, а равным образом тот факт, что в составе литературного наследия Ефросина до сих пор не обнаружено никаких признаков его знакомства с текстом «Слова о погибели…» или хотя бы с житием Александра Невского, которому оно иногда предшествует, и с текстом «Слова о полку Игореве»[379]. Более того, внимательное сравнение списка С со списками «извода Унд» убеждает в их полном согласии и в том безусловном факте, что по отношению к сокращенному и изначально неполному (отсутствует вся вторая часть текста «Задонщины») списку К-Б все они представляют не особый извод, как то считали Р. О. Якобсон и Р. П. Дмитриева, а лишь другую, более позднюю редакцию памятника, чем та, что отражают переписанные Ефросином фрагменты. Обратная же зависимость оказывается невозможной потому, что требует предположения о вторичном обращении редактора «Задонщины» к «Слову о полку Игореве» и к «Слову о погибели…» для замены четкого перечня городов расплывчатым текстом, сконструированным, следовательно, на основе двух (!) памятника, что вынуждены были допускать «скептики».
Так мы приходим к неизбежному заключению, что в руках Ефросина находился текст лишь первой части «Задонщины», оборванный на «плаче» московских жен и отличный от остальных известных списков двумя фрагментами, один из которых, скорее всего, был просто утрачен при переписке протографом «извода Унд», а второй — переработан в «список городов». Он состоит из Рима, «Железных ворот» (Дербента), Тырново, Орнача/Ургенча, Царьграда и Кафы, причем последнее имя заимствовано, скорее всего, из Пространной летописной повести, указывающей город, куда бежал Мамай[380]. Наличие в списке «Железных ворот» и «Рима» свидетельствует о безусловной за висимости всех известных списков «Задонщины» от общего протографа, т. к. топоним «Железные врата», в отличие от «Рима», заимствован не из текста «Слова о полку Игореве» — его там нет, — а из переосмысления реалий «Слова о погибели…», как я показал выше. Соответственно, факт этот вызывает необходимость объяснения подобной замены и «знакового ряда» именно этих населенных пунктов в восприятии редактора и читателей конца XV в.
Как ни покажется странным, путь к решению этой задачи был намечен уже упоминавшимися работами М. Н. Тихомирова, Г. Н. Моисеевой и В. А. Кучкина, которые попытались определить terminus ante quern написания «Задонщины», опираясь на даты гибели двух из названных городов — Тырново от турок и Орнача/Ургенча — от Тимура. В контексте последних десятилетий XIV в. такие наблюдения могли иметь значение только в том случае, если их можно было бы распространить на весь этот ряд, тогда как для конца XV в. всякое упоминание этих городов, казалось, теряло смысл. «Зачем было в позднем памятнике упоминать именно эти города, если современники автора Задонщины, читатели или слушатели его сочинения, о былом значении Торнова и Орнача ничего не знали или знали мало и такое знание не было для них актуальным?» — задавал риторический вопрос В. А. Кучкин[381], полемизируя с Я. С. Лурье, который полагал, что попытки датировать «Задонщину» концом XIV в. «не представляются достаточно убедительными»[382].
Между тем, определенный смысл в именно таком «знаковом ряде» для конца XV в. безусловно присутствовал, но понять его можно было, только обнаружив общую черту, которой в сознании автора «Задонщины» были объединены эти города. Как можно видеть, общим для них было то, что все они были захвачены иноземными (иноверными) завоевателями, что в ряде случаев привело их к гибели. Рим (летописный Римов) пострадал в 1185 г. от половцев, о чем сообщало русским читателям «Слово о полку Игореве» и подтверждала Ипатьевская летопись; Орнач/Ургенч был разрушен Тамерланом в 1388 г. и примерно тогда же пал Дербент («Железные врата»); Тырново было захвачено в 1393 г., когда Болгария была завоевана турками; Царьград захвачен турками в 1453 г.; Кафа (Феодосия) — в 1475 г. Можно спорить об актуальности упоминания Рима/Римова, Орнача/Ургенча и Железных ворот/Дербента для читателя и слушателя «Задонщины», но никакие о Тырнове и Царыраде, с которыми теснейшим образом была связана русская Церковь, и не о Кафе, с которой велась интенсивная торговля Москвы и других русских княжеств. И менее всего приходится сомневаться в той идее, которая оказалась заложена еще в первой редакции «Задонщины» при сообщении «победных реляций» землям, испытавшим все ужасы иноплеменного нашествия — надежды на освобождение от ига «измаилтян».
В конце XV в., когда Москва смогла освободиться от ордынской зависимости и впервые обратилась к сюжетам своего исторического прошлого[383], ее книжникам вполне естественно было вспомнить о тех, кто также попал под иго «агарян и измаилтян», поэтому «слава» (весть) о победе на Куликовом поле над общим врагом «православия», по мысли редактора, должна была вселить в них надежду на освобождение. Действительно, для болгар и греков, т. е. для обитателей Тырново и Царьграда, такая надежда на протяжении четырех столетий была неизменно связана с Россией. Вот почему можно думать, что после брака Ивана III на Софье Фоминичне Палеолог, когда Москва становилась «третьим и последним Римом православия», скорее всего, и была проведена соответствующая редактура текста «Задонщины».
В моем распоряжении нет, да и не может быть прямых доказательств, подтверждающих правильность предлагаемого решения, однако имеются косвенные. В одной из публикаций, посвященной биографии Александра Пересвета[384], я указал на замечательный спектр имен противоборствующего ему на Куликовом поле «печенежина», пришедшего из летописи [Ип., 107–108], поскольку никаких поединков в XIV в. не было и они прямо запрещались той и другой стороной, как не было в то время уже и печенегов: татарин Товрул[385], захваченный в 1240 г. под стенами Киева [Ип., 784], Темир-Мурза (Киприановская редакция)[386], т. е. сам Тимур, и Челубей[387], т. е. Челяби-эмир, взявший в 1393 т. Тырново. Каждое такое имя отмечает врагов-иноверцев, против которых в той или иной редакции «Сказания о Мамаевом побоище» облеченный в схиму Пересвет («Задонщина» еще не знает его «иночества»!) выступает мстителем за старые обиды и — побеждает. Если вспомнить ту основополагающую роль, которую сыграл текст «Задонщины» в создании «Сказания о Мамаевом побоище», трудно найти лучшее подтверждение актуальности и жизненности именно этих идей русского книжника конца XV в.
Таким образом, отвечая на риторический вопрос В. А. Кучкина, можно видеть, что перечень городов в «Задонщине» действительно оказывается важным индикатором для датировки второй редакции памятника, только не как terminus ante quem, a как terminus post quem, позволяя рассматривать список К-Б в качестве дефектного списка первой редакции, более ранней, чем редакция всех остальных списков. Последнее вынужден признать и В. А. Кучкин на основании термина «дети боярские», получившего распространение в 60–70-х гг. XV в., каковым временем историк считает «логичнее» датировать новую редакцию[388]. К сожалению, эта весьма ценная по привлеченному актовому материалу работа оказалась бесполезна для решения вопросов хронологии «Задонщины», в том числе и времени возникновения ее второй редакции, поскольку, как был вынужден заметить сам исследователь, термин «дети боярские» используется уже в 80-х гг. XIV в. и встречается в ст. 6767/1259 Синодального (созданного в конце XIII в.) и 6767/1259, 6894/1386, 6906/1398 гг. Комиссионного (созданного в 40-х гг. XV в.) списков Новгородской первой летописи [НПЛ, 82, 310, 380,391–393, 425]. И здесь характер его использования не оставляет сомнения, что перед нами социальный термин, а вовсе не указание на Родственные отношения обитателей Великого Новгорода, как то пытался обосновать В. А. Кучкин[389].
Другими словами, отсутствие термина «дети боярские» в списке К-Б объясняется не тем обстоятельством, что в первой редакции «Задонщины» он отсутствовал, а тем, что содержащий его фрагмент находился за пределами текста, переписанного Ефросином. Если же термин этот появился только во второй редакции, на чем настаивает В. А. Кучкин, то ее оформление могло произойти в интервале от 1475 г. до середины XVI в., каковым временем датируется наиболее древний список «извода УВД» — список И-1 (ГИМ).
В тексте всех полных списков «Задонщины» присутствует еще один сюжет, также не отраженный в списке К-Б, что может свидетельствовать скорее о дефектности оригинала, которым располагал Ефросин, чем о возможном его сокращении, ввиду уникальности данного известия. Речь идет о выезде новгородского ополчения, по одной версии — в семь тысяч (У), по другой — в семьдесят тысяч (И-1, С) человек, на помощь московскому князю, что является прямой выдумкой сочинителя. Такая версия могла возникнуть лишь много времени спустя после реальных событий, но никак не в конце XIV в. Последнее обстоятельство не было учтено в свое время ни М. Н. Тихомировым, ни В. А. Кучкиным[390], которые ставили время написания «Задонщины» в зависимость от даты гибели Тырнова и Орнача/Ургенча. Не случайно развернутый эпизод с принесением в Новгород вести о нашествии Мамая, молении архиепископа Евфимия (к слову сказать, жившего полвека спустя после Куликовской битвы[391]), решения новгородцев идти на помощь Москве, выступления из Новгорода и приходом к сбору войск на Коломну, появляется только в Распространенной редакции «Сказания о Мамаевом побоище», сложившейся не ранее начала XVII в. под влиянием «Задонщины»[392]. Однако если когда-нибудь будет открыт новый список первой редакции, содержащий этот фрагмент, вопрос о сложении «Задонщины» не ранее середины XV в. будет решен окончательно и бесповоротно.
Таким образом, полученные результаты нисколько не проясняют вопрос о существовании гипотетического «Слова о Мамаевом побоище» как посредника между «Словом о полку Игореве» и «Задонщиной», заставляя вернуться к мысли о воздействии «Слова о полку Игореве» на «Сказание о Мамаевом побоище» не прямо, а опосредованно, т. е. через текст самой «Задонщины»[393], как это произошло, например, с сюжетом о «новгородской помочи».
И последнее, касающееся наблюдения Р. П. Дмитриевой, опирающегося на сопоставление текстов списка С и Печатного варианта «Сказания…», что отличия списка К-Б от остальных списков «появились позже»[394].
Такое утверждение вызвано либо недоразумением (попыткой в списке К-Б лексему «порожнымъ землям», т. е. землям ‘порожным’, ‘пустым’, ‘опустошенным’, или ‘разным’, читать как «по рожнымь землям» [Тексты, с. 549], связывая это с лексемой «в Рус-кои земле», якобы общей для всего «извода УВД», тогда как на самом деле в списке У какие-либо «земли» в качестве адресата отсутствуют [Тексты, с. 538], в списке И-1 читается «велит послушати грозънымъ землям» [Тексты, с. 543], а в списке С — «велит грозна послушати» [Тексты, с. 553]), либо настойчивым стремлением при написании указанной работы доказать «вторичность» списка К-Б по отношению к списку Ундольского для посрамления «скептиков», делавших из правильных наблюдений (индивидуальные и более ранние чтения в списке К-Б) совершенно необязательные и неправильные заключения (о зависимости текста «Слова о полку Игореве» от списка У «Задонщины»), доходившие порою до абсурда, впрочем, как часто случалось и у их «опровергателей».
Итак, на основании всего изложенного я полагаю, что 1) список К-Б отражает изначально дефектный, а затем и сокращенный Ефросином текст первоначальной редакции «Задонщины», позволяющий 2) отнести все остальные списки «Пространного вида» к второй редакции, возникшей после 1475 г., и 3) утверждать наличие только одного извода этого памятника, существовавшего в двух редакциях текста. Что же касается времени создания «Задонщины», то наличие в текстах второй редакции фрагмента с «новгородской помочью», связанной в Распространенной и последующих редакциях «Сказания о Мамаевом побоище» с «архиепископом Евфимием», не позволяет датировать его ранее 60-х гг. XV в.
Соломония Сабурова и второй брак Василия III[395]
У каждого времени есть свои загадки. Главной загадкой русской истории XVI века, отбросившей мрачную тень на всё столетие, стала «опричнина» Ивана IV. Она на века затормозила развитие русского общества, утвердила во всей его толще крепостничество и ввергла страну в последующее Смутное время раздоров и самозванцев на российском троне. Трагическое искажение исторической перспективы привело, в свою очередь, к искажению исторической ретроспекции, через которую мы воспринимаем явления и людей того далекого времени, пытаясь разобраться в их поступках и содержании событий, предшествовавших эпохе Ивана IV, и, в определенной мере, ее обусловивших.
Одним из них, ставшим, по существу, поворотным пунктом в дальнейшей судьбе России XVI в., стал развод великого князя Василия III со своей первой женой, Соломонией Юрьевной Сабуровой, под предлогом отсутствия у нее детей, пострижение ее в монастырь и заключение второго брака с Еленой Глинской, будущей матерью Ивана IV. Безусловный интерес к этим событиям на протяжении последующих столетий определялся не столько фактом нарушения канонического права, воспрещавшего второй брак для государя при живой первой жене, сколько распространившимся тогда же слухом, что бывшая великая княгиня родила в монастыре сына. Если же вспомнить, что вторая супруга Василия III на протяжении почти четырех первых лет брака тоже не могла родить, и молва приписывала отцовство Ивана IV ее любовнику, князю И. Ф. Овчине Телепневу-Оболенскому, после смерти великого князя расправившемуся с его братьями и отстранившему регентский совет, можно представить, какой клубок интриг, претензий, ущемленных самолюбий, взаимной зависти и ненависти получила Россия в наследство после смерти Елены Глинской и ее фаворита.
Но «был ли мальчик», и что происходило на самом деле?[396]
Работы историков, так или иначе касавшихся этих сюжетов, опираются на круг весьма, немногочисленных и малословных источников, какими здесь предстают сообщения русских летописей, на сохранившиеся документы Царского архива, как, например, роспись свадебного разряда января 1526 г., и на сообщения австрийского дипломата С. Герберштейна, посетившего Москву в 1526 г. Стоит заметить, что, продолжая традицию сначала официального российского летописания, а затем и государственной историографии, исследователи, как правило, не заостряли свое внимание на невольно возникающих вопросах, под тем или иным предлогом стараясь уйти от рассмотрения «опасных» тем, удовлетворяясь или повторением традиционных формулировок, или отговариваясь недостаточным количеством фактов для их анализа.
А так ли их мало на самом деле?
История жизни Соломонии Юрьевны Сабуровой, первой жены Василия III, известна нам в столь же общих чертах, как и жизнь любой другой великой княгини XV–XVI вв. В августе 1505 г. она была выбрана для наследника московского престола, сына Ивана III и Софьи Фоминичны Палеолог из пятисот невест, собранных в Москву для смотрин[397], 4 сентября того же года состоялась свадьба[398], и на протяжении последующих девятнадцати лет ее имя всего трижды упоминается в летописях: по поводу переезда великокняжеской семьи в новый кирпичный двор у церкви Благовещения в Кремле (7.5.1508 г.), в связи с «подъемом» вслед за великим князем в осенний объезд (8.9.1511 г.) и по поводу погребения брата Василия III, князя Семена Ивановича (28.6.1518 г.). Детей у великокняжеской четы не было, поэтому братья Василия III числились холостяками на своих уделах, ожидая смерти старшего брата, чтобы занять московский трон. Такое положение дел, предопределившее раздоры в великокняжеской семье и грозящее смутами для государства постоянно поднимало вопрос о расторжении брака Василия с Соломонией и заключении нового, однако для этого требовалось разрешение православной Церкви, отвергавшей такую возможность при живой жене и требовавшей следом ухода в монастырь и ее бывшего мужа[399].
Окончательное решение о пострижении в монастырь Соломонии и последующем вступлении в новый брак великого князя было принято, судя по всему, во время осеннего объезда Василия III (в период с 10 сентября по 10 ноября 1525 г.) в тесном кругу сторонников развода при поддержке московского митрополита Даниила. Чтобы сломить сопротивление оппозиции, еще до этого, весною и летом 1525 г., прошло несколько политических процессов (Берсеня Беклемишева, Федора Жареного, Максима Грека и его помощников)[400], что нанесло жестокий удар сторонникам «нестяжателей», протестовавших против развода, главой которых в то время выступал князь-инок Вассиан Патрикеев, и развязало руки их противникам, «презлым осифлянам», лидером которых являлся московский митрополит.
С возвращения Василия III в ноябре 1525 г. в Москву собственно и начинаются события, на протяжении вот уже почти пяти веков привлекающие внимание к истории Соломонии и к ней самой. В настоящее время исследователь располагает для суждения о них широким кругом разнообразных свидетельств, фактов и документов, начиная с подлинных актов того времени и кончая фольклорными исследованиями. Безусловная ценность последних определяется тем обстоятельством, что их выводы были получены независимо от исторических и археологических изысканий в этом направлении, однако приводят к сходным заключениям.
Рассмотрим их все по порядку.
1. Летописные свидетельства
В памятниках русского летописания XVI в. описание развода и заключения второго брака Василия III отмечено рядом текстов, дающих возможность представить последовательность связанных с ним событий 1525–1526 гг., разные точки зрения на них в обществе, а также трансформацию их восприятия на протяжении почти полустолетия.
Первую группу составляют краткие сообщения о пострижении Соломонии и втором браке так сказать «информационного» характера, отражающие две версии: версию добровольного пострижения Соломонии (к ним принадлежат сообщения Софийской 2-й летописи[401], Воскресенской[402] и Никоновской[403], восходящих, как можно заключить, к одному источнику) и версию насильственного пострига с последующей ссылкой в Покровский женский монастырь в Суздале (Новгородская 4-я летопись по списку Дубровского[404], Вологодско-Пермская летопись, наиболее подробно рассказывающая о месте и времени пострига и ссылке[405], и Псковская 3-я по Строевскому списку[406]). Источник всех этих текстов надежно датируется второй половиной 20-х гг. XVI в. как по особенностям заключающих их списков (филиграни на бумаге, хронология сообщений, обрывающихся ранее 1530 г.), так и по отсутствию сведений о рождении первенца у Елены Глинской в августе 1530 г.
Как можно видеть, их содержание сводится к информации распространявшейся, скорее всего, бирючами для сведения населения, что в ноябре по указу великого князя великая княгиня была пострижена в монастыре Рождества Пречистыя Богородица на Рву, за пушечными избами, причем постриг совершал ее духовный отец, игумен Никольского монастыря Давид. В одном случае указывается дата пострига — 28 ноября. Той же зимой в январе, после Крещения, в мясоед, 21 января в воскресенье (по другим сведениям — 24 января, по другим — в феврале, «в неделю о блудном сыне», что является безусловной ошибкой) Василий III женился на дочери Анны Глинской, вдовы Василия Львовича Глинского[407].
Вторая группа представлена двумя сочинениями, современными событиям, т. е. составленными в 7034 (1525/1526) году. Первое из них, на которое часто ссылаются историки, дошло до нас в составе Псковской 1-й летописи. Оно представляет компиляцию из апокрифа «Евангелия Иакова» (в греческом подлиннике — «История Иакова о рождении Марии») и сообщает, что решение о судьбе Соломонии было принято не во время осеннего объезда в Александровой слободе, а уже по возвращении в Москву, т. е. после 10 ноября 1525 г.
«В лето 7031. <…> Того же лета поеха князь великий, царь всея Роусии, в объездъ; бысть же шествовати емоу на колесницы позлащеннеи ороужницы с ним, яко же подобает царем; и возревше на небо и видев гнездо птиче на древе, и сотвори плач и рыдание велико, в себе глаголюще: люте мне, кому оуподоблюся аз; не оуподобихся ни ко птицам небесным, яко птицы небесный плодовита суть, ни зверем земным, яко звери земнии плодовити суть, не оуподобихся аз никому же, ни водам, яко же воды сиа плодовити суть, волны 6о их утешающа и рыбы их глумящеся; и несмотря на землю и глаголя: господи, не уподобихся аз ни земли сей, яко и земля приносит плоды своя на всяко время, и тя благословять, господи. И приеха князь великий тоя осени из объезда к Москве и начаша думати со своими бояры о своей великой княгине Соломонеи, что не плодна бысть, и нача с плачем говорити к бояром: кому по мне царьствовати на Роускои земли, и во всех градах моих и приделех; братьи ли дам, ино братья своих оуделов не оумеют устраивати. И начаша бояре говорити: князь де великий государь, неплодную смоковницоу посекают и измещутъ из винограда. И повеле ю пострищи в черницы.
В лето 7032. <…> Тоя же зимы о свадебницах оженися государь нашь князь великии Василеи Ивановичь, царь всеа Роусии, оу вдовы оу княгини Анне, оу княж Васильевы Темного Лвовича, великою княгинею Еленою; и оженися, яко лепо бе царем женитися»[408].
Другое, более пространное и самостоятельное сочинение, состоящее из двух сюжетов — «О пострижении великиа княгини Соломаниды», частью своей вошедшего в Типографскую летопись[409] и «Съвъкупление втораго брака» — рисует благочестие Соломонии, «нудившей» великого князя отпустить ее в монастырь, чтобы он мог вступить во второй брак для блага государства, и последующий «подвиг» великого князя, пошедшего на нарушение канонических правил ради блага своих подданных.
«О пострижении великиа княгини Соломаниды. В лето 7034 благовернаа великаа княгини Соломанида, видя неплодство чрева своего, якож и древняа она Сарра, начат молити государя великого князя, да повелит ей облещися в иноческий образ. Царь же и государь всеа Русии не восхоте сътворити воли еа, начат глаголати сице: „Како могу брак разорити; аще ли сиа сътворю, и второму несть ми лесть съвъкупитися“, понеже государь богочестив, правдив и съвершитель заповедем господним и законному повелению. Христолюбиваа ж великаа княгини с прилежанием и с слезами начат молити государя, да повелит ей сътворити, яко ж хощет. Царь же и государь всеа Русии ни слышати сего не въсхоте и приходящих от неа велможь з злобою отреваа. Великая же княгини, видя непреклонна государя на моление еа, начат молити святеишаго архиепископа богом спасеннаго града Москвы Данила митрополита всеа Русии, да умолит о сем государя и сътворит волю еа быти, понеж бо дух святыи всеа пшеницу в сердце еа и да възрасти плод добродетели. Святейший же Данил митрополит всеа Русии, молениа слез еа не презри, много много моля о сем государя с всем священным сънмом, да повелит воле еа быти. Царь же и государь всеа Русии, видя непреклонну веру еа и молениа отца своего Данила митрополита не презре, повеле сътворити волю еа. Благоверная же великаа княгини, аки от пчел сота от царьских уст насладився, с радостию отходит в обитель господа бога спаса нашего рождества в дивичь манастырь, еже есть зовом на рве, и ту остризает власы главы своеа от отца своего духовного Никольского игумена Давида, и нареченно бысть имя ей в мнишеский чин Софиа. Благовернаа же великаа княгини инока Софиа, видя богу неугодно ту пребыти ей, миоги от велмож и от сродник ей и княгини, и болярыни нача приходити к ней посещениа ради и мнози слезы проливаху, зряще на ню. Боголюбивую же великую княгиню иноку Софию о сем скорбь объят зелна и начат глаголати, аще бых желала славы мира сего, то бых царствовала вкупе с царем и государем всеа Руси, днесь же желаю наедине безмолствовати и о государьском здравии молити всещедрого бога, и да некли бых господь бог подал великим моим прегрешением понемалу отпуст; цили не моих великих ради грех не даде бог государю плода и все православие обезчадимо государством моим неплодием. И начат молити государя, да повелить ей отъити в обитель пречистыа владычица богородица честнаго еа Покрова в богом спасаемый град Суждаль. Князь же великий о сем господу богу благодарение възсла, даровавшему ей толико усердьство и удивися теплоте веры еа и повеле вскоре тому быти. Боголюбивая ж великаа княгини инока Софиа не токмо сугубено и сторицею радости исполнися и благодать възблагодать въздаде господу богу о государьском здравии»[410].
Во второй части сообщается о том, что перед свадьбой Василий III сбрил бороду и обрил голову, причем этот факт, вызвавший, как можно видеть, большую смуту в подданных, здесь же нашел и теоретическое оправдание:
«Царем подобает обновлятися и украшатися всячески»[411].
Можно не сомневаться, что оба эти произведения — и первое, использующее ветхозаветный апокриф, и второе, являющееся апологией великого князя, — вышли из среды церковников-иосифлян, причем не исключено, что автором второго был сам митрополит Даниил, взявший на себя смелость разрубить одним махом каверзные узы канонического права и выступить в защиту великого князя, своим поведением бросившего вызов устоявшимся традициям быта настолько, что возникала мысль об его «уклонении» в католичество.
Несмотря на явно тенденциозный и прямо апологетический характер этой повести, написанной по ряду признаков не позднее начала февраля 1526 г. (она заканчивается ошибочным сообщением о венчании московским митрополитом Василия с Еленой 28 января 1526 г. — днем, на самом деле завершившим свадебное празднество), в ней содержатся драгоценные сведения, во-первых, подтверждающие, что Соломония действительно была пострижена «отцом своим духовным, Никольским игуменом Давидом» в Рождественском монастыре, что на Рву, в Москве, а, во-вторых, излагающие обстоятельства ее там жизни и причины перемещения в Суздаль. Последние заключались в большом количестве соболезнующих ей посетителей — «от велмож и от сродник еи и княгини, и болярыни», — почему по ее просьбе Василий III «отпустил ее» в обитель Покрова Богородицы в Суздале.
Таким образом, из вполне официальных по своему характеру сообщений, современных событиям, можно с несомненностью установить, что первоначально Соломония была пострижена в московский монастырь под именем иноки Софьи, и только через некоторое время была переведена в Покровский монастырь в Суздале, который она патронировала с 1518 г. Другими словами, все известия о событиях 1525–1526 гг., сохранившиеся в составе летописных текстов этого времени, согласно указывают на такие именно перемещения бывшей великой княгини. Это важно отметить, потому что уже четверть века спустя мы обнаруживаем в частном Постниковском летописце, автором которого М. Н. Тихомиров предполагал дьяка Дмитрия Постника Губина сына Моклокова, писавшего по памяти не ранее конца 50-х гг. XVI в., совсем иное:
«Лета 7034 ноября в 28 день князь великий возложи на великую княгиню Соломаниду опалу. И ноября в 29 день великая княгини Соломания постриженна бысть в чернини безплодия ради у Рожества пречистые на Рве и нареченна бысть инока Софья. И не по мнозе отпустил ея князь великий в Каргополе, и велел ей устроити в лесу келью, отыня тыном. А была в Каргеполе пять лет и оттоле переведена бысть в девичь манастырь в Суздаль к Покрову пречистые. Тое же зимы генваря в 24 день в неделю князь великий Василей женил[ся] вторым браком, а понял княжну Елену, дщерь князя Василья Лвовича Глинского. А венчал их Данил митрополит на Москве в соборной церкви у Пречистые»[412].
Эту запись можно считать последним упоминанием о Соломонии/Софье в русском летописании XVI в., поскольку после своей кончины 16 декабря 1542 г. в суздальском Покровском монастыре память ее стала достоянием, главным образом, русской православной Церкви и ее богомольцев. Похоже, что уже к началу 60-х гг. имя бывшей великой княгини обретает ореол мученичества, а затем и святости, чтобы в XVII в. быть причисленной к числу местночтимых святых и чудотвориц[413].
2. Архивные документы
В настоящее время известны три безусловных с юридической точки зрения документа, связанных с разводом Василия III. Это Опись царского архива в списке 70-х гг. XVI в., содержащая перечень дел по розыску о «неплодии» великой княгини Соломонии, показания по данному делу брата Соломонии, И. Ю. Сабурова, опубликованные в первой половине прошлого века по подлиннику, и сохранившаяся дарственная Василия III «старице Софье» от 19.9.1526 г. в Суздаль на село Вышеславское. Рассмотрим каждый из них.
В Описи Царского архива XVI в., изданной и неоднократно цитируемой историками, обозначен «Ящик 44-й. А в нем списки — сказка Юрья Малого, и Стефаниды резанки, и Ивана Юрьева сына Сабурова, и Машки кореленки, и иных про немочь великие княгини Соломаниды». Здесь же приписка, указывающая, что весь ящик в «74 (1566 г.) августа в 7 день взял государь (Иван IV. — А. Н.) к себе»[414].
Содержание этого ящика в значительной степени проясняет «сказка Ивана Юрьева сына Сабурова», известная по изданию прошлого века. Ввиду исключительной важности этого документа, привожу его целиком.
«Лета 7034 ноября 23 дня, сказывал Иван: говорила мне великая княгиня: „есть деи жонка Стефанидою зовут резанка, а ныне на Москве, и ты се добуди да ко мне пришли“; и яз Стефаниды допытался да и к себе есми во двор позвал, а послал есми се на двор к великой княгине с своею жонкою с Настею, а та Стефанида и была у великие княгини; и сказывала мне Настя, что Стефанида воду наговаривала и смачивала ею великую княгиню да и смотрела ее на брюхе и сказывала, что у великой княгини детям не быти, а после того пришел яз к великой княгине и она мне сказала „посылал ты ко мне Стефаниду и она у меня смотрила, а сказала, что у меня детям не быти; а наговаривала мне воду Стефанида и смачиватися велела от того чтоб князь великий меня любил, а наговаривала мне Стефанида воду в рукомойнике, а велела мне тою водою смачиватись, а коли понесут к великому князю сорочьку и порты и чехол, и она мне велела из рукомойника тою водою смочив руку, да охватывать сорочьку и порты и чехол и иное которое платье белое“; и мы хаживали есмя к великой княгине по сорочьку и по чехол и по иное по что по платье, и великая княгиня развернув сорочьку или чехол, или иное что платье великого князя, да из того рукомойника и смачивала то платье.
Да Иван же сказывал: говорила, господине, мне великая княгиня: „сказали мне черницу, что она дети знает (а сама безноса) и ты ту черницу добуди“ и яз тое черницы посылал добывати Горяинком звали детина (а ныне от меня побежал), и он ту черницу привел ко мне на подворье; и та черница наговаривала не помню масло, не помню мед пресной, да и посылала к великой княгине с Настею, а велела ей тем тертися от того ж чтоб ее князь великий любил, да и детей деля, а опосле того и сам яз к великой княгине пришел, и великая княгиня мне сказывала: „приносила ко мне от черницы Настя, и яз тем терлася“.
К сей памяти яз Иван руку приложил.»
На обороте приписка:
«Да Иван же говорил: а что ми господине говорити, того мне не испамятовати, сколко ко мне о тех делех жонок и мужиков прихаживало»[415].
Несмотря на потерю оригинала, нет никаких оснований следом за Г. Л. Григорьевым сомневаться в подлинности данного текста[416], являющегося не протоколом допроса, а всего только одним из многих свидетельств врожденного бесплодия Соломонии, который должен был служить оправдательным документом расторжения брака великого князя. Тем более, что поименованные братом великой княгини и отмеченные в Описи архива лица вполне могли быть найдены и опрошены в пределах нескольких дней, поскольку никакого особого «дела» на Соломонию заводить, как видно, никто не собирался. Для окружения великого князя ее «немочь» являлась достаточно весомой причиной ее пострижения.
Третьим документом, по счастью сохранившимся в подлиннике, является замечательная дарственная грамота Василия III Соломонии/Софье от 19 сентября 1526 г.:
«Се яз князь великий Василий Иванович всеа Русии. Пожаловал есми старицу Софью в Суздале своим селом Вышеславским з деревнями и с починки, со всем с тем, что к тому селу и к деревнямъ и к починком истари потягло до ее живота, а после ее живота ино то село Высшеславское в дом пречистые Покрову святые Богородицы игуменье Ульяне и к всем сестрам. Или по ней иная игуменья будет в том манастыре у Покрова святей богородици, в прок им. Писан на Москве, лета зле (т. е. 7035 г.), сентября 19 дня». На обороте пропись другим, более четким и красивым почерком: «Князь великий Василей Иванович». И ниже: «Князь великий Иван Васильевич всея Русии пожаловал Покрова пречистые дивича манастыря стариц Олену Шастову да келаря Прасковью с сестрами, или кто в том манастыре игуменья будет, и сей у них грамоты рушити не веле ничтож никому. Лета (т. е. 7042 г.) месяца марта (маиа?) . А подписал дьяк Федор Мишурин»[417].
Стоит добавить, что в описи Покровского суздальского монастыря этот акт упоминается вместе с другими дарственными и вкладными документами, хранящимся в казне еще в 1650 г.[418]
3. Литературные источники
Как правило, литературные источники не вызывают большого доверия у исследователей, однако в нашем случае мы имеем дело с показаниями не только современника, но почти очевидца, специально интересовавшегося делом Соломонии. Речь идет об австрийском дипломате С. Герберштейне и его «Записках о московитских делах». Посол сначала австрийского императора Максимилиана, а затем эрцгерцога Фердинанда, второй раз приехавший в Москву, достаточно хорошо для иностранца владел русским языком, был любознателен, обладал широкой эрудицией и столь широким кругом знакомств в среде московского боярства, что мог воспользоваться некоторыми русскими летописями и даже государственными документами (напр., чином венчания на царство Ивана III). Во время своего второго приезда он пробыл в Москве с середины апреля по начало ноября 1526 г.
Герберштейн не был свидетелем пострига Соломонии и торжеств по поводу второго брака Василия III, однако он сумел по лучить чрезвычайно интересные сведения, не оставляющие со мнения в насильственном (внезапном) пострижении великой княгини и в том, что главенствующая роль в проведении ареста и организации скоропалительного пострига принадлежала, похоже, митрополиту Даниилу и доверенному исполнителю поручений великого князя Ивану Юрьевичу Шигоне Поджогину-Телегину. К моменту приезда австрийского посла в Москву, Соломония/Софья, которую он везде называет «Саломея», уже находилась в Суздале, как он пишет об этом в своих «Записках…» и как мы знаем из дарственной Василия III. Но главной сенсацией оказался не постриг, а то, что последовало за ним в Суздале, и о чем Герберштейн писал уже как свидетель:
«Вдруг возникла молва, что Саломея беременна и скоро разрешится. Этот слух подтвердили две почтенные женщины, супруги первых советников, казнохранителя Георгия Малого (Юрия Дмитриевича Траханиота. — А. Н.) и Якова Мазура (постельничего Якова Ивановича Мансурова. — А. Н.), и уверяли, что они слышали из уст самой Саломеи признание в том, будто она беременна и скоро родит. Услышав это, государь сильно разгневался им удалил от себя обеих женщин, а одну, супругу Георгия, даже побил за то, что она своевременно не донесла ему об этом. Затем, желая узнать дело с достоверностью, он послал в монастырь, где содержалась Саломея, советника Федора Рака (дьяк Третьяк Михайлович Раков. — А. Н.) и некоего секретаря Потата (дьяк Григорий Никитич Меньшой Путятин. — А. Н.), поручив им тщательно расследовать правдивость этого слуха. Во время нашего тогдашнего пребывания в Московии некоторые клятвенно утверждали, что Саломея родила сына по имени Георгий, но никому не желала показать ребенка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, она, говорят, ответила им, что они недостойны видеть ребенка, а когда он облечется в величие свое то отомстит за обиду матери. Некоторые же упорно отрицали что она родила. Итак, молва гласит об этом происшествии двояко»[419].
Первое издание «Записок…» Герберштейна, которые он за кончил к 1547 г., вышло в 1549 г. и неоднократно переиздавалось на протяжении всего XVI в. Из этого следует, что он не довольствовался записями, сделанными на протяжении весны, лета и осени 1526 г. во время своего пребывания в Москве, но и дополнял фактами, которые ему удавалось узнать и в последующее время. Однако всё, что касается Соломонии, записано им, безусловно, по свежим следам весной 1526 г.; больше к этому. Герберштейну, как видно, уже нечего было добавить, в том числе и о ребенке Соломонии/Софьи. Не слышал он, по-видимому, и о каргопольской ссылке бывшей великой княгини, упоминание которой мы находим впервые в Постниковском летописце, созданном в конце 50-х или в начале 60-х гг. XVI в., а еще позднее— у А. М. Курбского в его «Истории о великом князе Московском».
Как известно, сложность оценки сведений, сообщаемых автором «Истории…», зависит, в первую очередь, от того, что до сих пор не установлены источники, которыми пользовался Курбский (сведения, полученные им до отъезда, рассказы других перебежчиков, дипломатов и секретных агентов), а также отсутствием списков XVI в., хотя сам факт написания «Истории…» в первой половине 70-х гг. этого столетия, похоже, не вызывает сомнений у исследователей.
Из текста «Истории…» можно видеть, что Курбского сама Соломония не интересовала, и хотя он должен был знать о существовании ее сына из книги Герберштейна, на которого ссылается[420], сам он о нем ни разу не упомянул. Другим источником его сведений о судьбе опальной княгини могли стать слышанные им в России разговоры, на основании которых он считал ее безвинной жертвой сластолюбия Василия. Последний, по его утверждению, сам был бесплоден: «стар будущи, искал чаровников презлых отовсюду, да помогут ему ко плодотворению, не хотящи бо властеля быти брата его по нем, бо имел брата Юрья зело мужественнаго и добронравнаго»[421]. Отсюда его ошибка в определении продолжительности семейной жизни Василия и Соломонии («живши… двадесять и шесть лет»), и упоминание последней, что называется, походя: «остриг ея в мнишество, не хотящу и немыслящу ей о том, и заточил в далечайш монастырь, от Москвы больше двухсот миль, в земли Каргапольскии лежащь, и затворити казал ребро свое в темницу, зело нужную и уныния исполненную, сиречь жену, ему Богом данную, святую и неповинную»[422].
Поскольку сведения эти Курбский, скорее всего, получил еще до своего отъезда в Польшу, т. е. до 30 апреля 1564 г., то не исключено, что здесь присутствует отражение тех же фактов, о которых тогда же писал Постник Губин в своем летописце, и которые, возможно, свидетельствуют о возникшем почему-то интересе к судьбе Соломонии спустя два десятка лет после ее кончины. Однако, если Постник Губин помнил о возвращении Соломонии/Софьи в Суздаль, то Курбский, похоже, об этом или не знал, или не посчитал нужным на этом остановиться.
Ситуация оказывается тем более любопытной, что интерес к судьбе Соломонии в Москве отмечен еще десять лет спустя после того, как писал Постник Губин. На это указывает литературный источник, по непонятной причине не только не использованный историками, но, похоже, большинству вообще неизвестный. Речь идет о рукописи перевода «Московская или Российская история» некоего немца Гейденсталя, выполненного в 1741 г. Во второй половине XIX в. рукопись находилась в собрании И. Е. Забелина, который ссылается на нее дважды в «Домашнем быте русских цариц».
Так, пересказав известие С. Герберштейна о рождении у Соломонии сына, Забелин продолжает:
«Московская История» рассказывает, что когда при Дворе слух промчеся, якобы бывшая царица Соломея в монастыре непраздна и вскоре имеет родити, — царь Василий послал вскоре бояр и двух знатных дам, чтобы прямо освидетельствовали Соломею. Соломея же, егда услышала в Суздаль приезд их, зело убоялася и вышла в церковь в самый алтарь и, взявся за престол рукою, стояла, ожидая к себе посланных; и егда к ней придоша бояре и дамы, просили ее, чтобы она из алтаря к ним вышла. И она к ним выдти не хотела. И егда вопрошена, что имеет ли она быть непраздна, она им на то отвечала, что я со всякою моею надлежащею должностию и честию была царица и перед несчастием своим за несколько времени стала быть непраздна от супруга моего царя Василья Ивановича и уже родила сына Георгия, который ныне от меня отдан хранитца в тайном месте до возрасту его; а где он ныне, о том я вам никак сказать не могу, хотя в том себе и смерть приму. Бояре же уразумели ея неправду и дамы, осмотря ее, что она никогда не была непраздна, возвратились в Москву и обо всем поведали царю Василью, яко то все неправда и обман, и за то она еще далее сослана в ссылку[423].
Этот рассказ можно было счесть за некую вариацию на сюжет Герберштейна, с книгой которого Гейденсталь был знаком, как можно понять уже по превращении Соломонии — в Соломею, равно как и по сообщению о более далекой ссылке бывшей великой княгини, если бы не ряд обстоятельств, заставляющих отнестись к забелинской рукописи более внимательно. Во-первых, Герберштейн не знает ни о каких перемещениях Соломонии/Софьи из Суздаля после визита к ней «комиссии»; во-вторых, нам теперь достоверно известно, что по докладу «комиссии» царственная узница не только не была наказана за обман, но, наоборот, получила истинно «царский» подарок от своего бывшего супруга — дарственную на с. Вышеславское.
Фраза И. Е. Забелина «немчин Гейденсталус сам слышал из уст одной боярской дочери, которая была и сама в числе девиц на смотре царском во время избрания Собакиной»[424] может служить terminus post quem посещения России этим иностранцем, поскольку выборы Марфы Собакиной происходили осенью 1571 г. Вряд ли этот «немец» мог читать «Историю…» Курбского или Постниковский летописец, так что для него, скорее всего, источником дополнительных сведений о Соломонии/Софье и ее «далекой ссылке из Суздаля» стали разговоры его московских знакомых, почему-то интересовавшихся этим сюжетом в начале 70-х гг.
Следующее по времени сообщение о рождении у Соломонии сына, по всей вероятности заимствованное у Герберштейна, мы обнаруживаем в книге П. Одерборна, вышедшей в 1585 г., но не прибавляющей никаких новых фактов к уже известным[425].
Последней литературной «репликой», касающейся не столько самой Соломонии/Софьи, сколько ее сына, основанной на местном предании и не перешедшей в область фольклора, следует считать рассказ о судьбе некого Сидорки Альтина, который содержится в воспоминаниях А. Я. Артынова, известного ростовского краеведа прошлого века, крестьянина дворцового села Угодичи под Ростовом[426]. Его воспоминания были опубликованы А. А. Титовым в 1882 г. в ЧОИДР, однако, как и все многочисленные сочинения Артынова, до сих пор не нашли своего исследователя. Вот этот текст.
О Сидорке Альтине, прямой его потомок родной мой дядя — Михаила Дмитриев Артынов в истории своей о селе Угодичах, написанной им в 1793 году, говорит следующее: «Сидорко Амелфов был целовальник Ростовского озера и староста Государевых рыбных ловцов; он часто ездил в Москву с рыбным оброком к большому Государеву дворцу; в одну из таких поездок он был невольным слышателем царской тайны, за которую он и поплатился своею жизнию. Вина его была следующая: находясь по своей должности в большом Московском дворце и будучи немного навеселе (выпивши), заблудился там, зашел в безлюдную часть дворца. Отыскивая выход, он пришел, наконец, в небольшой покой, смежный с царским жилищем, и там услышал громкий разговор Грозного царя с Малютой Скуратовым о князе Юрии, сыне Соломаниды Сабуровой. Грозный приказывает Малюте найти князя Юрия и избавить его от него. Малюта обещал царю исполнить это в точности и после этого разговора вышел в двери, перед которыми Сидорко едва стоял жив. Малюта увидел его, остановился; потом ушел опять к царю, после чего заключил Сидорку в темницу и там на дыбе запытал его до смерти вместе с отцом его Амельфой, пришедшим в Москву проведать сына».[427]
Можно по-разному относиться к этому свидетельству, оспаривать его достоверность[428], однако нельзя упускать из внимания время первоначальной записи, на которую ссылается Артынов, — 1793 г., когда Герберштейн не был еще переведен и пересказан Н. М. Карамзиным, а равным образом происхождение предания из среды потомственных дворцовых крестьян, предки которых служили еще Елене Глинской в 30-х гг. XVI в.
4. Фольклорные материалы
Записки А. Я. Артынова являются своего рода логическим «мостиком» от исторических документов и материалов к стихии фольклора, одновременно перенося интерес к Соломонии, очень скоро (со второй половины XVI) усвоенной обиходом российской провинциальной Церкви в качестве местночтимой святой со своими чудесами, на ее сына, «князя Георгия Васильевича», использовавшего для своего «воплощения», как показал в ряде работ А. А. Крупп, вполне историческую фигуру сына боярского и разбойника Кудеяра Тишенкова[429]. Вместе с группой белевцев Тишенков в 1571 г. перебежал к крымскому хану, пришедшему под Тулу, ушел вместе с ним в Крым, откуда переписывался с Иваном IV, однако на Русь так и не вернулся.
Сам Кудеяр Тишенков никакой загадки для исследователя не представляет, однако народное предание, отождествившее его уже в 70-х гг. XVI в., как полагает Крупп[430], с сыном Соломонии, «князем Георгием Васильевичем», и «вылепившее» из этой. контаминации благородного «разбойника Кудеяра», невольно поставило перед исследователями вопрос о реальности существования сына Соломонии как возможного соперника Ивана IV в его правах на московский престол.
Парадокс заключается в том, что сам Тишенков, которому в момент побега вряд ли было более 30 лет, никогда никаких претензий на московский престол не заявлял, точно так же как не проявлял к Тишенкову никакого особенного интереса и Иван IV, полагая его только разбойником, использованным московскими боярами-изменниками для сношений с подступившим к Туле крымским ханом. Такой взгляд на Тишенкова подтверждается «росписью» бежавших с ним его людей, быть может, составлявших разбойничью шайку[431]. Другими словами, Кудеяр Тишенков в момент побега на государевой службе не состоял, но с его именем оказались прочно связаны всякие рода разбои и грабежи, а в последующие века легенды о его «поклажах» (т. е. кладах), захоронениях, «городках» и пр. распространились настолько широко в народе, что им посвящена обширная краеведная литература, а образу самого Кудеяра — научные работы и романы, первый из которых был написан Н. И. Костомаровым в 1882 г., где Кудеяр предстает в качестве сына Соломонии Сабуровой от Василия III, вынужденного скрываться от преследований бояр и сына Елены Глинской, т. е. Ивана IV[432].
Отсюда, от романа Костомарова, считают историки, и пошло дальнейшее распространение легенды о Кудеяре, как, якобы, спасшемся сыне Соломонии. Между тем, действительность не столь проста, как ее пытаются представить.
А. А. Крупп, всесторонне изучивший исторические и фольклорные материалы о Кудеяре-разбойнике и «боярском сыне» Кудеяре Тишенкове, в своих работах убедительно показал тождественность этих двух фигур как по причине отсутствия других известных «Кудеяров», так и по тому, что все «росписи поклаж» Кудеяра, во-первых, традиционно происходят «из Крыма», во-вторых, имея форму личных писем Кудеяра (или его товарищей) к своим друзьям или родственникам, содержат сообщение об «измене» царю Ивану Васильевичу или о «раздоре» с ним («нагрубил»). Однако, наряду с этим историческим Кудеяром, в легендах о нем и его «поклажах» исследователь выделил устойчиво проходящий мотив родства или свойства Кудеяра с «царем Иваном Васильевичем», объясняющий необходимость для Кудеяра бегства или сокрытия своего происхождения[433].
Более того, выявление ряда публикаций, предшествующих роману Н. И. Костомарова о Кудеяре и, в свою очередь, восходящих к еще более ранним источникам, позволило А. А. Круппу показать, что легенда о тождестве Кудеяра и Юрия Васильевича, сына Соломонии Сабуровой, имела хождение в народе, по крайней мере, уже в начале прошлого века, т. е. задолго не только до романа Костомарова, но и до перевода у нас сочинения С. Герберштейна, содержащего рассказ об обстоятельствах развода и второго брака Василия III. И хотя пересказ этого сюжета Герберштейна был осуществлен Н. М. Карамзиным намного, раньше выхода в свет романа Н. И. Костомарова, последнее обстоятельство не играет никакой роли, поскольку в суздальском Покровском монастыре действительно жила легенда о сыне Соломонии/Софьи.
В «Историческом и археологическом описании Покровского девичья монастыря» И. Ф. Токмаков специально указывал, что «с правой стороны гробницы Соломонии находится полуаршинный памятник; как говорят, тут похоронен семилетний сын ее, родившийся в обители»[434]. Официально надгробие это приписывалось малолетней «царевне Анастасии Шуйской», не находившей себе соответствия ни в документах, ни в сохранившихся родословных росписях князей Шуйских. Ее имя упомянуто только в двух вкладах в Покровский монастырь и более ничем не отмечено.
5. Материалы археологические
Новый интерес к истории Соломонии и к безымянному погребению Анастасии/Георгия возник после 1934 г., когда директор Суздальского музея А. Д. Варганов поднял находившуюся рядом с гробницей Соломонии/Софьи в склепе Покровского собора анонимную белокаменную плиту, своим орнаментом повторяющую близлежащую надгробную плиту «старицы Александры», сестры Василия III, скончавшейся в 1525 г., и обнаружил под ней «небольшую погребальную колоду, покрытую изнутри толстым слоем извести. В ней оказались остатки детской рубашки и истлевшее тряпье без каких-либо следов костяка», т. е. ложное погребение. В начале 1944 г. в отдел реставрации тканей Государственного Исторического музея в Москве без указания адреса и обстоятельств находки Варганов передал: «1) небольшой спуток обрывков шелковой, темнокоричневого цвета ткани, связанных между собой почерневшей металлической плетеной тесьмой; 2) нагрудные украшения из металлического шнурочка, рядами нашитого на шелковую ткань с разрезом посредине; 3) обрывок металлической тесьмы-плетенки с пришитым к нему сбоку меньшим концом такой же плетенки, оборванным книзу; 4) наподолъное украшение из металлического шнурка, рядами нашитого на шелковую ткань с двумя оборванными концами плетенки внизу; 5) плетеный поясок из некрученого шелка красноватого цвета и металлических нитей с обрывками кисточек на концах»[435].
В результате долгой и кропотливой работы реставратором Е. С. Видоновой была восстановлена рубашка мальчика 3–5 лет принадлежавшего к высшему классу общества, из шелковой тафты червчатого цвета с ластовицами, подкладом и подоплекой синего цвета, украшенная серебряными нашивками и остатками жемчужного шитья по воротовому разрезу, рукавам и подолу, вместе с пояском из шемаханского шелка с пряденым серебром и кисточками на концах, по материалу и технике шитья уверенно датируемые первой половиной XVI в.[436]
К сожалению, не всё так ясно с открытым Варгановым погребением, традиционно представляемым как «ложное», в действительности же, требующем повторного изучения.
Сложность его осмысления заключается в том, что до нас не дошли никакие документы, фиксирующие процесс раскопок, которых, скорее всего, не было, а сами «раскопки», по-видимому, проводились по инициативе местного ОГПУ-НКВД в поисках драгоценностей, что было обычно в то время, поскольку из примечания редакции журнала к статье Е. С. Видоновой (со слов А. Д. Варганова или Н. Н. Воронина) явствует, что «директор Суздальского музея А. Д. Варганов» только «присутствовал при ликвидации усыпальницы». Как бы то ни было, внутри колоды лежали «остатки <…> рубашки и истлевшего тряпья без каких-либо остатков и следов костяка»[437], а вовсе не «кукла», как можно прочесть в ряде изданий, в том числе и у самого А. Д. Варганова, писавшего, правда, почти полвека спустя[438]. Еще более любопытны сведения, содержащиеся в описании остатков рубашечки, где, перечисляя подученные от Варганова фрагменты, Видонова пишет:
«Со всего этого материала сыпалась сухая земля, смешанная с мельчайшими блестками серебра. Обрывки тканей, металлические нашивки (на груди у ворота. — А. Н.) и поясок были покрыты темнокоричневыми пятнами, покоробились и были жестки наощупь. Ткань сморщилась и слежалась. Металлические шнуры потемнели…»[439]
В этом описании интересны два обстоятельства — «земля» и «пятна» — которые в свое время не привлекли должного внимания ни А. Д. Варганова, ни реставраторов, тем более, что остатки ткани были переданы в отдел реставрации ГИМа только спустя десять лет после вскрытия захоронения. Создается впечатление, что сохранившаяся погребальная колода до вскрытия уже была заполнена землей, которая могла попасть туда лишь в том случае, если ее вскрывали в прошлом и в ней рылись. О том же говорит скомканность, перепутанность остатков рубашки и какого-то «тряпья». Приходится только сожалеть, что после фиксации наличия на грудных нашивках «темнокоричневых пятен», которые могли быть пятнами крови, не были проведены соответствующие анализы. Сейчас восстановленная рубашка с пояском из погребения выставлена в экспозиции Суздальского музея-заповедника.
Другим предметом, прямо связываемым легендой с Соломонией/Софьей, является икона Богоматери Владимирской XVI в. на липовой (?) доске размером 34,5х30,0 см с написанными на полях предстоящими св. Василием Великим и св. Соломонией, летом 1954 г. обнаруженная в фондах Владимирского областного краеведческого музея Н. А. Деминой и И. А. Ивановой, научными сотрудниками Музея древнерусского искусства им. А. Рублева в Москве, где она теперь и хранится в ожидании своего исследования и расчистки от записей XVII–XVIII вв.
Столь исключительное сочетание имен предстоящих святых, сразу наводящее на мысль о связи данной иконы с персонажами нашей истории, представленными на полях тезоименными святыми, соответствие времени написания иконы интересующим нас событиям, подтверждается плохо читаемой карандашной записью начала XX в. на обратной стороне доски, несущей также более светлое пятно от давно утраченной наклейки:
«1508 г. из рода бояр вел. кн. Соломонии // перешла в род Денисовых // из рода Денисова в род Кошутиных // Денисов Степан (?) дочь выдал за Кошутина (Ивана?) // Этой иконой… // Степан Кошутин (24) и Анна Денисова (20 л.) 1826 // Иван Кошутин (22) и Екатерина Терентьева (20), 1848 // … Кошутин (29) и Мария Рыбина (22), 18[78] // Дмитрий Кошутин, Елизавета Рубцова (?)…»[440].
Строго говоря, об истории этой иконы в XVI в. ничего не известно кроме того, что она могла быть связана с судьбой Соломонии/Софьи и ее сына, если последовала за ним из Покровского монастыря в мир. Но это не более, чем догадка. Находка ее во Владимире, неподалеку от Суздаля, позволяет думать, что упоминаемый в надписи «род Денисовых» тождественен известным с XVII в. купцам Денисовым, «владимирцам гостиной сотни», ведущим свой род от новгородских купцов, выселенных в 1489 г. во Владимир Иваном III вместе с 17 другими семьями[441]. Связи их с Сабуровыми неизвестны, так же как непонятна указанная на обороте иконы дата — 1508 г., в жизни Соломонии отмеченная разве только переездом «на новый двор» в Кремле. Здесь скорее было бы ожидать указания на 1505 (7013) год, когда она стала великой княгиней, или на 1518 (7026), когда она с Василием III посетила Покровский монастырь в Суздале. Возможно, эта последняя дата и была указана на отпавшем листке уже в переводе на современное летосчисление, но прочитана как «1508»? Точно так же остается неизвестным, как и при каких обстоятельствах эта икона попала к Денисовым «из рода бояр великой княгини Соломонии», однако совершенно пренебречь ею при разработке истории Соломонии/Софьи историк не в праве.
* * *
Выше я перечислил все факты, которыми располагает на сегодняшний день исследователь, приступающий к рассмотрению вопроса о существовании сына Соломонии. Попробуем в них теперь разобраться, имея в виду, что другие свидетельства, которые могут быть привлечены для подкрепления этой гипотезы, имеют не абсолютное, а только вспомогательное значение, поскольку могут быть истолкованы иначе или не иметь к данному вопросу прямого отношения.
Наличие слухов, записанных С. Герберштейном, какого-то секретного доклада комиссии, за которым последовал подарок Соломонии/Софье, устойчивая легенда о Георгии, нашедшая отражение как в фольклоре (Кудеяр/Георгий), так и в монастырском предании (Анастасия/Георгий), пустое погребение, обнаруженное А. Д. Варгановым, подкрепляют слух о рождении у Соломонии сына и делают его в высшей степени вероятным. Но как это могло произойти? Отсутствие детей у Василия III и Соломонии на протяжении двадцати лет (свадьба их состоялась «7014 (1505) года, сентября 4, в четверток») заставляет подозревать в бесплодии Соломонию, но не снимает подозрений и с Василия III.
Безусловно против Соломонии говорят показания ее брата И. Ю. Сабурова и других свидетелей, которых мы проверить не можем, тогда как против Василия говорит затянувшееся на три с половиной года (с 21.1.1526 по декабрь 1529 г.) бесплодие его второй партнерши, Елены Глинской. Более того, в своей «Истории…» Курбский прямо пишет о неспособности великого князя «ко плодотворению» уже во втором браке и о поиске средств к этому с помощью знахарей, чародеев и пр., т. е. о повторении истории с Соломонией. В отношении Елены Глинской можно с очень высокой долей вероятности утверждать, что она, имея перед глазами судьбу своей предшественницы, прибегла к помощи другого мужчины, и что этим мужчиной был с самого начала ее любовник и фаворит, князь И. Ф. Овчина Телепнев-Оболенский, занявший место рядом с ней сразу же после смерти Василия III и расправившийся с регентским советом.
Обо всём этом известно со слов того же С. Герберштейна, который писал о дяде Елены, князе М. Л. Глинском, назначенным в числе опекунов малолетнего Ивана IV:
«Но впоследствии, видя, что сразу по смерти государя вдова его стала позорить царское ложе с неким [князем] по прозвищу Овчина, заключила в оковы братьев мужа, сурово обращается с ними и вообще правит слишком жестоко, Михаил исключительно по прямодушию своему и долгу чести неоднократно наставлял ее жить честно и целомудренно; она же отнеслась к его наставлениям с таким негодованиям и нетерпимостью, что вскоре стала подумывать, как бы погубить его. Предлог был найден: как говорят, Михаил через некоторое время был обвинен в измене, снова ввергнут в темницу и погиб жалкой смертью; по слухам, и вдова немного спустя была умерщвлена ядом, а обольститель ее Овчина был рассечен на куски»[442].
Другими словами, опять же с высокой степенью вероятности, можно считать, что дети Елены Глинской — дети И. Ф. Овчины Телепнева-Оболенского. Окончательно убедиться в этом возможно, только проведя биохимические и генетические исследования останков всех задействованных в этих событиях лиц — Василия III, Елены, князя Овчины, Ивана IV и его брата Юрия. Но вот что бросается в глаза уже сейчас.
Мы не знаем случаев резкого отклонения в психике у потомков Ивана III и Софьи Палеолог (бесплодие Василия III не имеет к этому отношения, к тому же «опровергается» плодовитостью старицкой линии: сын Андрея Ивановича, Владимир Андреевич старицкий, был плодовит в обоих браках). В роду Глинских, похоже, тоже нет никаких психических отклонений, но вот прозвища в роду Оболенских — «Немой», «Лопата», «Глупый», «Медведица», «Телепень», «Сухорукий» — заставляют подозревать устойчивые генетические нарушения. Что же касается собственно детей и потомков Елены, то здесь мы сталкиваемся с повторяющейся закономерностью. Иван IV в своих действиях и взаимоотношениях с окружающими являет безусловно нарушенную психику («един таковый прелютый и кровопийца и погубитель отечества, иже не токмо в Русской земле такого чюда и дива не слыхано, но воистинну нигде же, мню, зане и Нерона презлаго превзыде лютостию и различными неисповедимыми сквернами… жруще и растерзающе рабов Божиих»[443]; его брат Юрий — дебилен («а другой был без ума и без памяти и бессловесен, тако же аки див якои родился»[444]).
Показательно, что сходную картину являют дети Ивана IV от первого брака: Иван, повторяющий характер отца, и Федор, немногим лучше своего дяди Юрия[445]. В целом же, комплекс этих фактов представляется достаточно убедительным, чтобы признать отцовство Ивана IV за И. Ф. Овчиной, несмотря на попытки Р. Г. Скрынникова в своей, недостойной подлинного историка по количеству неизвинительных домыслов книге, представить это «пустой клеветой на великокняжескую семью»[446].
О том, насколько широко такие толки и слухи о незаконнорожденности Ивана IV обращались среди москвичей, если не по всей Московии, говорит выделенный мною еще в 1971 г. странный, на первый взгляд, текст среди сочинений И. С. Пересветова, где, излагая задним числом «пророчества латинских философов и докторов», он писал буквально следующее:
В Литве пишут философи и дохтуры латынския <…> про государя, благовернаго царя и великого князя Ивана Василиевича всея Русии московскаго, что он, государь, зачался от великаго божия милосердия и от сердечных молитв к богу отца своего и матери и породился от великий мудрости по небесному знамению на исполнение правды в его царстве. <…> «И по мале времени, пишут философи и дохтуры, приидеть на него, государя, охула от всего царства, от мала и от велика, и будут его, государя, хулити, не ведаючи его царскаго прирожения (выделено мною. — А. Н.), и впадут в великий грех»[447].
Комментируя тексты, изданные А. А. Зиминым, Я. С. Лурье предположил, что здесь Пересветов намекает на какие-то «астрологические предсказания, якобы сделанные латинскими философами и докторами Ивану IV»[448]. Догадка эта ничем не обоснована и явно неудачна, поскольку приведённый пассаж направлен, в первую очередь, на утверждение «законности» происхождения Ивана по причине его «великия мудрости». Я. С. Лурье полагает выделенную мною фразу не толками о происхождении царя, а отголосками «картины общего недовольства царем», имея в виду какие-то конкретные мероприятия московского правительства[449]. Не представляю, как это можно согласовать с текстом, не противореча логике. Более того, уверен, что здесь перед нами первое достоверное свидетельство широкого распространения толков в боярстве и народе о происхождении Ивана IV, поднявшихся в конце 40-х гг. XVI в. в связи с вопросом венчания его на царство, с чем вынужден был согласиться и А. А. Зимин, писавший в «конвойной» статье, сопровождавшей мой очерк 1971 г. о Соломонии и сыне Елены Глинской: «Да, так действительно можно понять текст „предсказаний“, написанных Пересветовьм»[450], о чем умолчал Я. С. Лурье[451].
Весьма вероятно, что, дальнейшие поиски в этом направлении обнаружат, как и в случае с текстами И. С. Пересветова, новые факты, оставшиеся не замеченными предшествующими исследователями. Невключение Елены в регентский совет при малолетнем Иване IV умирающим Василием III, дворцовый переворот, совершенный очень быстро Еленой с князем Овчиной, в результате которого члены его были отстранены и даже уничтожены (М. Л. Глинский), уничтожение братьев Василия III, смерть Елены (по С. Герберштейну — от яда) и последующая немедленная расправа бояр с князем Овчиной, дьяком Мишуриным, а некоторое время спустя и с митрополитом Даниилом, позволяет считать «пустую клевету на великокняжескую семью» абсолютно справедливой. По юридической терминологии того времени, Иван IV оказывается «выблядком», продуктом связи между Еленой и князем Овчиной, не имеющим в себе ни капли великокняжеской крови, и его сохранение в качестве наследника престола может объясняться только компромиссом между боярскими группировками, отложившими решение его судьбы на более позднее время за отсутствием претендентов и из нежелания смуты в Московском государстве.
Анализ ситуации с Еленой Глинской и ее детьми естественно возвращает нас к вопросу о Соломонии и ее сыне, которая точно так же должна была для его зачатия «сменить партнера». В том, что она это сделала и подмена была во всех отношениях удачна, убеждает реакция великого князя на слухи (побил и прогнал бывших камер-фрейлин Соломонии, не донесших вовремя о беременности) и на доклад секретной комиссии. Узнать о беременности великой княгини «из ее собственных уст» бывшие камер-фрейлины могли только сразу за пострижением, когда Соломония/Софья находилась в московском Рождественском монастыре, и куда, судя по всему, Василий III направил комиссию из перечисленных С. Герберштейном лиц — Г. Н. Меньшого-Путятина и Третьяка Михайловича Ракова, хотя, как я писал, австрийский посол мог спутать его с Ф. М. Мишуриным[452] «любимым дьяком» великого князя, одним из довереннейших его людей, как и двое других[453]. Иными словами, Герберштейн назвал именно тех людей, которым только и мог доверить Василий III выяснение столь щекотливого дела.
Нам неизвестен доклад комиссии из доверенных дьяков, однако он был безусловно благоприятен для бывшей великой княгини, которая была отправлена в патронируемый ею Покровский монастырь в Суздале, подальше от Глинских и митрополита Даниила, после чего 7 мая 1526 г. монастырь получил в подарок село Павловское Суздальского уезда[454], а 19 сентября того же года уже сама Соломония/Софья — село Вышеславское, которое можно рассматривать в качестве традиционного подарка великого князя своей супруге после рождения наследника. Подтверждением именно такого истолкования дара может служить построенная Василием III спустя год, в апреле 1527 г., наряду с двумя другими каменными церквами (в Кремле и на Арбате), у Фроловских (Покровских) ворот обетная церковь во имя св. мученика Георгия[455], сразу заставляющая вспомнить такую же обетную (и поставленную тоже через год после рождения первенца у Елены Глинской) деревянную церковь на Старом Ваганькове[456]. По отношению к Соломонии/Софье так могло быть только в том случае, если ребенок действительно существовал, родился в нужные сроки и был признан Василием за своего сына.
Попробуем это проверить расчетами.
Согласно сведениям Постниковского летописца, 10 сентября 1525 г. Василий III один уехал в осенний объезд и вернулся в Москву 10 ноября[457], после чего принял окончательное решение о пострижении Соломонии, предварив ее арест и ссылку формальным «розыском о неплодии», состоявшем в снятии показаний с брата великой княгини (23.11.1525 г.), ее приближенных и слуг, а также знахарок, обретавшихся в столице. Поскольку «опала» (указ об аресте и ссылке) Соломонии была объявлена уже 28.11.1525 г., резонно предположить, что со времени возвращения в Москву Василий III не виделся с княгиней и не имел с ней ни супружеских, ни каких-либо иных сношений. В таком случае, чтобы убедить великого князя в том, что именно он является отцом ребенка, Соломония должна была зачать его не позднее второй половины августа — начала сентября, а родить — в первой половине или середине апреля.
С последним хорошо согласуются известные нам факты; «беспричинный» подарок Покровскому суздальскому монастырю села Павловского 7.5.1526 г. и наречение сына Соломонии/Софьи «Георгием», поскольку в апреле отмечается память трех Георгиев (по старому стилю): 4 апреля (преподобного), 7 апреля (святого) и 23 апреля (великомученика, покровителя Москвы). Судя по всему, сыну Соломонии тезоименен был именно последний, великомученик Георгий, в честь которого была сооружена церковь, просуществовавшая у Фроловских (Спасских) ворот до 1808 г. Если следовать сообщению Григория Котошихина, что при рождении младенца в царской семье «дается <…> имя от того времени как родится, сочтя вперед в восьмой день, которого святого день, и ему тож имя и будет»[458], мы получаем гипотетическую дату рождения «Георгия Васильевича» — 15 апреля 1526 г., хотя предопределенность наречения его «княжеским» именем допускает здесь любые отклонения от правила.
Здесь уместно вспомнить обнаруженную Г. Л. Григорьевым запись во Вкладной книге ростовского Борисоглебского монастыря, что «по князе Юрье Васильевиче память априля в 22 день панахида пети и обедни служити собором, докуды и монастырь стоит»[459]. Как справедливо заметил в своей работе автор, хотя поминаемый указан в числе членов великокняжеского дома, подобная календарная дата никоим образом не может быть связана с памятью о Юрии Васильевиче, брате Ивана IV, поэтому можно думать, что перед нами первое достоверное упоминание о дне смерти сына Соломонии[460]. Мне представляется, что здесь указан канун его именин, — единственная дата, которая с наибольшей вероятностью может быть отнесена именно к сыну Соломонии и могла быть известна современникам.
Таким образом, попытка определить время рождения сына Соломонии подтверждается результатами независимых расчетов: хорошо согласуется с майским подарком Василия III Покровскому монастырю и осенним подарком самой Соломонии/Софье, когда великий князь смог заподозрить бесплодность своего второго брака. С большей осторожностью приходится говорить о времени перевода Соломонии из Москвы в Суздаль, поскольку это могло быть сделано и до свадьбы Василия с Еленой, и после нее, хотя вероятнее всего первый вариант, в какой-то мере подтверждаемый летописным отрывком, содержащим рассказ «О пострижении великиа княгини Соломаниды»[461].
Разобравшись, насколько это возможно, с датой рождения «Георгия Васильевича», мы получаем объяснение ряду непонятных фактов, косвенно подтверждающих его появление на свет. К их числу относится, например, загадочное отсутствие упоминания имени И. Ю. Шигоны-Поджогина в летописях на протяжении 1526–1530 гг. Ближайший доверенный исполнитель воли Василия III, проводивший, как можно понять из слов С. Герберштейна, арест и постриг Соломонии, последний раз упомянут в свадебном разряде Василия и Елены, а затем надолго исчезает из документов, чтобы вновь появиться, будучи выпущенным из «нятства» в сентябре 1530 г. по случаю рождения Ивана IV[462]. Попытки историков объяснить опалу Шигоны-Поджогина «жестоким обращением с Соломонией» (см. свидетельство Герберштейна) не выдерживают критики уже потому, что это «жестокое обращение» не помешало его участию в свадебных торжествах, начавшихся 21 января, в воскресенье, в пятом часу дня, а закончившихся 28 января 1526 г.
Опала на Шигону-Поджогина, который вел «розыск о неплодии» и руководил арестом и постригом Соломонии, в том же 1526 г. после свадьбы с Еленой Глинской, как и его освобождение после рождения первенца у Елены, позволяют предположить, что причиной ее стало рождение сына у бывшей великой княгини в установленные сроки и, следовательно, скрытый от великого князя факт беременности Соломонии с целью, вкупе с митрополитом Даниилом, провести на трон свою ставленницу, оказавшуюся бесплодной. Беременностью Соломонии можно объяснить скоропалительность «расследования» и быстроту, с которой Шигона удалил ее из кремлевских теремов в Спасо-Рождественский на Рву девичий монастырь.
Похоже, в результате тех же причин и на тот же срок из летописей исчезает имя митрополита Даниила, причем все торжества, связанные с рождением и крещением Ивана IV, проходят без него; не присутствует Даниил и при построении в августе 1531 г. на Старом Ваганькове «обыденной» обетной церкви Усекновения главы Иоанна Крестителя, тезоименного великокняжескому первенцу[463]. Столь же симптоматично и другое. Начав в 1525 г. жестокие преследования «нестяжателей» в угоду митрополиту Даниилу и «осифлянам» (процессы Берсеня Беклемишева, Федора Жареного, Максима Грека и др.), после второй свадьбы великий князь прекращает эти гонения и, что особенно интересно, за пять дней до царского подарка Соломонии/Софье, 14 сентября 1526 г. по челобитью главы «нестяжателей» Вассиана Патрикеева Василий III направляет ростовскому архиепископу Кириллу грамоту, запрещающую тому вступаться в дела «заволжских старцев», иноков Ниловой (Сорокой) пустыни, основного «гнезда» противников митрополита[464]. Только после рождения Ивана IV Василий III выдал князя-инока «презлым иосифлянам», которые в 1531 г. сразу же организовали новый политический процесс, выставив на него и старых узников с Максимом Греком[465].
Всё это дает основания согласиться с предположением Г. Л. Григорьева, что, похоже, не получая доказательств беременности второй жены, Василий III не только готовился признать сына Соломонии/Софьи своим сыном, но и склонялся к тому, чтобы в случае необходимости объявить его своим наследником[466].
Естественно, после долгожданного рождения Ивана IV ситуация коренным образом изменилась как для «нестяжателей», так и для обитателей Покровского монастыря в Суздале. «Георгий Васильевич» стал теперь не только никому не нужен, но и крайне опасен. Он должен был либо исчезнуть, либо умереть. Что произошло на самом деле, мы вряд ли узнаем с достоверностью, потому что с момента выхода Георгия за стены Покровского монастыря нам известно только его «фольклорное бытие», столь многообразно преломившееся в народном воображении. Со временем возникновения возможной версии о смерти Георгия — во второй половине 1531 г. — хорошо согласуются размеры рубашечки, восстановленной Е. С. Видоновой (3–5 лет), и монастырское предание, правда, несколько отодвигающее это событие (7 лет по М. Д. Хмырову). Похоже, именно тогда в склепе Покровского собора возникло погребение, отмеченное небольшим белокаменным надгробием без надписи под которое, судя по всему, А. Д. Варганов заглянул не первым.
А кто был первым и когда?
Выше я изложил признаки того, что погребение вскрывали. Вряд ли теперь можно узнать, был ли в колоде труп мальчика, изъятый следователями, или же это было классическим ложным погребением (кенотафом). Но время вероятной эксгумации можно попытаться определить, заодно уточнив хронологию событий в жизни иноки Софьи. Напомню, что спорным вопросом в ее биографии остается ссылка в Каргополь, о которой сообщают Постниковский летописец, А. М. Курбский и, по-видимому, автор «Московской Истории», цитируемой И. Е. Забелиным.
Решить вопрос о времени ссылки Соломонии/Софьи в Каргополь помогает всё тот же Постниковский летописец, сообщающий, что она «была в Каргополе пять лет, и оттоле переведена бысть в Девичь манастырь в Суздаль к Покрову пречистые»[467]. Отмеченный здесь отрезок времени — «пять лет» — точно соответствует протяженности правления Елены Глинской и князя Овчины, показывая, что бывшая великая княгиня была сослана в Каргополь тотчас же после смерти Василия III и также сразу возвращена в Суздаль после расправы с Еленой и ее любовником. Резонно предположить, что одновременно с высылкой «иноки Софьи» произошло и вскрытие захоронения. В таком случае «семь лет», которые монастырское предание отводит сыну Соломонии на жизнь в стенах Покровского монастыря в Суздале[468], оказываются точно отсчитаны от его рождения (весна 7034 г.) до вторичного ареста его матери и вскрытия погребения (весна 7041 г.).
Такая последовательность событий — ссылка Соломонии/Софьи в Каргополь вскоре после смерти Василия III, хорошо согласуется с подтвердительной записью на обороте дарственной Василия III на село Вышеславское 10 марта (мая?) 1534 г. Иными словами, Василий III умер 3 декабря 1533 г., а еще до 10 марта (мая?) 1534 г. Соломония/Софья из Покровского монастыря была отправлена в Каргополь, и когда потребовалось подтверждение ее именного дара, он был переписан уже на обитель. Тот же расчет времени показывает, что в Суздаль она вернулась в 1539 г. и там прожила недолгий остаток своей жизни, упокоившись, наконец, рядом с подлинной (или ложной) могилой своего сына.
Остается выяснить, когда умерла Соломония/Софья. Посвятивший этому вопросу специальную статью К. Н. Тихонравов попытался опровергнуть общепринятую дату ее смерти — 18 декабря 1542 г. — обращением к двум источникам: надписи на доске гробницы в склепе Покровского собора и Столовой книге 1685 г. этого же монастыря. Последняя прямо указывает: «Декабря в 16 день праздновали великой княгине Соломаниде, в иноцех преподобной Софьи»[469], что является, скорее всего, наиболее точной датой ее смерти. Однако приводимая Тихонравовым надпись на доске гробницы вызывает ряд недоуменных вопросов: «В 1526 году благоверный великий князь Василий Иванович всея Русии, супругу свою благоверную великую княгиню Соломонию Юрьевну, живши с нею в супружестве двадесят лет и два месяца, бесчадства ради и немощи, по совету ея, постриже ю в монашество в оном монастыре и иарече имя ей София, которая поживши в том монастыре в иноческом чину благодатно и богоугодно семнадцать лет и полтора месяца, преставилась в 1543 (так! — А. Н.) году декабря в 16 день и погребена бысть в том Покровском монастыре под церковию Покрова Богородицы…»[470]
Содержащиеся в этой надписи цифры убеждают, что мы имеем дело не с первоначальным, а поновленным поздним текстом, где время жизни указано на год и месяц больше, время пребывания великой княгиней — на месяц меньше реального (свадьба 4.09.1505 г., опала 28.11.1525 г.), а время пребывания в Покровском монастыре исчисляется с момента пострига (29 или 30.11.1525 г.) без перерыва и тоже увеличено на один месяц. Причиной этого является ошибка в дате прибытия Соломонии в Суздаль после пострижения, которую мы находим повторенной и у И. Ф. Токмакова — 20 ноября 1526 г.[471], что никоим образом не соответствует действительности. Скорее всего, это ее второе прибытие в Покровский монастырь, день возвращения Соломонии/Софьи из каргопольской ссылки, который позволяет восстановить полную дату — 20 ноября 1539 г. Вместе с тем, окончательная дата смерти Соломонии/Софьи в Покровском монастыре с наибольшим вероятием может быть определена как 16.12.1542 г.
Подводя итоги рассмотрения имеющегося в распоряжении историка материала, мне представляется, что гипотезу о существовании сына у Соломонии/Софьи сейчас уже можно принять в качестве исторического факта, достаточно серьезного, чтобы оказывать влияние на поступки своих современников, осуществлявших управление страной, но — только до 25 августа 1530 г., т. е. до момента рождения будущего Ивана IV. Всё последующее может быть отнесено к области догадок и предположений, которые определяют поступательное движение науки, собственно научный поиск, пока не будут доказаны или окончательно опровергнуты.
Первыми профессиональными историками, заинтересовавшимися возможной судьбой сына Соломонии/Софьи и его возможной роли в событиях середины и второй половины XVI в. после (?) публикации записок А. Я. Артынова, стали И. Е. Забелин, который прямо указывал, что слух о рождении Георгия «есть крамольная попытка внести смуту в государеву семью и в государство, первая попытка поставить самозванца»[472], и граф С. Д. Шереметев, которого цитировал В. С. Иконников:
«Увел[икого] кн[язя] Василия Ивановича сын Георгий от Соломонии Сабуровой, с которой он незаконно развелся. Какая судьба этого сына? В Сузд[альском] мон[астыре], близ гробницы Соломонии, гробница ее дочери. Три года новая супруга вел[икого] князя литовка Елена Глинская безплодна. Положение ее критическое ввиду отвергнутой Соломонии. Ив[ану] Вас[ильевичу] Грозному 12 лет, когда умирает Соломония. Он растет под страхом, что у него есть брат законнее его, Георгий Вас[ильевич]. Развитие его подозрительности не в связи ли с сомнительностью его происхождения? Что побуждало Грозн[ого]. обращать особое внимание на Суздаль? Что побудило его выбрать в жены старшему сыну племянницу Соломонии?».
(Р[усский] Арх[ив], 1895, 5, с.288)[473]Не указывая прямо своих предшественников, Г. Л. Григорьев, первым после С. Д. Шереметева, попытался ответить на поставленные им вопросы. Знакомство с А. Д. Варгановым в начале 60-х гг. и с его находками в склепе Покровского собора убедили Григорьева не только в существовании сына Соломонии/Софьи, но и в том, что именно он мог быть реальным (или вымышленным) соперником Ивана IV на московский престол и наиболее вероятной пружиной в борьбе между московским царем и боярством, вызвав к жизни, в конце концов, опричнину[474].
Г. Л. Григорьев не выстраивал цепочку доказательств, утверждая существование соперника Ивана IV на московский престол, а приводил самые разнообразные факты из эпохи его царствования, которые трудно объяснить расхожими взглядами, но они хорошо согласуются с предположением о существовании некоего «Икса», представлявшего реальную угрозу для московского царя, сознававшего свою «незаконность» вследствие неканоничности второго брака Василия III. Это странные казни конца 40-х гг., в том числе самых близких сверстников Ивана, среди которых оказывается сын И. Ф. Овчины Телепнева-Оболенского, сюжеты известных «приписок» к лицевому своду XVI в., «боярская смута» во время болезни царя в 1553 г., плохо мотивированные казни и опалы опричного времени, широко известные замыслы Ивана сначала о переносе столицы в Вологду, а затем и о бегстве «от бояр» за границу, необъяснимые взлеты и падения князя Владимира Андреевича Старицкого и его последующая гибель, организация опричнины и ее конец, необъяснимые погромы российских городов во время новгородского похода зимой 1569/1570 г. и многое другое. Каждый из этих фактов можно (или нельзя) тем или другими способом объяснить, но собранные воедино они обнаруживают определенную тенденцию, с которой следует считаться.
Правда, некоторые из них, на мой взгляд, не выдерживают критики, как, например, попытка увидеть в записях Я. Ульфельда и А. Олеария о Твери или в тексте Одерборна прямые указания на «Юрия Васильевича», поскольку во всех случаях речь идет о князе Владимире Андреевиче Старицком; то же самое относится к попытке обнаружить в преамбуле завещания Ивана IV — признание в совершенных им преступлениях, тогда как здесь налицо обычная для того времени компиляция из покаянного «Великого канона» Андрея Критского, и так далее. При всей заманчивости, следует отказаться от попытки объяснить выборку Иваном IV материалов из Царского архива в августе 1566 г. целенаправленным изучением судьбы Соломонии и ее сына. Анализ затребованных царем архивных материалов показывает, что в первой половине августа 1566 г. Иван IV выбирал преимущественно докончальные, духовные, поручные и подтвержденные грамоты, т. е. в первую очередь документы, связанные с землевладением и отношениями между великими князьями и земельной аристократией. Особый — и вполне понятный — интерес вызывали у него отношения между Смоленском и Польшей, наряду с этим — книги свадебные, раздельные, т. е. опять связанные с имущественными вопросами, среди которых мелькает дело об «измене» князей ростовских, крестоцеловальные Владимира Андреевича старицкого, переписка Василия III с обеими женами и дело о «неплодии» Соломонии.
Более того, анализируя поступки Ивана IV до 1560 г. я не могу обнаружить безусловных фактов, позволяющих говорить о какой-либо опасности, исходившей для него со стороны сына Соломонии. Перечень царских вкладов в Покровский монастырь в XVI в. (вклады Ивана IV, царицы Анастасии, царицы Марии Темрюковны, Федора Ивановича, царицы Ирины), из которых только один — царицы Ирины Федоровны — прямо связан с почитанием Соломонии/Софьи[475], не позволяет безоговорочно принять мнение С. Д. Шереметева и Г. Л. Григорьева об особенном интересе, который проявлял Иван IV к Покровскому монастырю в связи с личностью «Георгия Васильевича». Мне представляется, что сын Соломонии (если он был спасен в детстве), так и не появился на исторической арене под своим подлинным именем, а если кто-то и попытался использовать факт его рождения, то, скорее всего, потерпел неудачу в самом начале: для самозванства почва еще не была готова. Правда, остается загадка Новгорода, Твери и Торжка…
Аргументация Г. Л. Григорьева по поводу организации опричнины и действий Ивана IV строится, с одной стороны, на факте существования сына Соломонии/Софьи, с другой — на уверенности, что царь был достаточно хорошо осведомлен в сомнительности своего происхождения. Другими словами, должен был постоянно помнить о канонической недействительности брака своей матери с Василием III при живой первой жене, о своем происхождения от князя Овчины и о незаконности своих притязаний на царство при наличии сына Соломонии/Софьи.
Приведенный выше текст И. С. Пересветова о «предсказаниях философов и докторов» не оставляет сомнений, что Ивану IV всё это было известно так же, как и большинству его подданных, тем более, людям из его ближайшего окружения. Очень может быть, что некоторые жестокие и скоропалительные казни, например, его сверстника и, по-видимому, кровного брата, сына князя И. Ф. Овчины, которого он незадолго до венчания на царство приказал посадить на кол, можно объяснить этими обстоятельствами[476]. Однако здесь не так всё просто. Хотя Иван IV любил подчеркнуть перед шведским королем царственность своего происхождения «от Августа кесаря» (не от Палеологов!), он, как никто другой, знал, что право на престол определяется не происхождением, не кровью, а легитимностью наследования и церковным обрядом — всем тем, чем он обладал в полной мере. Он не мог считать себя бастардом уже потому, что Василий III благословил его на московский стол священными реликвиями великих князей — крестом Петра митрополита[477], сам он был призван соборно на царство, а затем и миропомазан митрополитом с соблюдением полагающихся таинств, которые обращали в ничто всё его сомнительное прошлое[478].
Я считаю, что Иван IV был трусом, психопатом, сатанистом[479], чудовищем в образе человека, но в его сознании неколебимо раз и навсегда было зафиксировано его царское достоинство, позволявшее без каких-либо угрызений совести распоряжаться жизнью и смертью своих подданных, которых он не считал чем-либо самоценным…
В этой ситуации гораздо большей загадкой, чем Иван IV, для нас оказывается сама Елена Глинская, обстоятельства ее выбора Василием III и обстановка последующей свадьбы в январе 1526 г. Если, благодаря работам М. Н. Тихомирова[480] и М. Е. Бычковой[481], в целом можно представить сейчас генеалогию рода Глинских для конца XV — первой половины XVI в., то о собственно семье будущей великой княгини у нас крайне мало сведений. О том, что ее отец В. Л. Глинский умер до 6 февраля 1521 г. известно только по записи во Вкладной книге Троице-Сергиева монастыря, где сказано, что «7029 (1521) — го году февраля в 6 день по князе Василье Глинском Слепом дано вкладу денег осмнатцать рублев да ковш серебреной выносной»[482], однако остается неизвестным время ее собственного рождения и, соответственно, возраст вступления в брак с Василием III, который для царской невесты никак не мог превышать 14–16 лет, но мог быть и много меньше.
Между тем, вопрос о возрасте Елены далеко не праздный. Тот или иной на него ответ позволит определить с большей степенью вероятности происхождение ее детей, а главное — реальное участие Елены в вопросах правления между декабрем 1533 и апрелем 1538 г., о чем так любят писать не только исторические романисты, но и профессиональные историки, равно как и о ее якобы «шляхетском воспитании». Внимание привлекает совершенно необъяснимое отсутствие на свадьбе Василия и Елены каких-либо родственников со стороны невесты, о чем в свое время напомнила М. Е. Бычкова, в том числе ее матери Анны[483]. Факт этот опровергает расхожее мнение историков о желании Василия III «породниться и приблизить к себе знатный род Глинских» и заставляет искать причину брака в точно рассчитанной интриге, разработанной митрополитом Даниилом и ближайшим окружением великого князя, может быть, даже при участии И. Ф. Овчины Телепнева-Оболенского, если вспомнить, что в свадебном обряде он выступал не на последних ролях, а его родная сестра вскоре была определена в штат к новоиспеченной великой княгине. Не менее существенен и тот факт, что второй брак Василия III был скоропалителен и ему не предшествовал выбор невесты. Похоже, что об уже сделанном выборе никто при дворе великого князя не знал и не догадывался, кроме крайне узкого круга лиц, «положивших в постель» Василию Елену, что само по себе уже предполагает хорошо продуманную интригу, равно как и скорость ее проведения в жизнь на протяжении полутора месяца после пострижения Соломонии. Наконец, можно считать безусловно достоверным, что в этом выборе не принимал никакого участия М. Л. Глинский, находившийся в темнице уже более десяти лет, и, судя по всему, никогда не вызывавший родственных чувств у своей племянницы и ее семьи.
Но вернемся к сыну Елены. Установление максимальной вероятности двух фактов, непосредственно друг с другом не связанных ни источниками, ни их проверкой, — наличие сына у Соломонии/Софьи и рождение Ивана IV у Елены Глинской от князя И. Ф. Овчины Телепнева-Оболенского — заставляет со вниманием отнестись к последовательности дальнейших исторических событий и к их интерпретации Г. Л. Григорьевым, заподозрившим наличие «теневой фигуры», всё равно, реальной, предполагаемой или вымышленной, которой мог стать сын Соломонии. Не принимая за истину все выдвинутые Григорьевым версии, я считаю необходимым дальнейшую их разработку и проверку исследователями на материале широкого спектра документов, охватывающих все стороны жизни России в XVI в. — от генеалогических росписей, различного рода «разрядов», до монастырских и земельных актов и, в особенности, зарубежных архивов, содержащих огромный, еще очень мало изученный материал о событиях 20-х гг. XVI в. в Московии.
Насколько перспективными могут стать такие разыскания, покажу только на одном примере.
Выше я упомянул, что в своей работе Г. Л. Григорьев привел труднообъяснимый факт поминовения некого «князя Юрия Васильевича», который был занесен в Кормовую книгу ростовского Борисоглебского монастыря в числе других членов царского Дома, но под датой (22 апреля), затрудняющей возможность отождествления его с сыном Елены Глинской и заставляющей предполагать в нем сына Соломонии Сабуровой[484]. Строго говоря, историк не в праве совершенно исключить возможность поминовения кормлениями того или другого лица в календарные дни, не совпадающие с днями рождения, крещения, именин и смерти последнего, поскольку они могут быть связаны с событиями, остающимися для нас неизвестными. И всё же каждый такой случай требует внимательного рассмотрения.
Так, в одном списке Кормовой книги Кирилло-Белозерского монастыря Императорский Публичной библиотеки, находящемся в сборнике XVI–XVII вв.[485], имеется следующая запись: «Месяца генваря въ 1 день по князе Юрье Ивановиче (Жилке, кн. дмитровском. — А. Н.) да по князе Юрье Васильевиче, да по князе Ондрие Ивановиче (старицком. — А. Н.), да по княгине его Ефросиние, во иноцехъ Евдокея, да по сыне по ихъ по князе Володимере Овдриевиче, да по княгине его по Евдокие, да по сыне по его по князе Василье, да по дву дочерехъ его по Евдокие да по Марье, кормъ прибылой написали за государево жалование, что государь пожаловалъ дал по нихъ милостину»[486]. Список поминаемых здесь лиц оказывается весьма специфичен — это два брата Василия III, жертвы властолюбия Елены Глинской, и весь род старицкого князя, погибший от руки Ивана IV. «Юрий Васильевич», поставленный между братьями Василия III, т. е. как бы приравненный к ним, никоим образом не может быть сыном Елены Глинской и, наоборот, с наибольшим вероятием может рассматриваться в качестве сына Соломонии. К этому следует прибавить странную дату поминовения всех этих лиц, которая заставляет вспомнить сообщения Новгородской III летописи и Новгородского хронографа, которые приводит Г. Л. Григорьев, где в качестве даты гибели «брата великого князя» указано 6 января 1570 г.[487]
Анализу под столь специфическим углом зрения стоит подвергнуть и списки синодика Ивана IV, вклады в церкви и монастыри, опричные репрессии, перемещения определенных семей и родов, наконец, сам репрессивный аппарат того времени, который нам известен под неопределенным названием «опричнины» и который очень мало походил в действительности на то, чем он представляется сейчас большинству историков. Опричнина не «выдохлась» — ее адский аппарат выполнил какое-то свое тайное предназначение и был ликвидирован царем, который его создал. Для чего — мы по-прежнему не знаем. Однако что-то было завершено, и, как указывал И. И. Полосин, в дипломатических донесениях европейских агентов за 1573 г. отмечалось, что «московский царь точно ожил и с небывалою энергией обратился к западным — ливонским и польским — делам»[488].
Вот почему в заключение я хочу напомнить впечатления об опричнине двух историков, которые пытались приподнять завесу этой тайны.
Более ста лет назад В. О. Ключевский писал об Иване IV:
«Государь, потративший столько усилий мысли, чтобы усвоить себе понятие о единстве верховной власти, ввел „разделение земли и градов“; объявив перед лицом земли, что все бояре изменники и что на простых людей царской опалы и гнева нет, царь оставил этих верных ему простых людей земли под властью боярской Думы, наполненной изменниками: если это не простое сумасбродство, то очень похоже на политический маскарад, где всем государственным силам нарочно даны поддельные физиономии и несвойственные им роли»[489].
И далее:
«Достаточно просмотреть его знаменитые синодики опальных, чтобы видеть, что во время опричнины Иван действовал как не в меру испугавшийся человек, который, закрыв глаза, бил направо и налево, не разбирая своих и чужих. Шла борьба с изменническим боярством, а в поминание заносились перебитые десятками по разным городам и селам боярские люди, подьячие, псари, монахи, монахини, мастеровые, „скончавшиеся христиане мужеского, женского и детского чина“, которых не только имена, но и политические вины „Ты сам, Господи, веси…“»
И тут же несколько загадочно заключал, что:
«…борьба московских государей с боярством имела не политическое, а династическое происхождение»[490].
О том же напоминал своим коллегам и С. Б. Веселовский:
«Если Иван, учредив опричнину, поставил себе цель искоренить землевладения бывших удельных княжат, то при чем же здесь были многие тысячи разоренных выселением мелких и средних землевладельцев? Какую оценку государственного ума и деятельности правителя мы должны сделать, если он, поставив себе цель разорить несколько десятков княжат, в действительности разорил многие тысячи рядовых служилых людей, а затем отказался от своих намерений и предложил всем, княжатам и не княжатам, вернуться как, ни в чем ни бывало, в свои разоренные владения? Затевать подобные дела, чтобы в конце концов от них отказаться, мог только совершенно умалишенный человек. А ведь царь Иван вовсе не был сумасшедшим! Какое же основание имели историки, выдумавшие нелепую концепцию опричнины, долженствовавшую как будто возвеличить Ивана, как государственного деятеля, приписывать ему действия, на которые способен только сумасшедший?»[491]
Опричнина Ивана IV и «Орден кромешников»
Как я уже неоднократно писал[492], одной из центральных загадок истории России XVI в. до сих пор остается пресловутая «опричнина Ивана IV», наложившая трагический отпечаток на жизнь современников и на последующую историю страны. Споры о причинах введения, целях и содержании, времени окончания опричнины, вызванных ею реформах и о многом другом, так или иначе с нею связанном, не стихают на протяжении вот уже более четырех с лишним веков. Ее загадки, решаемой всякий раз по-разному, не может обойти ни один историк, занимающийся событиями 60–70-х гг. XVI в., однако ни одна из выдвинутых до сих пор гипотез не объясняет совокупность всех известных в настоящее время фактов. Можно сказать, что, обладая фактами, исследователь не может проследить их причинно-следственную связь.
Опричнину пытались объяснить с позиций далеко идущих реформ в области управления государством, экономики, земельной политики, борьбы с феодальной раздробленностью на путях централизации и становления абсолютной монархии, переориентации внешней политики, борьбы с дворцовыми (боярскими) заговорами, сепаратизмом отдельных городов и земель, а также многим другим, что находило безусловное документальное подтверждение, но оказывалось в противоречии с другими фактами и наблюдениями. Сама цель разделения страны на «земщину» и «опричнину», предстающую царским уделом, построенным по образцу «земщины», но выведенным из-под общегосударственной юрисдикции и подчиняющимся непосредственно царю, как и последующая ее ликвидация с возвращением родовых поместий уцелевшим прежним владельцам, остается необъясненной.
Еще большую путаницу вносит попытка разобраться в причинах и содержании «опричнины» путем изучения отмеченных в ней лиц, поскольку здесь историк имеет дело с людьми, занимавшими весьма различное положение в ее структурах — начиная от крестьян-земледельцев и кончая членами «опричного двора» и того малопонятного сообщества, в котором, по свидетельству очевидцев, сам царь Иван IV исполнял роль «игумена»[493]. Между тем, рассматривая различного рода проявления «опричнины» в действии, подробно разбирая земельные, социальные, военные, административные и прочие реформы Ивана IV, обусловленные разделением страны на «земщину» и «опричнину», формирование опричного двора царя, опричного войска и пр., большинство исследователей, как правило, старательно обходили вниманием именно эту «верхушку пирамиды», ее содержание и значение для всего остального.
Первым и, похоже, единственным историком, который поставил такой вопрос, был И. И. Полосин. В работе, написанной незадолго до смерти, он пришел к заключению, что опричнину в целом венчал некий рыцарско-монашеский (или придворный) орден, созданный Иваном IV для своей безопасности, представленный корпусом опричников из 500 человек, имевших свой орденский костюм, свою символику, свой орденский храм в Александровой слободе, своего гроссмейстера, в роли которого выступал царь, и даже свою печать[494]. Основания так утверждать у него были уже потому, что именно в этих выражениях об опричниках и опричнине писали в своей записке бывшие дипломатические агенты царя И. Таубе и Э. Крузе, прямо указывавшие, что «этот орден предназначался для совершения особенных злодеяний» [Т-К, 39]. Вместе с тем, как отмечал Полосин, пресловутый «царский обиход», в который Иван IV запрещал «вступаться» митрополиту Филиппу, во многом соответствовал орденской практике Западной Европы того времени, переживавшей период возникновения разнообразных рыцарских, монашеских и придворных орденов, и находил подтверждение в заявлении Г. Шлитте 1547 г. о намерении московского царя организовать в России свой рыцарский орден[495].
Исследование И. И. Полосина не привлекло внимания историков, может быть, потому, что в это же время появились фундаментальные работы С. Б. Веселовского[496], А. А. Зимина[497], а последующие политизированные работы Р. Г. Скрынникова[498] и некоторых других авторов об Иване IV своей целью ставили больше обличение фактов опричного террора, чем действительное изучение структуры опричнины. Другой причиной такого невнимания могла стать в какой-то мере апологетическая точка зрения Полосина на личность и правление русского царя вплоть до утверждения, что «своей опричниной Иван IV начинал „великое царственное дело“»[499].
Это тем более досадно, что, наряду с подобными утверждениями, идущими из предшествующих десятилетий «культа личности», в работе Полосина содержится терминологический анализ опричной лексики, позволяющий по-новому взглянуть на некоторые факты, связанные с этим явлением. В первую очередь это относится к учреждению корпуса опричников, сочетавшего в себе функцию личной охраны царя и его личного карательного органа, однако не тождественного понятию «царского двора», как то стремился доказать сам историк и его последователи[500]. Другой заслугой Полосина является сделанный им невольно шаг к разделению «опричнины вообще» и того «царского домового обихода», связанного с собственно опричниками, который был выведен Иваном IV как из-под контроля общегосударственного аппарата «земщины», так и православной Церкви в лице ее высших представителей.
Попытаемся с позиций этих новых возможностей рассмотреть те скупые свидетельства очевидцев опричнины, которыми мы располагаем. Речь идет о так называемых «записках опричников-иностранцев», используемых обыкновенно для иллюстрации тех или иных положений историков, в первую очередь, в качестве мартиролога жертв опричного террора. Между тем, они содержат уникальные сведения как об опричнине в целом, так и о том «ордене кромешников», который определил многообразные проявления этой самой опричнины, и следов которого мы практически не обнаруживаем в летописях. Более того дошедшие до нас памятники русского летописания, содержащие записи о событиях второй половины XVI в., упоминают об опричнине лишь в пересказе ультиматума Ивана IV, предъявленного царем «земщине» в январе 1565 г., и содержат только общий перечень требований: устроение «особного» царского двора со своим штатом, войска, корпуса опричных гвардейцев (т. е. собственно «опричников»), выделение опричного удела из числа государственных земель и городов, установление дублирующего приказного аппарата и т. д.[501]
Каким образом, когда и в какой последовательности всё это делалось, летописи не проясняют. Единственное упоминание о местонахождении опричных приказов на новом опричном царском дворе за Неглинной мы обнаруживаем у Г. Штадена, однако в какой мере они дублировали земскую структуру, остается неизвестным, поскольку из того же описания следует, что отсюда поданные и подписанные челобитные опричников отсылались для исполнения в «земщину»: «Здесь были выстроены все приказы и ставились на правеж должники, которых били батогами или плетьми, пока священник не вознесет за обедней даров, и не прозвонит колокол. Здесь подписывались все челобитья опричников и отсылались в земщину, и что было здесь подписано, то было уже справедливо и в силу указа в земщине тому не перечили»[502]. Окончательное решение вопросов войны, мира и международных отношений и после разделения страны оставалось в руках царя, как об этом сообщала летопись («…а ратные каковы будут вести или земские великие дела, и боярам о тех делех приходити ко государю, и государь з бояры тем делом управу велит чинити»[503]), причем зачисление в «опричнину» городов и волостей сопровождалось, как можно понять, одновременным переходом под опричную юрисдикцию курировавших их приказных, продолжавших сидеть за своими столами в кремлевских приказах.
Молчание летописных памятников о событиях, потрясши до основания Россию, объясняется секретным характером мероприятий Ивана IV, категорически отрицавшего фактическое разделение страны и наделявшего послов специальными инструкциями, которые предписывали им полнейшее запирательство в этих вопросах[504]. Неслучайно отмена опричнины в 1572 г. сопровождалась объявлением тяжелого наказания в случае о ней упоминания, как писал об этом Г. Штаден: «С этим (пожаром Москвы. — А. Н.) пришел опричнине конец, и никто не смел поминать опричнину под следующей угрозой: [виновного] обнажали по пояс и били кнутом на торгу» [Шт., 110].Этим же объясняется молчание об опричнине посещавших Россию в те годы иностранцев, не знавших языка страны, тщательно изолируемых от контактов с русским народом и жившими здесь их соотечественниками, равно как вполне понятное молчание этих соотечественников, обреченных до конца дней своих быть пленниками московского царя.
И всё же полной изоляции России от Европы правительство Ивана IV обеспечить не могло. О том, как проявляла себя опричнина в жизни, рассказывают записки очевидцев, находившихся на службе царя и успешно бежавших из России. Таких оказалось четверо — И. Таубе, Э. Крузе, Г. Штаден и А. Шлихтинг.
Наиболее полным и, в известной степени, систематизированным сводом известий об опричнине является «Послание», составленное И. Таубе и Э. Крузе для Яна Ходкевича в 1571 г. Попав в плен в 1560 г., эти два лифляндских дворянина в 1564 г. были приняты на службу в Посольский приказ; в 1567 г. они были зачислены «в опричнину», где подвизались в качестве дипломатических агентов царя, ведя переговоры с датским принцем Магнусом, а затем содействуя ему в тщетных попытках присоединить к России Ревель, после чего в 1571 г. бежали в Литву. В Москве они занимали исключительно выгодное, в какой-то степени не зависимое от царского двора положение, позволявшее им в то же время быть хорошо информированными о происходящем в опричнине и в стране[505].
Другую сводку сведений об опричнине оставил вестфалец Г. Штаден, перешедший границу России в возрасте 22 лет в 1564 г. и пробывший в ней до 1576 г. В опричнине Штаден исполнял обязанности переводчика, но больше корчмарствовал в Москве, будучи принят в «опричнину» de jure (т. е. исключен из-под юрисдикции «земщины»). Хотя он описывает свои разбойные похождения под видом опричника во время новгородского погрома, в корпус опричников он не входил. По словам Штадена, его всегда выручало опасение «стоять близко к огню», поэтому, будучи авантюристом и проходимцем, он пользовался всеми благами, которые ему давал статус «опричного немца» и покровительство царя, но от государевой службы и политики держался подальше. Его не интересовали политические игры, а потому и в своих записках он описывает, главным образом, свои плутни и быт Москвы второй половины 60-х и начала 70-х гг. XVI в.[506]
Третье, не зависимое от двух первых сообщение принадлежит померанскому дворянину А. Шлихтингу, который осенью 1564 г. попал в плен к русским и затем в продолжении семи лет находился в услужении и переводчиком у итальянского врача при царском дворе, после чего удачно бежал в Польшу, что надежно датируется осенью 1570 г. Свое «Краткое сказание», адресованное польскому королю, Шлихтинг заканчивает уверением, что всё описанное «видел сам собственными глазами содеянным в городе Москве»[507], и это подтверждается тем фактом, что упоминаемые им казни полностью укладываются во временной интервал, который он провел в услужении у своего латрона. Наоборот, попытку ряда исследователей увидеть в «итальянском враче» бельгийца А. Лензея, выписанного Иваном IV в Россию через английскую королеву Елизавету[508], следует считать несостоятельной потому, что Шлихтинг определенно пишет об итальянце, а не бельгийце, и срок службы у него Шлихтинга указан в «семь лет», т. е. должен исчисляться с 1564 г., тогда как А. Лензей прибыл в Россию только в мае 1568 г.
Сочинения, оставленные этими авторами, посвящены, в основном, нравам Ивана IV и его окружения, не раскрывая структуры опричной администрации. Однако они содержат описания опричного быта, позволяющие восполнить наши представления о том «домовом царском обиходе», который определяет суть опричнины. Особенно важно в этом плане «Послание» Таубе и Крузе, существенно дополняющее летописные известия об отъезде Ивана IV в Александрову слободу в декабре 1564 г., его переговорах с московским правительством и последующем возвращении в Москву 15 февраля 1565 г.
Как сообщают летописи, в своем ультиматуме, согласованном с делегатами от бояр и духовенства, Иван IV требовал 1) права беспрепятственно казнить опальных и «брать на себя» их имущество и 2) устроить себе «особный» двор со всем полагающимся царю штатом и «обиходом», включая стрельцов, а для его содержания изымать из государства города и волости[509]. По Таубе и Крузе такое разделение страны царь объяснил возможной своей смертью, когда взятое «в опришнину» отойдет к его младшему сыну, а всё остальное, оставшееся в «земщине», — старшему. О подобном разделе страны между сыновьями царя, только в несколько иной форме, упоминает и А. Шлихтинг[510].
После того, как соглашение между царем и боярским правительством было достигнуто, в присутствии царя и трех его ближайших «советников» и доверенных лиц — Алексея Басманова, Афанасия Вяземского и Петра Зайцева — начался «перебор людишек» из городов и областей, отходивших в опричнину. Он состоял в подробном исследовании происхождения и родственных связей вотчинников и дворян, испомещенных по тому или другому уезду, включая их жен и детей, что всякий раз должны были подтвердить четыре представителя от уезда. Прошедшие отбор в опричнину произносили клятву, содержащую в числе прочего обещание «не есть, не пить и не иметь ничего общего с земщиной» [Т-К, 35], после чего начинался «земельный перебор» на этих территориях.
Принято считать, что таким способом формировался «гвардейский корпус опричников»[511] из служилого дворянства и детей боярских, которые «должны во время езды иметь <…> собачьи головы на шее у лошади и метлу на кнутовище» и ходить «в грубых нищенских или монашеских верхних одеяниях на овечьем меху (нагольные полушубки? — А. Н.), но нижнюю одежду <…> должны носить из шитого золотом сукна на собольем или куньем меху» [Т-К, 38].
Здесь налицо безусловная путаница, возникшая в результате неправильно понятого, к тому же испорченного изначально текста.
«Гвардейский корпус опричников» с указанными отличиями и эмблемами составляли люди, «которых [царь] набирал из подонков разбойников», «простого или крестьянского рода», так что они действительно могли «не иметь ни пяди земли», и в таком случае «великий князь давал тотчас же сто, двести <…> и больше гаков земли» [Т-К, 35]. Что же касается смотров по «перебору людишек», то на них происходил отбор служилых людей, т. е. несших службу в соответствии с обладаемой ими родовой или пожалованной земельной собственностью, с которой они и впредь должны были служить при дворе, в городах и по своим уездам, будучи кандидатами на замещение должностей в штате опричного двора, опричного аппарата управления и опричного войска.
В том, что такое отличие действительно существовало, следует из описания всеми очевидцами тех самых «убийц», из которых, по словам Таубе и Крузе, великий князь образовал «над всеми храбрыми <…> полками свою особую опричнину, особое братство, которое он составил из пятисот молодых людей, большей частью очень низкого происхождения, все смелых, дерзких, бесчестных и бездушных парней. Этот орден предназначался для совершения особенных злодеяний» [Т-К, 38–39]. Судя по всему, именно они, а не служилые дворяне и дети боярские по опричному списку, как писал Штаден, «не должны были говорить ни слова с земскими, ни сочетаться с ними браком. А если у опричника были в земщине отец и мать, он не смел никогда их навещать» [Шт., 93]. Правило это могло быть применено только к описанным выше «кромешникам», поскольку остальные служилые люди царской «опришнины» по роду своей службы как раз обязаны были общаться с «земскими» — на посылках, в приказах, живя бок о бок в уездах, будучи посылаемы на театр военных действий, и т. д.
Остается неясным, когда именно и каким образом формировался этот орден. Г. Штаден возникновение корпуса «кромешников» из 500 человек приписывает совету Марии Темрюковны [Шт., 85], подобно тому, как ей и ее брату приписывалась позднейшими авторами мысль об опричнине. С этим согласуется замечание А. М. Курбского, из которого можно понять, что «сатанинский полк» появился уже в 1560 г. вскоре после опалы Адашева и второй женитьбы царя[512], но факты, которые могли бы подтвердить такое заключение, мне неизвестны.
Из повествования А. Шлихтинга следует, что «собирать опричнину, т. е. убийц» царь начал не сразу, а одновременно со строительством опричного дворца на Неглинной, рядом с которым он устроил для опричников «особый лагерь». Строительство нового дворца за Неглинной напротив Кремля началось летом 1566 г., а перешел в него царь с семьей 12 января 1567 г., начав там «жить с многочисленной стаей своих опричников или убийц, которую набрал из подонков разбойников. Именно, если он примечал где-нибудь человека особо дерзкого и преступного, то скоро привлекал его к сообществу и делал слугою своего тиранства и жестокости» [Шл, 19]. Однако, исходя из описания организованного отъезда Ивана IV в Александрову слободу и ее укрепления, следует полагать, что, действительно, корпус «кромешников» возник значительно ранее указанных событий.
Эту гвардию (или «убийц», как их кратко именует Шлихтинг) царь использовал в качестве личной охраны и как палачей, посылая по стране с кровавыми поручениями [Шл., 20]. Они рубили людей, обезглавливали, разрывали их веревками («петлями») [Шл., 25], травили медведями и собаками [Шл., 39 и 43], нападали на их дома и поместья, предавая избиению не только обитателей и челядь, но и всё живое, включая скот и птицу [Шл., 23–24, 44; Т-К, 41], устраивали на дорогах засады [Шл., 20–21, 26], совершали ограбления и массовые публичные изнасилования жен и детей казненных, травлю женщин собаками и последующую на них охоту, о чем упоминают все информаторы [Шл., 23; Т-К, 42 и 47; Шт., 87].
Так, проводя избиение рода и изничтожения всех «животов» боярина И. П. Федорова, располагавшихся в различных уездах, Иван IV приказывал убийцам насиловать у себя «на глазах жен и детей тех, кого он убивал, и обращаться с ними по своему произволу, а затем умерщвлять. Что же касается жен поселян, то он приказал обнажить их и угонять в леса, как скот, причем тайно были расположены засады из убийц, чтобы мучить, убивать и рассекать этих женщин, бродивших и бегавших по лесам» [Шл., 23]. Подтвердив эти факты, Таубе и Крузе в другом месте своего «Послания» рассказывают, что сходным образом расправился со всем двором князя Владимира Андреевича Старицкого. Женщины были выведены нагими, их сначала «травили собаками, как зайцев, а затем они были застреляны и растерзаны ужасным образом, и их оставили лежать непогребенными под открытым небом, птицам и зверям на съедение» [Т-К, 47].
Широкие массовые акции «кромешниками» были развернуты и в Москве.
«После того, как он (царь. — А. Н.) настолько подавил свое население, что мог не опасаться с его стороны никакого сопротивления, — пишут Таубе и Крузе, — принялся он убивать и разорять различными ужасными способами своих знатных бояр. <…> Опричники великого князя должны были в количестве от 10 до 20 человек разъезжать по улицам с большими топорами, имея под одеждой кольчугу. Каждая отдельная рота намечала бояр, государственных людей, князей и знатных купцов. Ни один из них не знал своей вины, еще меньше — время своей смерти и что вообще они приговорены. И каждый шел, ничего не зная, на работу, в суды и канцелярии. Затем банды убийц изрубали и душили их безо всякой вины на улицах, в воротах или на рынке и оставляли их лежать, и ни один человек не должен был предать их земле. И все улицы, рынки и дороги были наполнены трупами, так что местные жители и чужестранцы не только пугались, но и не могли никуда пройти вследствие большого зловония» [Т-К, 40–41].
Почти теми же словами об этих зверствах пишет и А. Шлихтинг:
«Как только рассветает, во всех кварталах и улицах города появляются прислужники опричники или убийцы и всех, кого они поймают из тех, кого тиран приказал им убить, тотчас рассекают на куски, так что почти на каждой улице можно видеть трех, четырех, а иногда даже больше рассеченных людей, и город весьма обильно наполнен трупами» [Шл., 25].
Основным местопребыванием этих членов ордена, по словам Таубе и Крузе, была не Москва с ее опричным дворцом, а отдаленная от столицы Александрова слобода, «где это братство было основано», за исключением тех, «которые были посланцами или несли судейскую (ошибка перевода? — А. Н.) службу в Москве» [Т-К, 39].
Остановимся на этом моменте.
Учреждение «опричнины» развязало руки Ивану IV, освободив его от повседневных забот по управлению страной, что он полностью переложил на плечи «земщины», оставив за собой принятие окончательных решений по важнейшим вопросам. Вместе с тем, царь открыл для себя неисчерпаемый источник обогащения за счет ограбления и убийств своих подданных, для чего и создал государство в государстве, подлинным центром которого сделал укрепленную Александрову слободу, отгородив ее от всего остального мира надежными заставами «псов царских». Очевидцы свидетельствуют, что ни войти, ни выйти из нее без специального пропуска не мог никто, в этом смысле она охранялась много строже, чем государев опричный двор на берегу Неглинной, куда мог прийти любой москвич, тем более, если он жил в «опричной» части города. На опричном царском дворе находились приказы, здесь принимали и подписывали челобитные, которые потом поступали в «земщину» для исполнения, это была официальная резиденция царя, в которой он жил во время своих наездов в столицу. Однако действительным центром жизни Ивана IV являлся орденский замок «кромешников».
В чем состояла тайна этого ордена или братства? Частичный ответ мы находим у Таубе и Крузе в отрывке, относительно содержания которого историками было высказано много вздора, начиная от уверений в «атеизме» царя и его «глумлении над церковным обрядом»[513] до заверений, что царские казни и пытки — всего только дань «традиционной смеховой культуре средневековья»[514], которую, дескать, так хорошо понимал этот «представитель гуманизма в России», создавший в Александровой слободе «своего рода певческую академию»[515].
О том, что собой представлял «царский домовый обиход» в Александровой слободе, против которого яростно выступал митрополит Филипп (особо примечательно требование царя, чтобы игумен Филипп «в опришнину и в царский домовый обиход не вступался, а на митрополью бы ставился»[516]), известно из двух источников — «Послания» Таубе и Крузе и «Краткого сказания» А. Шлихтинга, которые совпадают по всем существенным вопросам, дополняя и поясняя друг друга.
Находясь в Александровой слободе, Иван IV, по словам Таубе и Крузе:
«…был игуменом, кн[язь] Афанасий Вяземский келарем, Малюта Скуратов пономарем; и они вместе с другими распределяли (по-видимому, „делили“. — А. Н.) службы монастырской жизни. В колокола звонил он сам вместе с обоими сыновьями и пономарем (т. е. Малютой. — А. Н.). Рано утром в 4 часа должны все братья быть в церкви; все неявившиеся, за исключением тех, кто не явился вследствие телесной слабости, не щадятся, все равно высокого ли они или низкого состояния, и приговариваются к 8 дням епитемии. В этом собрании поет он сам со своими братьями и подчиненными попами с четырех до семи. Когда пробивает 8 часов, идет он снова в церковь, и каждый должен тотчас же появиться. Там он снова занимается пением, пока не пробьет 10. К этому времени уже бывает готова трапеза, и все братья садятся за стол. Он же, как игумен, сам остается стоять, пока те едят. Каждый брат должен приносить кружки, сосуды и блюда к столу, и каждому подается еда и питье, очень дорогое и состоящее из вина и меда, и что [тот] не сможет съесть и выпить, он должен унести в сосудах и блюдах и раздать нищим, и как большей частью случалось, это приносилось домой.
Когда трапеза закончена, идет сам игумен к столу. После того, как он кончает еду, редко пропускает он день, чтобы не пойти в застенок, в котором постоянно находятся много сот людей; их заставляет он в своем присутствии пытать или даже мучить до смерти безо всякой причины, вид чего вызывает в нем, согласно его природе, особенную радость и веселость. И есть свидетельство, что никогда не выглядит он более веселым и не беседует более весело, чем тогда, когда он присутствует при мучениях и пытках до 8 часов [вечера]. И после этого каждый из братьев должен явиться в столовую или трапезную, как они называют, на вечернюю молитву, продолжающуюся до 9 [часов]. После этого идет он ко сну в спальню. <…> Что касается до светских дел, смертоубийств и других тиранств и вообще всего его управления, то отдает он приказания в церкви. Для совершения всех этих злодейств он не пользуется ни палачами, ни их слугами, а только святыми братьями. Все, что приходит ему в голову, одного убить, другого сжечь, приказывает он в церкви <…>. Все братья, и он прежде всего, должны иметь длинные черные монашеские посохи с острыми наконечниками, которыми можно сбить крестьянина с ног, а также и длинные ножи под верхней одеждой, длиною в один локоть, даже еще длиннее, для того, чтобы, когда вздумается убить кого-либо, не нужно было бы посылать за палачами и мечами, но иметь все приготовленным для мучительства и казней…» [Т-К, 39–40].
Как можно убедиться, перед нами орденский распорядок жизни царя, лишенный какого-либо «глумления» над религией, а тем более атеизма. Наоборот, здесь всё проникнуто глубокой обрядовой педантичностью, заставляющей вспомнить инквизиционные застенки Европы, в которых ханжество соединено было с изуверством, а здесь еще и приправлено природной дикостью. Были ли Таубе и Крузе свидетелями этому «царскому домовому обиходу»? В этом убеждают приводимые ими подробности, подтверждаемые рассказом А. Шлихтинга, который, судя но всему, постоянно бывал в Александровой слободе в качестве переводчика придворного врача. Об этом говорит и его замечание, что Иван IV, живя в слободе:
«…каждый день двадцать, тридцать, а иногда и сорок человек велит рассечь на куски, утопить, растерзать петлями, так что от чрезмерной трупной вони во дворец иногда с трудом можно проехать».
[Шл., 25–26]Записки Шлихтинга в ряде случаев уточняют сведения Таубе и Крузе, показывая, что среди «братьев» оказываются и некоторые члены опричного двора, допущенные к ритуалу «братства».
«Живя в упомянутом Александровском дворце, — писал Шлихтинг далее, — словно в каком-то застенке, он (царь. — А. Н.) обычно надевает куколь, черное и мрачное монашеское одеяние, какое носят братья базилиане, но оно всё же отличается от монашеского куколя тем, что подбито козьими мехами. По примеру тирана также старейшины (по-видимому, бояре. — А. Н.) и все другие принуждены надевать куколи, становиться монахами и выступать в куколях, за исключением убийц из опричнины, которые исполняют обязанность караульных и стражей. И так великий князь встает каждый день к утренним молитвам и в куколе отправляется в церковь, держа в руке фонарь, ложку и блюдо. Это же делают все остальные, а кто не делает, того бьют палками. Всех их он называет братией, также и они называют великого князя не иным именем, как брат. Между тем он соблюдает устав жизни, вполне одинаковый с монахами. Заняв место игумена, он ест один кушание на блюде, которое постоянно носит с собою; то же делают все. По принятии пищи он удаляется в келью или уединенную комнату. Равным образом и каждый из остальных уходит в свою, взяв с собой блюдо, ножик и фонарь; не уносить всего этого считается грехом. Как только он проделает это в течение нескольких дней и, так сказать, воздаст богу долг благочестия, он выходит из обители и, вернувшись к своему нраву, велит привести на площадь толпы людей и одних обезглавить, других повесить, третьих побить палками, иных поручает рассечь на куски, так что не проходит ни одного дня, в который бы не погибло от удивительных и неслыханных мук несколько десятков человек».
[Шл., 27]Из приведенного рассказа Шлихтинга можно заключить, что «братство» опричной гвардии, поставленной над опричным войском, в свою очередь служило подножием или «внешним кругом» для внутреннего ядра ближайших сподвижников царя из знати («старейшины» Шлихтинга), допущенной в орденский замок «кромешников». В орденский капитул входили (по Таубе и Крузе), кроме царя, А. И. Вяземский и М. Л. Скуратов-Бельский; Г. Штаден к ним присоединяет А. Д. и Ф. А. Басмановых и П. В. Зайцева, поименованных предшествующими авторами в качестве ближайших советников царя. В числе безусловных «братьев», стоявших над «кромешниками» и принимавших непосредственное участие в кровавых расправах, можно назвать М. Т. Черкасского, В. Г. Грязного, В. И. Темкина-Ростовского и А.-Ф. Овцына, которые, в свою очередь, стали жертвами царской мнительности и раздражительности [Шт., 96–97]. Вероятно, к ним следует причислить еще какое-то количество лиц, однако отождествлять с «орденом кромешников» весь состав опричного двора, как то обычно делается историками[517], на мой взгляд, нет никаких фактических оснований.
Таким образом, на основании показаний очевидцев, не входивших в опричный орден «кромешников», но тесно связанных с его деятелями и даже деятельностью (как тот же Г. Штаден, использовавший новгородский погром для личного разбоя), весь комплекс «опричнины Ивана IV» предстает перед нами в виде двух взаимопроникающих и взаимообусловленных структур. Первая из них представлена территориально-государственным аппаратом управления царским уделом, копирующим аналогичный аппарат «земщины», вершиной которого служит «царский двор», вторая — сращенный с верхушкой этого двора (но не тождественный ему) «орден кромешников», который опирается на «корпус убийц», выполняющих карательные и охранительные функции, и на опричное войско, никакого отношения к ордену не имеющее и точно так же возглавляемое царем. Внешним отражением такой двойственности «опричнины» оказываются два ее центра, функционировавшие одновременно на протяжении 1567–1571 гг.: закрытый ото всех заставами и караулами орденский замок-застенок в Александровой слободе и открытый для глаз обывателей опричный дворец на берегу Неглинной в Москве, официальное местонахождение царя и его приказов.
Этот вывод, опирающийся на приведенные выше факты, позволяет по-новому взглянуть на события 60–70-х гг. XVI в., увидев за «опричными реформами Ивана IV» не самоцель в виде первой, внешней структуры управления «царским уделом», а всего только средство для функционирования второй, внутреней структуры, какой был «орден кромешников». Какие цели он преследовал, в результате чего возник и почему был уничтожен самим его создателем — на эти вопросы пока ответа нет и вряд ли они когда-либо будут получены. Маловероятно и найти под нынешними зданиями Успенского женского монастыря г. Александрова остатки орденского архива, хотя именно в результате таких раскопок могут быть открыты пыточные орденские застенки, о которых согласно пишут опричные дипломаты, А. Шлихтинг и Г. Штаден.
Похоже, именно здесь мы встречаемся с главной загадкой опричнины — с тем ее «сердцем», ради которого и была задумана вся затея с разделением земель, экстерриториальностью царского двора и его окружения, орденом «кромешников» и всем остальным. В отличие от Москвы, в Александровой слободе никогда не прекращались мучения и казни, смысл которых остается для нас закрыт, как, похоже, был он закрыт и для их современников. Сейчас мы даже не можем сказать с достоверностью, кого именно пытали и казнили, потому что этих безымянных жертв оказывается много больше, чем поименовано в дошедших до нас списках известного синодика Ивана IV. Остается предполагать, что то были жертвы доносов своих холопов, недругов, неудачные беглецы за рубеж, люди, подозреваемые в знахарстве и волшбе с умыслом на царя, а главное — потенциальные заговорщики. Однако сколько могло быть таких? Десятки? Между тем свидетельства очевидцев не оставляют сомнения, что эти жертвы исчислялись многими сотнями замученных и казненных на глазах царя.
Естественно задаться вопросом: во имя чего совершались эти бессмысленные убийства, ставшие обязательной частью «царского домового обихода»? Никакая алчность царя, никакой страх действительных или возможных заговоров против него лично не объясняет ни мучений жертв, ни их количества, ни уничтожения при этом всего имущества казнимых, ни издевательств над женщинами и детьми, ни травли осужденных зверями — всех тех воистину адских мук, которые еще никем в мировой истории не были превзойдены по своей бесчеловечности и изощренности. Между тем, именно в этих пытках, в этих массовых казнях, как видно, заключена тайна «ордена кромешников» и трагедия митрополита Филиппа, требовавшего от Ивана IV положить конец не только казням, но и всему «бесовскому действу». Эти изощренные, бесконечные и бесцельные зверства, описание которых мы находим у очевидцев, которые, в свою очередь, находят подтверждение в описании опричной расправы с Новгородом[518], невольно заставляют задуматься: не имеем ли мы в данном случае дело с орденом поклонников Сатаны?
Для XVI в. в этом не было ничего необычного, тогда как все орденские атрибуты, знаки, а главное — действия, сопряженные с массовыми и мучительными человеческими жертвоприношениями, делают подобное предположение в высшей степени вероятным. Более того, такое предположение хорошо согласуется с сообщениями о подчеркнутой набожности Ивана IV (Даниил Принц из Бухова), со стремлением к мелочной обрядовости, его гипертрофированном суеверии, постоянном страхе и подозрительности. Стоит напомнить, что «уклонение в сатанизм» человека средневековья не только не предполагало у него какого-либо «атеизма» или наличия «антиклерикальных настроений», но, наоборот, требовало глубокой веры в силу обрядности и наличие Бога Небесного. Последняя, в свою очередь, порождала веру в его могущественного антипода и «супротивника», «князя мира сего», к которому человек и обращался за помощью.
И здесь напрашивается любопытная параллель.
В своей работе об орденском характере опричнины Ивана IV И. И. Полосин напомнил, что еще в 1547 г. московским правительством была высказана идея создания собственного рыцарского ордена[519]. Факт этот можно было бы посчитать несущественным, однако не так давно Г. В. Вилинбахов, работавший над историей ордена Андрея Первозванного, обнаружил, что сообщение Г. Шлитте, судя по всему, имело продолжение. Он нашел, что в книге И. А. Рудольфи «Куриозная геральдика», изданной в 1718 г., говорится, что орден Андрея Первозванного — «не первый рыцарский орден в Москве, а еще царь Иван Васильевич учредил в 1557 году орден Небесного Креста (может быть, в память того креста, что явился царю Константину) с розой, украшенной жемчугом, потому что на цепи ордена, состоящей из 42 звеньев, висело изображение Спасителя Иисуса Христа, торжествующего и возносящегося к небесам». Подтверждение такому сообщению Г. В. Вилинбахов нашел на оттиске печати царя Федора Ивановича, воспроизведенной в свое время в книге А. Лакиера «Русская геральдика», где «отчетливо видна на груди двуглавого орла цепь со знаком ордена либо в виде андреевского креста, либо в виде монограммы Христа»[520].
Крест с розой, ставший центральным знаком Ордена Небесного Креста, вполне мог быть знаком тех «чинов стратилатских» о которых вскольз упоминал А. М. Курбский в своей «Истории о великом князе Московском»[521]. Неслучайно, начиная с конца XVI или с начала XVII в., одним из излюбленных типов русского серебряного нательного креста с эмалью и без нее оказывается крест довольно большого размера с изображенным на нем розовым венком. Интересно и другое. Из соборного дела о «мятеже» дьяка И. М. Висковатого по поводу новой стенописи и икон, написанных для ряда кремлевских церквей, в том числе для Благовещенского собора, известно, что именно в это время там появился образ «Господа нашего Иисуса Христа, на верх креста седяща в доспехе», который своей необычностью смутил ревнителя благочестия[522]. Как известно, представление о Христе-рыцаре, чуждое восточному православию, неразрывно связано с рыцарскими орденами Западной Европы, поэтому появление подобного новшества в русской иконографии, притом в одном из «царских» соборов, вполне могло стать «репликой» на учреждение подобного ордена.
Наличие следов орденских организаций в России в 50-х гг. XVI в. ставит перед исследователем этого времени много вопросов, среди них — о связях нового ордена с орденами Западной Европы, о том, кто входил в орденские братства и т. д. Тем более, что символика ордена Небесного Креста, связанная с доблестью, верой и благодатью, оказывается в оппозиции символике опричнины, заставляя думать, что свой сатанинский орден Иван IV мог создать в противоположность не только «ордену земщины», но, соответственно, и его небесному покровителю, Христу. Отсюда — устроение орденского замка «кромешников» вне Москвы и вся та его мрачная символика, о которой я писал в одной из своих книг: черные одеяния «кромешников», черные графитовые крыши орденского замка, о которых нам теперь известно по раскопкам в Александровой слободе, «черные мессы», которые служил Иван IV вместе с какими-то «своими попами», и бесчисленные жертвоприношения сатане…
Оставляя в стороне тайные цели, которые преследовал царь, создавая свой «орден кромешников»[523], и которые, как я уже сказал, мы вряд ли сможем когда-либо выяснить с достоверностью, установление внутренней структуры опричнины позволяет утверждать, что ее первоначальной задачей была легализация созданной царем орденской организации за пределами юрисдикции общегосударственной структуры власти и над ней, тогда как все остальные связанные с опричниной реформы (разделение земель, создание дублирующей системы приказов, собственного войска, опричного двора и т. п.) служили только средством обеспечения жизнедеятельности ордена, венчавшего пирамиду власти в России 60–70-х гг. XVI в.
Подобный вывод требует от историков в дальнейшем отказаться от недифференцированного использования термина. «опричник», одинаково прилагаемого как к человеку, находившемуся под юрисдикцией опричного Дворца и проживавшего на опричной территории, так и к члену опричного Ордена, собственно опричнику или «кромешнику», наделенному не только знаками ордена, но и специфическими функциями и полномочиями. В свою очередь, к этим последним нельзя огулом причислить весь состав опричного Двора даже в период опричного террора 1565–1572 гг., не говоря уже о распространении этого термина на опричное войско, работников опричных приказов, дипломатов, бояр и т. д., которым более соответствует наименование по званию и по должности с указанием «из опричнины» оставив за собственно членами ордена наименование «опричник» или «кромешник», подразумевая под ними «убийц» — А. Шлихтинга и «кромешников» А. М. Курбского.
Существовал ли «Болтинский» список Правды Русской?[524]
Для русской исторической науки XVIII век явился своего рода «эпохой великих открытий». Неслучайно основная масса исторических изданий, появившихся во второй его половине, оказывается публикацией источников, то есть археографическими работами. После того, как Петр I в 1697 г. на пути в Голландию познакомился с Радзивиловской (Кенигсбергской) летописью, а 16.02.1722 г. был издан указ о присылке в Синод из епархий и монастырей бумажных и пергаменных летописей и хронографов (аналогичный указ был издан 1.8.1791 г.), параллельно с накоплением памятников древней письменности в частных библиотеках и в государственных хранилищах шло их издание, перевод и осмысление.
Знакомящийся с этими изданиями исследователь не может не отметить безукоризненное чутье первых российских историков и археографов, отбиравших из множества открываемых документов (как бы в предчувствии дальнейших утрат) памятники первоочередной важности, составившие золотой фонд источников русской истории. Достаточно назвать такие летописи, как Новгородская Первая, Радзивиловская, Никоновская, Царственный летописец, Степенная книга царского родословия, книги разрядные, родословные, судебники, Книга Большому чертежу, грамоты духовные, договорные, купчие, статейные списки, не говоря уже о многом другом. Среди них особое место занимают несколько памятников, в издании которых по праву можно видеть итог русской археографии XVIII века. Это Правда Руская, изданная в 1792 г., «Поучение Владимира Мономаха», изданное в 1793 г., и, наконец, «Слово о полку Игореве», вышедшее в 1800 г.[525] и как бы венчающее собой все предыдущие открытия.
Появившееся в 1792 г. издание древнейшего памятника русского права, каким является Правда Руская, не было первым по счету. Ему предшествовали три издания — А. Шлецера в 1767 г.[526], С. Я. Румовского в 1786 г.[527] (так наз. «Татищевская Правда») и В. В. Крестинина в 1788 г.[528] Однако издатели 1792 г., скрывшиеся под псевдонимом «любителей отечественной истории», полагали, что прежние издания по обстоятельности и научному аппарату, сопровождавшему текст, «должны будут уступить сим (законам. — А. Н.) издаваемым ныне, потому что они в самом существе своем полнее, исправнее, достаточнее всех прочих, не только оных тиснению преданных, но и рукописных до ныне известных» [ПР, 1792, III].
Как известно, под именем «любителей отечественной истории» скрывались люди, тесно связанные не только общими интересами, но и дружественными узами. Это писатель и переводчик И. П. Елагин, генерал-майор И. Н. Болтин и обер-прокурор Святейшего Синода, позднее граф А. И. Мусин-Пушкин. Похоже, что иных и не было, и указание Д. Н. Дубенского на некого «Перфильева»[529] является всего лишь недоразумением, порожденным отчеством И. П. Елагина. К моменту издания все трое были уже не молоды, обладали известностью, независимостью и живо интересовались российскими древностями. Историко-кри-тические труды и обширные знания И. Н. Болтина[530] снискали ему известность и уважение среди русских и европейских ученых, тогда как А. И. Мусин-Пушкин зарекомендовал себя более собирателем, чем исследователем, и к августу 1791 г., когда по его инициативе Екатериной II был издан известный указ о доставлении в Синод древних рукописей из монастырских архивов и книгохранилищ [ПР, 1792, I], он уже имел прекрасную собственную библиотеку и обширное собрание древних предметов и редкостей[531].
Сейчас можно довольно точно восстановить участие каждого из трех друзей в издании 1792 г., опираясь на свидетельство одного из них. В одном из примечаний посмертно изданного труда И. П. Елагин в качестве единственного подготовителя текста, переводчика и комментатора Правды Руской называет И. Н. Болтина, «который един по отменному знанию русской истории, к изданию упрошен был и един трудился»[532]. Сам Елагин, как можно думать, больше был вдохновителем, чем издателем, тогда как А. И. Мусин-Пушкин предоставил в распоряжение Болтина, кроме своей библиотеки, рукописи, поступавшие из монастырей в Синод, подведомственную ему типографию и из личных средств оплатил все издержки по печати[533].
Наблюдения над языком и стилем примечаний к изданию 1792 г. подтверждают сообщение Елагина, а сравнение их с языком сочинений Болтина устанавливает с несомненностью его авторство. Всё это позволяет в дальнейшем уже прямо называть И. Н. Болтина издателем текста 1792 г.
Осуществленное Болтиным издание Правды Руской поражает каждого, кто знакомится с ним первый раз, своей строгостью и научным изяществом. Издатель не просто публиковал и комментировал текст. Как можно видеть из расположения материала, задачей Болтина было максимально облегчить работу читателя с текстом, не только объяснив, насколько возможно, сам текст и употребляемые в нем специфические термины и выражения, но и вводя читателя в соответствующий раздел древней русской истории.
Рассматривая последовательно структуру издания, мы находим обстоятельное предисловие, в котором кратко изложена цель издания, его история и принципы, которыми руководствовались издатели. За предисловием следует оглавление, где, кроме указания на страницы, излагается столь же подробно содержание статей. Сам текст Правды Руской разделен на главы и статьи, как можно думать, соответственно киноварным заголовкам или инициалам, характерным для всех списков Пространной редакции, к которой он относится. Параллельно тексту оригинала идет толковый перевод, а после каждой статьи — обстоятельные примечания, касающиеся текста, разночтений по другим спискам, имевшимся в распоряжении издателей, объяснения терминов, выражений или затронутого вопроса.
Завершается издание подробным указателем слов, названий и предметов, находящихся как в тексте, так и в примечаниях.
Уже этот беглый обзор показывает, как серьезно относился Болтин к изданию Правды Руской и почему само издание вызывало восхищение не только у его современников, но и у крупнейших историков более позднего времени. Принципы передачи текста, которыми руководствовался в данном случае Болтин, с исчерпывающей полнотой изложены им в предисловии, а их важность для всего последующего заставляет меня привести этот фрагмент, ибо его придется вспомнить еще не раз.
Вот что издатель счел нужным сообщить своим читателям.
«Самый текст законов разсудили мы напечатать в пол страницы церьковными буквами, ради лучшаго изображения древних слов и правописания, а против текста, в другом столбце, поставить преложение на нынешнее наречие гражданскими буквами; под каждою же статьею в низу приложить объяснения и толкования слов вышедших из употребления, дабы Читатель мог удобно смысл текста, по толкованию слов, понимать, и видеть сходно ли с ним зделано нами преложение; и как всё то, что напечатано церьковными буквами, есть находящееся в древнем рукописном списке издаваемых законов, а напечатанное гражданскими буквами есть сочиненное нами. — Текст законов точно так напечатан как он в рукописи находится, без всякия перемены, не только в словах ниже в одной букве; равно и статьи разделены также как и там, но прибавлены токмо числа главам и статьям для удобнейшего приискания мест, в случае ссылки на них. — Где нашлись в списке, которому мы следовали, упущения в словах, небрежением писца учиненные, а в других списках оныя слова находятся, те мы внесли в текст, без всякаго усумления; находящиесяж в других списках отмены в словах и целых речах, показали токмо в примечаниях. — Хо-тяж в некоторых статьях закона Ярославова и ясно видели мы, что слова или речи перемешаны, тоесть задния поставлены на переди, а передния на зади, яко в § 1-м название Русин, долженствующее быть на конце речи с прочими находящимися там отечественными названиями, поставлено на переди весьма не к стате; но мы не осмелилися перенести его в приличное ему место, но оставили тут где оно стоит в подлинике. Приметили мы также, что инде целыя статьи или переставлены с места на другое не по приличию, или одна статья разделена на две, и последняя половина приставлена к другой, что Читатель сам удобно усмотрит; другияж так повреждены от переписок, что о подлином их смысле должно было доходить догадкою, и с великим трудом, однакож, ни тех ни других отнюдь мы не поправляли» [ПР, 1792, VI–VII].
Отсюда можно видеть, что в принципах публикации текста И. Н. Болтин намного опередил свое время, а многократно подтвержденная добросовестность и честность издателя, засвидетельствованная даже объектами его строгой критики (напр., М. М. Щербатов в своем ответном «Письме…»), не позволяет сомневаться в соблюдении им же самим предписанных правил.
К сожалению, гораздо меньшее внимание уделил Болтин описанию рукописи, подготовленной им к изданию, и тех списков, которыми он пользовался для сверки. Известно только, что рукопись была пергаменной, создававшей впечатление большей древности, чем пять остальных, как видно, бумажных; она была наиболее полной по объему вошедших в нее статей и писана «весьма древним почерком» [ПР, 1792, I]; наконец, как и все остальные, она поступила в Синод из какого-то монастыря после августа 1791 г.
Успех, выпавший на долю Болтинского издания, может быть оценен по тому, что его повторение потребовалось уже через семь лет, а незыблемый авторитет удерживался почти четверть века — вплоть до февраля 1818 г., когда появились первые томики «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.
Собственно спискам Правды Руской Карамзин посвятил всю 3-ю главу 2-го тома своей «Истории…», а также многочисленные к ней примечания. Он предупреждал читателя, что «сверил тексты Крестининского издания Правды Русской» и «нового издания», как он везде называет издание 1792 г., но что оба они неверны. Основанием для такого суждения послужил найденный им древнейший Синодальный список Правды Русской и другой, «также хартейный» (т. е. пергаменный. — А. Н.), который «в библиотеке графа А. И. Мусина-Пушкина есть», и по сличению с которым «в печатном <…> находятся неисправности, большею частию умышленные, то есть, мнимыя поправки»[534].
Другими словами, обнаружив в библиотеке одного из издателей Правды Руской 1792 г., в основу которой был положен «хартейный список», такой же «хартейный», Карамзин не сомневался, что имеет дело с одним и тем же документом, поскольку для него не существовало разницы между списками одного и того же памятника, кроме как их древность. Вот почему, критикуя авторов примечаний к изданию 1792 г., Карамзин обращается то к списку XIV в. из библиотеки А. И. Мусина-Пушкина, который теперь известен как «Мусин-Пушкинский», то к Синодальному списку, древнейшему, который он именует «подлинником».
Просматривая примечания Карамзина, можно видеть, с каким удивлением историограф сличал пергаменный Мусин-Пушкинский список Правды Руской, который, как он полагал, был положен в основу издания 1792 г., с текстом самого этого издания, находя почти в каждой статье если не прямую «ошибку», то разночтения[535], в справедливости чего может убедиться теперь каждый, сличив опубликованный в академическом издании 1940 г. Мусин-Пушкинский текст[536] с изданием И. Н. Болтина.
С этого момента в истории издания 1792 г. начинается период, когда критика изданного текста и методов работы издателей следует параллельно попыткам найти и определить оригинал рукописи, которым они располагали. Авторитет «Истории государства Российского» и ее автора оказался настолько велик, что даже К. Ф. Калайдович, взявшийся было по поручению Общества Истории и древностей Российских за подготовку к изданию Мусин-Пушкинской рукописи Правды Руской, долгое время склонен был признавать ее за оригинал издания 1792 г.[537] и только впоследствии высказался против такого отождествления[538]. Однако ученое мнение было сформировано, и первый издатель Мусин-Пушкинского списка Д. Н. Дубенский в примечаниях к изданию писал: «Кто усумнится, что таинственный пергаментный список <…> писанный весьма древним почерком, полнейший, им (Болтиным. — А. Н.) изданный, есть тот самый, ныне издаваемый, принадлежащий Императорскому Обществу истории и древностей российских»[539].
Издание Дубенского было осуществлено на достаточно высоком уровне и показывало всё отличие Мусин-Пушкинского списка от текста 1792 г. Но вместо того, чтобы увидеть разницу, Дубенский утверждал их тождество, упрекая Болтина и остальных издателей, названных им поименно, во множестве огрехов. Так, например, по мнению Дубенского, Болтин исключил из древнего текста термин «задница», которое «Болтин заменил <…> позднейшим XVIили XVвека», что сделано им «измелочного приличия, свойственного веку»[540]. Насколько поверхностно Д. Н. Дубенский ознакомился с изданием Болтина, видно из того, что полюбившаяся ему «задница» (т. е. наследство) находится в издании 1792 г. в а) заголовке, б) в тексте статьи и г) в указателе [ПР, 1792, 85, 89 и V], а сам XVIII век отличался не столько «мелочным приличием», сколько определенным неприличием, распутством и скабрезностью…
Следующий и последний шаг сделал в 1846 г. Н. В. Калачов. Он сличил различные редакции и списки Правды Руской и обнаружил, что наиболее специфические варианты текста 1792 г. соответствуют вариантам одного только Воскресенского списка. Отсюда он заключил, что именно Воскресенский список лег в основу издания 1792 г., будучи дополнен из Академического I списка и из некоторых других[541]. Правда, Воскресенский список был бумажным, а не пергаменным, но если вслед за Карамзиным считать, что издатели не сдержали своего слова и напечатали не один текст, произвольно пополняя его из других списков, то, следовательно, они могли не выполнить и этого своего обещания…
Собственно, на этом и закончилось изучение издания 1792 г. Каждый последующий шаг приводил исследователей к мысли о неточности текста, поскольку он отличался от всех известных списков Правды Руской, а пытаясь объяснить расхождение текстов недобросовестностью издателей, критики, естественно, приходили к выводу о полном нарушении принципов, объявленных в предисловии. Сочетание чисто внешних признаков — Мусин-Пушкин, библиотека, пергаменный список, упоминание о пергаменном списке в предисловии к изданию 1792 года, удивление и негодование Карамзина, — послужили «ядром снежного кома», который уже нельзя было остановить. Почему-то никто не подумал, что в той же библиотеке Мусина-Пушкина пергаменных списков могло быть несколько, что сама библиотека сгорела дотла или исчезла в 1812 г., что вероятность сохранности одного списка ничтожна, что во всех своих работах Болтин был образцом точности и достоверности, и т. д.
Наконец, можно спросить, почему до пожара 1812 г. в продолжении двадцати лет никто из историков не усумнился в точности издания, когда оригинал, был так доступен?
Как бы то ни было, после работы Н. В. Калачова издание 1792 г. становится лишь одним из фактов истории российской археографии и полностью выпадает из поля зрения исследователей настолько, что в историографическом обзоре академического издания текстов Правды Руской 1940 г. В. П. Любимов даже не рассматривает Болтинское издание и только в одном из примечаний без каких-либо аргументов заявляет, что из списка Н. В. Калачова следует исключить «Болтинское издание (№ 44), представляющее собой компиляцию XVIII века из разных списков»[542].
В этой странной истории решающую роль сыграло, как мне представляется, одно немаловажное обстоятельство. Как известно, после пожара Москвы 1812 г., когда исчезла рукопись «Слова о полку Игореве», поднялись сомнения в ее «достоверности», и скептикам требовалось выставить невеждой или фальсификатором не Болтина, а самого Мусина-Пушкина[543]. Карамзин своим поспешным заключением открыл для них возможность обходного маневра. Насколько такой расчет был точен, показывают колебания Калайдовича, собиравшего воистину «по горячим следам» сведения о рукописи «Слова о полку Игореве», которого он был ревностный защитник. Одним из первых он мог использовать Мусин-Пушкинский список для сравнения с изданием 1792 г. и пришел к выводу об ошибке Карамзина. Но сила общественного мнения и авторитета официального «историографа» оказались столь велики, что даже полное изменение признаков искомого оригинала не разрушило, а лишь укрепило нападки скептиков.
Можно утверждать, что после 1812 г. судьба двух изданий — Правды Руской 1792 г. и «Слова о полку Игореве» 1800 г. оказывается неразрывно связанной, а та или иная точка зрения исследователей по поводу одного из текстов так или иначе отражается на отношении к другому. Упрекая Болтина в ошибках, цитировали Карамзина, но обращались уже не к Пушкинскому, а к Воскресенскому списку, подменяя пергаменный — бумажным, древний — поздним. И в то же время, сопоставляя, сравнивая отдельные части текста издания 1792 г., отыскивая «выброшенные» или «вставленные» куски, критики распоряжались Болтинским текстом с поразительной бесцеремонностью, обвиняя издателей в «антиисторизме» и полностью забывая как о принципах издания, провозглашенных в предисловии к нему, так и об описании оригинала.
Известным итогом подобного рода «исследований» явилась работа С. Н. Валка о Болтинском издании Правды Руской 1792 г. и о «методах работы» ее издателя, опубликованная сначала в «Трудах Отдела древнерусской литературы»[544], а затем в составе более широкого исследования о принципах издания этого текста в XVIII в. — в «Археографическом ежегоднике»[545].
Согласно утверждениям С. Н. Валка, текст издания 1792 г. является компиляцией из восьми списков, находившихся в руках издателей, и в основу издания был положен не хартейный, как указано в предисловии (за который вначале принимали Мусин-Пушкинский список), а, бумажный Воскресенский, по предположению Валка находившийся в Синоде в конце 1791 г. Соответствующим образом археограф представляет и работу И. Н. Болтина над текстом. Так, рассматривая в качестве примера первую статью Правды Руской в издании 1792 г., С. Н. Валк приходит к выводу, что она является «…склейкой того, как она читается в Краткой Правде, с тем, как она читается в Пространной Правде»[546]. Метод же работы издателя он описывал следующим образом: «…Болтин не только по своему разумению соединяет в одно целое разнородные по своему происхождению части текста, но и то, что дошло в исправном, казалось бы, виде, подвергает критике с точки зрения своего понимания и соответственно этому правит текст»[547].
Отказывая Болтину в самой возможности исторического подхода к тому или иному документу, С. Н. Валк пренебрежительно отзывается об исторических взглядах Болтина, а порой в его отношении к историку XVIII в. проглядывает даже враждебность, когда он, упомянув, что «в своих взглядах на Русскую Правду Болтин следовал В. Н. Татищеву», неожиданно заключает: «Мы видим Болтина националистом, апологетом и крепостного права и русского абсолютизма»[548].
Что же касается провозглашенных в Предисловии принципов издания 1792 г., С. Н. Валк пишет:
«Болтин обещал в своем предисловии делать оговорки относительно разночтений. Им оговорено, что „ябетник“ встречен им только у „Татищева“ (так назвал Болтин напечатанный Румовским Академический список с примечаниями Татищева); такие же оговорки о разночтениях сделаны Болтиным еще только в пяти случаях и на всем протяжении его издания Правды, хотя их надо было сделать в десятки раз больше, если только принять во внимание все разночтения Академического Краткого и всех Пространных списков»[549].
По-видимому, Валк имел в виду списки Правды Руской, изданные в первом томе ее академического издания 1940 г, — списки, которые физически не мог знать И. Н. Болтин, подчеркнувший в предисловии, что располагал всего только шестью неизданными и двумя изданными списками. Тем удивительнее очередной выпад Валка, что «при таких условиях нельзя удивляться обвинениям Карамзина, что в издании Болтина „находятся неисправности, большею частию умышленные, mo-есть мнимые поправки“»[550].
Суровый приговор, вынесенный «патриархом советской археографии», казалось, должен был навсегда закрыть вопрос о научном значении злополучного издания. Однако существует несколько аспектов, заставляющих еще раз к нему вернуться, чтобы рассмотреть причины и обоснованность столь категорических суждений. Напомню, что критика издания 1792 г. как в момент своего возникновения, так и в наши дни, связана с попытками дискредитировать научную деятельность и поставить под сомнение элементарную порядочность «любителей отечественной истории», превратив их если не в злостных, то в «благонамеренных фальсификаторов»[551]. А это значит, что наш вопрос имеет не только исторический, но и вполне актуальный научный интерес, поскольку от того или иного ответа зависит дальнейшая судьба издания 1792 г.: останется ли его текст «компиляцией» и окончательно исчезнет из научного оборота, или исследователям нашего древнейшего юридического свода законов можно будет возвратить науке принадлежащий ей по праву текст неизвестной сейчас рукописи.
По счастью (или по иронии судьбы), а, может быть, не без умысла со стороны М. Н. Тихомирова, создателя и редактора «Археографического ежегодника», в том же томе, где напечатана работа С. Н. Валка, была помещена работа А. Т. Николаевой об И. Н. Болтине как археографе[552]. Читатель найдет там отзывы о Болтине и его работах таких историков, как С. М. Соловьев, М. И. Сухомлинов, В. О. Ключевский, В. С. Иконников и других, неизменно подчеркивавших глубочайшее уважение ученого XVIII в. к факту, документу и даже букве исторического документа, которое прослеживается во всех без исключения трудах Болтина, оказавших огромное влияние на развитие российской историографии и источниковедения. После всего этого не вызывает удивления и собственный высокий отзыв о Болтине А. Т. Николаевой, когда она пишет, что «характерной особенностью Болтина, как археографа, является чрезвычайно бережное отношение к публикуемому источнику, стремление донести его до читателя в неприкосновенности»[553]. К сожалению, сама А. Т. Николаева не решилась прямо выступить с пересмотром традиционного взгляда на издание 1792 г., ограничившись указанием, что «издатели взяли, как они пишут (выделено мною. — А. Н.), наиболее древний список и сличили его со всеми им известными списками»[554]. Но дальше, снимая сомнения, она писала прямо, что для Болтина «неприкосновенность текста публикуемого памятника была альфой и омегой»[555].
Итак, перед нами две точки зрения на И. Н. Болтина и на его последнюю работу — С. Н. Валка и А. Т. Николаевой, диаметрально противоположные друг другу по своим оценкам этого замечательного исследователя. И если за Николаевой стоят крупнейшие историки прошлого, то на стороне Валка — определенная историческая традиция, требующая своего рассмотрения ab ovo. В данным случае таким «яйцом» оказывается Н. М. Карамзин и его примечания ко второму тому «Истории государства Российского», поскольку он первым усумнился в верности текста 1792 г. и выдвинул сомнения, на которые «не ответил» А. И. Мусин-Пушкин.
Начнем с того, что «ответить» Карамзину А. И. Мусин-Пушкин не мог по той причине, что 2-й том «Истории…» вышел спустя год после смерти графа, рассчитать это при желании довольно просто. Удивительно другое: никто не подумал, почему все эти вопросы и упреки Карамзин не обратил лично к графу, когда пользовался его библиотекой? Однако какой библиотекой — той, что была на Разгуляе до пожара 1812 г., или какой-то иной, в которой находилась рукопись? Вопрос принципиальный, потому что после 1812 г. у А. И. Мусина-Пушкина никакой библиотеки уже не было.
Стало быть, загадка заключается, в первую очередь, в истории пергаменной рукописи XIV в., хранящейся ныне в составе собрания ЦГАДА, которая носит имя «Мусин-Пушкинской» и где, кроме Правды Руской, находится «Закон судный людем», «Выписка из Книг Моисеевых», «Устав Владимира о церковных судех», торговый договор Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. и «Устав Ярослава о мостех». В первом томе академического издания текстов Правды Русской В. П. Любимов ничто-же сумняшеся писал, что «сборник этот в начале 40-х гг. Мусин-Пушкин передал Обществу Истории и Древностей Российских» [ПР, 1940, 277], даже не задумавшись о том, что граф умер еще 1.2.1817 г., а передал этот сборник в Общество значительно раньше, 13 марта 1812 г., как то и зафиксировано в «Дневной записке» заседания Общества от этого числа[556].
Более того, этот пергаменный сборник А. И. Мусин-Пушкин передал не вообще в Общество, а для его публикации, благодаря чему он находился не в библиотеке Общества, а у его председателя П. П. Бекетова, как это выяснил еще К. Ф. Калайдович[557] и документально подтвердил в наше время А. И. Аксенов[558]. Бекетов вывез сборник в 1812 г. из Москвы, благодаря чему рукопись избежала участи библиотеки ОИДР и его собрания древностей. Больше этот сборник к А. И. Мусину-Пушкину не возвращался и после изгнания французов готовился к изданию К. Ф. Калайдовичем, который, как мы помним, пришел к заключению, что этот список Правды Руской не мог быть оригиналом издания 1792 г.[559]
Но когда он попал в собрание А. И. Мусина-Пушкина?
Точный и исчерпывающий ответ на это вопрос дал в 1971 г. А. И. Аксенов, опубликовавший в «Археографическом ежегоднике» обзор эпистолярного наследия А. И. Мусина-Пушкина и, в частности, приписку его в письме от 25 марта 1812 г. к А. Н. Оленину, в которой тот сообщал: «В прошедшем январе (т. е. в январе 1812 г. — А. Н.), будучи в Ярославле, удалось мне отыскать и достать Русскую Правду, весьма древнюю, писанную на пергамене, и к оной присовокуплен торговый договор Смоленского князя с Ригою XII века, весьма любопытный. Вы скоро оный увидите напечатанный в Обществе истории и древностей Российских»[560].
Другими словами, все те сомнения, укоры, удивления и обвинения, которые свыше полутораста лет сыпались в адрес И. Н. Болтина и шире — в адрес «любителей отечественной истории», вызваны недобросовестностью самих критиков, которые не удосужились провести действительное расследование и изучение документов, привыкнув повторять друг за другом одно и то же. Можно ли этого было избежать при добросовестном подходе к исследованию текста? Попытаюсь это показать на деле, тем более, что с работой А. И. Аксенова я познакомился только после того, как провел собственное текстологическое изучение издания 1792 г., сверив публикуемый текст со всеми другими списками Правды Руской, изданными к настоящему времени.
Наиболее важным вопросом в оценке текста, изданного в 1792 г., является вопрос о количестве и характере дополнений, которые С. Н. Валк отнес к вопросу о «разночтениях». И всё же, это две разные вещи. Напомню, что при каждом случае использования другого текста Болтин в предисловии обещал делать соответствующие указания в примечаниях. Действительно, они есть, но немного: всего два. В первом случае в текст внесено слово, во втором — статья.
В статью 1-ю Болтин внес слово «ябетник» и на с. 7 в примечании писал: «Слова сего во всех списках Правды Руской кроме Татищева печатанного при Академии Наук (теперь список Академический I, Краткая редакция. — А. Н.), нет, и которое сей достопочтенный муж признает опискою, вместо „обетник“». Как видно из последующего текста примечания, Болтин решился внести этот термин из печатного списка Правды Руской, т. к., по его справедливому мнению, он расширял круг лиц, охваченных статьей.
Второй случай подобного рода можно видеть на с. 98, где под рубрикой «Статья особая» Болтин поместил статью «О муке». Причина такого отличия объяснена в примечании на с. 99: «Сия статья только в одном списке находится и следует непосредственно под 13-ю статьею, последния главы Владимировых законов, а в прочих во всех нет, и для того мы и не причислили ея к главе, а поставили особно».
Никаких других дополнений текста Болтин не указывает. По-видимому, их не было, т. к. далее мы находим только разночтения, позволяющие определить вид текста оригинала издания 1792 г., а в ряде случаев — и вид списков, которые Болтин использовал для сверки. Количество приведенных разночтений вдвое превышает число, указанное в работе С. Н. Валка. (Здесь и Далее примеры даются в следующем порядке: порядковый №, страница издания 1792 г., № статьи по изданию «Правда Русская, 1940 г.» и текст примечания Болтина.)
1. Стр. 18, (ст. 9): «сыпати конем на рот», а в других списках «сути на рот», что есть одно и тож.
2. Стр. 19, (ст. 9): «метальник», а по другим спискам «метельник».
3. Стр. 47, (ст. 49): «занеж ему было годе, ял и хранил». В другом списке: «занеже ему богодеял и хранил». Перьвое кажется правильнее, но то и другое смысла статьи не затмевает.
4. Стр. 65, (ст. 64): «лезут», в других списках «налезут», то-есть сыщут, поймают.
5. Стр. 71, (ст. 74): «сыпати», в других списках «сути», что тож значит.
6. Стр. 79, (ст. 86): «детьский», а в других местах «детеск», есть пристав.
7. Стр. 79, (ст. 87): «любо запа нань будет, любо прихожение нощное», а в других списках: «любо ли запа нань будет, ли запа не будет, любо прихожение нощное».
8. Стр. 85, (ст. 98): «задница». Во всех списках слово «задница» поставлено вместо «сстаток», а сие только в одном; но то и другое есть одно и тож, сиречь наследие, наследственное имение.
9. Стр. 90–91, (ст. 107): «пособят». В других списках «помогут», сиречь кого по суду оправят.
Если эти примечания показывают внимательность, с какой Болтин относился к тексту и спискам, отмечая даже незначительные отличия («лезут» — «налезут»), то следующие два являют пример уважения к тексту рукописи, достойный самых взыскательных археографов. Речь идет об ошибках в тексте.
10. Стр. 22, (ст. 13): «вратайном». На стр.23 примечание: «надо бы написать, следуя правописанию „в ратайном“, тоесть в земледельческом, ибо „ратай“ по Славенски земледелец». Однако Болтин не решается на исправление.
11. Стр. 63, (ст. 61): К тексту «продаст ли господин закупа обель» Болтин дает примечание: «Здесь не достает частицы „за“, которая будучи пропущена писцом весь смысл статьи затмевает». Иначе говоря, Болтин читает текст как «продаст ли господин закупа за обель», что отражено лишь в переводе и примечании, но не в самом тексте.
Такое отношение к тексту для Болтина является правилом, что можно видеть по трем другим примерам, в примечаниях не отмеченным.
12. Стр. 24, (ст. 17): в. тексте «за кормиличу» — не исправлено, хотя в примечании написано правильно «кормилица».
13. Стр. 53, (ст. 53): в тексте можно видеть рядом два написания одного и того же слова — «возметь» и «возме(т)», т. е. в первом случае полная форма, а во втором с выносным «т», что в оригинале было связано, по-видимому, с концом строки.
14. Стр. 68, (ст. 68): сохранена описка писца в раздельном написании «оу видят».
Утверждение С. Н. Валка, что «Болтин по своему разумению соединяет в одно целое разнородные по своему происхождению части текста»[561], оказывается в вопиющем противоречии как с цитированным предисловием, так и с замечанием Болтина, которое находится на стр. 37–38 издания 1792 г. и касается § XVIII «О своде» (ст. 36). Вот что он пишет: «Сия статья есть следствие XVI статьи, как ясно смысл и содержание ея показывают, а потому и должна была состоять с нею нераздельно, или непосредственно по ней следовать, но неразумием переписчиков поставлена особе и в месте неприличном».
Тем не менее, несмотря на такую уверенность, Болтин только указывает свое мнение в примечаниях и оставляет статью на том же месте, как она стояла в списке. Иными словами, он поступает так же, как в отношении частицы «за» в статье 61 (см. выше), не позволяя себе ни малейшего вмешательства в текст, как бы он ни был уверен в такой необходимости.
Приведенные примеры безусловно свидетельствуют в пользу Болтина. Из примечаний вырисовывается крайне внимательное отношение историка к тексту в целом, к отдельным его частям, даже к буквам и к их написанию, как то было заявлено в предисловии. Вчитываясь в текст издания 1792 г., можно заметить, что ни в одном случае издатель не счел возможным облегчить чтение фразы, заменив один термин другим, более понятным или уже объясненным. Хорошим тому примером может служить термин «задница», который так защищал Д. Н. Дубенский в своих нападках на издателя, хотя именно его проще всего было заменить на стр. 89 «сстатком», более понятным, привычным по использованию в предыдущих главах и уже объясненным. Однако и на это Болтин не пошел.
Все эти наблюдения убеждают, что в издании 1792 г. Болтин сохранил неприкосновенным текст списка Правды Руской, который был в его руках, со всеми его характерными описками и вариантами. Как уже давно было установлено, этот текст Пространной редакции по своим особенностям входит в Карамзин-скую группу списков Правды Руской, соответствует Музейскому виду и в ряде вариантов совпадает с текстом бумажного Воскресенского списка, с которым его пытались идентифицировать.
Привлечение списков Музейского вида, в том числе и самого Воскресенского списка, в подготовке издания 1792 г. можно установить (или отвергнуть), изучив указанные в примечаниях разночтения и сравнив текст Болтина с другими известными списками Правды Руской. На присутствие у Болтина списков Музейского вида[562] изданный им текст указывает разночтениями 2–4, 6–9 нашей нумерации и статьей «О муке». Специфический вариант только Воскресенского списка отмечается разночтениями 3 и 7. Иное соотношение в вариантах к указанным местам. Так, варианты 3 и 7 имеются только в Музейском II, а вариант 4 — во всех списках Музейского вида, кроме Воскресенского и Воронцовского.
Перечень совпадений вариантов текста издания 1792 г. и только Воскресенского списка можно продолжить, но их не так уже много:
Стр. 11 (ст. 5): «но платити им вообче»
Стр. 40 (ст. 38): «вести по конам»
Стр. 56 (ст. 55): «инаго города»
Стр. 66 (ст. 66): «то по нужи на…»
Стр. 97 (ст. 119): «добудет товара»
На этом совпадения кончаются. Характерно, что при таком сличении текстов отмечаются разночтения, которые не могут быть объяснены редакционной работой издателя 1792 г., даже если допустить его полный произвол, или ошибками наборщика, а должны быть признаны индивидуальными особенностями рукописи, на которую пал выбор при подготовке издания. При этом звездочкой (*) обозначены варианты, присущие всем без исключения спискам Музейского вида.
Издание 1792 г. Воскресенский список статья страница 16 «а се поклоны вирные» 9 «а се покони вирныя»* 17 «а в среду резана» 9 «а в середоу коуна»* 21 «а перекладная» 10 «а переди ссадная» 30 «тылеснею» 25 «тылесницею»* 45 «3 ногаты» 45 «6 ногат»* (за коровье млеко) 68 «им же ловлено» 69–70 «им же явлено»* 81 «О ССТАТКЕ СМЕРДИИ, ТАК ЖЕ И О БОЯРСКИХ ССТАТКАХ И О ЛЮДСКИХ» 90 «О смердии сьстатке» 89 «Аще братия растяжутся о заднице…» 108 «Аще братя растяжоутся о статке…» 93 «а заповесть» 112 «а заповедати» 98 «а побегает» 121 «а побежит»* 98 «80 ногать» «о муце» «8 ногать»*Весьма показательно, что разночтения текста издания 1792 г. в большинстве своем перекликаются как с Воскресенским списком, так и со всеми списками Музейского вида за некоторыми исключениями, что указывает на возникновение Болтинского списка ранее общего протографа известных нам списков Музейского вида. Сравнивая приводимые примеры, можно видеть, что написание слов в тексте издания 1792 г. в ряде случаев не проясняет, а затемняет смысл по сравнению с таким же местом Воскресенского и других Музейских списков. Уже одно это должно было вселить сомнение в ту интерпретацию «метода работы» Болтина, которую утверждает С. Н. Валк. Однако, поскольку мнение это было дважды высказано в печати в категорической форме, следует показать текст издания 1792 г. еще с одной стороны — со стороны его формальной структуры.
Все списки Правды Руской Пространной редакции имеют традиционное для каждого вида членение на главы, по большей части с заголовками, писанными киноварью, отмеченными прописными буквами в начале абзаца или каким-либо иным способом. Некоторые виды отличаются еще делением на две неравные части — на «суд Владимира» и на «устав Владимира», за соблюдение чего Болтина упрекал еще Карамзин, считавший такое деление «ошибкой»[563]. Подобное разделение на главы (вернее, на абзацы, т. к. глав меньше) не совпадает с общепринятым делением всего текста на статьи[564], но, будучи своего рода «жесткой конструкцией» для каждого вида, позволяет сравнивать между собой списки разных видов и служит добавочным археографическим признаком.
Критики издания 1792 г., предположив полный произвол Болтина в отношении текста и его структуры, забыли о примечании издателя на стр. 37–38 и, указав на Воскресенский список как на оригинал издания, не потрудились сверить их формальную структуру. В том, что структура изданного текста осталась в первоначальном виде, убеждает не только всё вышеизложенное, но и характерные заголовки, вынесенные над текстом, и членение на «статьи», отмеченные абзацами с начальной прописной буквой.
Подобная сверка структур, полагаю, привела бы их к несколько иным заключениям. Так, сравнивая структуру Воскресенского, а вместе с ним и всех Музейских списков, со структурой текста издания 1792 г., наиболее существенные отличия в членении и объединении абзацев оказываются в статьях 7–8, 20–28, 30–31, 59–65, 71–73, 98–106 (по академическому изданию 1940 г.). Это составляет 32 статьи — четвертую часть всего объема Правды Руской. Различие заключается в группировке статей, в их заголовках, абзацах и т. п., иначе говоря, в той структуре текста, которая меньше всего пострадала от произвола переписчика, оставаясь, как правило, неизменной и в данном случае не позволяющей утверждать использование этих списков в качестве архетипа издания.
Заканчивая обзор издания 1792 г., приходится высказать сожаление, что критик, демонстрируя «ограниченность» и «антиисторизм» И. Н. Болтина, который якобы полагал, что «списки Русской Правды различаются отнюдь не по своему происхождению и различному отсюда значению»[565], не сформулировал свою точку зрения на задачи, преследуемые Болтиным, если те, что объявлены им в предисловии, не соответствовали действительности. Однако С. Н. Валк этого не сделал, остановившись перед утверждением, что с помощью вивисекций над текстами Болтин дополнял и «улучшал» текст Правды Руской.
Этот единственно возможный вывод, напрашивающийся из работы Валка, оказывается и наиболее уязвимым. Уже первый опыт со статьей 1-й должен был его убедить, что Болтин не только «обогащал» текст за счет других списков, но и «изымал» из него необходимейшие его части. Критика удивило, что Болтин «опустил» часть перечня «аще ли будет княжь мужь, или тивун княжь, или тивуна княжа», «прибавил» «ябетника» и «выбросил» «горожанина», «имеющегося во всех списках Карамзинской группы»[566].
Но дальнейшие сравнения — если он их только делал — должны были бы это удивление усугубить. Наряду с разночтениями и выпадением незначительных слов, в главе «О мече» издания 1792 г. отсутствует фраза «или нос оутнет», имеющаяся во всех списках Музейского вида в статье 27-й. Далее, совершенно невероятно исчезновение из текста издания 1792 г. шестнадцати (!) статей о приплоде скота, зерна, стоимости труда, содержащих ценнейший материал не только по экономике феодального хозяйства, но и о ценах, соотношении денежных единиц, исчислении «натурального» процента [ПР, 1940, 377–380].
Ни И. Н. Болтин, ни А. И. Мусин-Пушкин, столь живо интересовавшиеся именно такими данными, специально занимавшиеся монетной системой и финансами древней России, не прошли бы мимо подобного материала, использовав его хотя бы в примечаниях, если бы имели его в руках. Но этого не произошло, и статьи эти оказываются неизвестны Мусину-Пушкину даже много позднее, и только Карамзин впервые публикует их по списку «летописи Засецкого» и списку Правды Руской Горюшкина в примечаниях ко 2-му тому «Истории государства Российского»[567].
Столь же невероятно предположить, что Болтин отказался от устава «О городьскых мостех», имеющегося во всех известных списках Музейского вида, кроме двух — Музейского II и Ундольского II [ПР, 1940, 390]. Это тем более показательно, что в примечании к слову «изгой» статьи 1-й Болтин показывает свое знакомство с этим «уставом», но называет его «росписанием городским», известным ему по списку в Псковской летописи, «имеющейся в библиотеке у одного из наших соотечественников древности любителя» [ПР, 1792, 8–9], т. е., по-видимому, у А. И. Мусина-Пушкина. Можно с уверенностью утверждать, что, встретив этот устав в составе хотя бы одного из списков Правды Руской, Болтин не поколебался внести его в издаваемый текст с такими же оговорками в примечаниях, как то было сделано со статьей «О муке».
Подведем итоги. Как можно видеть, текст, изданный Болтиным, не был ни Мусин-Пушкинским, ни, тем более, Воскресенским списком Правды Руской, однако по своему содержанию он имеет много общего с некоторыми текстами Карамзинской группы, в особенности со списками Правды Руской Музейского вида, хотя ни с одним из известных списков не может быть идентифицирован. Является ли это доказательством, что у Болтина не могло быть в руках не известного нам пергаменного списка Правды Руской? Подобная постановка вопроса мне представляется не научной, переводящей плодотворную дискуссию в область веры, где отсутствие оригинала изданного некогда произведения становится единственным доказательством его «подложности». В таком случае, выходом из порочного круга, поскольку скептики не признают иных аргументов, кроме «факта», остается выбор одной из двух точек зрения.
Согласно первой, в руках И. Н. Болтина, известного его современникам и нам как тщательного исследователи и добросовестного историка, находился пергаменный список Правды Руской, который он издал в 1792 г. с возможной точностью, оговорив в примечаниях все немногие дополнения и наиболее серьезные отличия данного текста от других списков. Согласно другой, точке зрения, в окончательном виде представленной С. Н. Валком, издание 1792 г. является бессистемной, случайной компиляцией, прикрытой явной ложью предисловия, которую критик иронически называет «ошибкой»[568].
В первом случае издание 1792 г. предстает блестящей работой первоклассного ученого, проведенной на удивительно высоком уровне для своего, да и последующего времени, позволяя продолжать поиски оригинала изданного текста, в то время как другая точка зрения оказывается лишенной какого бы то ни было интереса и перспективы. Она перечеркивает работу и текст, а заодно бросает тень не только на Болтина, но и на его соучастников в издании, понимавших, что становятся укрывателями безусловного подлога.
Мне представляется, что проведенный обзор издания 1792 г. и сравнение его с наиболее близкими по структуре и разночтениям списками в достаточно степени утверждают первую точку зрения на труд И. Н. Болтина и позволяют окончательно отбросить вторую. При этом следует отдать должное Н. В. Калачеву, который, создав основы для критики и неверной атрибуции текста издания 1792 г., среди всеобщего скептицизма сохранил уверенность в самостоятельной ценности Болтинского списка и высоком качестве его археографической работы.
После всего сказанного, мы можем попытаться наметить историю самого Болтинского списка и работу Болтина над его изданием, а отчасти — и последующее развитие событий.
Пергаменный список Правды Руской, на котором остановили свой выбор «любители отечественной истории» благодаря его «полноте» и древнему виду, поступил в Синод из какого-то монастыря вместе с другими рукописями. Однако вряд ли стоит искать его в реестре рукописей, возвращенных Синодом в места их постоянного хранения. Нет сомнения, что наиболее важные и ценные рукописи удерживались А. И. Мусиным-Пушкиным, однако не для своей библиотеки, а, в первую очередь, для «взнесения» их императрице, занимавшейся в те годы древней российской историей. Менее вероятно, что оригинал издания 1792 г. вернулся из дворца в Синод и «осел» в библиотеке Мусина-Пушкина, поскольку, как мы знаем теперь, его замечательное собрание русских древностей формировалось путем покупок комиссионеров и подарков друзей и императрицы.
Однако хорошо ли знал эту рукопись сам Мусин-Пушкин?
В издании 1792 г. мы не находим никаких следов его непосредственного участия. Это вполне согласуется со свидетельством И. П. Елагина, что болезнь Болтина прервала собрания друзей, и свой замечательный труд историк выполнил в полном одиночестве[569]. Это дает возможность предполагать, что оригинал издания 1792 г. мог попасть в собрание Мусина-Пушкина вместе с бумагами и библиотекой И. Н. Болтина, подаренными графу императрицей после смерти их владельца. В пользу этого говорит, во-первых, тот факт, что в в 1799 г. Мусин-Пушкин выпустил второе издание труда Болтина «без перемен», во-вторых, что главной своей находкой в 1812 г. посчитал не новый список Правды Руской, а список торгового договора Смоленска с Ригой и Готским берегом, который сам он и подготовил к публикации[570].
Новые данные о Мусин-Пушкинской рукописи 1812 г., содержащиеся в письме П. П. Бекетова от 8.11.1813 г., убеждают, что собственно в библиотеку Общества она попала не ранее этого времени, после чего с ней и мог познакомиться Н. М. Карамзин, не удосужившийся точнее установить ее происхождение, а, возможно, введенный в заблуждение К. Ф. Калайдовичем, уверенным поначалу в ее идентичности с Болтинским списком. Что же касается оригинала издания 1792 г., то еще до пожара 1812 г. у него было столько возможностей пропасть, затеряться, погибнуть, быть подаренным, украденным, вернуться в место своего первоначального хранения, попасть к старообрядцам или за границу, что дальнейшие его поиски в отечественных рукописных собраниях и хранилищах представляются сейчас почти безнадежными. С этим следует смириться, признав, что подобно «Слову о полку Игореве», Болтинский список Правды Руской существует лишь в своем точном воспроизведении изданием 1792 г.
Что можно сказать о самом Болтинском списке и о работе историка над его изданием, кроме уже известного из предисловия? Наблюдения над формальной структурой памятника, над составом статей и вариантами текста приводят к заключению, что Болтинский список наиболее близок Музейскому виду, в частности, Воскресенскому списку, но гораздо старше последнего и вряд ли имеет с ним общий протограф. На это указывает отсутствие статей о приплоде скота, устава о «городских мостех» и статьи «о муке». Отсутствие описания рукописи, в которой находился этот список Правды Руской, лишает нас возможности определить заказчика или обстоятельства ее составления, что явилось бы серьезной помощью в объяснении некоторых моментов, например, большой грамотности текста.
Из палеографических явлений обращает на себя внимание преимущественное употребление «ука» с сохранением «оу» в начале слов; паерок употребляется редко, исключительно с предлогами [ПР, 1792, 11, 24, 26, 42, 46]. Наличие выносных букв отмечено только однажды [ПР, 1792,53], однако использование церковно-славянского шрифта для наиболее точной передачи текста заставляет признать отсутствие сокращений и выносов «под титла» явлением характерным для текста оригинала. С этими наблюдениями хорошо согласуется полногласие форм, показывающих, что при создании Болтинского списка на нем еще не отразилось югославянское влияние, столь заметное уже в памятниках письменности первой половины XV века[571]. Таким образом, предварительной датой Болтинского списка Правды Руской следует считать середину или вторую половину XIV века, т. е. время, которым датируется и Мусин-Пушкинский сборник.
Готовя текст рукописи к изданию, Болтин сверял его с пятью другими рукописными списками, указывая в примечаниях наиболее значительные разночтения. Приведенные выше, они помогают установить имевшиеся в распоряжении Болтина виды списков, но, к сожалению, среди опубликованных ни одного из них опознать не удалось:
1. Вариант «сути на рот» (ст. 9), так же как и форма «сути» (ст. 74) встречены только в списках Оболенско-Карамзинского вида [ПР, 1940, 348 и 356].
2. Вариант «метельник» (ст. 9), как и основное «метальник», везде показан с паерком, заменяющим букву «ь». В таком виде вариант имеется в Новгородско-Софийском списке [ПР, 1940, 149].
3. Вариант «занеже ему богодеял и хранил» (ст. 49) соответствует списку Музейскому II, тогда как изданный текст совпадает с вариантом Воскресенского списка [ПР, 1940, 382].
4. Вариант «налезут» (ст. 64) имеется во всех списках Музей-ского вида, кроме списков Воскресенского и Воронцовского [ПР, 1940, 471].
5. Вариант «детеск» (ст. 86) не найден ни в одном списке Музейского вида и ни в одном из списков Правды Руской, охваченных изданием 1940 г., являясь индивидуальным чтением Болтинского списка [ПР, 1940, 385].
6. Вариант «любо ли запа нань будет, ли запа не будет, любо прихожение ночное» (ст. 87) находится единственно в Музейском II списке и отсутствует во всех других известных [ПР, 1940, 475].
7. Любопытно указание Болтина, что слово «сстаток» (ст. 98) имеется только в издаваемом им списке, тогда как теперь мы знаем, что оно характерно для всех списков Музейского вида, но не встречается за его пределами [ПР, 1940, 386 и 499].
8. Вариант «помогут» (ст. 107) характерен для большинства списков Музейского вида, кроме списка Музейского II [ПР, 1940,388].
Разночтения и варианты позволяют установить, что при подготовке издания 1792 г. в руках у Болтина, кроме печатных, были рукописные списки двух видов Пространной редакции: вид Оболенско-Карамзинский с характерным для его протографа формами «сути» вместо «сыпати», и Музейский вид, к которому был близок и оригинальный Болтинский текст. Сопоставления вариантов внутри списков Музейского вида, приведенные выше, без труда убеждают, что большинство совпадений с Воскресенским списком приходится на долю оригинала, в то время как варианты указывают на знакомство с Музейским II списком.
Можно утверждать, что существовал общий или два близких Протографа для Болтинской рукописи и списков Музейского вида; возможно, что сам Болтинский список явился протографом для списка Воскресенского, дополненного по другим. Однако от предположения, что Музейский II список или Воскресенский находились у Болтина при подготовке издания 1792 г. приходится отказаться. Основанием для этого служит отсутствие даже упоминания об «экономических» статьях о приплоде скота и пр., мимо которых не мог бы пройти Болтин.
Таким образом, я прихожу к выводу, что текст издания 1792 г. является точным воспроизведением Болтинского списка Правды Руской, при подготовке которого были привлечены не известные нам списки Оболенско-Карамзинского и Музейского вида, причем один из списков, воспроизведенный изданием 1792 г. «буква в букву», был непосредственным протографом списка Музейского II в его «канонической» форме. Последнее означает, что сравнение изданного Болтиным текста правомерно проводить только внутри этого вида списков Правды Руской, но никаких других, поскольку индивидуальные чтения данного списка отличаются лишь от списка Воскресенского, будучи характерны для большинства остальных списков Музейского вида, что не увидел (или не захотел увидеть) в своё время С. Н. Валк.
Анализ работы Болтина с текстом еще раз подтвердил высокие требования, предъявлявшиеся русскими археографами конца XVIII в. к изданию древних памятников, высокую точность передачи индивидуальных особенностей списка и критического анализа рукописи — всего того, что получило дальнейшее развитие в российской археографии XIX в. Хочется верить, что теперь исследователи Правды Руской вновь обратят внимание на ее Болтинский список в издании 1792 г., заслуживающий более глубокого и обширного изучения. Это и станет наилучшей данью уважения к трудам и заслугам выдающегося историка и археографа XVIII в., каким был Иван Никитич Болтин. К этому остается добавить, что в 1988 г. В. П. Козлов, сумев идентифицировать пять из шести списков Правды Руской, имевшихся в распоряжении И. Н. Болтина, вскоре обнаружил у И. П. Елагина сообщение и о шестом списке, древнейшем, обретавшемся в пергаменной летописи, которая осталась неизвестной историкам. В ней и находился тот самый «древнейший» список Правды Руской, «который в 1792 году издан тиснением от г. Болтина», что окончательно снимает все возможные на этот счет недоумения[572].
Биармия / Bjarmaland скандинавских саг
Исследователь, занимающийся вопросами исторической географии, в своей работе часто сталкивается с фантомами, возникавшими на основании легенд, непроверенных слухов, искажений реальных фактов переписчиками, наконец, просто фантазий людей, в большинстве своем преследовавших определенные, как правило, небескорыстные цели. Достаточно полный свод этих химер человеческого воображения — древности, средневековья и даже нового времени — представлен в известной работе Р. Хеннига «Неведомые земли»[573]. Как правило, все они располагались за пределами известных современникам территорий, и по мере того, как происходило открытие и освоение европейцами окружающего их мира, эти фантомы исчезали с лица земли, становясь достоянием разве только летописи человеческих заблуждений и ошибок. В самом деле, вряд ли кому из серьезных исследователей может прийти в голову искать сейчас на территории России следы тех чудовищных животных и растений, которых усваивали ей арабские географы IX–XII вв. или европейские землеописатели, рассуждавшие о песьеголовых или трехногих обитателях северных областей Восточной Европы в XIV–XVII столетиях.
Между тем, начиная с XVIII в. мы сталкиваемся с любопытным феноменом внедрения в русскую историографию и собственно русскую историю одного из таких фантомов, особенно настойчиво утверждаемого на протяжении последней трети XX века. Это — Биармия, краткая справка о которой в СИЭ выглядит следующим образом:
Биармия — страна на крайнем с[еверо]-в[остоке] Европейской части России, славившаяся мехами, серебром и мамонтовой костью; известна по скандинавским] и рус[ским] преданиям 9–13 вв. Некоторые историки считают, что Б[иармия] или Биармаланд, — это скандинавское] назв[ание] берега Белого м[оря], Двинской земли; другие отождествляют Б[иармию] с «Пермью Великой»[574].
Этот текст сопровождается указанием на работы трех исследователей, специально занимавшихся данным вопросом — С. К. Кузнецова[575], К. Ф. Тиандера[576] и А. И. Соболевского[577]. Следующей по времени работой, специально посвященной вопросу о местоположении Биармии (в северных языках — Бьярмия/Bjarmaland) и возможной этнической принадлежности биармийцев/бьярмов стала моя статья «Биармия и древняя Русь», опубликованная в 1976 г. в журнале «Вопросы истории»[578]. Последнее уточнение оказывается необходимым коррективом по отношению ко многим положениям ряда современных скандинавистов, разрабатывающих данную тему, в первую очередь, к работам Т. Н. Джаксон и Г. В. Глазыриной, на которые я ссылаюсь в дальнейшем, поскольку они содержат не только подлежащий анализу материал, но также и определенную тенденциозность в его отборе и использовании.
В приведенном тексте СИЭ содержится ряд ошибок, о которых следует сразу же предупредить. Во-первых, никаких «русских преданий 9–13 вв.» о Биармии не существует; во-вторых, о нахождении «мамонтовой кости в Биармии» ничего не известно: в скандинавских сагах речь идет только о мехах соболей, белок и бобров; в третьих, саги говорят не о «серебре вообще», а только о серебряных монетах, имеющих хождение у населения и находящихся в «святилище Йомали». Что же касается местоположения Биармии «на крайнем северо-востоке», то и это не соответствует действительности, поскольку исследователи помещали ее 1) на Кольском полуострове (Олаус Магнус, XVI в.[579]), 2) в норвежской Лапландии (И. Шеффер, XVII в.[580]), 3) на Карельском перешейке (В. Н. Татищев XVIII в.[581]), 4) в Пермской области и нижнем Подвинье (Ф.-И. Страленберг[582]), 5) в устье Северной Двины (К. Ф. Тиандер[583]), а в последующее время — 6) на берегу Рижского залива (А. Л. Никитин[584]), 7) в Ярославском Поволжье (К. Ф. Мейнандер[585]), 8) между реками Онега и (? — А. Н.) Стрельна или Варзуга (Т. Н. Джаксон[586]), наконец, под Биармию отводится 9) «вся территория Севера Восточной Европы от Кольского полуострова вплоть до Ладожского озера» (Е. А. Мельникова[587] и Г. В. Глазырина[588]).
Напомнить о своих работах я вынужден по двум причинам. Во-первых, насколько мне известно, они до сих пор остаются единственными по полноте рассмотрения вопроса о Биармии с точки зрения накопленного на сегодняшний день археологического, этнографического, лингвистического и географического материала для обоснования местоположения данного фантома, а, равным образом, и по использованию структурного анализа текстов и вычленения из них историко-географических реалий, тогда как все предыдущие и последующие работы филологов-скандинавистов останавливались на сюжетно-морфологическом, т. е. исключительно литературоведческом анализе текста, следуя в этом за К-Ф. Тиандером. Во-вторых, и это достаточно характеризует методы работы названных мною исследовательниц, именно эта, аргументированная точка зрения на местоположение Биармии не указывается в их обзорных сводках не по забывчивости или незнанию[589], а исключительно по причине отсутствия каких-либо научных аргументов, которые они могли бы выдвинуть в противовес изложенной мною концепции[590].
Впрочем, таковые аргументы отсутствовали и у их предшественников, поскольку никто из утверждавших и утверждающих Биармию на берегах Белого моря и в низовьях Двины не удосужился проверить на месте реальность или хотя бы возможность такого решения. Как правило, вопросом Биармии занимались филологи-скандинависты или историки, имевшие дело исключительно с текстами, а не с физико-географической и с исторической ситуацией, в каковую они помещали «Биармию» и «биармийцев».
Чтобы не повторять всё то, что изложено мною в предшествующих работах, заранее сообщаю: ни на Кольском полуострове, ни на берегах Белого моря, ни в Подвинье, ни в Пермской губернии, ни в Заволочье, ни на Карельском перешейке, о котором писал В. Н. Татищев[591], никакой «Биармии» никогда не существовало, поскольку ни на одной из этих территорий до сих пор не обнаружено каких-либо предметов скандинавского происхождения IX–XI вв, равно как и находок, которые сколько-нибудь могут соответствовать сведениям скандинавских и североевропейских источников о Биармии и биармийцах.
В последнем я смог убедиться, начав еще в середине 60-х гг. археологические исследования в Прионежье, Подвинье и на берегах Белого моря, в том числе и на Терском берегу[592], потребовавшие ознакомления как со всей имеющейся на данный момент литературой, в том числе посвященной Биармии, так и с коллекциями находок, происходящих с этих территорий[593]. Всё это позволяет мне с ответственностью заявить, что ни одна из этих категорий источников, включая отчеты исследователей, не содержит ничего, что может хоть в какой-то степени указывать на Биармию или на присутствие здесь скандинавов, вопреки беспрецедентному по своему апломбу и беспочвенности заявлению Г. В. Глазыриной о «Подвинье, освоенном норманнами в конце IX в.»[594]. В связи с этим я имею полное право присоединиться к безукоризненному по аргументации выводу С. К. Кузнецова, что «Биармия на берегах Северной Двины и в пределах Перми Великой есть мираж, научное заблуждение, с которым пора покончить раз и навсегда»[595].
Есть и еще одно немаловажное обстоятельство. Как я неоднократно подчеркивал, столь широкая якобы известность среди скандинавов северного морского пути в Белое море в X–XI вв., о чем пишут авторы рассуждений о Биармии, ведущего на территории, обильные лесом, зверем, рыбой и плодородной землей, лежавшие тогда за пределами новгородской колонизации, оказывается в вопиющем противоречии с их бегством от власти королей в просторы Атлантики на скудные, а, порою, безжизненные земли Исландии и юга Гренландии. В действительности же первое появление норвежцев в Белом море отмечено только в 1419 г.: «Того же (6927) лета, пришед мурмане войною въ 500 человекъ, в бусах и въ шнеках, и повоеваша въ Арзуги погост Корильскыи и в земли Заволочкои погосты: в Неноксе, в Ко-рельскомъ манастырь святого Николы, Конечный погост, Яковлю курью, Ондреяновъ берег, Кигъ остров, Кяръ островъ, Михаиловъ манастырь, Чиглонимъ, Хечинима; три церкви сожгли, а христианъ черноризиць посекли; и заволочане две шнеки мурманъ избиша, а инии избегоша на море» [НПЛ, 411–412]. Оно было вызвано участившимися набегами новгородцев и карел на Тромсё и более не повторялось.
Не вносят ясности в местоположение «Бьярмаланда» и древние скандинавские географические сочинения, рукописи которых датируются не ранее последней четверти XIV в. и даже XVII в., сообщая только, что «от Бьярмаланда идут земли, не заселенные северными народами, до самого Гренланда»[596]. Не потому ли их исследовательница по существу отказалась не только от сколько-нибудь определенной локализации «Бьярмаланда», но даже от самой возможности историко-географического изучения вопроса, соглашаясь обсуждать лишь «литературный образ Биармии»[597].
В результате сложилась любопытная ситуация, прослеживаемая с XVIII в. и особенно ярко проявившаяся в наши дни в исторической науке, когда филологи-скандинависты, работающие со средневековыми текстами и плохо представляющие себе историю и физическую географию севера Европейской части России, последовательно и целеустремленно игнорируют все работы исследователей, изучавших вопрос о Биармии/Бьярмии на местах и доказывающих невозможность ее там нахождения. Первым в этом ряду противников фантома Биармии стоит замечательный архангелогородский историк, член-корреспондент Императорской Академии Наук В. В. Крестинин, который исследовал этот вопрос на месте и с замечательной прозорливостью, подтвержденной последующими археологическими изысканиями, писал, что следует «изключить из истории города Холмогор все чужестранные торги, присвоенные прежде 16 века сему месту, которое никогда столицею в Биармии не было»[598]. Подобная тенденциозность вынуждает меня еще раз вернуться к рассмотрению вопроса о Биармии/Бьярмии, исходя не из литературных представлений современных филологов, плохо понимающих о чем идет речь в географической реальности, а опираясь на древние тексты, историческую географию и результаты археологических исследований. Этому способствует и наметившееся расширение текстовой базы.
Если к моменту публикации статьи СИЭ о Биармии в распоряжении исследователя имелась только сводка С. К. Кузнецова, содержащая все относящиеся к Биармии фрагменты саг по изданию Antiquite Russes (Vol.1–2. Copenhague, 1850–1852) в его переводе, литературно-историческое исследование К. Ф. Тиандера с пересказом и переводом текстов, а также некоторые саги в русском переводе, то сейчас положение изменилось. Появилось много новых публикаций фрагментов и полных текстов саг, в том числе главный компендиум «королевских саг» Снорри Стурлусона[599], что позволяет во многих случаях проверить и уточнить пересказы Тиандера.
Вместе с тем, основными источниками сведений о Биармии и биармийцах по-прежнему остаются два текста, прямая связь между которыми никем до сих пор не доказана, однако считается само собой разумеющейся. Это рассказ Отера/Оттара (Ohthere) о поездке в страну «беормов», известный по дополнениям короля Альфреда к англосаксонскому переводу книги Павла Орозия «De miseria mundi»[600], и рассказ о плавании Карли и Торира Собаки в «Саге об Олаве Святом» Снорри Стурлусона, входящей в «Круг земной»[601], теперь представленный по всем предшествующим и позднейшим редакциям различных списков[602].
Текст, который известен как «рассказ Отера» (датируемый временем около 890 г.), содержит запись ответов норвежца Отера/Оттара и его спутника Вульфстана на вопросы английского короля Альфреда. Отер был одним из хэвдингов, живших на самом севере Норвегии («севернее всех норманнов»), неподалеку от современного Тромсё, и его путь морем на юг Норвегии летом занял целый месяц. К королю Альфреду он прибыл из Хедебю в Шлезвиге и рассказывал о своей поездке на север, тогда как его спутник Вульфстан преимущественно рассказывал об их совместной поездке на восток из Хэтума (Хедебю) вдоль южного берега Балтийского моря до Трусо на Эльбинге в Восточной Пруссии. Хотя обычно «рассказ Отера» считают полностью ему принадлежащим, не обращая внимания на противоречия в тексте, легко заметить, что в нем присутствуют слова трех человек — Отера, Вульфстана и писца, не успевавшего записывать точно за отвечающим и потому передававшего только общий смысл ответа рассказчика. Такое чередование разных по своей структуре и сюжетам фраз заставляет думать, что король расспрашивал гостей одновременно, поочередно задавая вопросы, в то время как писец записывал ответы и уже потом выделил из них рассказ Отера о Халогаланде и его плавании на север и рассказ Вульфстана об их совместном плавании к эйстам (т. е. пруссам). Именно поэтому в текст «рассказа Отера» о поездке на север Норвегии попали сведения о «беормах», встреченных Отером и Вульфстаном во время их совместного плавания на восток вдоль южного берега Балтийского моря. На это указывает вдруг возникающее в тексте местоимение «они» и тесные контакты с «беормами» (которые «много» рассказывали о своей родной стране и окружающих странах) в противоположность дважды подчеркнутому писцом заявлению Отера, что с тех пор, как он покинул свой дом, он не встречал «населенной земли», поскольку Отер не считал за «население» «рыбаков, птицеловов и охотников». Очень возможно, что подобная путаница произошла в результате наличия в рассказе каждого из путешественников «большой реки», которая для Отера/Оттара стала последним из достигнутых им ориентиров на северо-востоке, после чего он повернул обратно, потеряв интерес к этим землям, а для Вульфстана (и Отера/Оттара?) — началом оживленных контактов с «беормами». В этом плане особенный интерес представляем фраза, в которой содержится сравнение языка «финов/терфинов» и «беормов», которая, вероятнее всего, принадлежит Отеру/Оттару, сопровождавшего Вульфстана и отвечавшего на вопрос короля Альфреда о «беормах».
Чтобы разделить эти два пласта информации, я воспроизвожу текст, с наибольшим вероятием относящийся к рассказу самого Отера/Оттара, полужирным шрифтом, тогда как попавшие в него ответы Вульфстана выделены подчеркиванием. В этих целях мною использован последний по времени перевод В. И. Матузовой, в основной своей части совпадающий (за некоторыми серьезными исключениями) с переводом К. Ф. Тиандера. Так, «беормов» (beormas) подлинника без каких-либо оснований она превратила в «бьярмийцев», а «финов/терфинов» (finnas/terfinnas), т. е. ‘лапландцев’, ‘лопарей’ — в «финнов», которые в текстах того времени неизменно именовались «квенами», в результате чего произошла не просто подмена одного понятия другим, но и серьезное искажение историко-географической ситуации, зафиксированной «рассказом Отера/Оттара», которого переводчица неизменно именует «Охтхере». Еще большее удивление вызывает в ее переводе пассаж о китах, которых В. И. Матузова зачем-то превратила в гигантских моржей («сорока восьми локтей длиной, а самый большой — пятидесяти локтей», т. е. 21,5–22,5 м.), что, следует признать, превосходит во много раз не только реальность (согласно всем без исключения справочникам размеры моржа никогда не превышали 4 метров), но даже и воображение нормального человека в отношении наиболее часто упоминаемой части тела этих млекопитающих. Поэтому для сопоставления в примечаниях я воспроизвожу также и перевод К. Ф. Тиандера, вносящий, как мне представляется, необходимые для понимания этого текста коррективы.
Итак:
«Отер сказал своему господину, королю Альфреду, что он живет севернее всех норманнов. Он сказал, что живет в стране, [лежащей] к северу от Западного моря. Он сказал, однако, что страна эта простирается очень далеко на север оттуда, но она вся необитаема, за исключением нескольких мест, [где] то тут, то там живут финны, охотясь зимой, а летом ловя рыбу в море. Он сказал, что однажды захотелось ему узнать, как далеко на север лежит эта земля и живет ли кто-нибудь к северу от этого необитаемого пространства. Тогда он поехал прямо на север вдоль берега, и в течение трех дней на всем пути оставлял он эту необитаемую землю по правую сторону [от корабля], а открытое море — по левую. И вот оказался он на севере так далеко, как заплывают только охотники на китов. Тогда он поплыл дальше на север, сколько мог проплыть [под парусом] за следующие три дня. А там то ли берег сворачивал на восток, то ли море врезалось в берег — он не знал; знал он только, что ждал там северо-западного ветра и поплыл дальше на восток вдоль побережья столько, сколько смог проплыть за четыре дня. Потом он должен был ждать прямого северного ветра, потому что то ли берег сворачивал прямо на юг, то ли море врезалось в берег — он не знал. И поплыл он оттуда прямо на юг вдоль берега столько, сколько он смог проплыть за пять дней.
И там большая река вела внутрь земли. Тогда вошли они в эту реку. но не осмелились плыть по ней. боясь нападения [со стороны местных жителей], ибо земля эта была заселена по одной стороне реки. До этого не встречал он никакой обитаемой земли, с тех пор как покинул родной дом. И на всем его пути была справа от корабля необитаемая земля, если не считать [стоянок] рыбаков, птицеловов и охотников, и все они были финны; а слева от него было открытое море. А бьярмийцы очень густо заселили свою землю: они же не решились на нее ступить. Зато земля терфиннов была вся необитаема, если не считать останавливающихся там охотников или рыбаков, или птицеловов.
Многое поведали ему бьярмийцы как о своей родной земле, так и о близлежащих землях: но он не знал. насколько правдивы эти рассказы, потому что сам этого не видел. Показалось ему, что и фнны и бьярмийцы говорят почти на одном [и том же] языке. Вскоре он поехал туда не только для того, чтобы увидеть эти края, но и за моржами, потому что у них на зубах очень хорошая кость — несколько таких зубов они привезли королю, — а кожа их очень хороша для канатов. Этот морж был значительно меньше других; он был не длиннее семи локтей. У него же на родине лучшая охота на моржей: там они бывают сорока восьми локтей длиной, а самый большой — пятидесяти локтей. Там, сказал он, он был одним из шестерых, которые убили шестьдесят моржей за два дня»[603].
На основании этого текста сторонники «беломорской Биармии» считают, что Отер/Оттар, отправившись из района Тромсё на север, обогнул Нордкап, прошел вдоль Мурманского берега Кольского полуострова, обошел Святой Нос и, войдя в горло Белого моря, спустился на юг до устья Двины («большая река»), где нашел беормов/бьярмов, после чего вернулся обратно. Современные скандинависты (Т. Н. Джаксон, Д. А. Мачинский, Г. В. Глазырина), не отвергая полностью этот вариант для последующих плаваний норвежцев, указывают в качестве конечного пункта плавания Отера/Оттара одну из рек Терского берега Кольского полуострова (Варзуга, Стрельна, Поной)[604], не подозревая, что все реки этого полуострова непригодны для движения морских лодей из-за наличия порогов сразу за устьем и песчаного бара перед ним. Такими же особенностями характеризуются и все без исключения реки севера Норвегии, поэтому, если допустить возможность плавания Отера/Оттара на восток далее Варангерфиорда, единственной «большой рекой», в которую он мог войти и проплыть какое-то время вверх, так и не достигнув преграды, можно считать Кольский залив, врезающийся в сушу узкой губой до семидесяти километров в длину. Что же касается Северной Двины, то «устье», как таковое, у нее теряется в многочисленных протоках болотистой дельты, выдвинутой на десятки километров в море от собственно реки, почему вход в Двину ранее всегда требовал присутствия лоцмана-проводника.
Однако есть ли в самом рассказе Отера/Оттара основания для подобных заключений?
В своем нерасчлененном виде приведенный выше текст действительно создает впечатление, что Отер/Оттар, проехав «пустыню, населенную лапландцами», обнаружил страну «беормов», в которую побоялся вступить и повернул назад, опасаясь нападения, т. е. воздержался от контактов с аборигенами. Однако далее, противореча себе, он (?) рассказывает об активных и долгих контактах с этими «беормами», говорившими на языке, похожем на финский. На этом противоречия не кончаются, потому что (как оказывается) на следующее лето он снова едет «туда же» (т. е. по логике текста — к «беормам»), однако тут же выясняется, что Отера/Оттара интересуют вовсе не «беормы», а лишь «охота на моржей», и это при том, что поездку Отера/Оттара «на север» искатели Биармии кладут в основу всех последующих экспедиций скандинавов за мехами и серебром «бьярмов», отождествляя указанный им «поворот моря» к югу с горлом Белого моря, а «большую реку» идентифицируя с Северной Двиной. Как можно убедиться, ничего этого в тексте нет.
Более того, расчет возможной скорости разведочного плавания Отера/Оттара на север вдоль побережья Норвегии в неизвестных ему шхерах, продолжавшийся в своем «чистом виде», т. е. не считая вынужденных стоянок, всего 15 дней (не суток, как то обычно считают), убеждает опять-таки в том, что он не мог продвинуться на восток далее Варангерфиорда. Именно поэтому в его рассказе постоянным рефреном звучат слова о «необитаемой», «пустынной» земле, на которой нет никого, кроме «рыбаков, охотников и птицеловов», которых он, как видно, в расчет не принимает, поскольку это — «фины/терфины».
Наоборот, предлагаемое мною деление текста, естественно усваивающее все сведения о «беормах» Вульфстану, переносят «беормов» на юго-восточные берега Балтики, и встречами с ними объясняют его информированность об эйстах (пруссах), которым посвящен его последующий рассказ[605]. Более того, поскольку поездку на восток по Балтийскому морю Вульфстан совершал вместе с Отером/Оттаром, этому соответствует и местоимение «они», которое употребляет писец, передавая рассказ второго путешественника, в то время как в повествовании Отера/Оттара преимущественно употребляется местоимение 3-го лица ед. числа — «он».
Наконец, и это тоже следует подчеркнуть, рассказ Отера/Оттара знает не «бьярмов» скандинавских саг и, тем более, не «Бьярмаланд», а только неких «беормов», каковую лексему К. Ф. Тиандер вполне убедительно переводит синтагмой ‘жители побережий вообще’, никоим образом не считая «беормов» этнонимом[606]. Такое толкование позволяет отождествить «беормов» с обитателями «Эстланда» последующего рассказа Вульф-стана о пруссах, поскольку этот хороним, образованный по аналогии с гидронимом «Остзэ», т. е. ‘Восточное море’, в полном соответствии с мнением Г. Лябуды, которое приводит В. И. Матузова[607], покрывает земли всех балтийских и финских племен к востоку от устья Вислы вплоть до Финского залива. Факт этот, в свою очередь, объясняет неожиданное сравнение речи «беормов» с речью живущих тут же «финов», если только последнее замечание не принадлежит Отеру/Оттару. Однако ни то, ни другое, ни третье не дает сколько-нибудь серьезных оснований использовать «рассказ Отера» для решения вопроса о Биармии/Бьярмии и биармийцах скандинавских саг. Между тем, сторонники «беломорский Биармии», а равным образом и «континентальной Биармии» (Пермь, Ярославское Поволжье, Заволочье и пр.), обходят молчанием этот основополагающий вывод К. Ф. Тиандера, практически дезавуирующий все иные определения беормов/бьярмов, кроме как ‘жителей побережья’, и не более.
Теперь посмотрим, что дает в отношении местоположения и содержания «Биармии» другой основополагающий источник сведений о ней — рассказ о поездке Карли и Торира Собаки в «Бьярмаланд», которая имела место летом 1026 г.[608], т. е. почти полтора столетия спустя после поездки Отера/Оттара. Этот рассказ присутствует только в так называемой «Отдельной саге об Олаве Святом» Снорри Стурлусона, написанной в 1220–1230 гг.[609] и в сокращенном виде вошедшей в его же книгу «Круг земной», причем наиболее ранний список саги датируется второй половиной — концом XIII в. Содержание новеллы можно определить по-разному: это и рассказ о поездке в Бьярмаланд, где главным событием стало ограбление святилища Йомалы, и рассказ о том, как Торир Собака отомстил Карли за участие в убийстве своего племянника, Асбьерна Тюленебойца. Рассмотрим его содержание и структуру.
В саге говорится, что король Олав послал халогаландца Карли, жившего на острове Лангей, на север, в страну бьярмов, предоставив ему корабль. Заключив соглашение с конунгом, что прибыль от поездки они поделят пополам, Карли взял с собой своего брата Гуннстейна. Узнав об этом, Торир Собака, живший на острове Бьяркей, послал сказать братьям, что тоже хочет ехать в Бьярмаланд и поскольку, кроме торговли, планировались нападения и грабежи, готов добычу разделить поровну. Севернее Сандвера, где произошла встреча компаньонов, сага не называет никаких ориентиров и сообщает только, что «когда они приплыли в Бьярмаланд, то остановились они в торговом месте» [75][610], где приобрели беличьи, собольи и бобровые меха.
Следующий сюжет рассказа, описывающий ограбление святилища Йомалы, начинается с того, что, закончив торг, «они поплыли прочь по реке Вине» (имя которой единственный раз появляется в тексте), объявив, что перемирие закончено, а выйдя в море, решили предпринять ограбление святилища. Для этого они пристали к берегу, сошли с кораблей, пересекли «ровные долины» и вступили в «большие леса», пока не пришли на поляну, где, окруженное высоким частоколом с воротами стояло святилище бьярмов. Внутри его находился курган, в котором вместе с землей были смешаны «золото и серебро», составлявшие «половину или треть богатства» каждого из умерших «бьярмов», получаемых после его смерти святилищем, а рядом с курганом — изваяние «бога бьярмов, который зовется Йомали» [76]. На коленях идола стояла серебряная чаша с ручкой, полная серебряных монет, которую взял Торир, тогда как Карли сорвал с идола Йомалы «драгоценное ожерелье». Избежав погони и благополучно вернувшись на корабли, норвежцы «поплыли по Гандвику», пока не пристали к какому-то островку, чтобы дождаться «отлива, поскольку впереди в них в море было сильное течение» [77][611].
Особого внимания эта ситуация заслуживает не потому, что здесь Торир стал требовать у Карли ожерелье, а по замечанию Гуннстейна, что «начинается прилив и пора плыть дальше», хотя перед этим говорится, что именно прилив и вынудил их к остановке. Такая несогласованность предыдущего и последующего текста может, как и неожиданное упоминание «реки Вины», в которой оказались норвежцы после завершения торговли, указывать на «швы», выдающие вставной характер сюжета об ограблении святилища Йомали, к чему я вернусь позже.
Спор между Ториром и Карли не был разрешен, и с этого момента началась погоня Торира за Карли вплоть до Гейрсвера (о Сандвере на обратном пути упоминания нет), причем последний определен как «первая стоянка для кораблей, плывущих с севера». В Гейрсвере Торир убивает Карли копьем, которым был убит когда-то Асбьерн Тюленебойца. После этого начинается погоня Торира за Гуннстейном, которого он догоняет в Ленгьювике, захватывает всё имущество, которое везли королю Олаву, топит его корабль, после чего возвращается домой на остров Бьяркей. «Гуннстейн и его люди сначала ехали с большими предосторожностями, ехали на маленьких лодках, а днем прятались, ехали так до тех пор, пока не миновали Бьяркей, и вплоть до того, как выбрались из владений Торира» [78].
Рассказ Снорри достаточно любопытен, как со стороны упоминаемых в нем реалий, так и со стороны его места и функции в структуре взаимообусловленных эпизодов повествования саги. Определяющим его сюжетом можно посчитать повествование о том, как, где и при каких обстоятельствах Торир Собака отомстил за смерть своего племянника. Это произошло в Гейрсвере, судя по всему — в норвежской Лапландии, куда король Олав послал Карли собрать дань с территории, которую Торир, будучи королевским лендрманном, полагал «своей» уже потому, что путь к ней лежал мимо острова Бьяркей. Поручение сбора дани с лопарей на этой территории помимо Торира было серьезным ущемлением его прав со стороны короля Олава, и только этим обстоятельством можно объяснить согласие Карли и Гуннстейна отправиться на север вместе с Ториром. Отсюда и упоминание Сандвера, откуда для норвежцев, как сказали бы мы сейчас, начиналась «зона свободного предпринимательства» в Финнмарке, вход в которую в какой-то мере контролировал Торир. Косвенным образом это подтверждается тем фактом, что погоня Торира за Гуннстейном начинается у Сандвера и завершается в Ленгьювике захватом груза и последующим затоплением королевского корабля, после чего Гуннстейн со своими спутниками вынужден тайком пробираться по ночам на юг, «вплоть до того, как выбрались из владений Торира», т. е. эта погоня вызвана не местью, а желанием покарать нарушителя границ владений и даннических прав Торира. Не потому ли в дальнейших главах саги Торир едет торговать не в «Бьярмаланд», а всего только в Финнмарк[612], кстати сказать, вообще не упомянутый в рассказе.
Как можно понять из дальнейшего повествования, рассказ об убийстве Ториром Карли был необходим Снорри Стурлусону для мотивации дальнейших действий его героев, в частности, для объяснения причины, сделавшей Торира и его родственников противниками короля Олава (согласно версии Снорре, смертельный удар королю в битве при Стикластадире был нанесен именно Ториром, и он же стал первым, кто засвидетельствовал «святость» Олава). Между тем, остается неизвестным происхождение всего этого сюжета, поскольку в так называемой «Древнейшей саге об Олаве Святом», сохранившейся в шести фрагментах рукописи, современной Снорри (ок. 1225 г.) и в «Легендарной саге об Олаве Святом» (датируемой ок. 1250 г.) сказано только, что Торир Собака «ездил в Бьярмаланд и убил там доброго человека, которого звали Карли. Конунг послал людей к Ториру. И попал Торир в беду по причине своего злодеяния. Уехал он вскоре из страны и с ним много других лендрманнов»[613]. Вот и всё. Если же вспомнить, что Снорри заставляет Торира убивать Карли не в «Бьярмаланде», как указывает традиция, а в Гейрсвере, который при описании обратного пути заменил Сандвер, потребовав объяснения, что это «первая стоянка для кораблей, плывущих с севера», то всё рассказанное не заслуживает никакого доверия[614], если только не предположить, что автор воспользовался какой-то не дошедшей до нас сагой о Торире Собаке, т. е. объясняя одно неизвестное — другим.
Еще загадочнее обстоит дело со «святилищем Йомали», поскольку наличествующие в рассказе об ограблении святилища ориентиры («река Вина», «равнина», «лес», «Гандвик», «острова»), находясь в тесной сюжетной связи друг с другом, не включены в систему географических ориентиров поездки, создавая впечатление интерполированного текста, обработанного в соответствии с задачами автора. Вставной (заимствованный) характер сюжета об ограблении «святилища Йомали» подтверждается наличием указанных выше в тексте «швов» и по тому, что ни котелок, ни серебряные монеты более в саге не фигурируют, хотя то и другое является устойчивыми реалиями самого сюжета, использованного в других сагах. Исключением оказывается ожерелье, снятое Карли с истукана Йомали, которое потребовал у него Торир. Однако именно это ожерелье неизвестно ни одной из последующих модификаций «святилища Йомали» в «сагах о древних временах» («Сага об Одде Стреле» второй половины XIII в., «Сага о Хальви и дружинниках Хальви» конца XIII в., «Сага о Стурлауге Трудолюбивом» около 1300 г., «Сага о Боси» XIV в.[615]), и, возможно, действительно послужило к изобличению убийцы людьми Олава, поскольку, сняв его с тела Карли, Торир носил его на себе, как об этом пишет Снорри[616].
Но почему Торир Собака убил Карли?
«Легендарная сага об Олаве Святом» причин этого не знает. Если исходить из версии, предложенной Снорри, то он мстил за убийство своего племянника Асбьерна Тюленебойца, хотя действительным поводом, как можно видеть, послужил отказ Карли уступить Ториру ожерелье. Так ссора оказывается не предлогом к убийству, как это изложено в саге, а подлинной причиной, больше отвечающей действительности потому, что 1) у Торира было достаточно возможностей убить Карли и раньше и, что существеннее, 2) мстить за смерть племянника он должен был не Карли, который только присутствовал при убийстве, а непосредственному убийце — Асмунду, сыну Гранкеля[617]. Другими словами, похоже, что Снорри восполнял недостаток информации о своих героях собственным воображением, не всегда представляя, где и почему происходили те или иные события (если они происходили вообще). Если же вспомнить, что в «Саге об Ан» также фигурирует некий «Торир», который «грабил в Галогаланде и в Биармаланде», о чем пишет К. Ф. Тиандер[618], то здесь возможны любые контаминации имен и сюжетов.
Последнее в полной мере относится и к сюжету об ограблении «святилища Йомали в Бьярмаланде», заимствованному Снорри из какого-то стороннего сочинения, быть может из «Саги об Одде», где мы находим такое же описание святилища с «курганом» из земли и монет[619], или из «Саги о Хальфи», в которой Гиерлейв точно также грабит «курган» с монетами неподалеку от «устья Вины»[620].
Вместе с тем, реалии «святилища Йомали» и окружающей его местности, вопреки уверениям Тиандера и его последователей, не позволяют идентифицировать историко-географическую ситуацию «Бьярмаланда», как она представлена в саге, с низовьями Северной Двины[621]. Этому мешает как реальная их топография, так и отсутствие указанных в сюжете компонентов (серебряные монеты, населенность берегов), о чем я подробно писал в своей первой работе[622].
Здесь мы сталкиваемся с любопытной коллизией, отмеченной в работах Т. Н. Джаксон: в компендиуме «королевских саг» Снорри Стурлусона, казалось бы, достойным наибольшего доверия, единственным упоминанием «реки Вины» (кроме рассказа о Торире Собаке) оказывается драпа скальда Глума, сына Гейри в «Саге о Харальде Серая Шкура»[623], однако отсутствующая в их более древнем собрании[624], точно так же, как во всех более ранних вариантах «Саги об Олаве Святом» отсутствует эпизод с поездкой Торира и сюжет с ограблением святилища Йомали. Наоборот, «саги о древних временах» с их безудержной фантастикой и нагромождением самых разных фольклорных сюжетов знают не только «реку Вину», но и «устье Вины» (Vinumynni), лежащий рядом с ней «Винский лес» (Vinuskogr), в котором находится святилище Йомали, указывают «равнину», по которой шли к лесу Торир и Карли, и пр. Эти приметы «земли бьярмов» оказываются настолько устойчивым клише (topos communis) в сагах, что отчетливо проступают (вместе с бьярмами!) даже в «Саге об Эймунде», повествующей о событиях, территориально весьма далеких от тех мест, которые связаны с поездкой Торира Собаки[625], заставляя видеть в них отголоски историко-географической реальности Х в., действительные координаты которой были потеряны скандинавами уже к началу XII в., а потому последующими авторами были перенесены исключительно в область сказочной фантастики.
Попробуем их восстановить по тем немногочисленным реалиям и указаниям, которые прослеживаются в сагах.
Главными и наиболее устойчивыми признаками Биармии/Бьярмаланда, с которыми должен считаться исследователь, являются: 1) наличие морского побережья, 2) впадающая в море река Вина, 3) серебряные монеты, которые «бьярмы» приносят в общественное святилище, 4) высокая плотность туземного населения, занимающегося земледелием и охотой, и 5) бог «Йомали».
Наиболее примечательным в этом перечне оказывается название божества — Йомали, — которое указывает на принадлежность святилища «бьярмов» финноязычному населению, будучи идентично имени верховного божества финнов Севера Европы — Юмала, тождественного славяно-балтийскому Перуну/Перкунасу и скандинавскому Тору[626]. Такое определение сужает ареал поисков, поскольку для порубежной ситуации 1–11 тысячелетий н. э. из морских побережий финноязычными; народами были освоены только 1) берега Белого моря, где присутствуют 1, 2 и 5 указанные компоненты, 2) восточное побережье Ботнического залива, где присутствуют 1, 3 и 5 компоненты, 3) побережье современной Эстонии, заселенный эстами,’ где можно найти в указанное время 1, 3, 4 и 5 компоненты, и 4) побережье Рижского залива с компактным ливским населением[627], обладающее всеми указанными признаками, в том числе и теми, которые содержат в себе «саги о древних временах». Это морское побережье, «большая река» (Западная Двина), впадающая в море, чье название в средневековых европейских источниках указывается то как Duna, Dina, Dyna, то как Weina (у эстов) или Vena/Vina (у ливов)[628], высокая плотность оседлого населения в Х в. и наличие в обращении большого количества монетного серебра, подтверждаемого кладами и материалом раскопок.
Начнем с названия реки, известного в двух формах — Дина/Дюна и Вина/Вейна. Последнее название, употребляемое финноязычными народами, объясняется тем обстоятельством, что в финских языках невозможно сопряжение двух согласных в начале слова, почему зафиксированное сагами название реки «Вина» указывает, что оно было получено скандинавами от финноязычных информаторов, какими и были жившие здесь ливы[629].
В этой новой историко-географической ситуации вместо обширной болотистой дельты Северной Двины, раскинувшейся на сотни квадратных километров, мы находим четко выраженное речное устье, окруженное дюнами, прибрежными лугами и лесом на первой морской террасе, которые находят полное соответствие в таких топонимах саг, как «устье Вины», «холмы Вины», «Винский лес» и пр. Исторические документы и археологические исследования этого региона одинаково подтверждают высокую плотность местного земледельческого населения, быт и хозяйство которого соответствует одновременно сведениям о «Бьярмаланде» в «Саге об Олаве Святом» и приключениям Эгиля в Курляндии по «Саге об Эгиле», принадлежащей перу того же Снорри Стурлусона[630], а также по «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского, где он рассказывает о ливах[631].
Что же касается торговой активности ливов, бывших в полном смысле «обитателями побережий», о которых рассказывал Вульфстан, то ее исчерпывающе характеризует тот факт, что 40 % всех находок западноевропейских денариев на территории Латвии происходят именно с берегов Западной Двины[632]. Наконец, к этому можно добавить, что расположенный в непосредственной близости от устья Западной Двины топоним «Юрмала» позволяет поставить его в прямую зависимость от имени; верховного божества ливов Юмала/Йомала, поскольку именно здесь, вероятнее всего, могло находиться святилище «морского народа», каким были ливы, — святилище, как можно думать, не единожды подвергшееся ограблению скандинавов, направлявших свои набеги на территорию Восточной Прибалтики.
Следует заметить, что устойчивый образ «кургана из земли и серебряных монет» в святилище долгое время вызывал сомнение в его правдоподобности, поскольку ничего похожего археологам известно не было, и единственной возможной параллелью оставались вотивные клады и жертвоприношения в священных рощах у кельтов[633]. Не так давно аналоги святилища Йомали/Юмалы, датируемые XV–XVI вв., были обнаружены в районе г. Бежецка Тверской области. Они представлены кольцевидными выкладками из камней, внутри которых в земле находят в большом количестве серебряные монеты Ивана III, Ивана IV и Бориса Годунова, и, судя по расположению поблизости от них курганов, речь идет именно о типе святилища, описанного у Снорри Стурлусона[634].
Локализация Биармии на побережье Рижского залива («Гандвик» «Саги об Олаве Святом») с его островами, находящегося в относительной близости от земли эйстов/пруссов, о которых Вульфстан и Отер рассказывали королю Альфреду, впервые открывает возможность поставить вопрос о зависимости (на уровне средневековой книжности XI–XIII вв.) «бьярмов» скандинавских саг от «беормов» Вульфстана и Отера, тем более, что обе эти лексемы, скорее всего, восходят к общей древнегерманской основе, обозначавшей ‘берег’ и, соответственно, ‘прибрежных жителей’, как то показал К. Ф. Тиандер в своей работе[635], чему полностью соответствуют в данном случае ливы[636]. Вероятность подобной локализации подтверждает и анализ реалий «святилища Йомали» присутствующих в различных его описаниях, начиная от поездки Торира и Карли и кончая фантастическими сагами. Этот вопрос был рассмотрен в моей предшествующей статье[637], где была показана зависимость описания святилища от различных этнокультурных компонентов данного региона, постепенно наслаивавшихся на одну сюжетную основу. Но главное отличие этих модификаций от рассказа о Торире Собаке оказывается в другом: герои большинства «саг о древних временах», связанных с Биармией, попадают туда с «восточного пути» (austrvegr).
Так по «восточному пути» совершает набег на «Бьярмаланд» отец берсерков Арнгрим[638]; рядом с «восточным путем» находится «Бьярмаланд» «Саги о Хальфдане Эйстенссоне»[639], а на восток от последнего — «Кирьялаботн», т. е. «Карельский залив» (совр. Финский залив)[640]; Боси с Герраудом из «Саги о Боси» по «восточному пути» прямо прибывают к берегам «Бьярмаланда» (undir Biarmaland) и отправляются в «лес Вины» (Vinuskogr), после чего совершают нападение на «храм Йомали»[641].
Однако, как я показал в предыдущей работе, «восточный путь» скандинавских саг, на который «встают» все без исключения герои повествований, отправляющиеся для свершения подвигов (т. е. грабежа), торговли и просто путешествий на восток Балтийского моря, является отнюдь не вариантом «северного пути» или «пути в царство мертвых», как это полагал К. Ф. Тиандер[642], а всего только западной частью «широко известного транзитного пути раннего средневековья, соединявшего страны Средней Азии и Прикаспия с торговыми центрами Балтики и Северной Европы»[643]. Об этом пути и его значении для всей Северной и Восточной Европы существует обширная литература, среди которой следует выделить специально посвященные ему работы В. Б. Вилинбахова, проследившего его на территории России[644] и И. П. Шаскольского, рассмотревшего его детально для Балтийского моря на основании лоции для датских мореходов.
Вот ее содержание в изложении историка.
«Из Дании <…> обычный путь кораблей в Эстонию (а следовательно и вообще в Финский залив) шел <…> вдоль шведского берега на северо-восток вплоть до острова Анрхольм (сейчас Архольм, к северу от Стокгольма). От острова Арнхолъм путь поворачивал прямо на восток, пересекал Аландский пролив и подходил к южной часть Аландского архипелага. В Аландском архипелаге путь шел мимо пунктов Lunaebötae (современное Lemböte), остров Fughelde (теперь острова Föglö), острова Thiyckaekarl (современный о. Kökar), через Aespaesund — пролив Aspö (сейчас пролива с таким названием нет; вероятно он был где-то у острова Aspö), в котором расположены острова Aspo… Refholm, Malmö (последние два названия не сохранились до настоящего времени), мимо о. Jrima (современный о. Jrmo) к проливу Örsund (сейчас тоже не известен, вероятно — пролив около островов Örskdr или Örö) и далее к Hangeth — современному мысу Ханко. От мыса Ханко путь шел вдоль прибрежных шхер, через пролив Lowicsund (точно идентифицировать не удалось, вероятно у Тверминне), мимо Karienkaskae (пункт тоже установлен лишь приблизительно), Juxaroe (современные острова Jussarö), Horinsari (вероятно, около современного Orslandet) к Purkal — современному мысу Порккала-удд. От мыса Порккала-удд путь резко поворачивал на юг, „через Эстонское море“ — („mare Estonum“), мимо островов Narigeth (нынешний о. Нарген, или, по-эстонски, Найсаар) и Karlsö (о. Карлос, теперь слившийся с берегом материка в Таллинской бухте) к Raeuelburgh — Ревелю (Таллину).
В тексте имеется два добавления: 1) при наличии попутного западного ветра можно идти от острова Арнхолъм по прямой линии до Hangeth (Ханко), т. е. идти от Арнхольма прямо прямо по морю на восток до Ханко, не заходя в Аландские шхеры; 2) при наличии попутного северного ветра можно от мыса Ханко держать курс прямо на юг через море до острова Hothensholm (Оденсхольм, или, по-эстонски, Осмуссаар) и оттуда идти в Таллинскую бухту вдоль эстонского берега»[645].
«Восточный путь» скандинавских саг — это путь из западной части Балтийского моря (Дании, Норвегии, Швеции, славянского Поморья, Готланда и т. д.) на восток — в Карелию, Финский залив и к землям Восточной Прибалтики. Анализируя содержание саг, можно заметить, что в целом они делятся на три группы. Первая, содержащая наиболее архаичный пласт сюжетов, описывает Биармию (ограбление святилища), к которой ведет «восточный путь», оказывающийся путем к курам и ливам («Сага об Эгиле»), однако ничего не знает о Руси («Хольмгард», «Гардарики» и пр.) или представляет ее где-то в отдалении («Сага об Одде Стреле», «Сага о Хальфдане Эйстейнссоне»). Другая группа саг упоминает «Гардарики», «Биармию» и ведущий к ним «восточный путь», однако их сведения безусловно расходятся с известиями русских летописей («Сага об Эймунде», «Сага о Боси»). Наконец, существует третья группа саг, действие которых частично происходит на Руси (?) («Гардарики»), в Новгороде («Холмгард»), о которых они не сообщают никаких конкретных сведений, и в то же время эти саги ничего уже не знают о «бьярмах», а земли, входящие в бывший «биармийский» регион (т. е. Восточную Прибалтику) обозначают термином «восточный путь» (austrvegr), полностью позабыв о его первоначальном значении[646].
В фактологической части своей первой публикации, посвященной именно «восточному пути» в сагах, Т. Н. Джаксон полностью подтвердила и проиллюстрировала этот вывод, показав, что «восточный путь» идет через Готланд, приводит в Эстланд, Курляндию, Финнланд, в «землю карел», «во владения конунга Вольдемара»[647], или прямо в Хольмгард из Бергена, как указывает «Сага о короле Хаконе»[648] и многие другие тексты, прямо опровергая ничем не обоснованный её собственный постулат, что «для „Восточного пути“ не существенны ни маршрут, ни отправная и конечная точки»[649]. Более того, сконцентрировав внимание только на фактах тождества лексемы austrvegr (‘восточный путь’) хорониму austrlond (‘восточные земли’) и даже austrriki (‘восточные государства’), как это иногда наблюдается для ситуации ХП-XIII вв., когда «великий восточный путь» был давно забыт, Т. Н. Джаксон пришла к парадоксальному с точки зрения логики и законов языка выводу, согласно которому, если «в саге говорится, что путешественник попал на Русь по „Восточному пути“, имеется в виду, что он проплыл вдоль восточно-прибалтийских земель»[650]. Как такое может быть — не понимаю до сих пор, поскольку как в русском, так и в древнескандинавских языках понятие «путь» (vegr) изначально всегда указывало направление и собственно место движения, а не окрестности.
Впрочем, насколько случайно и легковесно всё то, что филолог Т. Н. Джаксон заявляет в своих работах об истории и древней географии Восточной Европы, можно видеть из ее дальнейших спекуляций с «восточным путем». Так, «уличив» меня в дилетантизме и категорически заявив, что «austrvegr исландских королевских саг — не „путь. из варяг в греки“ (чего я никогда не мог говорить. — А. Н.) и не „путь“ вообще»[651], она, после знакомства с Г. С. Лебедевым, столь же категорически и без малейшего смущения стала утверждать прямо противоположное: сначала, что «композиты Austrvegr и Austrlond, равно как и Austrriki, выступают в качестве наименования земель по пути „из варяг в греки“»[652], а затем, столь же безапелляционно и бездоказательно, что «композиты Austrvegr и Austrlond, равно как и Austrriki, выступают в качестве наименования пути „из варяг в греки“»[653]. В результате остается только пожалеть читателей подобных квази-исторических сочинений, остающихся в недоумении: так что же всё-таки означает austrvegr — путь, земли или что-нибудь еще другое, что придет в голову их исследовательнице при очередном повороте ее пристрастий и увлечений. Тот же сумбур в ее историко-географических представлениях можно видеть и в отношении Биармии/Бьярмии, разделенной на «две Бьярмии» и помещаемой ею одновременно в самые разные места географической карты Русского Севера вместе с «Гандвиком», а более широко и в соответствии с националистической концепцией финнов эпохи 1930-х гг., усвоенной ею вместе с Е. А. Мельниковой и Г. В. Глазыриной, — в качестве хоронима территории всего Русского Севера, от Ботнического залива до Уральских гор и от Верхней Волги до Ледовитого океана[654].
Между тем, если свидетельства «саг о древних временах» («лживых саг», «сказочных саг») о местонахождении «Бьярмаланда» на берегах Восточной Прибалтики можно посчитать недостаточным, то их можно восполнить сведениями из «Gesta Danorum» Саксона Грамматика, которые приводит К. Ф. Тиандер. Таковы путь Старкада, который едет из Руси в Швецию через «Бьярмаланд»[655], и путь с войском из Дании по суше Регнера который, будучи разбит «бьярмами… отступает в землю куров и сембов»[656], т. е. на юг или юго-запад от Рижского залива в полном соответствии с устанавливаемой мною топографией. Естественно, что сам Тиандер не склонен был принимать всерьез сообщения Саксона Грамматика или саг о том или ином персонаже и его приключениях, однако за всем этим он пытался увидеть реальность той эпохи, высказавшись по поводу одного из персонажей Саксона Грамматика следующим образом: «Арнгрим, положим, мифическая личность, но предполагаемые Саксоном отношения вследствие этого ничуть не теряют в правдоподобности»[657]. Это же имел в виду и С. К. Кузнецов, отмечая «зерно географической истины, скрытое в древнейших сагах», которое «дало пышный цветок фантастической Биармии»[658] уже под пером позднейших компиляторов.
Саксон Грамматик работал несколько раньше, чем Снорри Стурлусон, однако и тот и другой, равно как их предшественники и современники, кто собирал, записывал и обрабатывал саги, могли сколько угодно расцвечивать их фантазией, оставаясь в пределах историко-географических представлений своего времени. Когда работал Снорри, «восточный путь» давно был забыт, а рядом с Vinumynni, вместо святилища бьярмов, уже поднимались стены орденского замка Dunamunde. Вот почему последнее упоминание «бьярмов», которое мы обнаруживаем в «Саге о короле Хаконе», созданной Стурлой Тордасоном около 1265 г., скорее всего, аналогично использованию лексем «скифы» и «тавроскифы» византийских авторов по отношению к русам X–XI вв. В этой саге Стурла упоминает о приходе к Хакону «бьярмов, бежавших с востока от нашествия татар»[659], как он именует беглецов с восточного побережья Балтийского моря, вынужденных, по-видимому, спасаться от глубокого рейда русско-татарского войска зимой 1258/1259 г. по литовским землям, как об этом пишет Э. Боннель[660].
Тот факт, что под именем «бьярмов» Стурла подразумевал именно обитателей Восточной Прибалтики, следует из его рассказа о последнем «походе в Бьярмаланд», имевшем место около 1222 г., когда на оставшихся зимовать путешественников «напали бьярмы и перебили всех корабельщиков» из-за того, что последние «не поладили с конунгом бьярмов»[661]. Поскольку эта сага хорошо знает «конунга Хольмгарда» (Новгорода) Александра (Невского) и его брата Андрея (Ярославича), «конунга Суздаля», находящихся в «Гардарики», ни первый, ни второй не могут быть тем «конунгом бьярмов», с которым вышла ссора путешественников. Таким образом, попытки скандинавистов объявить этот «поход в Бьярмаланд» — походом «в Подвинье (или шире: Беломорское побережье)»[662], к тому времени давно и прочно вошедшими в состав земель Новгородской республики, оказываются ничем не оправдываемой фантазией.
Итак, суммируя изложенное, хочу еще раз повторить, что в земле «беормов» Отера/Оттара, «Бьярмаланде» скандинавских саг и «Биармии» датских хроник со «святилищем Йомали» с наибольшей вероятностью следует видеть побережье Рижского залива («Гандвик») и низовья Западной Двины (Вины/Дуны), а под «бьярмами» — обитавших там ливов (и, возможно, куронов/куршей). Другими словами, лексема «бьярмы» оказывается псевдоэтнонимом, почему в поздних сагах можно встретить ее распространение на самые различные ‘прибрежные народы’, а сам «Бьярмаланд», по мере насыщения его фантастической информацией — далеко на севере, за пределами известных европейцам территорий. Вместе с тем, определение действительно-то местоположения и содержания Биармии/Бьярмаланда скандинавских саг переводит все утверждения о плаваниях скандинавов в Белое море и в устье Северной Двины ранее начала XV в. в разряд политических спекуляций, преследующих определенные территориальные притязания, как об этом справедливо писала в своей работе о сагах Т. Н. Джаксон, что:
…вопрос о Бьярмии не является частным вопросом исторического изучения саг. Обязанный своим возникновением «прихотливому сплетению различных националистических тенденций» (? — А. Н.), он не раз приобретал острое политическое звучание: в конце 1920-х годов, в период борьбы коми-националистов за изменение политического статуса своей республики; в конце 1930-х годов, когда «из сказки о „великой Биармии“ как могущественном Западнофинском государстве вырастали претензии финляндских фашистов на „великую Финляндию до Уральских гор“»[663].
Тем большее удивление может вызвать следующая за этими словами попытка Джаксон дискредитировать «дилетантскую статью о Бьярмии писателя А. Л. Никитина» (который, как известно, отрицал саму возможность появления скандинавов на Белом море ранее XV в.), якобы «послужившую поводом к искаженному толкованию советской исторической науки», опираясь при этом на беспрецедентное по своей наглости выступление норвежского «историка» Х. Станга[664], который пригрозил России «серьезными осложнениями в отношениях между нашими странами», если высказаный А. Л. Никитиным взгляд будет принят на вооружение «советской исторической наукой». Этот второй политический донос Т. Н. Джаксон тоже не был услышан «власть предержащими», но отмежевание от возможной «крамолы» со стороны Отдела истории древнейших государств Института истории АН СССР после окрика норвежского «историка», как это можно видеть по работам сотрудников Отдела, последовало незамедлительно уже в том же 1978 г.
И всё же, несмотря на столь серьезные предупреждения с норвежской стороны и «санкции» со стороны отечественных скандинавистов, рискну повторить, что ни Биармия/Бьярмаланд скандинавских саг, ни «святилище Йомали», ни поездки скандинавов к «бьярмам» в X–XI вв. не имели и не имеют никакого отношения к собственной истории России, будучи для нее лишь навязанным извне историографическим фантомом, преследующим цели, далекие от подлинной науки.
О специфике изучения источников раннего периода русской истории
Рассмотренные на предшествующих страницах многочисленные примеры ошибочного и прямо фантастического отражения прошлого в источниках, служащих основанием для реконструкции событий ранней русской истории, с неизбежностью ставят вопрос о методике изучения самих источников. В том, что здесь имеет место определенная специфика, убеждает множественность толкований одних и тех же фактов, а вместе с тем и повторение исследователями одних и тех же ошибок своих предшественников при оценке того или иного сообщения, почерпнутого из летописи, которое становится доминантой последующих выводов. Происходит так потому, что работа историка опирается на текст и определяется текстом исторического источника в широком понимании этого слова. Для ранней русской истории таким основополагающим источником служит текст ПВЛ, представленный исключительно своими поздними списками, поэтому его реконструкция всегда остается только более или менее остроумной гипотезой, как это можно видеть на примере многих работ А. А. Шахматова и его последователей.
Между тем, такой искаженный ошибками, сокращениями и переосмыслениями редакторов и переписчиков текст часто несет в себе еще и фрагменты чужих, инкорпорированных текстов, адаптированных к новому окружению. Для средневековых литератур т акое «плагиаторное» использование текстов предшественников было правилом, о чем писали многие исследователи. В отношении древнерусской литературы особое внимание этому факту было уделено В. М. Истриным, который писал, что «когда те или другие, политические или общественные события настраивали древнерусского человека определенным образом и он чувствовал потребность выразить это настроение на бумаге, то далеко не всегда приступал он к составлению совершенно нового произведения, но очень часто брал соответствующее произведение старое — русское оригинальное или переводное, безразлично — и обрабатывал его, прибавляя в него новое содержание и придавая ему новую форму»[665]. Еще более резко выражался по этому поводу А. С. Орлов. Он говорил, что «проявлению реализма (в русской литературе. — А. Н.) мешала традиционность русского средневековья, его довольно беззастенчивая плагиаторная система, в силу которой позднейший литературный памятник складывался на основании предшествующего в том же литературном жанре. Таким образом, к новой фабуле пересаживались не только слова, но и целые картины, целый ряд фактов, часто без пригонки к композиции… Бывали и такие случаи, когда заимствованная стилистика сплошь и всецело составляла содержание памятника; взять, например, „летописную“ Повесть о Мамаевом побоище, написанную лет 25 после события. Здесь текст состоит из чередования выписок из Псалтири, наложенных на предполагаемые моменты этого события»[666]. 0 том, что системой работы средневекового автора являлись заимствования из произведений предшественников, неоднократно писал в своих работах и Д. С. Лихачев[667].
Что касается таких заимствований в жизнеописаниях средневековья Западной Европы, то о них писали И. А. Лебедев и Д. Н. Егоров, а на распространенность аналогичной практики среди восточных географов и путешественников арабоязычного мира неоднократно указывал Б. Н. Заходер[668].
В подобной адаптации чужеродного текста в ПВЛ убеждают «три жерла» Днепра истории апостола Андрея, появление Рорика/Рюрика в Новгороде на Волхове, заимствованные из «Хроники» Георгия Амартола описания набегов росов/русов на Царьград и пр. Вероятно, это же объясняет наличие двух маршрутов движения св. Глеба к месту своей гибели, по одной версии — из Мурома через Верхнюю Волгу, по другой — из Киева к Смоленску, причем обе они сохранили общую деталь архетипа: смерть Глеба «в кораблеце», т. е. в морском судне, весьма странном в обстановке Днепра.
К чему порою приводит такое заимствование, показывает уникальное известие Лаврентьевского списка ПВЛ под 6597/1089 г. о Переяславле Южном, что «бе бо преже в Переяславли митрополья» [Л., 208], совершенно невероятное при наличии кафедры в Киеве. Объясняет его только усвоение известной статьи против латынян «Леонтию, митрополиту Преславскому в Росии» (), о чем писал еще А. А. Шахматов, который полагал позднейшим осмыслением комментатора, идентифицируя Преславу со столицей болгарского царя Симеона, поскольку именно «Леонтий» назван первым патриархом Преславской епархии в Синодике царя Бориса 1210 г.[669] Однако фантомность данной митрополии не мешает историкам до сих пор служить обоснованием выделения в переяславльском летописании XI–XII вв. некоего «ультрамартовского летосчисления», о чем я писал выше.
Обнаружению таких адаптированных текстов, объясняющих большую часть загадок русской истории, помогает сохранение изначально принадлежащих им топонимов, которые в новой ситуации или противоречат характеристикам отождествляемых с ними объектов, как то отмечено для приустьевой ситуации Дуная/Днепра, переориентации болгарского города Преславы/Переяславля на Переяславль Южный, перенесения греческого представления о «заморье», означавшего Таврию[670], на берега Балтики и т. д., или же создают парадоксы историко-географического характера, как это можно наблюдать в описании бегства Святополка и его гибели «межи чахы и ляхы». Одновременно в ПВЛ можно обнаружить использование ситуаций и фактов более позднего времени для описания предшествующих событий, выдающих себя наличием скрытых анахронизмов, как, например, лексема «варяги» для сюжетов IX–XI вв. или термин «черные люди» для рассказа о походе 1185 г. Что же касается общей оценки историко-легендарной части ПВЛ до середины XI в., то она оказывается малодостоверной и весьма схожей в этом плане с современными ей хрониками Козьмы Пражского и Галла Анонима.
Последнее обстоятельство с неизбежностью поднимает вопрос о необходимости привлечения иностранных источников этого времени для реконструкции событий нашей истории и сравнительной с ними степени достоверности ПВЛ. Опыт показывает, что до отмеченного временного рубежа достоверность последних не выдерживает никакого сравнения с европейскими авторскими хрониками, почему, например, описания событий 1015–1018 гг. в хронике Титмара из Мерзебурга заслуживают безусловно большего внимания, чем таковые в ПВЛ, а их кажущееся противоречие эмиссиям монет Святополка и Петроса/Петора коренится, скорее всего, в ошибочности наших собственных представлений, возникших под влиянием легенды о Святополке. Столь же высокий приоритет перед ПВЛ для оценки отмеченных ими событий IX–XI вв. сохраняют византийские авторские сочинения (Продолжатель Феофана, Лев Диакон, Михаил Пселл и др.) и даже такие неоднозначные компиляции, как хроники Георгия Амартола и Скилицы-Кедрина, созданные в традициях официальной византийской историографии.
Наоборот, как показывает опыт, весьма низкой оценки в отношении событий ранней русской истории заслуживают сочинения восточных географов и путешественников IX-Х вв. Предпринятые сначала Б. Н. Заходером, а затем А. П. Новосельцевым попытки систематизировать их сведения убеждают, что объектом наблюдения их авторов в основном оказывается социум черноморских русов, совершавших разбойничьи набеги на города Поволжья и побережья Каспия. Еще меньше данных для русской истории исследователь находит в скандинавских сагах, самые ранние записи которых в первой трети XIII в. отмечены именем Снорри Стурлусона. Сообщаемые ими сведения о «конунге Вальдамаре», которого обычно считают князем Владимиром I Святославичем, и «конунге Ярицлейве», в котором столь же традиционно видят князя Ярослава I Владимировича, не находят подтверждений в русских источниках, с чем вынуждены согласиться даже филологи-скандинависты[671], а приурочение нескольких традиционных топонимов к отдельным городам домонгольской Руси лишь подтверждает их случайный и недостоверный характер. Об этом в свое время писал еще Ф. Ф. Вестберг, убедительно обосновывая перемещение хоронима Gardariki и топонима Kaenugardr скандинавских саг на южные берега Балтийского моря, поскольку «Koenugardr составляет часть Vinland’а», а «под Vinland’ом исландские саги разумеют только область западных славян»[672].
Столь же сомнительны сведения древних пластов европейских генеалогий, где имена этих же двух князей обозначают ближайших родственников шведских, норвежских и датских конунгов («Младшая Эдда» и др.), заставляя полагать, что наличие в сагах «Вальдамара из Гардарики» и «Ярицлейва из Холм-гарда» обязано не персонажам ПВЛ, а одноименным князьям западнославянских (вендских) земель, находившихся в более тесных сношениях с Данией и северным берегом Балтийского моря, чем те князья, с именем которых связана история Киева и Великого Новгорода на Волхове.
Именно этим обстоятельством, как мне кажется, можно объяснить полное молчание русских источников относительно родственных связей семьи Ярослава I Владимировича с английским, норвежским и датским королевскими домами и брачных — с французским. Указанные факты известны нам исключительно из генеалогических росписей Европы и до сих пор не находят никакого документального подтверждения с русской стороны, поэтому посвященная их обзору специальная работа М. П. Алексеева оказывается построенной на последовательных «каскадах» допущений и предположений, не выдерживающих строгой исторической критики[673]. Стоит также напомнить, что до сих пор историкам неизвестны какие-либо документы, подтверждающие брак Всеволода Ярославича, отца Владимира «Мономаха», на дочери Константина IX, о чем нам известно лишь по краткой записи под 6567/1053 г. в ПВЛ, что «оу Всеволода родися сын Володимиръ от цесарице гречькое» [Ип., 149]. И хотя ни один из этих браков не подтвержден до сих пор документально[674], все они продолжают фигурировать в качестве оснований для весьма смелых и далеко идущих построений.
Здесь мы сталкиваемся с феноменом, который можно назвать диктатом текста, оказывающим безусловное влияние уже на предпосылки многих исторических исследований. Дело в том, что любой текст, воспринимаемый в качестве исторического источника, в силу одного этого обладает авторитетом, магически действующим на исследователя, склонного подсознательно абсолютизировать содержащиеся в нем факты и форму, в которой эти факты изложены. В еще большей степени на исследователя может влиять авторитет предшественников, их оценки того или иного текста, создающие фантом псевдотекста, который в сознании окружающих подменяет собою факты, представленные в том или ином историческом источнике. Так, выборочная подборка оценочных сообщений летописцев о нападениях половцев на Киев и Переяславль Южный, а в еще большей степени — содержание «Слова о полку Игореве», переработанного в конце XIV или начале XV в., утвердили в сознании общества представление об извечной конфронтации древней Руси и Степи, оставив без рассмотрения множество свидетельств прямо противоположного свойства. Какую роль в этом сыграли историки, показывают работы Б. А. Рыбакова, посвященные этим вопросам. То же самое произошло в отношении Ивана IV и его опричнины, долгое время представляемой в качестве примера государственной мудрости и «демократизма» царя, наделенного всеми талантами «представителя гуманизма».
Избежать влияния такого псевдотекста исследователь может лишь в том случае, если он начинает свою работу с изучения первоисточника, рассматривая его в сопоставлении с другими, независимыми текстами и фактами, в том числе лингвистическими, топонимическими, географическими, археологическими и другими, чтобы только потом перейти к анализу взглядов предшественников, корректируя по мере необходимости собственные выводы.
Насколько внимательно следует при этом относиться к таким независимым документам, какими являются археологические находки, и чем оборачивается научная небрежность, хорошо показывает пример атрибуции Б. А. Рыбаковым каменной иконки, изображающей св. Глеба, с надписями расположенными по обеим сторонам фигуры в княжеской шапке и плаще, стоящей с мечом и крестом мученика. Иконка происходит из случайных находок начала века на Таманском полуострове и сделана на пластине «жировика», т. е. талька (?), как следует из ее описания при поступлении в ГИМ. Не уточнив характера минерала, не выяснив его возможного происхождения, не определив места изображения в общей иконографии св. Глеба, археолог, заявил, что так как «в Тмутаракани Глеб Святославич княжил, очевидно, с осени 1067 по осень 1068 года <…> эта иконка принадлежала князю Глебу Святославичу»[675], после чего датировал ее… 1067–1068 гг. Более того, Рыбаков решился утверждать, что такой дате соответствуют и начертания букв обоих надписей, хотя даже не специалист на приведенной фотографии[676] может заметить, что надписи сделаны разными почерками, причем вторая надпись, отождествляющая Глеба с Давыдом, сделана уже после того, как от иконки был отколот верхний левый угол, т. е. много времени спустя после изготовления предмета. Естественно, что такое легкомыслие не только обесценивает разыскания автора, но и ставит под сомнение всю его систему хронологических признаков начертания букв кириллического алфавита, на которой построена утверждаемая им хронология других находок.
Этот пример произведенной некогда идентификации св. Глеба с «Давидом» в действительности является частью проблемы, в том или ином виде встающей перед каждым исследователем ранней русской истории. Использование текста для реконструкции событий прошлого предполагает наличие исторических персонажей, о которых нам известно часто только имя. Естественно, что каждая, пусть даже призрачная возможность найти какую-либо дополнительную информацию о том или ином подобном лице или оставленный им след оказывается огромным соблазном для историков. Так возникают попытки-идентификации героев русских былин или авторов граффито, открытых на древней штукатурке Софийского собора в Киеве. Работу в этом направлении можно только приветствовать, однако не следует забывать, что одни и те же имена в одно и то же время носило множество разных людей, идентифицировать которых наука не в состоянии, также как и сколько-нибудь определенно датировать оставленные ими автографы. Столь же сомнительны попытки отождествления отдельных героев былин с определенными историческими фигурами, чтобы затем, создав очередной фантом псевдотекста, использовать его в конкретных исторических построениях на правах источника.
Опасность коренится даже не в том, что здесь делается попытка подмены истории — эпосом, живущим по законам своего жанра, причем жанра, как можно было убедиться за полтора века развития русской фольклористики, заимствованного восточными славянами у своих степных соседей. Былина не явилась из первобытности, как то пытался доказать В. Я. Пропп[677], не сопровождала жизнь славянских народов в их догосударственном существовании, а была воспринята в качестве готовой формы только восточными славянами, заставляя вспомнить о «старых мехах», оказавшихся пригодными для «нового вина». Но что явилось этим «новым вином» и почему потребовались именно такие «меха»? Этот вопрос одинаково важен как для филолога, работающего с текстами фольклорных записей и пытающегося определить «контекст эпохи», когда эти тексты могли возникнуть, так и для историка, обращающегося к памяти народа в попытках реконструкции изучаемого им прошлого.
Слабость позиций таких крайних представителей «исторической школы» изучения былин киевского и новгородского циклов, как тот же Б. А. Рыбаков, заключалась в том, что они предполагали непосредственное отражение события в былине, которая, следовательно, должна была выполнять роль современной беллетристики, молчаливо подразумевая неграмотность населения древней Руси. Сейчас такой постулат опровергнут массовым материалом раскопок городских и сельских поселений, показывающим, что в домонгольское время на Руси писали (и, стало быть, читали) практически все ее обитатели. Соответственно, это предполагает широкое распространение, особенно в городской среде, светской литературы, о наличии которой можно судить по тексту «Слова о полку Игореве» и древнерусскому летописанию, которые сохранили в своем тексте фрагменты других литературных произведений той эпохи. В результате, единственным местом бытования былины как жанра, заимствованного из Степи, остается русская деревня, т. е. то пространство обитания этноса, где на протяжении четырех последних веков можно было наблюдать постоянный переход литературного текста в состояние сказания, обретавшего таким образом свое дальнейшее существование[678].
При этом было бы безусловной ошибкой считать творцом, хранителем и распространителем былины русское крестьянство, как таковое. Крупнейший исследователь былины и условий ее бытования В. Ф. Миллер отмечал, что, по словам самих же крестьян, мастерами-сказителями всегда были кочующие деревенские ремесленники, сапожники, портные, вязальщики сетей, переходившие из деревни в деревню, тогда как «крестьянство (т. е. земледелие) и другие тяжелые работы не только не оставляют к тому времени, но заглушают в памяти даже то, что прежде помнилось и певалось»[679].
И вот, что интересно: на всем многовековом протяжении своего бытования былина не прирастала сюжетами, будучи представлена двумя четко обособленными циклами — киевским с центральной фигурой «князя Владимира» и новгородским. Это может означать, что в основании всего былинного творчества изначально легли только два сборника литературных произведений, трансформированные последующим устным репродуцированием, как видно, в результате внезапного наступления массовой неграмотности и гибели питающей деревню городской культуры. Такая ситуация в русской истории наблюдалась только однажды, будучи результатом монгольского погрома, который повлек за собой гибель городов южной и даже залесской, т. е. рязанской и владимиро-суздальской Руси.
Такое определение временного рубежа и места действия — лесостепная Русь, откуда былина начала свое движение на север в форме «былевого репертуара старинных профессиональных певцов, какое бы название они не носили»[680], находят подтверждение и в геофафической картине, на фоне которой развиваются все былинные сюжеты «киевского цикла», связанные с треугольником киевских, черниговских и переяславльских земель. Вот почему я склонен думать, что в былинах дошли до нас в искаженном виде имена не исторических, а литературных персонажей киевской Руси, которые в ряде. случаев могли совпадать с именами своих реальных прототипов, как то отмечено в ситуации «двух Святополков» легенды о Борисе и Глебе.
Вот то немногое, о чем мне хотелось напомнить, завершая книгу, которая, я надеюсь, вызовет не одно только негодование упомянутых в ней историков и филологов, но и даст повод для размышлений следующему поколению исследователей русских древностей.
Примечания
1
Публиковалось в сокращении: Никитин А. Л. О купчей на «землю Бояню». // Герменевтика древнерусской литературы XI–XIV вв. Сб. 5. М., 1992, с. 350–369; он же. Боян — русский поэт и болгарский князь. // Болгарская Русистика, № 1. София, 1993, с. 7–15.
(обратно)2
Высоцкий С. А. Надпись о Бояновой земле в Софии Киевской. // ИСССР, 1964, № 3, с. 112–117; он же. Древнерусские надписи Софии Киевской XI–XIV вв. Вып. I, Киев, 1966, с. 60–71. Следует сказать, что граффито, окружающие купчую и предшествующие ее появлению, к сожалению, не содержат явных датирующих признаков.
(обратно)3
Высоцкий С. А. Древнерусские надписи…, с. 71.
(обратно)4
Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI–XIII веков. Л., 1968, с. 14–15.
(обратно)5
Там же, с. 16.
(обратно)6
Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972, с. 415–416.
(обратно)7
Там же, с. 417 и 414. Речь идет о словах Бояна «тяжко ти головы кроме плечю, зло ти телу кроме головы», которые Б. А. Рыбаков полагал обращенными к жене Олега Святославича после возвращения того на Русь в 1083 г. В первом выпуске «Словаря книжников и книжности Древней Руси» (Л., 1987) на с. 86 приведена только первая часть цитируемой фразы, что позволило Л. А. Дмитриеву представить утверждение Рыбакова о возможности отождествления Бояна «Слова…» и Бояна купчей в прямо противоположном смысле. Такая же операция была им проделана и в отношении автора настоящей статьи (там же, с. 87).
(обратно)8
Примером могут служить двинские купчие середины XV в. Мелентия Ефимовича Чеваки на земли и угодья, купленные им у Онцифора Андроникова, Клементия Панкратова и др. (ГВНП, с. 218, № 179; с. 221–222, № 184).
(обратно)9
Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975, с. 203.
(обратно)10
ПСРЛ, т. 1. Лаврентьевская летопись. Вып. 1, Л., 1926, стб. 46. Примечательно, что в остальном тексте ПВЛ это слово склоняется нормативно.
(обратно)11
Зализняк А. А. Словоуказатель к берестяным грамотам. // Янин В.Л; Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте. М., 1986, с. 266–310.
(обратно)12
А. В. Назаренко полагает, что «драница» соответствует связке вытертых беличьих шкурок, а 10 гривен собольих — 1 фунту серебра (Назаренко А. В. Происхождение древнерусского денежно-весового счета. // ДГВЕ, 1994 г. М., 1996, с. 70).
(обратно)13
ГВНП, с. 183, № 123.
(обратно)14
Словари древнерусского и церковно-славянского языка ставят знак равенства между «поп» и «попин» (см. словари И. И. Срезневского, Г. Дьяченко, Словарь русского языка XI–XVII вв. и др.). Однако явное выделение попина Якима из числа остальных попов заставляет видеть в нем протоиервя. Попытка толкования этого слова С. А. Высоцким и В. П. Адриановой-Перетц более чем произвольна.
(обратно)15
«В лето 6808 <…> срубиша 4 церкви: святыя Богородица в манастыри въ Зверинци, и святого Лазоря, и святого Дмитрия на Бояни улке».
[НПЛ, 91]«В лето 6834 <…> месяца августа 28 загореся на Бояни улке».
[НПЛ,97] (обратно)16
ГВНП, с.317 № 331.
(обратно)17
Зализняк А. А. Словоуказатель…, с. 267.
(обратно)18
Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979, с. 80–83; Баскаков Н. А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». М., 1985, с. 143–146.
(обратно)19
Дуйчев И. Най-ранни връзки между пръвоболгари и славяни. // И. Дуйчев. Българско средновековие. София, 1972, с. 88.
(обратно)20
Иречек К. История на българите. София, 1978, с. 178.
(обратно)21
Дуйчев И. Връзки между чехи, словаци и българи. // И. Дуйчев. Българско средновековие…, с. 341.
(обратно)22
Иречек К. История…, с. 165.
(обратно)23
Златарски В. Н. История на Българската държава през средните векове, т. 1, ч. 2. София, 1971, с. 495–496; Дуйчев И. Проучвания върху българского средновековие. II. Боян Магесник. // Сборник Българската Академия на Науките, т. 41, клон историко-филологичен, бр. 21. София, 1949, с. 9–19.
(обратно)24
Мороз Е. Л. Следы шаманских представлений в эпической традиции древней Руси. // Фольклор и этнография. Связи фольклора с древними представлениями и обрядами. Л., 1977, с. 64–72.
(обратно)25
Венелин Ю. Критические исследования об истории болгар. М., 1849, с. 263–265; Миллер Вс. Взгляд на «Слово о полку Игореве». М., 1877, с. 117–136.
(обратно)26
Пундев В. Боянъ Магьосникъть. София, 1923, с. 43.
(обратно)27
Леонид, архимандрит. Откуда родом была св. великая княгиня русская Ольга? // РС, 1888, июль, с. 217.
(обратно)28
Иловайский Д. И. Вероятное происхождение св. княгини Ольги. // Иловайский Д. И. Исторические сочинения, ч. 3, М., 1914, с. 441–448.
(обратно)29
«С точки зрения исторической вероятности привод жены к Игорю от болгарского города Плискова понятнее, чем появление Ольги из Пскова, о котором более ничего не известно в Х в.» (Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969, с. 107).
(обратно)30
Никитин А. Л. Ольга? Елена? Эльга? // НиР, 1991,№№ 11–12. Наиболее подробно эта версия была в последнее время рассмотрена Н. Н. Ерофеевой (Ерофеева Н. Н. Дело о полку Игореве. М., 1997, с. 117–120).
(обратно)31
Архимандрит Нестор, следом за С. Чилингировым (Чилингиров С. Какво е дал българинът на другите народи. София, 1941, с. 31–32) полагал Ольгу дочерью Анны, сестры Симеона, и ее мужа, болярина Сондока (Нестор, арх. Имал ли е в жилите си българска кръв киевският княз Светослав Игоревич? // Духовна култура, 1964, № 12, с. 13–14.
(обратно)32
Литаврин Г. Г. Состав посольства Ольги в Константинополе и «дары» императора. // Византийские очерки. Труды советских ученых к XVI Международному конгрессу византинистов. М., 1982, с. 79.
(обратно)33
Балабанов Н. Стари украино-български литературни отношения. // Украино-български преглед, ч.1, брой 5 и 6, 1919–1920.
(обратно)34
ПСРЛ, т. 2, СПб., 1908, стб. 524.
(обратно)35
См. статьи Б. Ангелова, Э. Георгиева, П. Динекова и М. В. Щепкиной // Изборник Святослава 1073 года. Сборник статей. М., 1977.
(обратно)36
В русских летописях имя «Тудор» отмечено только в середине XII в. (Тудор, воевода галицкий; Тудор Сатмазов, воевода берендеев; Тудор, тиун вышгородский), а имя «Илья» (исключая духовных лиц) за то же до-монгольское время — всего один раз в конце XI в. (Илья, новгородец) (Указатели к первым осьми томам Полного собрания русских летописей, изданных Археографическою Комиссией. Отдел первый. Указатель лиц. Вып. 1–2, СПб., 1898). В новгородских берестяных грамотах имя «Илья» отмечено в XII — начале XIII вв. (№№ 561 и 596), а вместе с единственным упоминанием «Тудора» (№ 348) — в XIII в. (Зализняк А. А. Словоуказатель…). Наоборот, в Болгарии эти имена издревле принадлежат к наиболее популярньм.
(обратно)37
Впервые попытку наметить возможные контуры биографии Бояна, поэта второй половины XI в., предприняли Н. В. Шляков (Шляков Н. В. Боян. // ИпоРЯС, т. 2. Л., 1928, кн. 2, с. 483–498), а за ним — В. Ф. Ржига (Ржига В. Ф. Несколько мыслей по поводу вопроса об авторе «Слова о полку Игореве». // ОЛЯ АН, т. XI, вып. 5, М., 1952, с. 428–438).
(обратно)38
Никитин А. Точка зрения. М., 1985, с. 135–278.
(обратно)39
Жуковская Л. П. Изборник 1073 г. Судьба книги, состояние и задачи изучения. // Изборник Святослава 1073 г. Сборник статей. М., 1977, с. 10.
(обратно)40
Щапов Я. Н. Государство и Церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989, с. 106–107.
(обратно)41
СРЯ, вып. 8, М., 1981, с. 59.
(обратно)42
См. по этому поводу указанную работу А. В. Назаренко, в которой он предлагает свое объяснение денежно-весовых систем раннего русского средневековья (Назаренко А. В. Происхождение древнерусского денежно-весового счета. // ДГВЕ, 1994, М. 1996, с. 5–79.
(обратно)43
Семенченко Г. В. Византийское право и оформление русских завещаний XIV–XV вв. // ВВ, т. 46, М., 1986, с. 166.
(обратно)44
Ср. главу «О послухах» в издании: Закон Судный людем краткой редакции. М., 1961, с.35, 41, 49, 59 и сл.
(обратно)45
Дылевский Н. М. Лексические и грамматические свидетельства подлинности «Слова о полку Игореве» по старым и новым данным. // Слово о полку Игореве — памятник XII века. М.-Л., 1962, с. 218.
(обратно)46
Первоначальный вариант см.: Никитин А. «Лебеди» Великой Степи. // НИР, 1988, 9–10 и 12.
(обратно)47
Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны. // Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957, с. 102–103.
(обратно)48
Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979, с. 171–174; Баскаков Н. А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». М., 1985, с. 147–149.
(обратно)49
Робер де Клари. Завоевание Константинополя. М., 1986, с. 79 и 158; И. Божилов датирует это событие 1211 г. (Божилов И. Асеновци (1186–1460). Генеалогия и просопография. София, 1985, с. 72, 93–94).
(обратно)50
Для истории половцев наиболее важны следующие работы: Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды, т. I. СПб., 1884; Голубовский П. В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южнорусских степей IX–XIII вв. Киев, 1884; он же. Половцы в Венгрии. // Университетские известия. Киев, 1889, 12, с. 45–72; Расоеский Д. А. Половцы. // 8К, Praha, (VII, 1935, 8. 245–262; VIII, 1936, 8.161–182; IX, 1937, 8. 71–85; X, 1938, 8. 155–178; XI, 1939, 8. 95-128); Кудряшов К. В. Половецкая степь. Очерки исторической географии. М., 1948; он же. О местоположении половецких веж в Северном Причерноморье в XII в. // ТИЭ, новая серия, т. 1. М.-Л., 1947, с. 98–112; Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М., 1966; он же. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973; Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния. М., 1974 (Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Е4-2); Добродомов И. Г. О половецких этнонимах в древнерусской литературе. // Тюркологический сборник. 1975. М., 1978, с. 102–129. Добролюбский А. О. Кочевники северо-западного Причерноморья в эпоху Средневековья. Киев, 1986. Последняя по времени книга С. А. Плетневой (Плетнева С. А. Половцы. М., 1990), к сожалению, наряду с обобщением накопленного материала, содержит много странных положений (напр., об образовании «новых этносов» внутри половцев, об антропологических «определениях» и др.) и просто фантазий (о походах Владимира Мономаха «за Дон и за Яик», о «поминальных храмах со статуями» у половцев и пр.).
(обратно)51
См.: Русанова И. П., Тимошук Б. А. Языческие святилища древних славян. М., 1993.
(обратно)52
Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния…, с. 5, прим. 3. Цит по: Низами. Искандер-намэ. Баку, 1940, с. 315–318.
(обратно)53
Дашкевич Я. Р., Трыярски Э. Каменные бабы причерноморских степей. Коллекция из Аскания-Нова. Wroclaw, 1982.
(обратно)54
Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы…, с. 191, прим. 38.
(обратно)55
Бартольд В. О христианстве в Туркестане в до-монгольский период. // ЗВОИРАО, VIII, СПб., 1894, с. 18–19.
(обратно)56
Бартольд В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научною целью. // ЗИАН, VIII серия, Историко-филологическое отделение, т. 1, 4, СПб., 1897.
(обратно)57
Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970.
(обратно)58
Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния…, с. 25.
(обратно)59
Слово «к невежам». Типография Св.−Троицкой Сергиевой Лавры. 1914, с. 3.
(обратно)60
Лордкипанидзе М. Д. История Грузии X — начала XIII века. Тбилиси, 1974, с. 104–105.
(обратно)61
См.: Роювский Д. Роль половцев в войнах Асеней с Византийской и Латинской империями в 1186–1207 годах. // Списание на Българската Академия на науките, кн. LVIII, клон историко-филологичен и философско-обществен, 29. София, 1939, с. 203–211.
(обратно)62
Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды, т. I, с. 279.
(обратно)63
Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М.,1971.
(обратно)64
Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.-Л., 1947, с. 145.
(обратно)65
Расовский Д. А. Половцы. // SК, t. XI, S. 98 и 99.
(обратно)66
Плетнева С. А. Половецкая земля. // Древнерусские княжества X–XIII вв. М., 1975, с. 260–300.
(обратно)67
Их дед, Олег Святославич, сын Святослава Ярославича, был женат на дочери хана Осулука; «уями» (т. е. дядьями по матери) его сына Святослава Ольговича были «дикие половцы» Тюнрак и Камос Осулуковичи [Ип., 334], а первым браком, будучи уже наполовину половцем, Святослав Ольгович, женился на дочери хана Аепы Гиргинева [Л., 283].
(обратно)68
Менгес К. Г. Восточные элементы…, с. 61–62;
Баскаков Н. А. Тюркская лексика…, с. 65–66;
Плетнева С. А. Половцы…, с. 81; и др.
(обратно)69
Расовский Д. А. Половцы. // SК, t. XI, S. 95–96.
(обратно)70
Г. Ф. Дебец писал о резком отличии черепов «афанасьевцев» от черепов обитателей Прибайкалья неолитического времени, усматривая в них несомненную принадлежность европейскому расовому типу (Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР. М., 1948, с. 65–66).
(обратно)71
Если учесть, что Гурандухт вышла замуж за Давида IV не позднее 1118 г. (он умер в январе 1125 г.), а к 1185 г. Кончаковне не могло быть более 13–14 лет (т. е. она родилась не ранее 1171 г.) и Кончак был ровесником Игоря Святославича или даже несколько моложе его, т. е. родился около 1151 г., скорее всего, Кончаковна была ее внучатной племянницей. По-видимому, единственным источником, сообщающим об этом браке, остается выдержка из Картлис-Цховреба в изложении М. Джанашвили, который, правильно указывая годы жизни Давида, называет его «Третьим» и «Восстановителем», а сам эпизод передает следующим образом: «Давид отлично знал, что кипчаки — племя многочисленное, отважное, проворное, смелое, услужливое, умеющее сохранять мир нерушимый; вместе с тем кипчаки жили по близости Грузии и легко было призвать их на помощь. Поэтому-то царь Давид женился на Гурандухте, прославленной многими добродетелями» (Картлис-Цховреба, с. 236–246). И далее: «Она была дочь главнейшего из кипчаков, Атрака Шараганидзе (т. е. сына Шарукана. — А. Н.)» (Джанашвили М. Известия грузинских летописей и историков о Северном Кавказе и России. // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып. 22. Тифлис, 1897, с. 35.) Когда произошла свадьба, исследователь не говорит, однако это событие правомочно связывать с откочевкой донских половцев из южно-русских степей в 1116–1118 гг. (см. также: Анчабадзе З. В. Кипчаки Северного Кавказа по данным грузинских летописей XI–XIV вв. // О поисхождении балкарцев и карачаевцев. Материалы научной сессии по проблемам происхождения балкарского и карачаевского народов (22–26 июня 1959 г.). Нальчик, 1960, с. 124; Лордкипанидзе М. Д. История Грузии XI — начала XIII века. Тбилиси, 1974, с. 97–98.
(обратно)72
Сумаруков Г. В. Кто есть кто в «Слове о полку Игореве»? М., 1983.
(обратно)73
Плетнева С. А. Половецкая земля…, с. 228. В таком случае и современные русские фамилии-зоонимы следует возводить к «славянскому тотемизму», что не соответствует действительным причинам их возникновения. Правда, в другой своей работе автор вынужден был весьма неопределенно признать, что «идея культа предка — „тотемизм“ образа (? — А. Н.) — не улавливается по материалам каменных изваяний» (Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния…, с 74).
(обратно)74
См. в этом отношении любопытную работу: Гордлевский В. А. Что такое «босый волк»? (К толкованию «Слова о полку Игореве»). // Гордлевский В. А. Избранные сочинения, т. II. М., 1961, с. 482–504.
(обратно)75
Расовский Д. А. Половцы. // SК, t. VII, S. 252–258. О самоназвании половцев см.: Менгес К. Г. Восточные элементы…, с. 73–78.
(обратно)76
Герасимов М. М. Восстановление лица по черепу (современный и ископаемый человек). М., 1955 (ТИЭ, новая серия, т. 28), с. 534–539.
(обратно)77
Расовский Д. А. Половцы. // SК, t. VII, с. 258–261.
(обратно)78
Тизенгаузен В. Сборник материалов…, т. I, с. 232.
(обратно)79
Цит. по Федоров-Давыдов Г. А. Курганы, идолы, монеты. М., 1968, с.89.
(обратно)80
Грунин Т. И. Предисловие. // Документы на половецком языке XVI в. (Судебные акты Каменец-Подольской армянской общины). М., 1967. (ППВ, вып. III.), с. 58.
(обратно)81
Там же, с. 108–109.
(обратно)82
Сулейменов О. Аз и я. Алма-Ата, 1975.
(обратно)83
См.: Юнусов А. С. Восточное рыцарство (в сравнении с западным). // ВИ, 1986, № 10, с,101–112.
(обратно)84
Тизенгаузен В. Сборник материалов…, т. I, с. 289.
(обратно)85
Гильом де Рубрук. Путешествие…, с. 91–92.
(обратно)86
«Когда пришла Пятидесятница (в 1205 г. Пасха приходилась на 10 апреля, так что речь идет о 30 мая 1205 г. — А. Н.), то от Иоанниса, короля Влахии и Болгарии <…> ушли его коммены, ибо они не могли воевать летом» (то же самое произошло в начале мая 1207 г. — А. Н.).
(Жоффруа де Виллардуэн. Взятие Константинополя. М., 1984, с. 161, 190)См. также: Расовский Д. Роль половцев в войнах Асеней…, с. 203–211.
(обратно)87
Геродот. История, IV, 134.
(обратно)88
В этом плане замечательно описание смерти Ногая (28.9.1299–15.9.1300) в летописи Рукнеддина Бейбарса: «Настиг его русский из войска Токты; он (Ногай) сообщил ему, кто он такой, и сказал ему: „не убивай меня, я Ногай, а отведи меня к Токте; мне нужно с ним сойтись и переговорить с ним“. Но русский не поддался его словам, а тотчас тут же отрубил ему голову, принес ее к царю Токте и сказал ему: „вот голова Ногая“. Тот спросил его: „что же надоумило тебя, что это Ногай?“ Тот ответил; „он сам мне поведал об этом и просил меня не убивать его, но я не послушался его и кинулся на него“. Токта вознегодовал на это сильным гневом и отдал приказание насчет (казни) русского. Он был убит за то, что умертвил такого великого по сану человека, а не представил его султану. Он (Токта) сказал: правосудие требует смерти его, чтобы не явился снова кто-нибудь, который бы сделал подобное этому». (Тизенгаузен В. Сборник материалов…, т. I.
(обратно)89
Снорри Стурлусон. Круг земной. М., 1980, с. 9–10.
(обратно)90
Шамбинаго С. К. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906.
(обратно)91
Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М.,1971, с. 94 и 181.
(обратно)92
Далее тексты приводятся по Ипатьевскому списку с необходим правкой по Хлебниковскому.
(обратно)93
Никитин А. Л. Слово о полку Игореве. Тексты. События. Люди. М., 1998, с. 108 и 161.
(обратно)94
Генсьорський А. I. Галицько-Волинський лiтопис (лексичнi, фразеологiчнi та стилiстичнi особливостi). Киiв, 1961, с. 82 и 118.
(обратно)95
Замечательно толкование этого места академиком Б. А. Рыбаковым. По его словам «сторожа» «видели половецких всадников и по наличию с ними четырехколесных повозок — телег с доспехами — определили серьезные воинственные намерения половцев», поскольку те возили с собой на телегах не только доспех, но и «запасы стрел» (!). Если к этому добавить, что «войско Игоря» определено академиком «около 10–15 тысяч всадников», из которого в результате «битвы» ускользнуло «15 человек» (Рыбаков Б. А. Петр Бориславич. Поиск автора «Слова о полку Игореве».М., 1991, с. 72, 74, 84 и 136), то «научность» подобных выводов не нуждается в комментариях.
(обратно)96
Робер де Клари. Завоевание Константинополя, CXVII, с. 79.
(обратно)97
Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники…, с. 252.
(обратно)98
Об этом значении древнерусского слова, ныне совершенно забытом из-за псевдопатриотической тенденциозности, с позиций которой у нас до последнего времени рассматривался поход Игоря, напоминал еще Е. В. Барсов, указывая примеры в древнерусской письменности, где лексема «каять» выступает в качестве синонима «сожалеть» или «жалеть», откуда «окаянный» = «несчастный», упрекая переводчиков в невнимательности к фактам языка (Барсов Е. В. Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси, т. III. Лексикология «Слова». М., 1890, с. 352.
(обратно)99
«Обручение христиан происходит между лицами младшего возраста, начиная от семи лет и позже…» [I, 1]; «У христиан брак заключается либо в письменной, либо в устной форме между мужчиной и женщиной, (каждый) из которых находится в возрасте, соответствующем союзу, — для мужчин начиная с пятнадцати лет, для женщин — с тринадцати лет, по обоюдному их желанию и с согласия родителей» [II, 1] (Эклога. Византийский законодательный свод VIII века. М., 1965, с. 44–45).
(обратно)100
Как сообщает Ипатьевская летопись, в конце февраля того же 1185 г., отказываясь участвовать в совместном походе Святослава Всеволодовича и Рюрика Ростиславича на половцев, Ярослав Святославич, князь черниговский «молвяшеть бо тако: азъ есмь послалъ к нимъ моужа своего Ольстина Олексича, а не могоу на свои моужь поехати» [Ип., 636].
(обратно)101
Подробнее о событиях 1185 г. см.: Никитин А. Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. М., 1998.
(обратно)102
«А по долгих намовах дался Олгерд для еднаня и примиря, еднак же под кондициами, абы ему вольно было з частю рицерства литовского и панами переднейшими до замку Московского збройно въехавши копию о стену замковую скрушити, а для безпечности примирья границ литовских з Москвою по Угру реку, абы сам князь Димитрий з митрополитом и з боярами своими присягою потвердил, выправу военную ему и войску его литовскому заплатил, що все великий князь московский исполнити обецал. А Ольгерд тежь перестаючи на кондициах умовленых доброволне поданых без жадной войны, въехал в замок Московский доброволне отвореный, там же в церкви Димитрия князя привитал, и, даючи ему красное великодное яйце, молвил: „Видиш, княже Димитрий, хто з нас раней на войну встал“. А отдавши яйце, копие свое скрушил о браму, абы Москва памятала, же литва з Олгердом была в Москве и копие свое Олгерд крушил о браму».
(ПСРЛ, т.32. Хроника Литовская и Жмойтская. М., 1975, с. 61)В Евреиновской летописи речь идет о том, чтобы Ольгерд «приклонил» (по-видимому, «преломил») свое копье (ПСРЛ, т. 35. Летописи белорусско-литовские. М., 1980, с. 223–224). За указание на этот текст искренне благодарю И. Г. Добродомова.
(обратно)103
Жуковская Л. П. О редакциях, издании 1800 г. и датировке списка «Слова о полку Игореве». // «Слово о полку Игореве» и его время. М., 1985, с. 68–125.
(обратно)104
Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники…, с. 68–85.
(обратно)105
Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982, с. 29.
(обратно)106
Рыбаков Б. А. «Старый Владимир». // Наука и жизнь, 1986, № 10, с. 103.
(обратно)107
Дылевский Н. «Спала князю умь похоти» в «Слове о полку Игореве». // Людмил Стоянов. Изследвания и статии за творчеството му. София, 1961.
(обратно)108
Манн Р. Свадебные мотивы в «Слове о полку Игореве». // ТОДРЛ, XXXVIII, Л., 1985, с. 514–519.
(обратно)109
ПСРЛ, т. IV, ч. I, вып. 1. Новгородская четвертая летопись. Пг., 1915, с.173.
(обратно)110
Зимин А. А. Когда было написано «Слово»? // ВЛ, 1967, № 3, с. 142–144. 3 Котляр М. Ф. Чи мiг Роман Мстиславич ходити на половцiв ранiше 1187 р.? // УIЖ, 1965, № 1, с. 117–120.
(обратно)111
Напр., известная приписка к псковскому Апостолу начала XIV в., который оказался «забыт» «Энциклопедией Слова о полку Игореве». См. о нем: Щепкина М. В., Протасьева Т. Н., Костюхина Л. М., Голышенко В. С. Описание пергаментных рукописей Государственного Исторического музея. // АЕ за 1964 г. М., 1965, с. 165–166; Зимин А. А. Приписка к псковскому Апостолу 1307 года и «Слово о полку Игореве». // РЛ, 1966, № 2, с. 60–74; Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси. М., 1984, с. 137–138.
(обратно)112
Отрадным свидетельством перемен в этой области явилась работа Л. В. Столяровой, затронувшая и знаменитую приписку к Апостолу 1307 г.: Столярова Л. В. Записи исторического содержания XI–XIV веков на древнерусских пергаменных кодексах. // ДГВЕ 1995. М., 1997, с. 36–37.
(обратно)113
«Филиграни:
1) собака с ошейником и бубенцем, знак соответствует № 533 (1424 г.) у Лихачева, Палеогр[афическое] знач[ение бумажных водяных знаков];
2) рыба, соответствует № 240 у Лихачева, Бумаж[ные] мельн[ицы Московского государства];
3) дракон, знак близок к № 531 (1424 г.) у Лихачева, Палеогр[афическое] значение…];
4) леопард, знак близок к № 569 (1410–1411 гг.) у Лихачева, Палеогр[афическое] знач[ение…];
5) маленькая геральдическая лилия; 6) двойной полукруг со звездой».
(Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии Наук СССР, т. 3, вып. 1. М.-Л., 1959, с. 303. (обратно)114
Лященко А. И. Этюды о «Слове о полку Игореве». // ИОРЯС, XXXI. Л., 1926, с. 147–158.
(обратно)115
Зимин А. А. Ипатьевская летопись и «Слово о полку Игореве». // ВИ, 1968, № 6, с. 43–64.
(обратно)116
Никольский К. Пособие к изучению устава богослужения православной Церкви. СПб., 1900, с. 152–153. При пользовании данньм пособием следует делать поправку на «декретное время», введенное советской властью, которым мы пользуемся до сих пор.
(обратно)117
Святский Д. Астрономические явления в русских летописях с научно-критической точки зрения. Пг., 1915, с. 22–27.
(обратно)118
Много позже они будут названы «язвами смертьными», дав основание таким исследователям, как Б. А. Рыбаков, обвинять Игоря (!) в его смерти (Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. И., 1971, с 182), забывая слова Владимира Мономаха: «дивно ли, оже мужь оумерлъ в полку?» [Л, 254]. Между тем, как выясняется далее, Владимир Глебович еще два года спустя после этих событий был здоров и бодр, ездя «налереди» в полку, и умер, разболевшись во время похода «болезнию тяжкою», от которой скончался в пути, а вовсе не от старых ран [Ип., 652].
(обратно)119
Речь идет только о тексте от «того ж лета здумаша Олговы внуци» до «ноне же въздыханье и плачь распространися». Действительно, рассказ Лаврентьевского списка о походе 1185 г. столь искажает реальность (бахвальство и беспечность князей в ожидании половцев, «выдерживание» их в продолжении трех (!) дней вдали от воды «половецкими стрелками», пока не подоспеют основные силы половцев и пр.) и противоречит собственному окружению, что объяснить его содержание можно только допустив, что написан он был много времени спустя после событий, заместив по каким-то причинам первоначальный текст при сохранении остального «конвоя». Не будь рассказ зафиксирован Лаврентьевским списком, обладающем абсолютной датой своего завершения — 20 марта 1377 г., этот текст можно было бы посчитать памфлетной репликой на поражение московских воевод 2 августа 1377 г. на р. Пьяне.
(обратно)120
«Маия въ 1 день, въ час 10 дни, яко въ звонение вечернее, солнце помьрче, яко на часу и боле, и звезды быша, и пакы просветися, и ради быхом».
[НПЛ, 37–38, 228] (обратно)121
«В лето 6694 месяца маия въ 1 день на память святага пророка Иеремия, в середу на вечерни бысть знаменье въ солнци и морочно бысть велми. яко и звезды видети человекомъ въ очью, яко зелено бяше, и въ солнци оучинися яко месяць, из рогь его яко угль жаровъ исхожаше, страшно бе видети человекомъ знаменье Божие».
[Л., 396)] (обратно)122
ПСРЛ, т. 4. Пг., 1915, ч. I, вып 1, с. 173.
(обратно)123
Прохоров Г. М. Кодикологический анализ Лаврентьевской летописи // ВИД, IV, М.-Л., 1972, с. 83–104.
(обратно)124
Бегунов Ю. К. Об исторической основе «Сказания о Мамаевом побоище». // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.-Л., 1966, с 501–502.
(обратно)125
Впервые коуи/ковуи появляются в Ипатьевском списке под 6659/1151 г и бесследно исчезают после 6693/1185 г.
(обратно)126
Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, с. 186 и 254.
(обратно)127
ПСРЛ, т. 15, вып. 1. Изд. 2-е. Пг., 1922, с. VIII, стб. 60.
(обратно)128
ПСРЛ, т. 18. СПб., 1913, с. 104.
(обратно)129
ДАИ, т. I, с. 3.
(обратно)130
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949, № 17, с. 32–33.
(обратно)131
Там же, № 88, с. 144.
(обратно)132
Там же, № 96, с. 152.
(обратно)133
ДДГ, М.-Л., 1950, № 5, с. 20.
(обратно)134
Там же, № 11, с. 31 и 32.
(обратно)135
Там же: № 13, докончание 1390 г. (с. 38); 27, докончание 1433 г. (с. 71); № 45, докончание 19.6.1447 г. (с. 131, 133,137,139); № 56, докончание 1450–1454 гг. (с. 171, 174); № 58, докончание 1451–1456 гг. (с. 181, 185); № 66, докончание до 12.9.1472 г. (с. 215); № 76, докончание 9.6.1483 г. (с.284, 288); № 84, докончание 19.8.1496 г. (с. 335, 340).
(обратно)136
Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси, т. I. М, 1952, № 105.
(обратно)137
Там же, т. II, М. 1958, № 218.
(обратно)138
Кочин Г. Е. Материалы для терминологического словаря древней России. М.-Л., 1937, с. 226.
(обратно)139
Кучкин В. А. О термине «дети боярские» в Задонщине. // ТОДРЛ, L. СПб, 1997, с. 347–358.
(обратно)140
Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.) М, 1986; они же. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
(обратно)141
Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975, с. 229–230.
(обратно)142
Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908; он же. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.-Л., 1938, с. 69–118.
(обратно)143
Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М.,1972.
(обратно)144
Орлов А. С. О Галицко-Волынском летописании. // ТОДРЛ, V, М.-Л. 1947, с. 15–35.
(обратно)145
Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1959, с. 17–133.
(обратно)146
Котляр Н. Ф. Галицко-Волынская летопись (источники, структура. жанровые и идейные особенности). // ДГВЕ 1995. М. 1997, с. 80–165.
(обратно)147
Ужанков А. Н. «Летописец Даниила Галицкого»: редакции, время создания. // ГДРЛ, сб. 1. М., 1989, с. 247–283; он же. «Летописец Даниила Галицкого»: проблема авторства. // ГДРЛ, сб. 3. М., 1992, с. 149–180; он же. «Летописец Даниила Галицкого»: к вопросу об авторе второй редакции. // ГДРЛ, сб. 6. М. 1994, с. 62–79.
(обратно)148
Генсьорськи А. I. Галицько-волинський литопис (процес складання; редакцii и редактори). Киiв, 1958; он же. Галицько-волинський лiтопис. Киiв, 1961.
(обратно)149
Например, использование прилагательного «оканьныи» по отношению к Святополку (6523–6527 и 6738 гг.), Кончаку (6691–6692, 6788 гг.), а равным образом и по отношению к другим персонажам — Остафию Константиновичу (6770, 6772 гг.), хану Ногаю (6785, 6788, 6791 гг.) и Телебуге (6791 г.); выражения «мы на предлежащее возвратимся» (6576, 6670, 6705, 6791 гг.) с его вариантами «на прежнее» (6682, 6790 гг.), «на прежереченное» (6604 г.) и «на преднее» (6735 г.).
(обратно)150
В этом плане особенно интересно использование сентенции о казнях божиих, заключающей рассказ о последствиях поражения Игоря:
«и се Богь казня ны грехъ ради нашихъ, наведе на ны поганыя, не аки милуя ихъ, но насъ казня и обращая ны к покаянью, да быхом ся востягнули от злых своих делъ»), впервые появляющейся в конце ст. 6600 г. («се же наведе на ны Бог, веля намъ имети покоянье и въстагноутися от греха и зависти, от прочих злых делъ неприязненыхъ»), затем в ст. 6601 г. («се на ны Бог пусти поганыя не милуя их, но насъ казня, да быхом ся востягнули от злых дел»), в рассказе о событиях 1185 г. и, наконец, под 6791 г. («се же наведе на ны Бог грехъ ради нашихъ, казня ны, а быхом ся покаяле злыхъ своих беззаконьныхъ делъ».
(обратно)151
«В та же лета времени миноувшоу. Хронографоу же ноужа есть писати все и вся бывшаа; овогда же писати в передняя, овогда же востоупати в задняя, чьтыи моудрыи разумееть. Число же летомъ зде не писахомъ, в задняя впишемь по антиохиискым събором, алоумъпиадамъ; грьцкыми же численицами, римьскы же висикостомь, якоже Евьсевии и Памьфилово, и инии хронографи списаша от Адама до Хрестоса; вся же лета спишемъ, рощетьше во задьняа».
[Ип., 820] (обратно)152
ПСРЛ. т. 2, СПб., 1843 г., с. 233–273.
(обратно)153
Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950, с. 109–133.
(обратно)154
Генсъорсъкий А. I. Галицько-Волинсысий лiтопис (процес складання; редакцii и редакторi). Киш, 1958, с. 99–100.
(обратно)155
Описание Рукописного отдела БАН, т. 3, вып. 1. М.-Л., 1959, с. 305–306.
(обратно)156
ПСРЛ, т. 2, СПб., 1843, с. 231–232.
(обратно)157
Бегунов Ю. К. Об исторической основе…, с. 489.
(обратно)158
Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982, с. 14 и 18.
(обратно)159
Бегунов Ю. К. Об исторической основе…, с. 501 со ссылкой на В. И. Буганова о том, что «следов разрядных росписей летописи почти не сохранили, исключение, возможно, представляет „уряд“ полков перед Куликовской битвой» (Буганов В. И. Разрядные книги последней четверти XV — начала XVII в. М., 1962, с. 107).
(обратно)160
«Сейчас мы можем утверждать, что и само „Слово…“ в конце XIV или в первой половине XV века под влиянием победы на Дону было соответственным образом переработано и уже в таком виде дошло до нас, будучи маркировано упоминанием Дона как ориентира не поражения, а триумфа и победы. Отсюда — „Дон ти, княже, кличет, зовет князи на победу!“».
(Никитин А. Л. Слово о полку Игореве. Тексты. События. Люди. М., 1998, с. 125)Другим бесспорным свидетельством позднейшей переработки в Ипатьевской летописи рассказа о походе 1185 г. Игоря Святославича может служить замена описания солнечного затмения 1 мая 1185 г., находившегося в общем архетипе Ипатьевской и Лаврентьевской летописей и сохранившегося в списках Лаврентьевском, Радзивиловском и Переславля Суздальского «бы(сть) знаменье вь солнци, и морочно бысть велми, яко и звезды видети человекомъ въочью яко зелено бяше, и в солнци оучинися яко месяць, из рогъ его яко угль жаровъ исхохаше» [Л., 396], которое в Ипатьевском оказалось заменено на «виде солнце, стояще яко месяць» [Ип., 638].
(обратно)161
Еще одной любопытной параллелью к фразеологии «Слова…» и летописи под 6706/1198 г. является синтагма «в Кыеве на Горах» («родися дщи у Ростислава у Рюриковича… и взяста ю к деду и к бабе, и тако воспитана бысть в Кыеве на Горах» [Ип., 708]), отмеченная еще А. И. Лященко (Лященко А. И. Этюды о «Слове о полку Игореве». // ИОРЯС, XXXI. Л., 1926, с. 151).
(обратно)162
См.: Расовский Д. А. О роли Черных Клобуков в истории Древней Руси. // SK, t.I. Praha, 1927, S. 93–109; он же. Половцы. // SK, t. VII. Praha, 1935, S. 245–262; t. VIII, Praha, 1936, S. 161–182; t. IX, Praha, 1937, S. 71–85; t. X, Praha, 1938, S.155–178; t. XI, Praha, 1939, s.95–128; Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М., 1966; Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979; Баскаков Н. А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». М., 1985; Плетнева С. А. Половцы. М., 1990, и др. Впрочем, в литературе было высказано и другое, ничем не подтвержденное мнение, согласно которому «коуи/ковуи» трактовались как «наемные войска русских князей, составлявшиеся из татар (так! — А. Н.) и других кочевников» (примечание П. М. Поляна к статье В. П. Семенова-Тян-Шанского «„Слово о полку Игореве“ глазами географа» // Альманах библиофила, XXI. М., 1986, с. 267).
(обратно)163
Здесь безусловная ошибка: в ст. 6693/1185 г. «коуи» упомянуты четыре раза, но только в одном рассказе о походе и битве новгород-северского князя, более никаких упоминаний о них нет.
(обратно)164
Плетнева С. А. Половцы…, с. 81.
(обратно)165
Менгес К. Г. Восточные элементы…, с. 61–62.
(обратно)166
Баскаков Н. А. Тюркская лексика…, с. 65.
(обратно)167
См. в настоящем сборнике статью: «Датирующие реалии рассказа Ипатьевской летописи о походе 1185 г. на половцев».
(обратно)168
Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950, с. 109–133; Генсьорський А. I. Галицько-Волинський лiтопис (процее складання; редакцii и редакторi). Киiв, 1958, с. 99–100.
(обратно)169
Плетнева С. А. Половцы…, с. 81.
(обратно)170
Баскаков Н. А. Тюркская лексика…, с. 65.
(обратно)171
Плетнева С. А. Половцы…, с. 84.
(обратно)172
Там же, с. 78.
(обратно)173
Там же, с. 82.
(обратно)174
Анчабадзе 3. В. Кипчаки Северного Кавказа по данным грузинских летописей XI–XIV веков. // О происхождении балкарцев и карачаевцев. Материалы научной сессии по проблеме происхождения балкарского и карачаевского народов (22–26 июня 1959 г.). Нальчик, 1960, с. 122.
(обратно)175
Предшествующие публикации: Никитин А. Одиссея Александр Пересвета. // НиР, 1990, № 4–5; он же. Подвиг Александра Пересвета. // ГДРЛ, сб. 3. М., 1992, с. 256–272.
(обратно)176
Бескровный Л. Г. Куликовская битва. // Куликовская битва. М., 1980, с.238.
(обратно)177
«По традиции битва началась единоборством богатырей, в котором погибли и русский, родом из Брянска, Пересвет (погребен в Москве в Симоновом монастыре), и Темир-мирза».
(Пашуто В. Т. «И въскипе земля Руская…». // ИСССР, 1980, № 4, с. 86) (обратно)178
«А князю великому Дмитрию Московьскому бышеть розмирие съ тотары и съ Мамаемъ».
(ПСРЛ, т. 15, вып. 1. Рогожский летописец. Пг., 1922, стб. 106)В. А. Кучкин считает следствием этого несомненный отказ от выплаты дани, затянувшийся вплоть до 1380 г. (Кучкин В. А. Русские княжества и земли перед Куликовской битвой. // Куликовская битва. Сб. статей. М., 1980, с. 96).
(обратно)179
ПСРЛ, т. 15, в. 1. Пг., 1922, стб. 117.
(обратно)180
Греков И. Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. М., 1975, с. 98–99.
(обратно)181
НПЛ, 375; Псковская 3-я летопись. // Псковские летописи, т. 2. М. 1955, с. 105–106. Более подробно см.: Флоря Б. Н. Литва и Русь перед битвой на Куликовом поле. // Куликовская битва. Сб. статей. М., 1980, с. 158–159.
(обратно)182
Псковские летописи, т. 1. М.-Л., 1941, с. 19; т. 2. М., 1955, с. 96.
(обратно)183
ПСРЛ, т. 15, вып. 1, стб. 99.
(обратно)184
ПСРЛ, т.18. Симеоновская летопись. СПб., 1913, с. 129.
(обратно)185
Там же. Как показал Б. Н. Флоря, Переславль Залесский служил местом традиционного «кормления» для выезжавших из Литвы князей (Флоря Б. Н. Литва и Русь…, с. 166).
(обратно)186
ПСРЛ, т. 15, вып. 1, стб. 134–135.
(обратно)187
Там же, стб. 135.
(обратно)188
«В лето 6888. Биша чоломъ всь Новградь господину своему владыце Алексею, чтобы еси, господине, ялъся ехати ко князю великому <…> Князь же прия их в любовь, а к Новугороду кресть целовалъ на всеи старине новгородчкой и на старых грамотах» [НПЛ, 376].
(обратно)189
«Въ лето 6888. Асе писание Софониа Резанца, брянского боярина, на похвалу великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Володимеру Андреевичу. Ведомо ли вамъ, рускымъ государямъ, царь, Мамай пришелъ изъ (За)волжиа, сталъ на реце на Воронеже, а всемъ своимъ улусом не велел хлеба пахать; а ведомо мое таково, что хощеть ити на Русь, и вы бы, государи, послали его пообыскать, туго ли онъ стоить, где его мне поведали».
(ПСРЛ, т. 15. Тверская летопись. СПб., 1863, сто. 440)Справедливо подвергая сомнению «брянское боярство» Софония, возникшее, скорее всего, под влиянием Задонщины, на основании которой Софония полагали ее автором, В. Ф. Ржига первым отождествил его с первенствующим рязанским боярином Софонием Алтыкулачевичем, подтверхдавшим жалованную грамоту князя Олега Ивановича рязанского Ольгову монастырю, датируемую около 1372 г. (Ржига В. Ф. О Софонии Рязанце. // Повести о Куликовской битве. М., 1959, с. 404–405). В последней публикации грамота более осторожно датируется «после 1356 г.» (Грамоты XIV в. Публикация, вступительная ст., комментарий и указатель слов М. М. Пещак. Кшв, 1974, с. 32–33). Возникновение текста «Заонщины» во второй половине XV в., на что указывают имеющиеся в тексте вопиющие анахронизмы, безусловно снимает вопрос об авторстве этого Софония, объясняя устойчивое упоминание его имени в тексте памятника этим самым «поведанием», т. е. посланной от рязанского князя вестью о выступлении Мамая на Русь и его планах, однако не дает никаких оснований считать его автором какого-то недошедшего до нас «поэтического сочинения о Куликовской битве», как это сделала Р. П. Дмитриева, (Дмитриева Р. П. Об авторе «Задонщины». // Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982, с. 368) или «поэтического произведения о Батыевом нашествии», как то предложил считать А. А. Горский (Горский А. А. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». Источниковедческие и историко-культурные проблемы. М., 1992, с. 136).
(обратно)190
Наиболее объективное изложение событий и анализ источников см.: Кучкин В. А. Победа на Куликовом поле. // ВИ, 1980, № 8, с. 3–21.
(обратно)191
Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982, с. 19.
(обратно)192
Пространная летописная повесть «О побоище, иже на Дону…» // Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982, с. 17–20. См. также: Кучкин В. А. Победа на Куликовом поле. // ВИ, 1980, № 8, с. 9–15.
(обратно)193
Карамзин Н. М. История государства Российского, кн. 2, т. 5, СПб., 1842, стб. 41; прим. 82:
«В приходской церкви Рождества Богоматери, разбирая колокольню сей церкви, называемой Старым Симоновым <…>, в царствование Екатерины II нашли древнюю гробницу под камнем, на коем были вырезаны имена Осляби и Пересвета: ныне она стоит в трапезе, а камень закладен в стене».
(обратно)194
Приселков М. Д. Троицкая летопись. М.-Л., 1950.
(обратно)195
ПСРЛ, т. 15, вып. 1. Пг., 1922, стб. 139–141; ПСРЛ, т. 18. СПб., 1913, с. 129–131. в дальнейшем текст используется по изданию: Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982 (далее — Ск.), с. 14–15.
(обратно)196
[Кучкин В. А.] Рассказ о Куликовской битве в составе Рогожского летописца и Симеоновской летописи. Текстологический комментарий. // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998, с. 14–15.
(обратно)197
Салмина М. А. «Летописная повесть» о Куликовской битве «Задонщина». // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.-Л., 1966, с. 370–371.
(обратно)198
ПСРЛ, т. 4. Новгородская четвертая летопись, вып. 1. Пг., 1915, с. 311–320; вып. 2. Л., 1925, с. 321–325. Далее текст приводится по [Ск., 16–24]. См. также: Салмина М. А. Еще раз о датировке «Летописной повести» о Куликовской битве. // ТОДРЛ, XXXII, Л., 1977, с. 3–39.
(обратно)199
Бегунов Ю. К. Об исторической основе «Сказания о Мамаевом побоище». // «Слово о полку Игореве» и памятники…, с. 505–506.
(обратно)200
Тихонравов Н. Древние жития преподобного Сергия Радонежского. М, 1892.
(обратно)201
Прохоров Г. М. Епифаний Премудрый. // СККДР, вып. 2, ч. 1 (А-К). Л., 1988, с. 215.
(обратно)202
Прохоров Г. М. Пахомий Серб. // СККДР, вып. 2, ч. 2 (Л-Я). Л., 1989, с. 171. См. также: Зубов В. П. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб. К вопросу о редакциях «Жития Сергия Радонежского». // ТОДРЛ, IX, М.-Л., 1953, с. 145–158.
(обратно)203
Тихонравов Н. С. Древние жития…, с. 59–60, 136–137.
(обратно)204
Столярова Л. В. Записи исторического содержания XI–XIV веков ни древнерусских пергаменных кодексах. // ДГВЕ. 1995. М., 1997, с. 76); Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка X–XIV веков СПб., 1882, стб. 240–241; Шляков Н. Невыясненное известие из жизни преподобного Сергия Радонежского. // Прибавление к Церковным ведомостям. СПб., 1892, № 41, с. 1411–1414; Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра. М., 1909, с. 91, прим. 3.
(обратно)205
Кучкин В. А. Свидание перед походом на Дон или на Вожу? / НиР, 1987, № 7, с. 50–53; он же. О роли Сергия Радонежского в подготовке Куликовской битвы. // ВНА, вып. 37. Православие в истории России. М., 1988, с. 100–116; он же. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы. // Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990, с. 117–119.
(обратно)206
Никитин А. Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. М.,’ 1998; Горский А. А. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина»…, М., 1992.
(обратно)207
Тексты Задонщины приводятся по изданию: «„Слово о полку Игореве“ и памятники Куликовского цикла…» (далее — [Тексты]), с. 535–556.
(обратно)208
Салмина М. А. К вопросу о датировке «Сказания о Мамаевом побоище». // ТОДРЛ, XXIX. Л., 1974, с. 98–124; Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский… с. 113–114.
(обратно)209
Скрынников Р. Г. Куликовская битва. Проблемы изучения. // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М., 1983, с. 60–61).
(обратно)210
Житие Александра Невского. // Памятники литературы древней Руси. XIII век. М., 1981, с.434. Подробнее о влиянии Жития на «Сказание…» см.: Бегунов Ю. К. Об исторической основе «Сказания о Мамаевом побоище». // «Слово о полку Игореве» и памятники…, с. 477–485.
(обратно)211
Бегунов Ю. К. Об исторической основе…, с. 477–523.
(обратно)212
Хорошев А. С. Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальной республики. М., 1980, с. 95.
(обратно)213
«Стоят люди новгородцы у святои Софеи, а рькучи…» [Тексты, с.536, 541,548,551].
(обратно)214
Шамбинаго С К. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906, с. 175.
(обратно)215
Дмитриев Л. А. История памятников Куликовского цикла. // Сказания и повести о Куликовской битве…, с. 338.
(обратно)216
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стб. 140.
(обратно)217
Егоров В. Л. Пересвет и Ослябя. // ВИ, 1985, 9, с. 182–183.
(обратно)218
Шамбинаго С. К. Повесть о Мамаевом побоище. СПб., 1906, с. 177.
(обратно)219
ПСРЛ, т. 25. Московский летописный свод конца XV века. М.-Л., 1949, с. 228. Стоит заметить, что в этой же статье названо имя одного из «противников» Пересвета — Челубея, сына Мурада I, взявшего штурмом г. Тырново, столицу Второго Болгарского царства в 1393 г.
(обратно)220
ПСРЛ, т. 4. вып. 2. Л., 1925, с. 486.
(обратно)221
Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский…, с. 107–108.
(обратно)222
Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984, с. 273–274.
(обратно)223
«А Кипреан митрополит менил с моим дедом великим князем Васильем Дмитриевичем своими бояры: чернцом Андреем Ослебятем, Дмитрием Афинеевичем, Степаном Фофановичем, Демьяном Райковичем, Михаилом Раем. А дана грамота на Москве месяца марта в 17 день лета 6900 девятьдесять перваго (1483. — А. Н.)».
(АФЗХ, ч. 1, М., 1951, с. 24) (обратно)224
ПСРЛ, т. VIII. Летопись по Воскресенскому списку. СПб., 1859, с.92.
(обратно)225
АФЗХ, ч. 1. М., 1951, с. 179–180.
(обратно)226
Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский…, с. 107.
(обратно)227
«А про воину. Коли яз самъ, кн(я)зь великий, сяду на кон(ь), тог’ды и митрополичимъ бояром и слугамъ, а под митрополичимъ воеводою, а под стягом моимъ, великаго кн(я)зя».
(Древнерусские княжеские уставы X–XV вв. М.,1976, с.178) (обратно)228
Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский…, с. 108.
(обратно)229
Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников XV в. книгописца Ефросина. // ТОДРЛ, XXXV, Л., 1980, с. 106.
(обратно)230
Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский…, с. 113–114.
(обратно)231
АФЗХ, ч.1, с. 4.
(обратно)232
Коркунов М. А. Памятники XV века. Акты из местничества Сабурова с Заболоцким. // ИОРЯС, т. 5, вып. 1–7. СПб., 1856, стб. 365.
(обратно)233
Зимин А. А. И. С. Пересветов и его сочинения. // Сочинения И. Пересветова. М.-Л., 1956, с. 171, 199, 236; он же. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958, с. 302 и сл. Слова эти можно было посчитать историческим свидетельством, если бы не прямое заимствование здесь фразеологии «Сказания о Мамаевом побоище» и наличие только поздних списков сочинений И. С. Пересветова (середина и конец XVII в.).
(обратно)234
Зимин А. А. И. С. Пересветов и его сочинения…, с.10, прим. 3.
(обратно)235
Хорошкевич А. Л. О месте Куликовской битвы. // ИСССР, 1980, № 4, с. 92–106; Кучкин В. А. Победа на Куликовом поле…, с. 16–18.
(обратно)236
Егоров В. Д. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М, 1985. с. 181. Документ опубликован: ИТУАК, вып. 33. Тамбов, 1892, с. 49.
(обратно)237
Добролюбов И. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных, с списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX ст. и библиографическими указаниями, т. 2. Рязань,1885, с. 242.
(обратно)238
Так понимает слова «Задонщины» «Пересвета… на суженое место привели» (список У) и «Пересвета… привели на судное место» (список С) В. Л. Егоров (Егоров В. Л. Пересвет и Ослябя. // ВИ, 1985, № 9, с. 180).
(обратно)239
Бескроеньш Л. Г. Куликовская битва…, с. 228–234.
(обратно)240
ПСРЛ, 15. Тверская летопись. СПб., 1863, сто. 440.
(обратно)241
Бегунов Ю. К. Об исторической основе…, с. 490.
(обратно)242
Бегунов Ю. К. Об исторической основе…, с. 490.
(обратно)243
С. З. Чернов, строя свою работу об историческом ландшафте древнего Радонежа в соответствии с картиной, рисуемой древнейшими редакциями жития Сергия (т. е. будучи убежден, что Сергий (Варфоломей) с братом Стефаном поселились в необитаемом никем месте), всё же признает, что уже в 1350–1360 гг. московско-переславская дорога проходила под стенами Троицкой обители (Чернов С. З. Исторический ландшафт древнего Радонежа. Происхождение и семантика // Памятники культуры. Новые открытия 1988 г М, 1989, с.423). На самом деле, эта дорога существовала значительно раньше, равно как и сходившиеся на «Маковце» дороги от Дмитрова и Калязина, что и обусловило наличие здесь куста поселений (Клементьево, Панино, Кокуево, Княжево?), очень скоро ставших монастырскими слободами внутри городской черты собственно Сергиева Посада. Безусловным подтверждением этого может служить запись в Кормовой книге Троице-Сергиевой лавры XVI в., воспроизведенной А. В. Горским, что «дал князь Андрей [Радонежский] село Княжо [княжее?] под монастырем, да село Офонасьево, да село Клементьево, а на их же земле монастыр стоит» (Горский А. В. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры, составленное по рукописным и печатным источникам. Часть 2. Приложения. М., 1890, с. 47). Эта запись показывает, во-первых, что первоначальным владельцами земли, на которой возникла обитель Сергия, были указанные села, а не основатель обители; во вторых, парадигма «село княжо под монастырем» заставляет думать, что, в отличие от других сел, расположенных на некотором расстоянии от монастыря (Клементьево — через овражистую долинку р. Кончуры), это располагалось в непосредственной к нему близости.
(обратно)244
Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка (Х-XIV в.). СПб., 1882, с. 240–241; Столярова Л. В. Записи…, с. 76.
(обратно)245
Сказание о Мамаевом побоище по Забелинскому списку. // Повести о Куликовской битве. М., 1959, с. 172.
(обратно)246
Там же, с. 16.
(обратно)247
«Печенези же своя боги кликнуша…» (Сказание о Мамаевом побоище по Забелинскому списку. // Повести о Куликовской битве…, с. 195).
(обратно)248
Из сочинения Ибн Фадлаллаха Эломари. // Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды, т. 1. СПб., 1884, с. 235
(обратно)249
Никитин А. Л. «Лебеди» Великой Степи. // НиР, 1988, № 9, с. 44–46.
(обратно)250
Житие Александра Невского. // ПЛДР, XIII век. М., 1981, с. 428–430.
(обратно)251
Идея родства с небесными заступниками, князьями Борисом и Глебом, проходит красной нитью и через «Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича» (ПЛДР, XIV — середина XV века. М., 1981, с. 208–228).
(обратно)252
Бегунов Ю. К. Об исторической основе «Сказания о Мамаевом побоище». // «Слово о полку Игореве» и памятники…, с. 499–502.
(обратно)253
«И яко близъ съ собою войска схождахуся, се выйде татаринъ еданъ с полку татарского именемъ Челубей, пред всеми являлся мужествомъ, яко древний онъ Голиад» ([Армашенко И.] Синопсис. Киев, 1680, с. 160; о подлинном авторе «Синопсиса» см.: Чистякова Е. В. Синопсис. // ВИ, 1974, № 1, с. 215–219).
(обратно)254
Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский…, с. 113–114.
(обратно)255
Первая публикация: Никитин А. Л. Что написал «Софонии Рязанец»? // ГДРЛ. сб. 10. М., 1999.
(обратно)256
Тексты опубликованы: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова…». М.-Л., 1966, с. 535–556 (далее — Тексты). Принятые условные обозначения списков: У — Ундольского, И-1 — Музейский № 2060, И-2 — Музейский № 3045, Ж — БАН, 1.4.1, К-Б — Кирилле-Белозерский, С — Синодальный № 790.
(обратно)257
Все списки Основной редакции: 1) ЛОИИ, собр. Лихачева, 13, кон. XVII в.; 2) ГПБ, F.IV.228, XVIII в.; ГПБ, Q.XV.70, XIX в.; БАН, 16.17.22, XVIII в.; БАН, 16.13.2, кон. XVII в. (Дмитриев Л. А. Описание рукописных списков Сказания о Мамаевом побоище. // Повести о Куликовской битве. М., 1959, с. 481–509). Одно из подобных заглавий воспроизведено полууставом XV в. на л. 180 (последнем) рукописи «Пандекты Никона Черногорца»: «Сее слово съставлено именемь Софониа резанца о великом кнези Дмитрии Иоановиче и брата его Василиа Ондреевича и о всех князех русских како билисе беаше за Доном за свою ве[ли]кую обиду с поганым царем Мамаем» (Щепкина М. В., Протасьева Т. Н., Костюхина Л. М., Голышенко В. С. Описание пергаментных рукописей Государственного Исторического музея. // АЕ за 1964 г. М., 1965, с. 160). См. также: Дмитриев Л. А. Задонщина. // СККДР, вып. 2, ч. 1. Л., 1988, с. 345–353.
(обратно)258
ПСРЛ, т. 15. Тверская летопись. СПб., 1863, стб. 440.
(обратно)259
Там же, прим. 7.
(обратно)260
«Кн(я)зь великий Дмитреи Ивановичь с своим братом с кн(я)зем* Владимером Андреевичем и своими воеводами были на пиру у Микулы Васильевича. Ведомо намъ, брате, у быстрого Дону ц(а)рь Мамай пришел на Рускую землю, а идет к намъ в Залескую землю».
(«Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла…, с. 535);«Князь Дмитреи Иванович своимъ братомъ Владимеромъ Ондреевичомъ и своими воеводами были на пиру у Микулы Васильевича. Ведомо намъ, брате милый, что у быстрого Дону д(а)рь Мамай пришел на Рускую землю».
(Там же, с. 547) (обратно)261
ПСРЛ, т. 15, с. VI.
(обратно)262
Дмитриев Л. А. Описание рукописных списков…, с. 499.
(обратно)263
Шахматов А. А. Отзыв о сочинении С. К. Шамбинаго «Повести о Мамаевом побоище». // Сб ОРЯС, т. 81, 17. СПб., 1910, с. 183. Отличную от остальных исследователей позицию в этом вопросе занимает А. А. Горский, полагая Софония автором недошедшего до нас литературного произведения о времени Батыева нашествия за отсутствием «данных, позволяющих утверждать, что Софоний не мог быть автором произведения о более ранней эпохе, чем эпоха Куликовской битвы» (Горский А. А. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». М., 1992, с. 125), что, как известно, не может служить сколько-нибудь весомым аргументом, как и последующие его общие соображения (там же, с. 126–136).
(обратно)264
Списки «Задонщины» К-Б, С, У; «Сказание о Мамаевом побоище» (основная редакция, печатный вариант); приписка на л. 180 рукописи «Пандекты Никона Черногорца» (Щепкина М. В., Протасьева Т. Н., Костюхина Л. М., Голышенко B. C. Описание пергаментных…, с. 160).
(обратно)265
Вряд ли можно признать удачными попытки некоторых современных исследователей определить социальный статус Софония как духовного лица («старец», «иерей»), апеллируя к авторитету монаха Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина, чьей рукой был создан так называемый Кирилло-Белозерский список «Задонщины» (К-Б) в самом конце 70-х гг. XV в. (Лурье Я. С. Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. // ТОДРЛ, XVII, М.-Л., 1961, с. 130–168), древнейший, но, в то же время, наименее исправный (Дмитриева Р. П. Приемы редакторской правки Ефросина. // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла… с. 286–291).
(обратно)266
ПСРЛ, т. 15, с. 440.
(обратно)267
Сказание о Мамаевом побоище (основная редакция, печатный вариант). // Сказания и повести…, с. 103.
(обратно)268
Седельников А. Д. Где была написана «Задонщина»? // Slavia, IX. Praha, 1930, S. 535–536; Ржига В. Ф. О Софонии рязанце. // Повести о Куликовской битве…, с. 401–405.
(обратно)269
Жалованная грамота Олега рязанского. Древнейший документ Московского архива Министерства юстиции. Снимок и текст со статьями Д. В. Цветаева и А. И. Соболевского. М., 1913; Грамота XIV ст. Kиiв, 1974, с. 33.
(обратно)270
См. статьи Н. С. Демковой, Л. А. Дмитриева, Р. П. Дмитриевой, М. А. Салминой, О. В. Творогова в кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла…; Горский А. А. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». Источниковедческие и историко-кулътурные проблемы. М., 1992, и др.
(обратно)271
Дмитриева Р. П. Об авторе «Задонщины». // Сказания и повести.-с. 366 и 368.
(обратно)272
Никитин А. Точка зрения. М., 1985, с. 155.
(обратно)273
«И учини собе старий злодей Мамай съветъ нечестивый с поганою Литвою и съ душегубивым Олгом, стати им у реке у Оке на Семень день на благовернаго князя».
(Пространная летописная повесть. // Сказания и повести…, с.16) (обратно)274
«Великому же князю бывшу на месте, нарицаемом Березуе, яко за двадесять и три поприща до Дону».
(Сказание о Мамаевом побоище. Основная редакция. // Сказания и повести…, с. 37; Киприановская редакция (там же, с. 59); Распространенная редакция (там же, с. 92)). (обратно)275
Никитин А. Одиссея Александра Пересвета. // НиР, 1990, № 5, с. 34.
(обратно)276
Выписка в Разряде о построении новых городов и [засечной] черты в ИТУАК, вып. 33. Тамбов, 1892, с. 49 (Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды. М.,1985, с. 181).
(обратно)277
Никитин А. Л. Подвиг Александра Пересвета. // ГДРЛ, сб. 3. М., 1992, с. 267–268. См. также: Добролюбов И. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных, с списками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX ст. и библиографическими указаниями, т. 2. Рязань, 1885, с. 242.
(обратно)278
См., напр., работы Л. А. Бескровного, В. А. Кучкина, И. Б. Грекова, Б. А. Рыбакова, Р. Г. Скрынникова и других историков, посвященные последнему юбилею Куликовской битвы.
(обратно)279
Сказания и повести…, с.37, 59, 92.
(обратно)280
«Приспе же въ 5 день месяца септевриа <…> приехаша два от стражь его <…> и приведоша языкъ нарочита <…> Тый языкъ поведает: „Уже царь на Кузмине гати стоить, нъ не спешить, ожыдаеть Олгорда Литовскаго и Олга резаньскаго, а твоего царь събрания не весть, ни сретениа твоего не чаеть, по предписанным ему книгам Олговым, и по трех днех имать быти на Дону“».
(Там же, с. 37) (обратно)281
ПСРЛ, т. 15, с. 440.
(обратно)282
Бегунов Ю. К. Об исторической основе «Сказания о Мамаевом побоище». // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла, с. 489, прим. 71.
(обратно)283
См. по этому поводу [Класс Б. М.] Сказание о Мамаевом побоище (вариант Ундольского). Примечания. // Памятники Куликовского цикла. СПб, 1998, с. 214.
(обратно)284
«Всё сказанное выше заставляет усомниться в, казалось бы, общеприятом утверждении, что автором „Задонщины“ был Софоний рязанец, о котором, кстати говоря, мы ничего не знаем. Возможно, Софоний был либо предшественником, либо современником автора „Задонщины“, и последний назвал его в своем произведении по аналогии с упоминанием автором „Слова о полку Игореве“ своего предшественника — Бояна».
(Дмитриев Л. А. История памятников Куликовского цикла. // Сказания и повести…, с. 311) (обратно)285
Дмитриева Р. П. Об авторе «Задонщины». // Сказания и повести…, с. 360–368.
(обратно)286
Задонщина. // СККДР, вып. 2, ч. 1. Л., 1988, с. 345–353.
(обратно)287
ПСРЛ, т. 18. Симеоновская летопись. СПб., 1913, с. 110–111.
(обратно)288
Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969, с. 215 и 218.
(обратно)289
Дмитриев Л. А. Задонщина. // СККДР, вып. 2, ч. 1. Л., 1988, с. 345–350. Предположение А. А. Горского, что «Софоний рязанец» «был в эпоху Куликовской битвы лицом, которому приписывалось авторство произведения о Батыевом нашествии» (Горский А. А. «Слово о полку Игореве»…, с. 136), а в XV в. «было приписано авторство „Задонщины“ (там же, с. 125–126), основано, по-видимому, на недоразумении».
(обратно)290
«Тот боярин воскладаша горазная своя персты на живыя струны, пояша руским кн(я)зем славу <…> Аз же помяну резанца Софония» («Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла, с. 536).
(обратно)291
Никитин А. Л. Наследие Бояна в «Слове о полку Игореве». Сон Святослава // «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI–XVII веков. М., 1978, с. 112–133. См. также: Никитин А. Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. М., 1998.
(обратно)292
Молдован A. M. «Слово о законе и благодати» Илариона. Киев, 1984, с.91, 122, 174.
(обратно)293
Первая публикация: Никитин А. Кто написал «Троицу Рублева»? // НиР, 1989, № 8–9.
(обратно)294
Гурьянов В. П. Две местные иконы св. Троицы в Троицком соборе Свято-Троицко-Сергиевой лавры и их реставрация. М., 1906 г.
(обратно)295
Подробнее об истории атрибуции «рублевских» икон см.: Анисимов А. И. Научная реставрация и «Рублевский вопрос». // Анисимов А. И. О древнерусском искусстве. М., 1983, с. 105–134.
(обратно)296
См.: Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986.
(обратно)297
Стоглав. Изд. Д. Е. Кожанчикова. СПб., 1863, с. 128.
(обратно)298
Анисимов А. И. Научная реставрация…, с. 116.
(обратно)299
Буслаев Ф. И. Древнерусская народная литература и искусство. // Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности, т. II. СПб., 1861, с. 379.
(обратно)300
О богословском аспекте изображений Троицы см.: Клибанов А. И. К характеристике мировоззрения Андрея Рублева. // Андрей Рублев и его эпоха. Сб. статей. М., 1971, с. 62–102; Салтыков А. А. Иконография «Троицы» Андрея Рублева. // Древнерусское искусство XIV–XV веков. М., 1984, с. 77–85.
(обратно)301
С Джотто и Дуччо сравнивал «Троицу» Д. В. Айналов (Айналов Д. В. История русской живописи от XVI по XIX столетие. СПб., 1913, с. 17), Н. П. Сычев и позднее Н. Н. Пунин (Пунин Н. Андрей Рублев. Пп, 1916); с Пьеро делла Франческо — В. Н. Лазарев (Лазарев В. Н. Русская средневековая живопись. М., 1970, с. 299).
(обратно)302
Сычев Н. Икона св. Троицы в Троице-Сергаевой лавре. ЗОРСА РАО, т. Х, Пг., 1915, с. 60–61.
(обратно)303
Там же, с. 70.
(обратно)304
Пуришев Б. И. Андрей Рублев и общие вопросы развития древнерусского исскуства XIV–XVII веков. // Михайловский Б. В., Пуришев Б. И. Очерки истории древнерусской монументальной живописи. М.-Л., 1941, с. 16.
(обратно)305
Библиографию важнейших работ об Андрее Рублеве и его «Троице» см.: «Троица» Андрея Рублева. Антология. Сост. Г. И. Вздорнов. М, 1981 (далее — Антология), с. 127–130. Там же отзывы о «Троице» ведущих отечественных искусствоведов и весь изобразительный ряд аналогов.
(обратно)306
Данилова И. Е. Андрей Рублев в русской и зарубежной искусствоведческой литературе. // Андрей Рублев и его эпоха. Сб. статей. М., 1971, с. 47–48.
(обратно)307
Лазарев В. Н. «Троица» Андрея Рублева. // Лазарев В. Н. Русская средневековая живопись. М., 1970, с. 299.
(обратно)308
Антология…, рис. 44.
(обратно)309
Плугин В. А. О происхождении «Троицы» Рублева. // ИСССР, 1987, № 2, с. 74.
(обратно)310
Лазарев В. Н. О методе работы в Рублевской мастерской. // Лазарев В. Н. Византийское и древнерусское искусство. М., 1978, с. 208.
(обратно)311
Лазарев В. Н. О методе работы…, с. 299.
(обратно)312
Плугин В. А Тема «Троицы» в творчестве Андрея Рублева и ее отражение в Древнерусском искусстве XV–XVII вв. // Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. (Материалы юбилейной научной конференции.) М., 1983, с. 167.
(обратно)313
Антология…, рис. 31.
(обратно)314
[Горский А. В.] Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры. М., 1857, с. 10.
(обратно)315
Плугин В. А О происхождении…, с. 67.
(обратно)316
«Мы убеждены, что „Троица“ не могла предназначаться для данного декоративного комплекса (вне зависимости от датировки и атрибуции последнего): стиль, колорит, композиция, образное решение, размеры и пропорции доски свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что она была написана для иконостаса с поясным деисусным чином типа и размеров Звенигородского».
(Плугин В. А. О происхождении…, с. 65) (обратно)317
Антонова В. И. О первоначальном месте Троицы Андрея Рублева. // Государственная Третьяковская галерея. Материалы и исследования, вып. 1. М., 1956, с. 21–43.
(обратно)318
Плугин В. А О происхождении…, с. 65–66.
(обратно)319
Подобедова О. И. Московская школа живописи при Иване ГУ. М., 1972.
(обратно)320
«Жалобница благовещанскаго попа Селивестра». // Московские соборы на еретиков XVI века в царствование Ивана Васильевича Грознаго. М., 1847, с. 19–21.
(обратно)321
Там же, с. 72.
(обратно)322
Попов Г. В. Художественная жизнь Дмитрова в XV–XVI вв. М., 197 с. 116.
(обратно)323
Николаева Т. Е. Древнерусская живопись Загорского музея. М., 1977. с. 92–93, рис. 127.
(обратно)324
Вздорнов Г. И. Новооткрытая икона Троицы из Троице-Сергиевой лавры и Троица Андрея Рублева. // Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV–XVI вв. М., 1970, с.131.
(обратно)325
Там же, с. 135.
(обратно)326
Плугин Б. А. О происхождении…, с. 75–76.
(обратно)327
Прибытков B. C. Андрей Рублев. М., 1960; Сергеев В. Н. Рублев. Изд. 3-е, М., 1990.
(обратно)328
Кузьмина В. Д. Древнерусские письменные источники об Андрее Рублеве // Андрей Рублев и его эпоха. Сб. статей. М., 1971, с. 103–124.
(обратно)329
Приселков М. Д. Троицкая летопись. М.-Л., 1950, с. 459.
(обратно)330
«М. Д. Приселков внес известие 1405 г. в реконструированную им Троицкую летопись начала XV в., ссылаясь на Карамзина, но сделал явную ошибку, так как Карамзин не пишет, откуда он взял это известие (т. е. оно могло быть поздним. — А. К.). Во всяком случае, в Троицкой летописи начала XV в. нельзя было писать, что расписывали не ту церковь, которая стоит „ныне“. Ведь новый собор Благовещения был построен после 1484 г. Действительно, в Московском своде конца XV в. известие о росписи церкви Благовещения дано короче: „Toe же весны начата подписывати церковь Благовещенье на великого князя дворе первую, не ту, иже ныне стоит, да того лета и кончаша“».
(Тихомиров М. Н. Андрей Рублев и его эпоха. // Тихомиров М. Н. Русская культура X–XVIII веков. М., 1968, с. 210)В XV в. Благовещенский собор перестраивался дважды — в 1416 и в 1484 г.
(обратно)331
Приселков М. Д. Троицкая летопись…, с. 466.
(обратно)332
В этом плане поучительно читать, как М. Н. Тихомиров, упрекавший искусствоведов в том, что «вырванные из источников, мало проверенные мало объясненные известия о жизни и творчестве Рублева плохо связывают основные факты в его биографии», сам под конец начинает создавать «виртуальную биографию» Андрея Рублева (Тихомиров М. Н. Андрей Рублев…, с. 208, 212–217).
(обратно)333
«Жалобница благовещанскаго попа Селивестра»…, с. 18–21.
(обратно)334
«Житие Сергия», фототипическое издание 1853 г. л. 288–290. (Цит. по: Кузьмина В. Д. Древнерусские письменные…, с. 111).
(обратно)335
Там же, рис. 2, 4,7.
(обратно)336
Плугин В. А. О происхождении…, с. 65–66.
(обратно)337
Послания Иосифа Волоцкого. М.-Л., 1959, с. 212.
(обратно)338
Жмакин В. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1861. Приложение, с. 57.
(обратно)339
Кузьмина В. Д. Древнерусские письменные…, с. 118.
(обратно)340
Там же, с. 119.
(обратно)341
«Жалобница благовещанскаго попа Селивестра»…, с. 19.
(обратно)342
Там же, с. 121.
(обратно)343
Приселков М. Д. Троицкая летопись…, с. 445.
(обратно)344
Там же, с. 466.
(обратно)345
Псковские летописи, вып. 1. М.-Л., 1941, с. 79; вып. 2, М., 1955, с. 63, 69, 198, 208.
(обратно)346
ПСРЛ, т. 25. Московский летописный свод конца XV века. М.-Л., 1949, с. 247.
(обратно)347
Вздорнов Г. И. От составителя. // Антология…, с. 7.
(обратно)348
Янин В. Л. Некрополь Новгородского Софийского собора. М., 1988, с. 72.
(обратно)349
«Как бы ни решался этот вопрос (об авторе. — А. Н.), — резюмирует Н. Н. Пунин, — признание кисти Рублева в иконе св. Троицы не может иметь большого значения: это скорее этическое желание, чем эстетическое; наше благоговение и наша любовь побуждают нас искать связей между этим великим именем и этим великим памятником, течение же истории не изменится от той или другой уверенности нашей в характере данного явления. Не все ли равно, кто написал икону св. Троицы? Не всё ли равно, что написал Андрей Рублев? Важно лишь то, что существовал Рублев и что икона св. Троицы была написана» (Цит. по: Анисимов А. И. Научная реставрация…, с. 126–127).
(обратно)350
Щеншкова Л. А. О происхождении иконостаса Благовещенского собора. // Советское искусствознание, 1981, вып. 2 (15). М., 1982, с. 81–129; она же. К вопросу о происхождении иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. // Куликовская битва в истории…, с. 183–193.
(обратно)351
Анисимов А. И. Раскрытие памятников древнерусской живописи. // Анисимов А. И. О древнерусском искусстве…, с. 89 и 398.
(обратно)352
Вздорнов Г. И. Новооткрытая икона «Троицы»…, с. 138.
(обратно)353
В ГДРЛ (сб. 10, М., 2000, с. 231–241) данный текст опубликован с редакторскими купюрами.
(обратно)354
Дмитриев Л. А. «Задонщина». // СККДР, вып. 2, ч. 1. Л., 1988. с. 346 Дмитриева Р. П. Взаимоотношение списков «Задонщины» и текст «Слова о полку Игореве». // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.-Л., 1966, с. 199–263, стемма на с. 262. В последующем все ссылки на списки «Задонщины» даются по этому изданию [Тексты, с….], испольууя принятые условные их обозначения.
(обратно)355
Григорян В. М. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». // Куликовская битва в литературе и искусстве. М., 1980, с. 72–91; Дмитриева Р. П. Об авторе «Задонщины» // Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982, с. 360–36868, и др.
(обратно)356
Шахматов А. А. Отзыв о сочинении С. К. Шамбинаго: «Повести о Мамаевом побоище» СПб., 1906. // Отчет о двенадцатом присуждении премий митрополита Макария. СПб., 1910, с. 180–181.
(обратно)357
Кучкин В. А. К датировке Задонщины. // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985, с. 113–121.
(обратно)358
Тихомиров М. Н. Древняя Москва (XII–XV вв.). М., 1947, с. 202.
(обратно)359
Моисеева Г. Н. К вопросу о датировке Задонщины (наблюдения над пражским списком Сказания о Мамаевом побоище). // ТОДРЛ, т. XXXIV, Л., 1979, с. 220–239.
(обратно)360
Тихомиров М. Н. Древняя Москва…, с. 202.
(обратно)361
Моисеева Т. Н. К вопросу…, с. 220–221.
(обратно)362
Кучкин Б. А. К датировке…, с. 118.
(обратно)363
Кучкин В. А. О термине «дети боярские» в Задонщине. // ТОДРЛ, L. СПб., 1997, с. 347–358.
(обратно)364
Охманьский Е. Гедиминовичи — «правнуки Сколомендовы». // Польша и Русь. М., 1974, с. 359–362.
(обратно)365
Кучкин В. А. О термине…, с. 349.
(обратно)366
Подобный подход к анализу литературного произведения на историческую тему, т. е. виртуальной реальности, с позиций выявления обязательных информаторов-очевидцев (в данном случае, Домента-Гедимина и Андрея Ольгердовича) напоминает заверения В. Чивилихина, что «Слово о полку Игореве» было написано князем Игорем, ибо «кто лучше него мог знать об обстоятельствах этого похода?». В таком случае, история Анны Карениной была рассказана Л. Н. Толстому самой Анной Карениной или же Карениным, Данте действительно побывал в аду, в чистилище и видел рай, и т. д. Не пора ли от этого отвыкнуть, научившись разграничивать анализ исторического документа и литературного творчества?
(обратно)367
Седельников А. Д. Где была написана «Задонщина»? // Slavia, IX, Praha, 1930, S. 524–536.
(обратно)368
Жуковская Л. Л. О редакциях, издании 1800 г. и датировке списка «Слова о полку Игореве». // «Слово о полку Игореве» и его время. М., 1985, с. 68–125.
(обратно)369
Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников XV в. книгописца Ефросина. // ТОДРЛ, XXXV, Л., 1980, с. 106 и 120.
(обратно)370
Дмитриева Р. П. Приемы редакторской правки книгописца Ефросина (к вопросу об индивидуальных чертах Кирилло-Белозерского списка «Задонщины»). // «Слово о полку Игореве» и памятники…, с. 281–291.
(обратно)371
«Слово о погибели Рускыя земли и по смерти великого князя Ярослава» // ПЛДР, XIII век. М., 1981, с. 130.
(обратно)372
См., напр.: [Дмитриев Л. А., Лихачева О. П.] Историко-литературный комментарий. // Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982, с. 385. Предположить в данном случае заимствование перечня народов не из «Слова о погибели…», а из летописной повести 6619/1111 г. («възвратишася русьтии князи въ свояси съ славою великою къ своимъ людемъ и ко всимъ транамъ далнимъ, рекоуще къ грекомъ и оугромъ, и ляхомъ, и чехомъ, дондеже и до Рима проиде на славу Богу» [Ип., 273]) не представляется возможным из-за наличии в перечне списка К-Б «Устюга» и «железных ворот». Наоборот такая параллель «Повести 1111 г.» при ее безусловной интерполированности в текст ПВЛ, ставит вопрос о зависимости ее окончательной редакции от «Слова о погибели…» и о времени такой интерполяции не ранее середины XIII в. (см. по этому поводу в настоящем сборнике: «Датирующие реалии рассказа Ипатьевской летописи о походе 1185 г. на половцев»).
(обратно)373
«Поиде же весть по всем градом ко Орначу, к Риму и Кафе и к Железным вратом и ко Царюграду».
(Сказания и повести о Куликовской битве Л., 1982, с. 126) (обратно)374
Дмитриева Р. П. Приемы редакторской правки…, с. 291.
(обратно)375
Там же, с. 286.
(обратно)376
Дмитриева Р. П. Взаимоотношение списков…, с. 262–263.
(обратно)377
Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Iгоревiм» i «Задонщина». // Радянське лiтературознавство. Киiв, 1947, № 7–8, с. 135–177.
(обратно)378
Горский А. А. «Cлово о полку Игореве» и «Задонщина». Источниковедческие и историко-культурные проблемы. М., 1992, с. 101 и 119.
(обратно)379
Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников…, с. 106.
(обратно)380
Сказания и повести…, с. 24.
(обратно)381
Кучкин В. А. О термине…, с. 348.
(обратно)382
Лурье Я. С. Две истории Руси 15 века. СПб., 1994, с. 27.
(обратно)383
Кусков В. В. Ретроспективная историческая аналогия в произведениях Куликовского цикла. // Куликовская битва в литературе и искусстве…, с. 39–51.
(обратно)384
Никитин А. Одиссея Александра Пересвета. // НиР, 1990, № 5, с. 36 См. также очерк «Александр Пересвет и Сергий Радонежский» в настоящем сборнике.
(обратно)385
Сказания и повести…, с. 406.
(обратно)386
Сказания и повести…, с. 64.
(обратно)387
«И яко близъ съ собою войска схождахуся, се вьшде татаринъ единъ с полку татарского именемъ Челубей, пред всеми являяся мужествомъ, яко древний онъ Голиад» ([Армашенко И.] Синопсис. Киев, 1680, с.160; о подлинном авторе «Синопсиса» см.: Чистякова Е. В. Синопсис. // ВИ, 1974. № 1, с. 215–219). Именно из «Синопсиса» Челубей пришел в лубочную литературу XVIII–XIX вв., а затем в произведения художественной литературы и исскуства, полностью вытеснив своих предшественников, хотя первое его упоминание в такой форме отмечено еще Симеоновской летописью под 1393 г.: «Того же лета Челабей срачиньскыи взя болгарскыи градъ Терновъ, царя ихъ и патриарха полони, и веру ихъ преврати» (ПСРЛ, т. 18. Симеоновская летопись. СПб., 1913, с. 143).
(обратно)388
Кучкин В. А. К датировке Задонщины…, с. 114.
(обратно)389
Кучкин В. А. О термине…, с. 351.
(обратно)390
Последний, вслед за С. Н. Азбелевым, склонен видеть здесь отражение реального исторического факта ([Кучкин В. А.] Пространная редакция Задонщины по Синодальному списку. Примечания. // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998, с. 106).
(обратно)391
Среди архиепископов Великого Новгорода было только два с этим именем — Евфимий I Брадатый, занимавший кафедру в 1424–1428 гг. и сменивший его Евфимий II Вяжищский, находившийся на кафедре с 1428 по 1434 г. Естественно, ни один из них не мог отправлять «новгородское ополчение» на Куликово поле. С 1359 по 1388 г. кафедру занимал Алексий (Хорошев А. С. Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальней республики. М., 1980, с. 89 и 95).
(обратно)392
Дмитриев Л. А. Сказание о Мамаевом побоище. // СККДР, вып. 2, ч.2. Л., 1989, с. 375.
(обратно)393
Дмитриев Л. А. Вставки из «Задонщины» в «Сказание о Мамаевом побоище» как показатели по истории текста этих произведений. // «Слово о полку Игореве» и памятники…, с. 385–439.
(обратно)394
Дмитриева Р. П. Взаимоотношение списков «Задонщины» и текст «Слова о Полку Игореве». // «Слово о полку Игореве» и памятники…, с. 259–260.
(обратно)395
Печатается с дополнениями по тексту: Никитин А. Л. Соломония Сабурова и второй брак Василия III. // Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван Грозный? М., 1998, с. 77–118.
(обратно)396
Подробнее об этом см.: Никитин А. «Невидимка» XVI в.? // Знание — сила 1971, № 6–7; он же. Государев обиход. // Никитин А. Точка зрения. М., 1985, с. 281–413.
(обратно)397
Франческо да Колло. Доношение о Московии. М., 1996, с. 66.
(обратно)398
ПСРЛ, т. 8. Воскресенская летопись. СПб., 1859, с. 245; ПСРЛ, т. 26. Вологодско-Пермская летопись. М.-Л., 1959, с. 297.
(обратно)399
Споры по этому поводу отражает так называемая «Выпись из государевы грамоты, что прислана к великому князю Василию Ивановичу, о сочетании втораго брака и о разлучении перваго брака чадородия ради, творение Паисеино, старца серапонского монастыря.» // ЧОИДР, М., 1847, № О «выписи» и ее датировке см.: Тихомиров М. Н. К вопросу о выписи о втором браке царя Василия III. // Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969, с. 78–82; Шмидт С. О. О времени составления «Выписи» о втором браке Василия III. // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967, с. 110–122.
(обратно)400
Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.-Л.,1960; она же. Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть XVI в. Л.,1970.
(обратно)401
«В лето 7034, ноября в 28, великая княиня Соломонея пострижеся въ черницы, болезни ради; и отпусти ея князь велики въ девичь монастырь въ Суздаль. Тое же зимы, генваря в 24-е, князь велики Василеи женися вторымъ бракомъ, поня себе дщерь князя Василья Глинского княжну Елену; венчал Данила митрополит».
(ПСРЛ, т. 6. Софийская 2-я летопись. СПб., 1853, с. 264) (обратно)402
«В лето 7034, ноября, князь велики Василеи Ивановичь постриже великую княгиню Соломонию, по совету ея, тягости ради ии болезни и бездетства; а жил с нею 20 леть, а детей не было. Тое же зимы, генваря 21, князь велики Василеи Ивановичь женился второе, выбрал себе невесту княжну Елену, дщерь князя Василиа Лвовича Глинского; а венчал ихъ Данилъ митрополит».
(ПСРЛ, т. 8. Воскресенская летопись. 1859, с. 271) (обратно)403
«В лето 7034. Ноября, князь великий Василеи Ивановичь поетриже вескую княгиню Соломонию, по совету ея, тягости ради и болезни бездетства; жилъ съ нею 20 лет, а детей не было. Тое же зимы, генваря 21, князь великий Василей Иванович женился второе, а выбрал себе невесту княжну Елену, дщерь князя Василья Лговича Глиньского; а венчалъ ихъ Данило митрополит».
(ПСРЛ, т. 13. Патриаршая или Никоновская летопись. СПб., 1904, с. 45) (обратно)404
«Лета 7034. Той же зимы государь князь велики Василеи Ивановичь всея Руси великую княгиню Соломанию постриг в черници и в Суздаль сослал, а женився жилъ с нею 20 леть, а детей не было оть ней. После Крещения Христова, в велики мясоедъ, понялъ князь велики Василеи Ивановичь всеа Руси другую жену, княжь Васильеву дочерь Елену Темного Глинского».
(ПСРЛ, т. 4, ч. 1. Новгородская 4-я летопись, вып. 3, Л., 1929, с. 542) (обратно)405
«В лето 7034. Декабря князь великий Василеи Иванович велел постричи в черницы свою великую княгиню Соломаниду и послал в Суздаль в манастырь к Покрову пречистые, в девичь монастырь, а постриг ее на Москве у Рожества пречистые за пушечными избами в девиче манастыре никольскои игумен старого Давыд. Тое же зимы, февраля, в неделю о блуднем [сыне], князь великий Василеи Иванович всеа Русии женился, взял за собя княжну Елену, дочерь княжь Васильеву Глинского Темного».
(ПСРЛ, т 26. Вологодско-Пермская летопись. М.-Л., 1959, с. 313) (обратно)406
«В лето 7031 (так! — А. Н.). Князь великии Василеи Иоанович постриже княгиню свою Соломонею, а Елену взят за собя; а все то за наше согрешение, яко же написалъ апостолъ: пустя жену свою, а оженится иною, прелюбы творит».
(Псковские летописи, вып. 2. М., 1955, с. 227) (обратно)407
О родословии Анны Глинской см: Тихомиров М. Н. Иван Грозный и Сербия. // Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969, с. 83–93.
(обратно)408
Псковские летописи, вып. 1. М.-Л., 1941, с. 102–103. Ср.:
«Ивъзревши на небо виде гнездо птиче на дафинии и сотвори рыдание в себе глаголюще: люте мне, кому уподоблюся аз <…> и не уподобихся аз птицам небесным, яко птицы небесный плодовиты перед тобою, господи; люте мне, кому уподобихся аз, ни зверем земным, яко зверие земнии плодовиты пред тобою, Господи; и не уподобихся аз ни водам, яко воды сия пред тобою, господи, плодовиты суть, волны бо утешающа и глумящася тя благословят, господи; увы мне, кому уподобихся аз, не уподобихся аз земли сей, яко и земля приносит плоды своя на всякое время и тя благословять, господи»
(Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания. СПб., 1890, с. 137. Цит. по: Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30–50-х годов XVI века. М.-Л., 1958, с. 22).Ср. также:
«Анна <…> увидела лавр, и села под ним и начала молиться Господу <…> И, подняв глаза к нему, увидела на дереве гнездо воробья и стала плакать, говоря: <…> Горе мне, кому я подобна? Не подобна я птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у тебя, Господи. Не подобна я и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у тебя, Господи. Не подобна я и водам этим, ибо и воды приносят плоды у тебя. Господи. Горе мне, кому подобна я? Не подобна я и земле, ибо земля приносит по поре плоды и благословляет тебя, Господи.»
(История Иакова о рождении Марии. // Апокрифы древних христи-ан Исследование, тексты, комментарии. М., 1989, с. 117). (обратно)409
ПСРЛ, т. 24. Типографская летопись. Пг., 1921, с. 222–223.
(обратно)410
Тихомиров М. Н. Новый памятник московской политической литературы. // Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979, с. 164–165.
(обратно)411
Там же, с. 165–166.
(обратно)412
Тихомиров М. Н. Записки о регентстве Елены Глинской и боярском правлении 1533–1547 гг. // Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979, с. 169; ПСРЛ, т. 34. Постниковский летописец. М., 1978, с. 15.
(обратно)413
Барсуков Н. Источники русской агиографии. СПб., 1882, с. 534–539, Тихонравов К. Н. Великая княгиня Соломония. // РС, т. XVI, кн. 6. 1876, с. 383–384; Токмаков И Историческое и археологическое описание Покровского девичья монастыря в городе Суздале (Владимирской губернии) в связи с житием преподобной чудотворницы Софии (в мире великой княгини Соломонии) и царицы инокини Елены (в мире Евдокии Федоровны Лодухиной). Владимир, 1913, с. 12–19.
(обратно)414
Описи Царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года. Под ред. с О. Шмидта. М., 1960, с. 23.
(обратно)415
АИ, т. I. СПб., 1841, № 130, с. 192.
(обратно)416
Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван Грозный? (К вопросу о происхождении опричнины). М., 1998, с. 15 и сл.
(обратно)417
ЦГАДА. Отд. I, рубр. IV, № 22, л. 1–1об. В Описи документальных материалов фонда № 135 (Государственное древлехранилище хартий и рукописей. Опись документальных материалов фонда № 135. Под ред. Л. В. Черепнина. М., 1971, с. 91, № 175) почему-то указана иная дата подтверждения, а именно — 1536 г. (т. е. ), что представляется ошибкой прочтения, поскольку в подлиннике последняя буква-цифра года достаточно явственно читается как , но не .
(обратно)418
Опись Покровского женского монастыря в г. Суздале, 1651 г. // ТВУ-АК, кн. 5. Владимир, 1903. Материалы, с. 121.
(обратно)419
Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988, с. 87.
(обратно)420
«О нем же (князе Семене Курбском. — А. Н.) <…> не токмо Русская земля ведома, но и Герберштенъ, нарочитый мужь, цесарскiя и великiи посол, на Москве былъ и уведалъ, и в кронице своеи свидстельствуеть, юже латинскимъ языкомъ, въ Медиоламе <…> будучи, написалъ»
(Сочинения князя Курбского, т. I. // РИБ, т. XXXI. СПб., 1914, стб. 164).Последнее указание Курбского о том, что «Записки…» С. Герберштейна были написаны им «в Милане», не совсем понятно: ни одно из известных их изданий XVI в. в Милане не выходило, а предисловие указывает на Вену.
(обратно)421
Сочинения князя Курбского…, стб. 290–291.
(обратно)422
Там же. стб. 163.
(обратно)423
Забелин И. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 1901, с. 215 и 271.
(обратно)424
Там же, с. 214.
(обратно)425
Полосин И. И. Немецкий пастор Одерборн и его памфлет об Иване Грозном. // Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI — иачала XVII в. М., 1963, с. 196.
(обратно)426
Об А. Я. Артынове см.: Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Ярославль, 1974, с. 158–160; Воронин Н. Н. «Сказание о Руси и о вечем Олзе» в рукописях А. Я. Артынова. (К истории литературных подделок начала XIX в.) // АВ за 1974 г., М., 1975, с. 175–198.
(обратно)427
Артынов А. Воспоминания крестьянина села Угодич, Ярославской губернии Ростовского уезда. // ЧОИДР, 1882, кн. 1.М, 1882. Смесь, с.12.
(обратно)428
Лурье Я. С. Возрождение домыслов о сыне Соломонии Сабуровой и опричнине. // РЛ, 1986, № 3, с. 117–118.
(обратно)429
Крупп А. А. К вопросу об историческом прототипе Кудеяра-разбойника. // РФ, XV, Л., 1975, с. 234–239; он же. Предания о Кудеяре (судьба цикла). // Проблемы преподавания и изучения русского народного поэтического творчества. Республиканский сборник, вып. 3. М., 1976, с. 80–87; он же. Предания о времени Ивана Грозного (2. Предания о Кудеяре). // РФ, XVI, Л, 1976, с. 213–220.
(обратно)430
«Историческим прототипом Кудеяра-разбойника был реальный Кудеяр Тишенков, который считался в народе царевичем Юрием, сыном Василия III от первого брака с Соломонией Сабуровой. Это обстоятельство обусловило широкое распространение преданий о Кудеяре на первом этапе их исторического развития, т. е. в 70–80-е годы XVI в.»
(Крупп А. А. К вопросу об историческом прототипе…, с. 239). (обратно)431
Там же, с. 234–235.
(обратно)432
Костомаров Н. И. Кудеяр. Историческая хроника в трех книгах. СПб., 1882 (первая публикация — в журнале «Вестник Европы», 1875, кн. 4–6).
(обратно)433
«Кудеяр представлен в фольклоре братом Ивана Грозного»
(Крупп А. А. Предания о времени Ивана Грозного, с. 217 и сл.). (обратно)434
Токмаков И. Историческое и археологическое…, с. 46. Судя по всему, известие это И. Ф. Токмаков заимствовал у М. Д. Хмырова, который писал по поводу Соломонии:
«Есть предание, похожее на истину, что Соломония, уже постриженная в Суздаль, родила сына Юрия, который жил с ней и умер 7 лет от роду. Камень, покрывающий его могилу, показывают возле гробницы Соломонии»
(Хмыров М. Д. Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательных особ их крови. СПб., 1870, с. 75, № 178). (обратно)435
Видонова Е. С. Детская одежда начала XVI в. // КС ИИМК, вып. 36, Л. 1951, с. 68.
(обратно)436
Там же, с. 68–75.
(обратно)437
Там же, с. 75.
(обратно)438
В очерках по истории и архитектуре Суздаля, вышедших в 1971 г., А. Д. Варганов довольно подробно останавливается на истории Соломонии Сабуровой и публикует план усыпальницы в подклете Покровского собора, из которого следует, что кенотаф Георгия находился в юго-западном углу, отгороженный от остального пространства надгробием Соломонии/Софьи. Вот что он пишет по этому поводу:
«Гробница таинственного Георгия сохранялась в обширной усыпальнице под Покровским монастырем (так! — А. Н.) до 1934 года под видом гробницы Анастасии Шуйской, дочери ца ря Василия Ивановича, сосланной вместе с матерью в 1610 году в Покровский монастырь. Археологические раскопки, проведенные в Покровской усыпальнице в 1934 году, позволили установить следующее: в гробике-колоде (так! — А. Н.), открывшимся в раскопе, было обнаружено подобие куклы, сделанной из шелковых древних тканей, завернутых в материю и опоясанных пояском с кисточками. Костей погребенного не обнаружено. После реставрации тканей реставратором Видоновой по типичным для княжеской одежды золотым прошвам (так! — А. Н.) была восстановлена мальчиковая рубашка. Как орнамент надгробной плиты, так и обнаруженные в гробике ткани, отнесены реставратором к началу XVI века. Полученные материалы полностью отвергли уверения духовенства в том, что гробница принадлежит Анастасии Шуйской <…> и дает повод думать о сохранении княжича, воспитывавшегося, вероятно, в каких-то боярских семьях»
(Варганов А. Д. Суздаль. Очерки по истории и архитектуре. Ярославль, 1971, с. 151–152).Подлинное же место погребения Анастасии Шуйской Варганов, не приводя никаких пояснений, указывает на плане помещения с северной стороны южного столпа, т. е. в центре усыпальницы (там же, с.149).
(обратно)439
Там же, с. 68.
(обратно)440
МиАР, инв. № 1 оф, КП-662, об.
(обратно)441
«Известны выселенные из Новгорода следующие фамилии: Денисовы, Столетовы, Сомовы, Боровецкие, Кошутины. Говорят, было выселено 17 семейств, которым дано было во Владимире место для жительства на улице Варварке за р. Лыбедью. <…> Особенным почетом пользовались во Владимире Денисовы и Сомовы. Они в XVIII веке вели юхотную торговлю в Петербурге и имели во Владимире кожевенные заводы»
(Касаткин В. В. Часть гор. Владимира от кремля до Золотых ворот. // ТВУАК, вып. 7, Владимир, 1905, с. 9–10). (обратно)442
Герберштейн С. Записки о Московии…., с.88.
(обратно)443
Сочинения князя Курбского…, стб. 291.
(обратно)444
Там же.
(обратно)445
«Теперешний царь (по имени Федор Иванович), относительно своей наружности, росту малого, приземист и толстоват, телосложения слабого и склонен к водяной; нос у него ястребиный, поступь нетвердая от некоторой расслабленности в членах; он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется. Что касается других свойств его, то он прост и слабоумен»
(Флетчер Д. О государстве Русском. СПб., 1905, с. 122). (обратно)446
Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1975, с. 11. Из этого сочинения любознательный читатель может узнать, что «бояре-опекуны короновали трехлетнего Ивана через несколько дней после кончины великого князя» (с. 10 и 19), что Овчина свою «карьеру сделал на поле брани, а не в великокняжеской спальне» (с. 11), что «об авантюрных похождениях [Михаила] Глинского знала вся Европа» (с. 12), что Иван IV в детстве был «заброшенным сиротой» (с. 17), что Курбский был «другом царя» (с. 19), Иван Дорогобужский и Федор Овчина оказываются родными братьями (с. 25), что «неурожаи случались часто, но они не захватывали всю страну разом и не имели катастрофических последствий» (с. 26), что ранее была «однородная масса боярства» (с. 31), что митрополит Макарий был «посредственный писатель» (с. 32), а Сильвестр выделялся «в толпе стяжателей, сребролюбивых и пьяных князей церкви», но «никогда не умел устроить своих дел» (с. 41), что Иван IV «много раз, не щадя здоровья, ополчался на врагов» (с. 46), что «Грозный после 34 лет занялся литературным трудом и стал едва ли не самым плодовитым писателем своего времени» (с. 62), что «при случае Василий III посылал жене Елене собственноручные записочки» (там же), и так на протяжении 241 страницы текста. Не менее подобострастная биография Ивана IV написана В. П. Кобриным (Кобрин В. Иван Грозный. М., 1989).
(обратно)447
Пересветов И. С. Первое предсказание философов и докторов. // Сочинения И. Пересветова. Подготовил текст А. А. Зимин. Под ред Д. С. Лихачева. М.-Л., 1956, с. 161–162.
(обратно)448
Лурье Я. С. Комментарии к тексту Музейного списка Полной редакции. // Сочинения И. Пересветова… с. 295.
(обратно)449
Там же, с. 296.
(обратно)450
Зимин А. Существовал ли «невидимка» XVI в.? // Знание-сила, 1971, № 8, с. 47. Стоит отметить, что до того момента сам Зимин не обратил никакого внимания на вполне определенный подтекст этих «предсказаний» ни во время подготовки сочинений Пересветова к изданию, ни при работе над специально посвященной ему монографией (Зимин А А. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958, с. 265, 278 и др.), так что указание на них явилось для историка полной неожиданностью (Никитин А. Точка зрения, с 333–334).
(обратно)451
Лурье Я. С. Возрождение домыслов…, с. 116–117.
(обратно)452
Никитин А. Точка зрения…, с. 312.
(обратно)453
О них см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975.
(обратно)454
«Се яз князь великий Василей Иванович всеа Русии пожаловал есми Пречистые Покрова святые Богородицы игуменью Ульянею и всех сестр. что есми их пожаловал, дал есми им в дом Пречистые Покрова в Суждале, свое село Павловское с деревнями и с починки, что было княж Михайлово Бибичева…»
(АИ, т. I. СПб., 1841, № 131, с. 192–193). (обратно)455
ПСРЛ, т. 8. Воскресенская летопись. СПб., 1859, с. 272.
(обратно)456
Там же, с. 278.
(обратно)457
ПСРЛ, т. 34. Постниковский летописец. М., 1978, с. 15.
(обратно)458
Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906, с. 15.
(обратно)459
Вкладные и кормовые книги Ростовского Борисоглебского монастыря в XV, XVI, XVII и XVIII столетиях. Ярославль, 1881, с. 3.
(обратно)460
Григорьев Г. Л. Кого боялся…, с. 61–62.
(обратно)461
Тихомиров М. Н. Новый памятник…, с. 164–166.
(обратно)462
ПСРЛ, т. 28. Летописный свод 1497 г. Дополнения. М.-Л., 1963, с. 161.
(обратно)463
ПСРЛ, т. 8. Воскресенская летопись. СПб., 1859, с. 278; ПСРЛ, т. 13. Патриаршая или Никоновская летопись. СПб., 1904, с. 59.
(обратно)464
Казакова Н. А. Очерки по истории…, с.119; ААЭ, т. I. СПб., 1836, № 173.
(обратно)465
Казакова Н. А. Очерки по истории…; Судные списки Максима Грека и Исака Собаки. М., 1971.
(обратно)466
Григорьев Г. Л. Кого боялся…, с. 11–12.
(обратно)467
ПСРЛ, т. 34. Постниковский летописец. М., 1978, с. 15.
(обратно)468
Токмаков И. Историческое и археологическое…, с. 46.
(обратно)469
Книга столовая суздальского Покровского девичьего монастыря 1685 г. // Ежегодник Владимирского губернского статистического Комитета, т. I, вып. 2, Владимир, 1876, стб. 113.
(обратно)470
Там же, стб. 123.
(обратно)471
Токмаков И. Историческое и археологическое…, с. 12.
(обратно)472
Забелин И. Домашний быт…, с. 271.
(обратно)473
Иконников В. С. Максим Грек и его время. Изд. 2-е. Киев, 1915, с. 457. К сожалению, исходные данные, указанные В. С. Иконниковым относительно местонахождения работы С. Д. Шереметева оказались ошибочны и найти этот текст до сих пор не удалось.
(обратно)474
Григорьев Г. Л. Кого боялся…, с. 39.
(обратно)475
«Да государыня царица великая княгиня Ирина прислала на великую княгиню Соломониду, а во иноцех Софию, покров бархат черн, а на нем крест плащи серебряны позолочены выбиваны, а на плащах резь деисус и избранные святые, а около плащей и копие и трость и подпись у креста низано жемчюгом, а около покрова подписи слова вышиты золотом по таусинному атласу, а около подписи веревочка шита золотом, а подложен тафтою багровою.»
По описи 7105 (1597) года, составленной В. Я. Волынским и подьячим Вторым Ильиным. ([Тихонравов К.] Царские и другие вклады в Суздальский Покровский девичий монастырь. // Тихонравов К. Владимирский сборник. Материалы для статистики, этнографии, истории и археологии Владимирской губернии. М., 1857, с. 90). Остальные царские вклады, которые И. Ф. Токмаков причисляет к Соломонии/Софье (Токмаков И. Историческое и археологическое…, с. 16), являются «прикладами» к местночтимой иконе Богоматери.
(обратно)476
ПСРЛ, т. 34. Постниковский летописец. М., 1978, с. 29. Вместе с Ф. И. Овчиной был казнен его двоюродный брат И. И. Дорогобужский (там же).
«Быть может, — пишет С. О. Шмидт, — поводом для казни княжичей, принадлежащих к кругу лиц, наиболее осведомленных об интимных подробностях придворной жизни, послужили разговоры о происхождении Ивана IV и о недостойном поведении его матери, особенно неприятные для великого князя и его родни накануне венчания на царство и царской свадьбы»
(Шмидт С. О. О времени составления «Выписи»…, с. 117–118). (обратно)477
«И принесоша к великому князю сына его на руках князя Ивана шурин его князь Иван Глинской. <…> Князь же великий снем с собя крест Петра чюдотворца и приложил к кресту сына своего и благословил его крестом, и рече ему: „Буди на тобе милость божия и пречистые богородицы и благословление Петра чюдотворца, как благословил Петр чюдотворец прародителя нашего великого князя Ивана Даниловича. И доныне буди на тобе благословление Петра чюдотворца и на твоих детех и внучатах от рода в род“»
(ПСРЛ, т. 34. Постниковский летописец. М., 1978, с. 22). (обратно)478
ПСРЛ, т. 34. Пискаревский летописец. М., 1978, с. 180–181.
(обратно)479
Никитин А. Точка зрения. М., 1985, с. 354–389.
(обратно)480
Тихомиров М. Н. Иван Грозный и Сербия. // Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969, с. 84–88.
(обратно)481
Бычкова М. Е. Родословие Глинских из Румянцевского собрания. // ЗОРГБЛ, кн. 38. М., 1977; она же. Состав класса феодалов в России в XVII в. М., 1986, с. 52–63.
(обратно)482
Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987, с. 49.
(обратно)483
Бычкова М. Е. Состав класса феодалов…, с. 120.
(обратно)484
Григорьев Г. Л. Кого боялся…, с. 61–62.
(обратно)485
В. М. Книги кормовыя. СПб., 1909, с. 1.
(обратно)486
Там же, с. 9.
(обратно)487
Григорьев Г. Л. Кого боялся…, с. 54–55; Летописец новгородский церквам Божьим. // Новгородские летописи. СПб., 1879, с. 337; Тихомиров М. Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. М. 1962, с. 159.
(обратно)488
Полосин И. И. Западная Европа и Московия. // Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки немца опричника. Л., 1925, с. 41.
(обратно)489
Ключевский В. О. Боярская дума Древней Руси. М., 1881, с. 368.
(обратно)490
Там же, с. 375.
(обратно)491
Веселовский С. Б. Известия иностранцев об опричнине. // Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963, с. 65.
(обратно)492
Никитин А. «Невидимка» XVI века? // «Знание-сила», 1971, №№ 6–7; он же. Человек без лица. // «Писатель и время». М., 1983, с. 219–290; он же. Государев обиход. // Никитин А. Точка зрения. М., 1985, с. 279–413.
(обратно)493
Таубе И., Крузе Э. Послание. // РИЖ, кн. 8, Пг., 1922 [далее — Т-К], с. 39.
(обратно)494
Пoлосин И. И. Что такое опричнина. // Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI — начала XVII в. Сб. статей. М., 1963, с. 154–155.
(обратно)495
Полосин И. И. Что такое опричнина…, с. 152–154.
(обратно)496
Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963.
(обратно)497
Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
(обратно)498
Скрынников Р. Г. Начало опричнины. Л., 1966; он же. Опричный террор. Л., 1969.
(обратно)499
Полосин И. И. Что такое опричнина…, с. 149.
(обратно)500
Полосин И. И. Что такое опричнина…, с. 139–141; он же. Опричнина Ивана Грозного и очередные задачи ее научного исследования. // Полосин И. И. Социально-политическая история…, с. 182–189; Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Л., 1988, и др.
(обратно)501
ПСРЛ, т. 13, ч. 2. Дополнения к Никоновской летописи. СПб., 1906, с. 394–395; ПСРЛ, т. 29. Лебедевская летопись. М., 1965, с. 344–345.
(обратно)502
Штаден Г. О. Москва Ивана Грозного. Л., 1925 [далее — Шт.], с. 108.
(обратно)503
ПСРЛ, т. 13, с. 395.
(обратно)504
«А кто учнет говорити, что государь дворы ставит разделу для и для того кладучи опалу на бояр, и Федору с товарыщи говорити: государю нашему того для дворов ставити нечего для, волен государь в своих людех; добрых государь жалует, а лихих казнит, а делитца государю не с кем. И нечто будет, говорят то страдники, и тех речей слушати нечево. А о том Федору с товарыщи оговаривати.
Да память Федору с товарищи. Нечто кто учнет говорити, что государь немилостив, казнит людей, а учнут говорити про князя Василья Рыбина и про Ивана Карамышева, и им говорити: государь милостив, а лихих везде казнят; а про тех государь сыскал, что они мыслили над государем и над государскою землею лихо, и государь, сыскав, по их вине потому и казнити их велел».
(Из наказа боярину Ф. И. Умного-Колычеву, отправленному весной 1567 г. с посольством к Сигизмунду-Августу. // Сборник РИО, т. 71. СПб., 1892, с. 465) (обратно)505
Рогинский М. Г. Послание И. Таубе и Э. Крузе как исторический источник. // РИЖ, кн. 8, Пг., 1922, с. 10–28; о них см.: Крузе Э. // ЭСБЕ, т. XVI, СПб., 1895, с. 848; Таубе И. // РБС, Суворов — Ткачев, СПб., 1912, с. 364–366.
(обратно)506
Штаден Г. О Москве…, с. 130–150.
(обратно)507
Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного. Л., 1934 [далее — Шл.].
(обратно)508
Малеин А. Введение. // Шлихтинг А. Новое известие…, с. 4; Скрынников Р. Г. Начало опричнины…, с. 58–59.
(обратно)509
ПСРЛ, т. 13, с. 394.
(обратно)510
Таубе И., Крузе Э. Послание…, с. 35; Шлихтинг А. Новое известие…, с. 18.
(обратно)511
Зимин А. Опричнина…, с. 341–342 и сл.
(обратно)512
Курбский А. М. История о великом князе Московском. // Сочинения А. М. Курбского, т. I (РИБ, XXXI). СПб., 1914, сгб. 263.
(обратно)513
«Как раз в это время Грозный выворачивал христианский культ наизнанку. <…> Поход Грозного на Новгород и Псков носил ярко выраженный антицерковный характер. <…> На свадьбе царской племянницы Марии Владимировны Старицкой в Новгороде гости плясали под напев символа веры св. Афанасия. Царь плясал со всеми и отбивал такт жезлом, которым впоследствии убил своего сына Ивана, по головам пляшущих молодых иноков».
(Лихачев Д. С. Канон и молитва Ангелу грозному воеводе Парфения Уродивого (Ивана Грозного). // Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986, с. 370)В связи с этим стоит отметить, что усвоение Ивану IV псевдонима «Парфений Уродивый» на основании того, что им оказался надписан текст, тождественный «Ответу царя Иоанна Васильевича Грозного (это прозвание появляется только в середине XVII в., не раньше. — А. Н.) Яну Роките», как это в свое время сделал И. А. Шляпкин и развил Д. С. Лихачев (там же), вызвано небрежностью или тенденциозностью, во-первых, потому, что архангел Михаил не имел никакого отношения к Ивану IV (небесным покровителем царя был Иоанн Предтеча), во-вторых, потому, что автор этого канона, написанного для тезоименного ангела тверского князя Михаила Александровича, хорошо известен. Им был священноинок Парфений, упомянутый в Симеоновской летописи под 6907/1399 г., где помещена «Повесть об обновлении соборной церкви Спаса Вседержителя в Твери», содержащая рассказ об уходе князя в монастырь св. Афанасия и о преставлении его в присутствии «аръхимандрита Корнилия и священноинока Парфения, и тема повели пети канонъ в исход души» (ПСРЛ, т. 18. Симеоновская летопись. СПб., 1913, с. 147.). Другими словами, все восторги по поводу «даровитости» и «многогранности» талантов царя Ивана IV при ближайшей поверке (в том числе и приписываемые ему стихиры «деспота Иоанна») оказываются не более, чем запоздалой лестью тирану.
(обратно)514
«Затеянная Грозным опричнина имела игровой, скомороший характер. Опричнина организовывалась как своего рода антимонастырь с монашескими одеждами опричников как антиодеждами, с пьянством как антипостом, со смеховым богослужением, со смеховым чтением самим Грозным отцов церкви о воздержании и посте во время трапез-оргий, со смеховыми разговорами о законе и незаконности во время пыток и т. д.».
(Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» древней Руси. Л., 1976, с. 61) (обратно)515
«В своей любимой загородной резиденции — слободе Александрове Иван Грозный основал специальное музыкальное учреждение, своего рода консерваторию, куда пригласил высококвалифицированных мастеров пения».
(Успенский Н. Д. Образцы древне-русского певческого искусства. Л, 1971, с. 117–118; он же. Древне-русское певческое искусство. М., 1971, с. 151 и 186) (обратно)516
СГГД, ч. 1, № 193, с. 557–558; Зимин А. А. Опричнина…, с. 246.
(обратно)517
Напр., А. А. Зимин: «Основу опричной гвардии составляет государев двор» (Зимин А. А. Опричнина…, с. 353); Полосин И. И. Опричнина Ивана Грозного и очередные задачи., с. 185–189; он же. Споры об «опричнине» на польских сеймах XVI в. (1569–1582). // Полосин И. И. Социально-политическая история…, с. 166; Альшиц Д. Н. Начало самодержавия…, с. 177–192; и др.
(обратно)518
Повесть о приходе царя Иоанна IV Васильевича в Новгород. // Новгородские летописи. СПб., 1879, с. 393–404; Летописец новгородский церквам Божиим. // Новгородские летописи…, с. 338–345.
(обратно)519
Полосин И. И. Что такое опричнина. // Полосни И. И. Социально-политическая история…, с. 154.
(обратно)520
Вилинбахов Г. В. К истории учреждения ордена Андрея Первозванного и эволюция его знака. // Культура и искусство Петровского времени. Л., 1977, с.155.
(обратно)521
Курбский А. М. История…, стр. 172.
(обратно)522
Московские соборы на еретиков XVI века в царствование Ивана Васильевича Грозного. М., 1847, с. 10. Об иконографии образа см.: Подобедова О. И. Московская школа живописи при Иване IV (Работы в московском Кремле 40-х — 70-х годов XVI в.). М, 1972, с. 40–58 и др.
(обратно)523
Напр., гипотезу Г. Л. Григорьева, что предпосылкой возникновения опричнины послужило существование скрытого претендента на трон, каким мог быть сын Соломонии Сабуровой князь «Георгий Васильевич», на которого могла возлагать надежды оппозиция (Григорьев Г. Л. Кого боялся Иван Грозный? М., 1998; Никитин А. Государев обиход. // Никитин А. Точка зрения. М., 1985, с. 281–413).
(обратно)524
Печатается с дополнениями по тексту: Никитин А. Л. Болтинское издание Правды Руской. // ВИ, 1973, № 11, с. 53–65. Здесь и далее я следую действительному написанию этого памятника, т. е. с одним «с».
(обратно)525
Правда Руская, или Законы великих князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха. С преложением древняго оных наречия и слога на употребительные ныне, и с объяснением слов и названий из употребления вышедших. Изданы любителями отечественной истории. Печатаны в типографии Святейшего Правительствующего Синода 1792 года (далее — ПР, 1792); цитируется с сохранением орфографии и пунктуации текста. — А. Н.); Духовная великаго князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим, названная в летописи Суздальской Поученье. В Санкт-петербурге. Печатано в Типографии Корпуса Чужестранных Единоверцев 1793 года; Ироическая песнь о походе на половцев удельнаго князя новагорода-северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с преложением на употребляемое ныне наречие. Москва. В Сенатской Типографии, 1800.
(обратно)526
Правда Руская, данная в одиннадцатом веке от великих князей Ярослава Владимировича и сына его Изяслава Ярославича. Издание Августа Шлецера, профессора истории при Императорской Академии Наук и члена Королевских Академий наук в Геттингене и Стокгольме. В Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук. 1767 г.
(обратно)527
Продолжение Древней Российской Вифлиофики, ч. I, СПб., 1786 г., с. 5–22.
(обратно)528
Продолжение Древней Российской Вифлиофики, ч. III, СПб., 1788 г., с. 16–47.
(обратно)529
Русские достопамятности, ч. II. Издание ИОИДР при Московском Университете. М., 1843, с. 120.
(обратно)530
Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным, тт. I–II, СПб., 1788; Ответ генерал-майора Болтина на письмо князя Щербатова, сочинителя Российской истории. СПб., 1789; Критические примечания генерал-майора Болтина на Историю князя Щербатова, тт. I–II, 1793.
(обратно)531
Критические примечания генерал-майора Болтина на первый том Истории князя Щербатова. СПб., 1973, с. 251; Калайдович К. Биографические сведения о жизни, ученых трудах и собрании российских древностей графа А. И. Мусина-Пушкина. // ЗиТОИДР, ч. II, М., 1824, с. 20.
(обратно)532
Елагин И. Опыт повествования о России, кн. I. M., 1803, с. 446.
(обратно)533
Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800, т. II. М., 1964, с. 460, № 5590; т. V, М., 1967, с. 297, № 5590. Тираж первого издания — 650 экз.
(обратно)534
Карамзин Н. История государства Российского, т. II, гл. 3, прим. 65.
(обратно)535
Карамзин Н. История…, т. II, гл. 3, прим. 66–106.
(обратно)536
Правда Русская, т. I. М.-Л., 1940 (далее — ПР, 1940), с. 275–292.
(обратно)537
Калайдович К. Биографические сведения…, с. 21, прим.
(обратно)538
«По сличению пергаминного списка Правды Русской, сохраненнаго г. Председателем нашего Общества [т. е. П. П. Бекетовым. — А. Н.], можно утвердительно сказать, что издатели имели основанием не сей, но другой список и даже неизвестно, почему не приводили из первого вариантов, хотя оный, как известно, в 1792 году находился в руках графа Мусина-Пушкина».
(Калайдович К. Биографические сведения…, прим. на с. 28) (обратно)539
Русские достопамятности, ч. II, с. 120–121.
(обратно)540
Там же.
(обратно)541
Калачов Н. В. Исследования о Русской Правде. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской Правды. М., 1846.
(обратно)542
Любимов В. П. Списки Правды Русской. // Правда Русская, т. I, М.-Л., 1940, с. 13, прим. 6. Следует отметить, что и М. Н. Тихомиров в своем фундаментальном исследовании о происхождении текстов Русской Правды (Тихомиров ММ. Исследование о Русской Правде. М.-Л., 1941) полностью обошел молчанием текст Болтинского списка.
(обратно)543
Барсов Е. В. Слово о полку Игореве, как художественный памятник Киевской дружинной Руси, т. 1. М., 1884 (Критический очерк литературы «Слова…»).
(обратно)544
Волк С. Н. Болтин и его работа над Русской Правдой. // ТОДРЛ, XIV, Л., 1958, с. 650–656.
(обратно)545
Волк С. Н. Русская Правда в изданиях и изучениях XVIII — начала XIX века. // АЕ за 1958 год. М., 1960, с. 141–149.
(обратно)546
Волк С. Н. Русская Правда…, с. 144.
(обратно)547
Там же.
(обратно)548
Там же, с. 145.
(обратно)549
Там же, с. 144.
(обратно)550
Там же.
(обратно)551
Напр., Зимин А. Л. Приписка к Псковскому Апостолу 1307 года и «Слово о полку Игореве». // РЛ, 1966, № 2, с. 60–74; он же. К истории создания «Слова о полку Игореве». // ВЛ, 1967, № 3, с. 133–152; Моисеева Т. Н. А. И. Мусин-Пушкин — издатель древнерусских памятников. // Книга в России до середины XIX века. Л., 1978, с. 74–86, и др.
(обратно)552
Николаева А. Т. Вопросы источниковедения и археографии в трудах И. Н. Болтина. // АЕ за 1958 год. М., 1960, с. 162–186. Стоит отметить, что сам М. Н. Тихомиров неоднократно обличал С. Н. Валка не только в странной предубежденности относительно подлинности документов ранней русской истории, своего рода «историческом нигилизме», но и в прямой недобросовестности по отношению к издаваемым и комментируемым им памятникам отечественных древностей, объявляемых им «фальсификатами» (Тихомиров М. Н. О частных актах в древней Руси. // Тихомиров М. Н. Древняя Русь. М., 1975, с. 240–260, и др. работы).
(обратно)553
Николаева А. Т. Вопросы источниковедения…, с. 181.
(обратно)554
Там же, с. 178.
(обратно)555
Там же, с. 184.
(обратно)556
Попов Н. История Императорского Московского Общества истории и древностей российских, ч. I (1804–1812). М., 1884, с. 239–240.
(обратно)557
Калайдович К. Биографические сведения…, с. 20 и 28.
(обратно)558
Аксенов А. И. Из эпистолярного наследия А. И. Мусина-Пушкина. // АЕ за 1969 год. М., 1970, с. 232, прим. 74 (ГПБ, ф. 588, № 278, письмо от 8.11.1813 г.).
(обратно)559
Калайдович К. Биографические сведения…, с.28.
(обратно)560
Аксенов А. И. Из эпистолярного…, с. 232.
(обратно)561
Валк С. Н. Русская Правда…, с. 144.
(обратно)562
В дальнейшем все ссылки на тексты списков Правды Руской приводятся по изданию «Правда Русская, 1940 г.».
(обратно)563
Карамзин Н. М. История…, т. II, гл. 3, прим. 65.
(обратно)564
По академическому изданию текстов 1940 г.
(обратно)565
Валк С. Н. Русская Правда…, с. 150.
(обратно)566
Там же, с. 144.
(обратно)567
Карамзин Н. М. История…, т. II, гл. 3, прим. 79.
(обратно)568
Валк С. Н. Правда Русская…, с. 143.
(обратно)569
Елагин И. Опыт повествования…, с.446.
(обратно)570
Попов Н. История…, с.240; Аксенов А. И. Из эпистолярного…, с.232.
(обратно)571
Щепкина М. В. Русская палеография. М., 1976, с. 129–132.
(обратно)572
Козлов В. П. Кружок А. И. Мусина-Пушкина и «Слово о полку Игореве». М, 1988, с. 178.
(обратно)573
Хенниг Р. Неведомые земли, т. 1–4.М., 1961–1975.
(обратно)574
СИЭ, т. 2, М, 1962, стб. 396.
(обратно)575
Кузнецов С. К. К вопросу о Биармии. // Этнографическое обозрение, кн. LXV–LXVI (1905, № 2 и 3). В дальнейшем я цитирую эту работу по отдельному оттиску со своей сквозной пагинацией (М., 1905).
(обратно)576
Тиандер К. Поездки скандинавов в Белое море. СПб., 1906.
(обратно)577
Соболевский А. Древняя Пермь. // ИОАИЭ, т. 34, вып. 3–4. Казань, 1929.
(обратно)578
Никитин А. Л. Биармия и древняя Русь. // ВИ, 1976, № 7, с. 56–69.
(обратно)579
Савельева Е. А. Олаус Магнус и его «История северных народов». Л., 1983.
(обратно)580
Кузнецов С. К. К вопросу о Биармии…, с. 61–62.
(обратно)581
Татищев В. Н. История Российская, т. I. М.-Л., 1962, с. 108.
(обратно)582
Страленберг Ф.-И. Историческое и географическое описание северной и восточной частей Европы и Азии. СПб., 1797.
(обратно)583
Тиандер К. Поездки скандинавов в Белое море…
(обратно)584
Никитин А. Л. Биармия и древняя Русь…; он же. Точка зрения. М., 1985, с. 7–132; он же. Костры на берегах. М. 1986, с. 333–493.
(обратно)585
Мейнандер К.-Ф. Бьярмы. // Финно-угры и славяне. Л., 1979, с. 35–40.
(обратно)586
Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с Древнейших времен до 1000 г.). Тексты, перевод, комментарий. М., 1993, с.249.
(обратно)587
Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения. М., 1986, с.199.
(обратно)588
Глазырина Г. В. Исландские викингские саги о Северной Руси. М., 1996, с.97.
(обратно)589
Напр.: Джаксон Т. Н., Глазырина Г. В. Бьярмия в отечественной историографии. // Археология и история Пскова и Псковской земли. Тезисы Докладов предстоящей научно-практической конференции. Псков, 1986, с. 62–64.
(обратно)590
Естественно, такими «аргументами» не могут быть голословные заявления о «дилетантизме» автора, незнании им скандинавских языков, отсутствия «филологического образования» или объявления его выводов «умозрительными конструкциями» (см., напр.: Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения…, с. 197). В этом плане достойным образчиком нравов «советской академической науки» может служить граничившая в то время с политическим доносом статья Т. Н. Джаксон, опубликованная ею в «Скандинавском сборнике» (Джаксон Т. Н. Бьярмия. Древняя Русь и «земля незнаемая». // СС, XXIV, Таллин, 1979, с. 133–138.), где отсутствие научных аргументов заменено передергиванием фактов и личными выпадами самого низкого пошиба, рассчитанного на неведение читателей и возможную реакцию «начальства». Цели этой публикации были вполне прозрачны: любыми средствами очернить автора работы, выводы которой поставили под сомнение результаты только что подготовленной кандидатской диссертации и знакомящей с ней первой публикации молодого и, как можно видеть, весьма «многообещающего» филолога (см.: Джаксон Т. Н. «Восточный путь» исландских королевских саг. // ИСССР, 1976, № 5, с. 164–170).
(обратно)591
«Буривой, имея тяжку войну с варяги, множицею побеждаше их и облада всю Бярмию до Кумени. Последи при оной реце побежден бысть, вся свои вой погуби, едва сам спасеся, иде во град Бярмы, иже на острове сый крепце устроенный, иде же князи подвластнии пребываху, и тамо, пребывая, умре».
(Татищев В. Н. История Российская, т. I. М.-Л., 1962, с. 108)И далее, в примечании к этому месту: «Бярмы град, у руских Корела, у финов Кексгольм, т. е. на дву островах» (там же, с. 115). Однако теперь в результате раскопок известно, что все находки в Кексгольме (ныне г. Приозерный) не древнее начала XIV в. (Кирпичников А. Н. Историко-археологические исследования древней Корелы. // Финно-угры и славяне. Л., 1979, с. 52–73).
(обратно)592
Никитин А. Л. Новые горизонты в исследовании первобытного искусства. // Скандинавский сборник, вып. XI, Таллин, 1966, с. 335–340; он же. Памятники позднего неолита на юго-востоке Кольского полуострова. // Памятники древнейшей истории Евразии. М., 1975, с. 124–143; он же. Население юго-востока Кольского полуострова в позднем неолите. // СЭ, 1976, № 2, с. 103–111.
(обратно)593
См. последнюю по времени сводку зарегистрированных археологических памятников и находок этого региона в кн.: Куратов А. А. Археологические памятники Архангельской области. Архангельск, 1978.
(обратно)594
Глазырина Г. В. Исландские викингские саги…, с. 42.
(обратно)595
Кузнецов С. К. К вопросу о Биармии…, с. 95.
(обратно)596
Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения…, с. 79 и 89.
(обратно)597
Там же, с. 200.
(обратно)598
Крестинин В. Начертание истории города Холмогор. СПб., 1790, с. 29.
(обратно)599
Снорри Стурлусон. Круг земной. М., 1980.
(обратно)600
Кузнецов С. К. К вопросу…, с. 5–9; Тиандер К. Поездки скандинавов…, с. 53–56; Матузова В. И. Английские средневековые источники IX–XIII в. М., 1979, с. 19–35.
(обратно)601
Снорри Стурлусон. Круг земной…, с. 283–287.
(обратно)602
Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.). Тексты, перевод, комментарий. М., 1994.
(обратно)603
Матузова В. И. Английские средневековые источники…, с. 24. См. перевод К. Ф. Тиандера:
«Отер рассказывал своему государю, королю Альфреду, что он живет севернее всех норманнов. Он прибавил, что живет в стране, расположенной на севере от Западного моря. Он, однако, говорил, что эта страна оттуда еще простирается очень далеко на север, но она вся пустынна, и только на немногих местах поселились здесь и там фины, занимаясь зимой охотою, а летом рыбным промыслом на море. Он рассказывал, что однажды хотел испытать, далеко ли эта земля простирается на север и живет ли кто на севере от этой пустыни. Тогда он поехал на север вдоль берега: все время в течение трех дней на правой стороне у него оставаясь пустынная страна, а открытое море по левой. Тогда он достиг северной высоты, дальше которой китоловы никогда не ездят. Он же продолжал путь на север, насколько еще мог проехать в другие три дня. Тут берег сворачивал на восток или же море врезалось в страну; известно ему было только то, что ему пришлось там ждать попутного ветра с запада и отчасти с севера, а потом он поплыл вдоль берега на восток, сколько мог проехать в четыре дня. Тогда он принужден был ждать прямого северного ветра, потому что берег здесь сворачивал на юг или же море врезалось в страну, — этого он не знал. Тогда он плыл отсюда к югу вдоль берега, сколько мог проехать в пять дней. Там большая река вела внутрь страны. Тогда они уже в самой реке повернули обратно, потому что не смели подняться вверх по реке, боясь враждебного нападения. Эта страна была заселена по одной стороне реки. Это была первая населенная страна, которую они нашли с тех пор, как оставили свои собственные дома. Все же время по правой руке их была пустынная страна, исключая поселения рыбаков, птицеловов и охотников, которые все были фины; по левой же их руке было открытое море. Страна беормов была весьма хорошо населена, но они не посмели поехать туда. Но земля терфинов была совсем пустынная, кроме отдельных местечек, где жили рыбаки, охотники и птицеловы. Много вещей ему рассказывали беормы, как об их собственной стране, так и о странах, лежащих кругом; но он не мог проверить их достоверность, потому что сам он их не видал. Фины, казалось ему, и беормы говорят почти на одном и том же языке. Вскоре он опять поехал туда, интересуясь природой этой страны, а также и из-за моржей, потому что их зубы представляли собою весьма драгоценную кость — несколько таких зубов он преподнес королю, а их кожа была в высшей степени пригодна для корабельных канатов. Киты же там гораздо меньше обыкновенных, они в длину не больше семи локтей. В его собственной стране, правда, наилучшая ловля китов; там они длиной в 48 локтей, самые большие же в 50. Там, рассказывал он, однажды вшестером за два дня они сумели добыть шестьдесят китов…»
(Тиандер К. Ф. Поездки скандинавов…, с. 53–56) (обратно)604
Джаксон Т. Н., Мачинский Д. А. Связи Северной Руси и Беломорья в IX–XIII вв. // Внешняя политика Древней Руси. Юбилейные чтения, посвященные 70-летию со дня рождения… В. Т. Пашуто. Тезисы докладов. М., 1988, с. 25–26; Глазырина Г. В. Плавание Оттара в Бьярмаланд в свете палеоклиматических, гидрологических и естественно-географических данных. // Восточная Европа в древности и средневековье. Спорные проблемы истории. Тезисы докладов. М., 1993, с. 17–19.
(обратно)605
Матузова В. И. Английские средневековые источники…, с. 25–27.
(обратно)606
Тиандер К. Поездки скандинавов…, с. 66–67.
(обратно)607
Матузова В. И. Английские средневековые…, с. 34.
(обратно)608
Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги…, 1994, с. 21.
(обратно)609
Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги…, 1993, с. 13.
(обратно)610
Здесь и далее страницы указываю по изданию: Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги…, М., 1994.
(обратно)611
Вариант: «так как им мешало сильное течение» (Снорри Стурлусон. Круг земной…, с. 285).
(обратно)612
Снорри Стурлусон. Круг земной…, с. 343.
(обратно)613
Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги…, 1994, с. 37 и 43.
(обратно)614
Насколько Снорри Стурлусон вольно обращался с фактами, в том числе и с генеалогией, можно видеть по «Младшей Эдде», в которой он (?), по-видимому, используя «Сагу об Эймунде», указывает «конунга Эймунда из Хольмгарда» и далее создает фантастические нисходящие линии его потомков (Младшая Эдда. Л., 1970, с. 93).
(обратно)615
Глазырина Г. В. Исландские викингские саги…, с. 44.
(обратно)616
Снорри Стурлусон. Круг земной…, с. 297.
(обратно)617
Там же, с. 274.
(обратно)618
Тиандер К. Поездки скандинавов…, с. 278.
(обратно)619
Там же, с. 119–120.
(обратно)620
Там же, с. 282.
(обратно)621
Джексон Т. Н. Этногеографический справочник. // Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги…, М., 1994, с. 199–200, где гидроним «Двина» на основании вульгарной этимологии С. Герберштейна объясняется как производный от русского слова «два»; Глазырина Г. В. Исландские викингские саги…, с. 185; Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения…, с.157 и др.
(обратно)622
Никитин А. Л. Биармия и древняя Русь…, с. 62 и др.
(обратно)623
Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги как источник по истории Древней Руси и ее соседей. X–XIII вв. // ДГ, 1988–1989. М., 1991, с. 86.
(обратно)624
Джаксон Т. Н. Русский Север в древнескандинавских сагах. // Культура Русского Севера. Л., 1988, с. 60.
(обратно)625
Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. М., 1978. с. 89–104.
(обратно)626
Иванов В. В. Отражение индоевропейской терминологии близнечного культа в балтийских языках. // Балто-славянский сборник. М., 1972, с. 203–205; Айхенвальд А. Ю., Петрухин В. Я., Хелимский Е. А. К реконструкции мифологических представлений финно-угорских народов. // Балто-славянские исследования. 1981. М., 1982, с. 165–166.
(обратно)627
[Седов В. В.] Ливы. // Финно-угры и балты в эпоху средневековья. (Археология СССР.) М., 1987, с. 23–34.
(обратно)628
Сапунов А. Река Западная Двина. Историко-географический обзор. Витебск, 1893, с. 26; Ильинский Г. Река Двина. // ИОРЯС за 1918 г., т. XXIII, кн. 2. Пг., 1921, с. 249.
(обратно)629
Специальное по данному вопросу разъяснение И. Г. Добродомова, которому я приношу искреннюю благодарность за консультацию. См. также прим. 58 к «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского (Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. М.-Л., 1938, с. 492).
(обратно)630
Исландские саги. М., 1956, с. 141–145.
(обратно)631
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. М.-Л., 1938.
(обратно)632
Потин В. М. Древняя Русь и европейские государства в X–XIII вв. Л., 1968, с. 30.
(обратно)633
Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961, с. 161–162.
(обратно)634
Харламов А. Бежецкий детектив. // ЛГ от 23.02.88 г.).
(обратно)635
Тиандер К. Поездки скандинавов…, с. 66–67.
(обратно)636
Мне представляется, что и название участков в Лапландии — «бьяры», вторые указывает в XVII в. И. Шеффер (Кузнецов С. К. К вопросу о Биармии…, с. 61.), следует рассматривать не как следы присутствия «бьярмов», а в ряду других подобных топонимов, имеющих в своем составе элемент «бьяр−» (напр., остров Бьяркей), и антропонимов.
(обратно)637
Никитин А. Л. Биармия и древняя Русь…, с. 62–66.
(обратно)638
Тиандер К. Поездки скандинавов…, с. 278.
(обратно)639
Глазырина Т. В. Исландские викингекие саги…, с. 65.
(обратно)640
Там же, с. 71.
(обратно)641
Тиандер К. Поездки скандинавов…, с. 295.
(обратно)642
Там же, с. 21, 86, 345.
(обратно)643
Никитин А. Л. Биармия и древняя Русь…, с. 60.
(обратно)644
Вилинбахов В. Б. Балтийско-волжский путь. // СА, 1963, № 3, с. 126–135.
(обратно)645
Шаскольский И. П. Маршрут торгового пути из Невы в Балтийское море в IX–XIII вв. // Географический сборник, III. История географических знаний и географических открытий. М.-Л., 1954, с. 151–152.
(обратно)646
Никитин А. Л. Биармия и древняя Русь…, с. 66–67.
(обратно)647
Джаксон Т. Н. «Восточный путь» исландских королевских саг…, с. 166–167.
(обратно)648
Рыдзевская Е. А. Сведения по истории Руси XIII в. в Саге о короле Хаконе. // Исторические связи Скандинавии и России. Л., 1970, с. 326.
(обратно)649
Джаксон Т. Н. «Восточный путь»…, с. 167.
(обратно)650
Там же, с. 170.
(обратно)651
Там же, с. 170.
(обратно)652
Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги как источник…, с. 138.
(обратно)653
Джаксон Т. Н. Древнескандинавская топонимия с корнем aust-. // СС, XXXI. Таллин, 1988, с. 143; она же. Север Восточной Европы в этногеографических традициях древнескандинавской письменности (к постановке проблемы). // Славяне. Этногенез и этническая история. (Междисциплинарные исследования.) Л., 1989, с. 132.
(обратно)654
Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги как источник…, с. 133–134.
(обратно)655
Тиандер К. Поездки скандинавов…, с. 337.
(обратно)656
Там же, с. 338.
(обратно)657
Там же, с. 341–342.
(обратно)658
Кузнецов К. С. К вопросу о Биармии…, с. 54.
(обратно)659
Рыдзевская Е. А. Сведения по истории Руси…, с. 328.
(обратно)660
Bonnell Е. Russisch-Liwländische Chronographie von der neunten Jahrhunderts bis zum Jahre 1440. St. Petersburg, 1862. S. 72, 234–236, 240.
(обратно)661
Рыдзевская Е. А. Сведения по истории Руси…, с. 329.
(обратно)662
Там же, с. 328; Джаксон Т. Н. Русский Север в древнескандинавских сагах…, с. 61; Глазырина Г. В. Исландские викингские саги…, с. 97; и др.
(обратно)663
Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги как источник…, с. 138.
(обратно)664
Stang H. «Biarmia» i sovjetisk historiograpi. // Historisk Tidskrift. Oslo/Stockholm, 1978, S. 300–310.
(обратно)665
Истрин В. М. Очерк истории древнерусской литературы. Пг., 1922, с. 57.
(обратно)666
Орлов А. С. К изучению средневековья в русской литературе. // Памяти П. Н. Сакулина, Сб. статей. М., 1931, с. 192).
(обратно)667
Лихачев Д. С. Текстология. Краткий очерк. М.-Л., 1964, с. 62; он же. Текстология на материале русской литературы X–XVII вв. Л., 1983, с. 44–45 и др.
(обратно)668
Лебедев И. А. Обзор источников по истории балтийских славян с 1131 по 1170 год. М., 1876, с. 85; Егоров Д. Н. Славяно-германские отношения в средние века. Колонизация Мекленбурга в XIII в. М., 1915; Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе, т. 2. М., 1967, с. 181–182.
(обратно)669
Шахматов А. А. Один из источников летописного сказания о крещении Владимира. // Сб. статей по славяноведению, посвященных проф. Марину Степановичу Дринову (Сб. историко-филологического Общества, состоящего при Имп. Харьковском университете, т. XV). Харьков, 1908, с. 72–73.
(обратно)670
Васильевскичй В. Г. Житие Иоанна Готского. // Васильевский В. Г. Труды, т.2. СПб., 1909, с. 427.
(обратно)671
Рыдзевская Е. А. Легенда о князе Владимире в саге об Олафе Трюгвасоне. // ТОДРЛ, II, М. — Л., 1935, с. 5–20; Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен до 1000 г.). М., 1923; она же. Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.). М., 1994.
(обратно)672
Вестберг Ф. Ф. Комментарий на Записку Ибрагима Ибн-Якуба о славянах. СПб., 1903, с. 124 и сл.
(обратно)673
Алексеев М. П. Англо-саксонская параллель к Поучению Владимира Мономаха. // ТОДРЛ, II, М.-Л, 1935, с. 39–80.
(обратно)674
Янин В. Л, Литаврин Г. Г. Новые материалы о происхождении Владимира Мономаха. // Историко-археологический сборник. М., 1962, с. 205 и сл.; Брюсова В. Г. К вопросу о происхождении Владимира Мономаха. // ВВ, XXVIII. М.,1968, с. 127–135.
(обратно)675
Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI–XIV веков. М., 1964, с. 18.
(обратно)676
Наиболее качественное воспроизведение образка см.: Николаева Т. В. Древнерусская мелкая пластика XI–XVI веков. М., 1968, рис. 1.
(обратно)677
Пропп В. Я. Русский героический эпос. Л., 1955.
(обратно)678
См. по этому поводу интересные наблюдения Г. Л. Бенедиктова над фольклором русского населения р. Индигирки: Венедиктов Г. Л. Фольклоризация памятников древнерусской литературы в Русском Устье. // ТОДРЛ, XL. Л. 1985, с. 400–409.
(обратно)679
Миллер Вс. Очерки русской народной словесности. Былины. I–XVI. М., 1897, с. 10.
(обратно)680
Там же, с. 32.
(обратно)


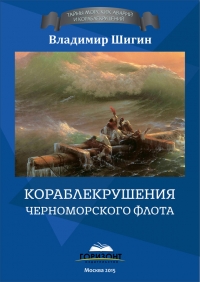


Комментарии к книге «Исследования и статьи», Андрей Леонидович Никитин
Всего 0 комментариев