Франсуа Минье История Французской революции с 1789 по 1814 гг.
Франсуа Минье и школа французских историков эпохи Реставрации
Переворот в общественном строе и всей жизни Франции, начало которому было положено штурмом парижанами королевской тюрьмы Бастилии 14 июля 1789 г., по праву получил название Великой французской революции. Он оказал огромное влияние на ход истории не только Западной Европы и Европы в целом, но всего человечества. Грандиозность этой революции стали довольно рано осознавать как ее участники, так и наблюдатели во Франции и других странах. Еще до завершения революционного процесса стали появляться работы, в которых предпринимались попытки не только описать события революции, но и осмыслить их. Со временем их становилось все больше. Достаточно назвать работы Э. Берка „Размышления о революции во Франции и о поведении некоторых обществ в Лондоне, относящемся к этому событию“ (1790), Джеймса Маккинтоша „Vindiciae Galliae. В защиту Французской революции“ (1791), Р. Сен-Этьена „Исторический альманах Французской революции за 1792 год“, А. Барнава „Введение во Французскую революцию“ (1793), И. Г. Фихте „Попытка содействовать исправлению мнения публики о Французской революции“ (1793), А. Фантена „Философская история революции Франции от созыва нотаблей Людовиком XVI до конца Национального конвента“ (1796), Ж. де Местра „Рассуждения о Франции“ (1797), Ф. Пажеса „Тайная история Французской революции“ (1797), Ф. фон Генца „О ходе общественного мнения в Европе относительно Французской революции“ (1797), Л. М. Прюдома „Общая история преступлений, совершенных во время Французской революции“ (1797), Б. де Молевилля „Анналы Французской революции“ (1800), Ш. де Лекреталя „Очерк Французской революции“ (1801), К. Ф. Больё „Исторический опыт о причинах и следствиях Французской революции с примечаниями о некоторых событиях и учреждениях“ (1801–1803), Ф. Э. Туланжона „История Франции со времени революции 1789 года на основании современных мемуаров и рукописей, взятых в гражданских и военных хранилищах“ (1801–1810). Но даже те из названных работ, которые были написаны историками, носили не столько научный, сколько публицистический характер. Переходную ступень от публицистики к историологии представляла работа А.Л.Ж. де Сталь-Гольштейн (дочь Ж. Неккера, министра финансов при дворе Людовика XVI) „Рассуждение о главных событиях Французской революции“, которая была опубликована посмертно в 1818 г.
И только в двадцатых годах XIX в. появились первые подлинно научные работы о Великой французской революции. В 1823 г. увидели свет первые два тома „Истории Французской революции“ Луи Адольфа Тьера (1797–1877), в следующем — 1824 г. — двухтомный труд Франсуа Мари Огюста Минье (1796–1884) „История Французской революции с 1789 до 1814 гг.“ Так как последний, десятый том работы А. Тьера вышел только в 1827 г., то названное произведение Ф. Минье представляет собой первый завершенный подлинно научный труд по истории Великой французской революции. Именно эта работа и предлагается вниманию всех, кого интересует ход истории Франции в эту необычайно бурную и для нее, и для Европы в целом эпоху.
Он неоднократно выходил в дореволюционной России: первый перевод под редакцией и с предисловием К. К. Арсеньева с приложением нескольких глав из работы Э. Кине „Революция“ был опубликован в двух томах в 1866–1867 гг., затем переиздан в 1895, 1897, 1905 и 1906 гг. В 1906 г. вышел другой, более современный перевод, выполненный И. М. Дебу и К. И. Дебу. Последний дополнил текст Ф. Минье обширными и в целом полезными примечаниями. После этого вплоть до наших дней данная работа Ф. Минье в нашей стране не выходила. Что же касается труда А. Тьера, то он выходил в России только один раз: был издан в пяти томах в 1873–1877 гг.
Со времени выхода работ и Ф. Минье, и А. Тьера прошло более полутора столетий. С тех пор научная литература о Великой французской революции неимоверно обогатилась. Появились тысячи книг, не говоря уже о статьях. В научный оборот введен поистине гигантский материал, который не был известен названным двум историкам. И тем не менее их труды не потеряли своего значения. И дело даже не в том, что они были написаны, как говорится, по горячим следам. Эти работы, уступая если не всем, то значительному числу написанных за истекшие 180 лет работ по богатству использованного фактического материала, выгодно отличаются от многих более поздних трудов значительно более глубоким пониманием самого процесса революции.
Это связано с явлением во многом уникальным в истории исторической науки (историологии). Обычно историки, даже великие, во многом являются эмпириками. Мало кто из них занимался теоретическим осмыслением изучаемых явлений. И почти совсем отсутствуют историки, которые самостоятельно поднимались до уровня философско-исторических обобщений. В этом отношении редким исключением была школа французских историков эпохи Реставрации, к которой принадлежали Ф. Минье и А. Тьер.
Кроме них, к этой школе относились еще два виднейших французских историка.
Один из них — признанный ее глава Жак Никола Огюстен Тьерри (1795–1856). Он — автор множества статей, которые были затем собраны в книгах „Письма по истории Франции“ (1827) и „Десять лет исторических работ“ (1835) (рус. пер. отдельных статей из этих сборников см.: Тьерри О. Городские коммуны во Франции в Средние века. СПб., 1901; Избранные сочинения. (М., 1937), и монографий: „История завоевания Англии норманнами“ (1825; рус. пер.: М., 1900; Киев; Харьков, 1904), „Опыт истории происхождения и успехов третьего сословия“ (1853; послед, рус. изд.: Избр. соч. М., 1937) и др.
Другой — Франсуа Пьер Гийом Гизо (1787–1874), перу которого принадлежат „Этюды по истории Франции“ (1823), „История Английской революции“ (1827–1828; рус. пер.: Ч. 1–2. СПб., 1859–1860; Т. 1–3. СПб., 1868; Т. 1–2. Ростов-на-Дону, 1996), „История цивилизации в Европе“ (1828; рус. пер.: СПб., 1860; 1905), „История цивилизации во Франции“ (1829; рус. пер.: СПб., 1861; Т. 1–4. М., 1877–1881).
Великий вклад французских историков эпохи Реставрации в развитие философско-исторической, а тем самым и собственно исторической мысли заключается в том, что они открыли общественные классы и классовую борьбу.
У этих мыслителей были предшественники. Истоки идеи общественных классов и идеи классовой борьбы уходят в глубокую древность. Социальное неравенство людей в цивилизованном обществе и связанные с ним общественные конфликты были подмечены еще в эпоху Древнего Востока. В античном обществе эти идеи обрели более отчетливую форму.
Великий древнегреческий мыслитель Платон (427–347 гг. до н. э.) в своем „Государстве“, характеризуя олигархический строй, писал: „…Подобного рода государство неизбежно не будет единым, а в нем как бы будут два государства: одно — государство бедняков, другое — государство богачей. Хотя они и будут населять одну и ту же местность, однако станут вечно злоумышлять друг против друга“{1}.
Большое внимание расчленению общества на группы людей с разными интересами уделил в своей „Политике“ другой крупнейший древнегреческий философ — Аристотель (384–322 гг. до н. э.). Чаще всего он говорил о делении общества на состоятельных (богатых, благородных) людей и на простой народ (народную массу){2}. В свою очередь в составе простого народа он выделял земледельцев, ремесленников, торговцев, моряков, военных, поденщиков{3}. Наряду с этим он проводил и другое деление. „В каждом государстве, — писал Аристотель, — есть три части: очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие посредине между теми и другими“{4}.
Как показал Аристотель, анализ подразделения общества на такие составные части и взаимоотношений между ними дает ключ к пониманию того, почему в том или ином конкретном обществе утвердилась та или иная форма государственного устройства. „Так как…, — писал он, — между простым народом и состоятельными возникают распри и борьба, то, кому из них удается одолеть противника, те и определяют государственное устройство, причем не общее и основанное на равенстве, а те, на чьей стороне оказалась победа, те и получают перевес в государственном строе в качестве награды за победу, и одни устанавливают демократию, другие — олигархию“{5}.
Как сообщается в „Римских древностях“ греческого ритора и исторического писателя Дионисия Галикарнасского (I в. до н. э. — I в. н. э.), римлянин Менений Агриппа, который был и участником, и свидетелем ожесточенной борьбы, развернувшейся в начале V в. до н. э. в Риме между патрициями и плебеями, находил, что „не только у нас и не в первый раз беднота встала против богачей, низшие против высших, но, можно сказать, во всех государствах, как в мелких, так и больших, существует враждебная противоположность между большинством и меньшинством“{6}.
Римский историк Тит Ливий (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) в „Истории Рима от основания города“ (рус. пер.: Т. 1. М., 1989; Т. 2, 3. 1994) рассказывает, что, когда плебеи в знак протеста против причиняемых им обид покинули город, то к ним в качестве посредника был послан Менений Агриппа. „И допущенный в лагерь, он, говорят, только рассказал по-старинному безыскусно вот что. В те времена, когда не было, как теперь, в человеке все согласовано, но каждый член говорил и решал, как ему вздумается, возмутились другие члены, что все их старания и усилия идут на потребу желудку; а желудок, спокойно сидя в середке, не делает ничего и лишь наслаждается тем, что получает от других. Сговорились тогда члены, чтобы ни рука не подносила пищу ко рту, ни рот не принимал подношения, ни зубы его не разжевывали. Так, разгневавшись, хотели они смирить желудок голодом, но и сами все, и все тело вконец исчахли. Тут-то открылось, что и желудок не нерадив, что не только он кормится, но и кормит, потому что от съеденной пищи возникает кровь, которой сильны мы и живы, а желудок равномерно по жилам отдает ее всем частям тела. Так, сравнением уподобив мятежу частей тела возмущение плебеев против сенаторов, изменил он настроение людей“{7}. Здесь перед нами зачаток концепции, которая в последующем получила название органической теории классов.
Римский историк Гай Саллюстий Крисп (86 г. — ок. 35 г. до н. э.) в сочинении „О заговоре Катилины“ (ок. 43–44 гг.) подчеркивал: „Безумие охватило не только заговорщиков: вообще весь простой народ в своем стремлении к переменам одобрял намерения Катилины. Именно они, мне кажется, соответствовали его нравам. Ведь в государстве те, у кого ничего нет, всегда завидуют состоятельным людям, превозносят дурных, ненавидят старый порядок, жаждут нового, недовольны своим положением, добиваются общей перемены, без забот кормятся волнениями и мятежами, так как нищета легко переносится, когда терять нечего“{8}.
Историк Аппиан (ок. 100 г. — 170 г. н. э.), грек по происхождению, в своих „Гражданских войнах“ (рус. пер.: Л., 1935; М., 1994 // Римская история. М., 1998; 2002) в отличие от многих своих предшественников, увидел истоки внутриполитической борьбы в Риме, которая привела к краху республики и утверждению империи, не в моральной деградации римлян, а в отношениях поземельной собственности, обусловивших различие интересов разных социальных групп римского общества.
В построениях как античных историков, так и историков эпохи Возрождения немалую роль играли понятия судьбы, как судьбы-рока, так и судьбы-фортуны. У историков-гуманистов особое значение придавалось судьбе-фортуне. И дело было даже не в том, что судьба-фатум слишком походила на божественное провидение, сколько в том, что судьба-фортуна оставляла место для известной свободы действий человека. Фортуну можно было оседлать, использовать в интересах человека.
Известную роль играло понятие фортуны в исторических построениях такого крупного историка, как Никколо ди Бернардо Макиавелли (Макьявелли) (1469–1527). К этому понятию он неоднократно обращался в работе „Государь“ (1513; 1532){9}. Оно для него ценно постольку, поскольку исключало, с одной стороны, полный фатализм, с другой, полный волюнтаризм. Выступая с критикой провиденциализма, Н. Макиавелли писал: „И однако, ради того, чтобы не утратить свободы воли, я предположу, что, может быть, судьба распоряжается лишь половиной наших дел, другую же половину, или около того, она представляет самим людям“{10}.
Но в своем понимании хода истории Н. Макиавелли одними лишь общими рассуждениями о судьбе не ограничивался. Он придерживался идеи циклической смены форм государственного устройства. Тем самым история не сводилась им к потоку событий. Этот поток шел по определенному руслу, и в нем прослеживался определенный порядок. Смену форм государственного строя, причем закономерную, нельзя было объяснить, не переходя от событий к тому, что находило проявление в них, т. е. к историческому процессу. Невозможно было ограничиваться поисками одних лишь мотивов действий тех или иных отдельных людей. Нужно было искать более глубокие факторы. И в этом отношении Н. Макиавелли сделал существенный шаг вперед.
Он обратил внимание на политическую борьбу, которая была свойственна и античным полисам, и городам-государствам Италии эпохи Возрождения. В предисловии к „Истории Флоренции“ (1520–1525, 1532; рус. пер.: Л., 1973; М., 1967) Н. Макиавелли, характеризуя труды своих предшественников — Леонардо Бруни (1370/74–1444) и Поджо Браччолини (1380–1459), писал, что при ознакомлении с ними „обнаружилось, что в изложении войн, которые вела Флоренция с иноземными государями и народами, они действительно проявили должную обстоятельность, но в отношении гражданских раздоров и внутренних несогласий и последствий того и другого они многое вовсе замолчали, а прочего лишь поверхностно коснулись, так что из этой части их произведений читатели не извлекут ни пользы, ни удовольствия“{11}.
У Н. Макиавелли эти гражданские раздоры и внутренние несогласия находятся в центре повествования. Политическая борьба была борьбой политических партий и стоящих за ними политических сил. А за борьбой политических сил скрывалось различие интересов. Борющимися силами были группы людей, имевших разные интересы. „Ибо нет города, — писал Н. Макиавелли, — где бы не обособились эти два начала: знать желает подчинять и угнетать народ, народ не желает находиться в подчинении и угнетении…“{12}.
У Н. Макиавелли все время проскальзывает понимание того, что различие интересов борющихся групп было прежде всего связано с различием имущественного положения составляющих их людей и что в основе борьбы лежит стремление одних сохранить, других — изменить это положение. Однако какая-либо определенная концепция у него отсутствует. Создать таковую в его время было еще невозможно.
Переходя к изложению истории своего отечества, Н. Макиавелли пишет, что „…Во Флоренции раздоры возникали сперва среди нобилей, затем между нобилями и пополанами и, наконец, между пополанами и плебсом“{13}.
Раздоры между гвельфами и гибеллинами способствовали полному ниспровержению аристократии, которое произошло около 1343 г. Но в это время возникают противоречия внутри самого „народа“ (popolo) — между старшими и младшими цехами. Эти противоречия обостряются, а затем на арену борьбы вступает простонародье (plebe), включающее наемных рабочих.
В 1378 г. произошло знаменитое восстание чомпи. Вот какую речь вкладывает Н. Макиавелли в уста одного из вождей восставших: „Все люди имеют одинаковое происхождение, и все роды одинаково старинны, и природа создала всех равными. Если и мы, и они разденемся догола, то ничем не будем отличаться друг от друга; если вы оденетесь в их одежды, а они в ваши, то мы будем казаться благородными, а они простолюдинами, ибо вся разница — в богатстве и бедности… Если вы поразмыслите над поведением людей, то убедитесь, что все, обладающие большими богатствами или большой властью, достигают этого лишь силой и хитростью, но затем все захваченное обманом или насилием начинают благородно именовать даром судьбы, дабы скрыть его гнусное происхождение. Те же, кто от избытка благоразумия или глупости не решаются прибегнуть к этим средствам, с каждым днем все глубже и глубже увязают в рабстве и нищете… Бог и природа дали всем людям возможность достигать счастья, но оно чаще выпадает на долю грабителя, чем на долю умелого труженика, и его чаще добиваются бесчестным, чем честным ремеслом. Потому-то люди и пожирают друг друга, а участь слабого с каждым днем ухудшается. Применим же силу, пока представляется благоприятный случай, ибо более выгодным для нас образом обстоятельства не сложатся: имущие граждане не объединены, Сеньория колеблется, магистраты растеряны, и сейчас, пока они не сговорились, их легко раздавить“{14}.
Все эти внутренние раздоры, в ходе которых каждая из борющихся группировок стремилась удовлетворить свои и только свои интересы, не считаясь с интересами государства, привели, по мнению Н. Макиавелли, к ослаблению Флоренции и, в конечном счете, к установлению тирании, чего ни одна из этих сил не хотела.
Рассматривая в „Истории Флоренции“ все события как результаты деятельности людей, Н. Макиавелли в то же время показывает, что люди не в состоянии предвидеть всех последствий своей собственной деятельности. В целом Н. Макиавелли на примере истории Флоренции показывает, что в исторических событиях, каждое из которых, взятое в отдельности, могло и не быть, проявляется такая связь, которой не могло не быть, что общий ход событий не зависит от желания и воли исторических деятелей. Иначе говоря, история у Н. Макиавелли фактически выступает как естественно-исторический процесс, хотя, конечно, никакого сколько-нибудь четкого выражения этой мысли мы у него не находим.
Раскол общества на классы заметил и младший современник Н. Макиавелли Томас Мор (1478–1535). В своей знаменитой „Утопии“ (1516; рус. пер.: Пг., 1918; М., 1947; 1953) он подчеркивает, что богачи и знать — паразиты, живущие за счет эксплуатации обреченных на нищету тружеников. „Какая же эта будет справедливость, — пишет Т. Мор, имея в виду первых, — если эти люди совершенно ничего не делают или дело их такого рода, что не очень нужно государству, а жизнь их протекает среди блеска и роскоши, и проводят они ее в праздности или в бесполезных занятиях? Возьмем теперь, с другой стороны, поденщика, ломового извозчика, рабочего, земледельца. Они постоянно заняты усиленным трудом, какой едва могут выдержать животные; вместе с тем труд этот настолько необходим, что ни одно общество не просуществует без него и года, а жизнь этих людей настолько жалка, что по сравнению с ними положение скота представляется более предпочтительным“{15}.
И Т. Мору совершенно понятна причина такого положения вещей — частная собственность. На страже частной собственности и интересов богачей стоит государство. „При неоднократном и внимательном созерцании всех процветающих ныне государств, — продолжает автор, — я могу клятвенно утверждать, что они представляются не чем иным, как некиим заговором богачей, ратующих под вывеской и именем государства о своих личных выгодах“{16}.
О расколе общества на богачей, ведущих праздный образ жизни, и замученных непосильным трудом бедняков писал другой утопист — Джан Доменико (в монашестве — Томмазо) Кампанелла (1568–1639) в работе „О наилучшем государстве“ (1637), (рус. пер.: Кампанелла. Город солнца. М., 1954). И причину его он видел в частной собственности.
Не просто на классы, а на классовую борьбу обратил внимание Джамбаттиста Вико (1668–1744) в своих знаменитых „Основаниях новой науки о общей природе наций“ (1725), (рус. пер.: М., 1940; М.; Киев), 1994, и последняя играет немалую роль в его исторической концепции. Согласно его представлениям, именно борьба зависимых, клиентов против патриархов привела к появлению государства и тем самым к переходу от века богов к веку героев. Государство возникло как орудие в руках знати для удержания в повиновении угнетенных. В дальнейшем в результате борьбы плебеев против благородных произошла смена аристократической республики республикой народной, демократической, а тем самым и переход от века героев к веку людей.
XVIII в. во Франции был временем вызревания предпосылок революции и соответственно обострения классовых противоречий. Поэтому многие мыслители, жившие в эту эпоху, заметили и общественные классы, а значительная их часть — и классовую борьбу.
„Первым злом, — писал Жан Мелье (1664–1729) в своем знаменитом „Завещании“ (рус. пер.: Т. 1–3. М., 1954), — является огромное неравенство между различными состояниями и положениями людей; одни как бы рождены только для того, чтобы деспотически властвовать над другими и вечно пользоваться всеми удовольствиями жизни; другие, наоборот, словно родились для того, чтобы быть нищими, несчастными и презренными рабами и всю жизнь изнывать под гнетом нужды и тяжелого труда. Такое неравенство глубоко несправедливо, потому что оно отнюдь не основано на заслугах одних и проступках других, оно ненавистно, потому что, с одной стороны, лишь внушает гордость, высокомерие, честолюбие, а с другой стороны, лишь порождает чувство ненависти, зависти, гнева, жажды мщения, сетования и ропот“{17}.
Такой же взгляд развивал Морелли в книге „Кодекс природы, или истинный дух ее законов“ (1755), (рус. пер.: М.; Л., 1957) и Габриэль Бонно де Мабли (1709–1785) в труде „О законодательстве, или принципы законов“ (1776). „Повсюду, — писал последний, — общество было подобно скопищу угнетателей и угнетенных“{18}. Все названные мыслители видели причину существования классов в частной собственности. Они считали классовое неравенство несправедливым и мечтали об обществе, где не будет частной собственности.
Иную позицию занимал Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778). Видя деление общества на классы, он считал его неизбежным. „На нашей несчастной земле, — утверждал Вольтер в статье „Равенство“ в „Философском словаре“ (1765–1769), — невозможно без того, чтобы, живя в обществе, люди не были разделены на два класса: один класс богатых, которые командуют, и другой класс бедных, которые служат“{19}.
О разделении людей в цивилизованных обществах на две основные группы, из которых одна эксплуатирует другую, писал Жан-Жак Руссо (1712–1778) в работе „Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми“ (1755), (рус. пер.: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969 и др.). „Несчастье почти всех людей и целых народов, — писал Клод Антуан Гельвеций (1715–1771) в труде „О человеке“ (1769; 1773), — зависит от несовершенства их законов и от слишком неравномерного распределения их богатств. В большинстве государств существует только два класса граждан: один — лишенный самого необходимого, другой — пресыщенный излишествами. Первый класс может удовлетворить свои потребности лишь путем чрезмерного труда. Такой труд есть физическое зло для всех, а для некоторых — это мучение. Второй класс живет в изобилии, но зато изнывает от скуки. Но скука есть такое же страшное зло, как и нужда“{20}.
„Чистый равномерно распределенный продукт, — вторил ему Дени Дидро (1713–1788) в одной из статей своей знаменитой „Энциклопедии“, — предпочтительнее большей сумме чистого дохода, который был бы распределен крайне неравномерно и разделил бы народ на два класса, из коих один преобременен избытком, а другой вымирает от нищеты“{21}. О распадении общества „на два класса: на очень малочисленный класс богатых и очень многочисленный класс бедных граждан“ Д. Дидро говорил и в работе „Последовательное опровержение книги Гельвеция „О человеке“{22}.
Идея общественных классов и классовой борьбы нашла свое выражение в труде Гийома Тома Франсуа Рейналя (1713–1796) „Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях“ (1770; 1780). По его мнению, после Крестовых походов в Европе начала водворяться собственность среди частных лиц и борьба вокруг нее. „Все нации, — пишет Г. Рейналь, — кажутся разделенными на две непримиримые части. Богатые и бедные, собственники и наемники, т. е. господа и рабы, составляют два класса граждан, к несчастью, противоположных. Напрасно некоторые современные писатели хотели установить посредством разного рода софизмов существование мирного соглашения между этими двумя состояниями. Повсюду богатые стремятся получить с бедного как можно больше, а издержать как можно меньше; бедные же всюду стремятся продать свой труд как можно подороже. На этом слишком неравном рынке богатый всегда будет устанавливать цену“{23}.
Брат Г.Б. де Мабли философ Этьен Бонне де Кондильяк (1715–1780) в работе „О выгодах свободной торговли“ (1776) писал, что существуют два класса граждан: класс собственников, которым принадлежат все земли и все производства, и класс наемных работников, которые, не владея ни землей, ни средствами производства, существуют на заработную плату, получаемую ими за свой труд.
Блестящий публицист и ученый Симон Никола Анри Ленге (1736–1794) в книге „Теория гражданских законов, или фундаментальных принципов общества“ (1767) придерживался такого взгляда на классовое деление общества, которое в известной степени было пронизано историзмом. Он считал, что первой формой эксплуатации человека человеком было рабство, которое он не отличал от крепостничества. Рабство возникло в результате покорения охотниками хлебопашцев и пастухов. В более позднее время на смену рабам, в число которых Н. Ленге включал и крепостных крестьян, пришли наемные рабочие.
Современный рабочий есть прямой преемник раба. „Отменяя рабство, вовсе не имели в виду уничтожить ни богатство, ни его преимущества… — подчеркивал Н. Ленге, — А поэтому все, кроме названия, должно было остаться по-прежнему. Наибольшая часть людей всегда должна была жить на заработную плату, находясь в зависимости от ничтожного меньшинства, присвоившего себе все блага. Таким образом, рабство было увековечено на земле, но под более мягким названием“{24}.
Положение наемных рабочих, по мнению Н. Ленге, не только не лучше положения рабов, а гораздо хуже. „У них, говорят, нет господ… — пишет Н. Ленге. — Но это явное злоупотребление словом. Что это означает: у них нет господ? У них есть господин, и притом самый ужасный, самый деспотичный из всех господ: нужда. Он ввергает их в самое жесткое рабство. Им приходится повиноваться не какому-либо отдельному человеку, а всем вообще. Над ними властвует не какой-нибудь единственный тиран, капризам которого должны угождать и благоволения которого должны добиваться, — это поставило бы известные границы их рабству и сделало бы его более сносным. Они становятся слугами всякого, у кого есть деньги, и в силу этого их рабство приобретает неограниченный характер и неумолимую суровость“{25}.
„Необходимо выяснить, — подчеркивал Н. Ленге, — какова в действительности та выгода, которую принесло им уничтожение рабства. Говорю с горечью и вполне откровенно: вся выгода состоит для них в том, что их вечно преследует страх голодной смерти, — несчастье, от которого, по крайней мере, их предшественники в этом низшем общественном слое были избавлены“{26}.
Особенно много писали об общественных классах и классовой борьбе в годы Великой французской революции. Не приводя больше имен, ограничимся высказыванием французского просветителя и ориенталиста Константена Франсуа Шосбефа, более известного под псевдонимом Вольнея (1757–1820). „Невежество и алчность, — писал он в работе „Руины, или размышления о расцвете и упадке империй“ (1791), — породив тайное брожение внутри каждого государства, разделили граждан, и каждое общество распалось на угнетателей и угнетенных, на хозяев и рабов“{27}.
Таким образом, идея общественных классов и классовой борьбы возникла задолго до французских историков эпохи Реставрации. Но никакой историологической концепции этого явления до них не существовало. Первая концепция общественных классов и классовой борьбы, которая была использована для понимания хода истории, была создана лишь ими.
Между взглядами отдельных представителей этой школы существуют определенные различия, да и воззрения каждого из них в течение жизни претерпевали изменения. Не вдаваясь ни в какие детали, попытаемся проследить логику движения их мысли, которая завершилась созданием концепции общественных классов и классовой борьбы.
Начнем с общей характеристики эпохи, к которой относится начало их научной деятельности. В 1815 г. после второго и окончательного отстранения Наполеона от власти во Франции вновь утвердились Бурбоны. Французским королем стал брат обезглавленного Людовика XVI — Людовик XVIII. Вместе с ним к власти во Франции вновь пришло дворянство. Конечно, социально-экономический строй страны не претерпел существенных изменений. Франция, ставшая в годы революции страной буржуазной, ею и осталась. Дворянство было вынуждено считаться с интересами буржуазии, однако к власти последнюю не допускало. Буржуазию это не устраивало. Она повела борьбу за власть, в ходе которой опиралась на поддержку широких масс населения.
Политическая классовая борьба с неизбежностью сочеталась с идеологической. Идеологи дворянства оправдывали его претензии на политическую власть. И для этого обращались к истории. Была воскрешена концепция, которая в свое время была изложена в работе графа Анри де Буленвилье (1658–1722) „История древнего правительства Франции“ (1727), в которой права дворян обосновывались тем, что они были потомками франков, завоевавших страну и подчинивших себе ее коренных обитателей.
Граф Франсуа Доминик Рене де Монлозье (1755–1838) в книге „О французской монархии“ (1814) рассматривал борьбу третьего сословия против дворянских привилегий как бунт рабов против их законных хозяев, а результат этой борьбы — как узурпацию законных прав дворянства. „Порода вольноотпущенных, — писал он, обращаясь к буржуазии, — племя рабов, освобожденных из рук наших, народ данников, народ новый! Это вам была дарована свобода, вам, а не нам, благородным; для нас все существует по праву, для вас все по милости“{28}.
Идеологи буржуазии приняли вызов. Целая плеяда блестящих историков обратилась к прошлому страны с тем, чтобы обосновать претензии именно этого класса на политическое господство. „В 1817 г., — писал О. Тьерри, — я начал в книгах по истории искать доказательств и аргументов в подтверждение моих политических взглядов“{29}. Особое внимание было уделено детальному исследованию того периода истории Франции, когда дворянство было отстранено от власти, т. е. эпохи Великой революции. И когда люди, которые сами были активными участниками классовой борьбы, приступили к изучению хода революции, то им бросилось в глаза, что в эту эпоху вся страна раскололась на два лагеря, которые вели между собой борьбу не на жизнь, а на смерть. И было совершенно ясно, что от исхода этой борьбы зависела судьба Франции.
Сразу же возникал вопрос о том, возникли ли эти две силы только в ходе революции или они существовали и раньше. И когда историки эпохи Реставрации под таким углом зрения подошли к историческому материалу, то ответа на него долго искать не пришлось. Можно было только удивляться тому, как историки этого раньше не замечали.
Эти две общественные силы, эти два общественных класса существовали в течение всей истории Франции. И на протяжении всего этого времени между ними шла, то обостряясь, то принимая более умеренные формы, непрерывная борьба.
„Революция и контрреволюция, новая Франция и старый режим, — писал Ф. Гизо, — это те две силы, которыми мне хотелось бы определить соответствующую ситуацию со времен Реставрации и вплоть до сегодняшнего дня. Других целей я не ставил в этом сочинении. Прежде всего следовало бы, таким образом, обозначить эти две силы и определить общий и определяющий характер их взаимоотношений. Его я усматриваю в войне, то публичной и кровавой, то в дальнейшем и чисто „политической“, которая велась в ходе становления нашей монархии, с одной стороны, дворянством и духовенством, а с другой — третьим сословием. Революция мне казалась исходом этой войны, то есть окончательной победой третьего сословия над дворянством и духовенством, которые долгое время владели Францией, да и самим третьим сословием“{30}.
Следующий вопрос: из-за чего шла борьба, чего добивались борющиеся силы? Весь ход Великой революции неопровержимо говорил о том, что борьба шла за власть. Совершенно ясно было, что основным вопросом революции был вопрос о власти. „Все те шесть лет, которые мы рассмотрели (1789–1795 гг. — Ю.С.), — писал Ф. Минье в „Истории Французской революции“, — прошли в стараниях утвердить господство одного из классов, составляющих французскую нацию. Привилегированные классы мечтали утвердить свое господство, противопоставив его двору и буржуазии, с помощью сохранения сословий и Генеральных штатов; буржуазия жаждала установить свой порядок вещей, направленный против толпы, знати и духовенства, учреждением Конституции 1791 г., толпа старалась захватить власть для себя против всех и вся Конституцией 1793 г.“{31}.
Но ради чего шла борьба за власть, зачем она была нужна как тому, так и другому классу? Это был, пожалуй, самый важный вопрос, который вставал перед историками эпохи Реставрации. Борьба за власть велась не ради самой власти. Власть нужна была каждому из борющихся классов для защиты и реализации своих интересов, для сохранения или создания выгодного ему общественного порядка.
У классов были различные, более того, противоположные интересы. И эти интересы были объективными. Шли века, сменялись поколения, а деление на классы с разными интересами сохранялось. Интересы классов не зависели от сознания и воли отдельных людей. Наоборот, эти существующие независимо от сознания и воли людей интересы определяли их сознание и волю, тем самым их общезначимые действия и, в конечном счете, ход истории. „Господствующие интересы, — писал Ф. Минье в работе „О феодализме“, — определяют ход социального движения. Это движение пробивается к своей цели сквозь все стоящие на его пути препятствия, прекращается, когда оно достигло цели, и замещается другим, которое на первых порах совершенно незаметно и которое дает о себе знать лишь тогда, когда оно становится наиболее мощным. Таков был ход феодального строя. Этот строй был нужен обществу до того, как он установился в действительности, — это первый период его; затем он существовал фактически, перестав быть нужным, — второй его период; и это привело к тому, что он перестал быть фактом“.{32} Так был сделан решающий шаг к открытию в истории того фактора, который, существуя независимо от воли и сознания людей, определял их сознание и волю.
Было совершенно ясно, что корни классовых интересов заключены не в биологической природе человека. И дворяне, и буржуа, и крестьяне по своей биологической природе не отличались друг от друга. А интересы были разными.
Проще всего было раскрыть корни различия интересов дворянства и крестьянства. Дворяне владели землей, которую обрабатывали крестьяне, и в силу этого имели право на часть продукта, созданного последними. Они были кровно заинтересованы в сохранении такого рода поземельных отношений, ибо они обеспечивали их существование. Крестьяне же, наоборот, были кровно заинтересованы в уничтожении такого рода поземельных отношений. Они хотели стать полными собственниками земли, которую обрабатывали, хотели избавиться от эксплуатации со стороны дворян.
Дворянам власть была нужна для увековечения существующих поземельных отношений. Крестьяне все в большей степени приходили к пониманию того, что без отстранения дворян от политической власти невозможно ликвидировать несправедливые, по их убеждению, отношения поземельной собственности.
Понятие общественного класса у историков эпохи Реставрации было не очень четким. Поэтому они выделяли то два, то три, то еще большее число классов. Под одним общественным классом они понимали дворянство, которое действительно был таковым. В случае двухклассового деления общества под вторым классом они понимали „третье сословие“, т. е. все непривилегированные слои населения дореволюционной Франции, включая буржуазию, мелкую буржуазию, крестьянство и городскую бедноту, в том числе предпролетариат.
Когда речь шла о дворянстве и крестьянстве, то было ясно, что эти две группы людей отличались друг от друга прежде всего тем, что занимали разные места в системе поземельных отношений, т. е. отношений собственности на землю. В отношении других групп, входивших в состав третьего сословия, так сказать было нельзя.
В результате историки эпохи Реставрации пришли к выводу, что общественные классы суть большие группы людей, занимающие разные места в системе не только поземельных отношений, но всех вообще отношений собственности, всех вообще имущественных отношений. Именно различие мест в системе имущественных отношений и определяет различие интересов общественных классов. И когда историки эпохи Реставрации принимали во внимание не только поземельные, но и прочие имущественные отношения, то число выделяемых ими классов увеличивалось.
Ф. Минье указывал, что каждое из трех существовавших во Франции сословий в свою очередь подразделялось на несколько групп, которые он именовал классами. Ф. Гизо говорил о существовании трех основных „социальных групп“, или классов. Первую образуют люди, живущие на доходы с земельной („или иной“ — рантьеры) собственности — аристократия. Вторая состоит из людей, стремящихся увеличить свое движимое или земельное имущество своим трудом, — „буржуазия“. Третью составляют люди, не имеющие собственности и живущие исключительно своим трудом, — „народ“.
О. Тьерри выделял два привилегированных сословия (дворянство и духовенство), „народ“, или „промышленников“, куда он включал и крупных капиталистов и простых рабочих, и, наконец, „самый невежественный класс“, или „чернь“.
Таким образом, историки эпохи Реставрации ушли далеко вперед от примитивного представления о классах как группах людей, из которых одна имеет много (богатые), а другая мало или совсем ничего (бедняки). Не в богатстве одних и бедности других состоит суть деления на классы. Богатство одних людей и бедность других производны от мест, которые занимают разные группы людей в системе имущественных отношений.
Имущественные отношения являются основными, фундаментальными. Они определяют интересы людей, а те — общественное мнение и тем самым общезначимые действия людей во всех основных сферах общественной жизни. Характер имущественных отношений определяет ход политической борьбы, природу создаваемых людьми политических и иных общественных институтов. Иначе говоря, имущественные отношения определяют политические и все прочие общественные отношения. Если имущественные отношения являются фундаментальными, базисными, то все прочие, в конечном счете, — производными от них. Таким образом, все общественные отношения были фактически подразделены на две категории: отношения первичные и отношения вторичные, производные от первых.
С открытием классов и классовой борьбы в историологию впервые вошел народ, причем не как пассивная страдающая масса, а как активная действующая социальная сила. Одна из работ О. Тьерри называлась „Подлинная история Жака Простака, написанная на основании подлинных документов“ (рус. пер.: Избр. соч. М., 1937). Под Жаком Простаком он понимал французское крестьянство.
По-новому встал вопрос о выдающихся деятелях истории и их отношении к массам. Великим становится человек, который лучше других понял и выразил интересы своего класса и который возглавил его борьбу за эти интересы. Сила великого человека в тех людях, которые за ним идут. Если он пренебрегает интересами своего класса, то теряет сторонников и последователей и лишается силы, лишается возможности воздействовать на ход исторического процесса.
Стремясь выяснить, является ли наличие общественных классов и классовой борьбы специфической особенностью развития Франции или же это присуще и другим странам, историки эпохи Реставрации обратились к истории Англии. И убедились, что открытые ими закономерности не в меньшей степени проявляются в истории и этой страны. Английское общество тоже было расколото на классы, между которыми на всем протяжении его истории шла упорная борьба. Кульминацией этой классовой борьбы была Английская революция XVII в.
Открыв общественные классы и классовую борьбу, французские историки эпохи Реставрации тем самым пришли к определенному общему взгляду на историю, который, однако, ими нигде сколько-нибудь четко изложен не был. Ими фактически было признано существование нескольких качественно отличных общественных укладов, в основе каждого из которых лежала определенная система имущественных отношений, с неизбежностью порождавшая деление на общественные классы — группы людей с разными объективными интересами. Каждый уклад существовал до тех пор, пока соответствовал потребностям времени. Однако рано или поздно такому соответствию приходил конец. Тогда возникала объективная необходимость в замене этого общественного уклада новым. И эта смена укладов никогда не происходила автоматически. Были классы, кровно заинтересованные в сохранении старых отживших отношений и имевшие возможность препятствовать назревшим переменам, ибо им принадлежала власть. Чтобы эти перемены произошли, необходимо было, чтобы классы, интересы которых требовали преобразований, поднялись на борьбу и захватили власть. Только переход власти в руки этих прогрессивных сил мог обеспечить смену одного общественного строя другим, отвечающим нуждам времени.
Из всех французских историков эпохи Реставрации ближе всего к такому пониманию истории подошел Ф. Минье. Выше уже были процитированы строки из его работы, в которых говорилось об объективном характере социального движения, ведущего к смене одного общественного строя другим. Приведем еще одно из его высказываний, с которого начинается его труд — „История Французской революции с 1789 по 1814 гг.“ „Я собираюсь, — писал он, — дать краткий очерк Французской революции, с которой начинается в Европе эра нового общественного уклада… Эта революция не только изменила соотношение политических сил, но произвела переворот во всем внутреннем существовании нации. В то время еще существовали средневековые формы общества. Вся земля была разделена на враждовавшие друг с другом провинции, а общество разделялось на соперничающие друг с другом классы. Дворянство, утратив всю свою власть, однако, сохранило свои преимущества; народ не пользовался никакими правами; королевская власть была ничем не ограничена, и Франция была предана министерскому самовластию, местным управлениям и сословным привилегиям. Этот противозаконный порядок революция заменила новым, более справедливым и более соответствующим требованиям времени. Она заменила произвол — законом, привилегии — равенством; она освободила людей от классовых различий, землю — от провинциальных застав, промышленность — от оков цехов и корпораций, земледелие — от феодальных повинностей и от тяжести десятины, частную собственность — от принудительного наследования; она все свела к одинаковому состоянию, одному праву и одному народу… Главная цель была достигнута, в империи во время революции разрушилось старое общество и на месте его создалось новое“{33}.
А затем следует обобщающий вывод: „Когда какая-нибудь реформа сделалась необходимой и момент выполнения ее наступил, то ничто уже не может помешать ей и все ей способствует. Счастливы были бы люди, если бы они умели этому подчиниться, если бы одни уступали то, что у них есть лишнего, а другие не требовали бы того, чего им не хватает; тогда революции происходили бы мирным путем, и историкам не приходилось бы упоминать ни об излишествах, ни о бедствиях; им бы только пришлось отмечать, что человечество стало более мудрым. Но до сих пор летописи народов не дают нам ни одного примера подобного благоразумия: одна сторона постоянно отказывается от принесения жертв, а другая их требует, и благо, как и зло, вводится при помощи насилий и захвата. Не было еще до сих пор другого властелина, кроме силы“{34}.
Таким образом, Ф. Минье пришел к взгляду на историю как на процесс, хотя складывающийся из действий людей, но, тем не менее, не зависящий от их сознания и воли, как на процесс естественно-исторический. В главном и основном он идет именно так, а не иначе. Существует историческая предопределенность, необходимость, которая проявляется в случайностях, в том, что могло быть, а могло и не быть. И эта историческая необходимость совершенно отчетливо выступает не только в общем ходе истории, но и в крупных ее эпизодах, в частности, в таких, как Великая французская революция.
„Передавая историю этого важного периода, со дня открытия Генеральных штатов и до 1814 г., — писал Ф. Минье, — я постараюсь, по мере того как буду излагать ход революции, истолковывать решительные моменты ее. Мы увидим, чья вина в том, что, начавшись, при обстоятельствах, обещавших полный успех, она так жестоко выродилась; каким образом она привела Францию к республике и каким образом на обломках этой последней она воздвигла империю. Эти различные фазы ее были почти неизбежны, так как события, обусловившие их, имели непреодолимую силу. Однако, было бы смело утверждать, что все это иначе и быть не могло; наверное, можно сказать лишь одно, что революция, имея причины, которые ее произвели, и со страстями, которые она пробудила, должна была иметь такой ход и такое окончание“{35}.
Казалось бы, у французских историков эпохи Реставрации все встало на свое место: действия людей, из которых складывается история, определяются общественным мнением, а общественное мнение, разное у разных классов, детерминируется интересами этих классов, которые обусловлены местом этих больших групп людей в системе имущественных отношений. Имущественные отношения — основа общества, история есть смена систем имущественных отношений, а классовая борьба — сила, определяющая переход от одной такой системы к другой, и тем самым ход истории. История есть объективный процесс, ход которого в общем и целом предопределен, причем ни богом, ни абсолютным разумом, ни разумом человечества, ни разумом и волей великих людей, а объективными факторами. Проблема, казалось, была решена.
На деле же от решения ее было еще очень далеко. На пути к нему историков эпохи Реставрации подстерегал роковой вопрос: а почему в обществе существуют именно такие, а не иные имущественные отношения, чем определяется характер этих отношений, а вслед за этим и вопрос о том, почему те или иные системы имущественных отношений перестают соответствовать потребностям времени, почему возникает необходимость смены одних таких систем другими, что лежит в основе этой смены? Проблема возникновения тех или иных систем имущественных отношений выступала перед французскими историками эпохи Реставрации прежде всего как вопрос о происхождении общественных классов.
И вот здесь историки эпохи Реставрации не смогли удержаться на достигнутой ими высоте. В большинстве своем, следуя в этом отношении за А. Буленвилье, они стали объяснять возникновение классов во Франции франкским завоеванием. Вторгшиеся в страну франки, победив галлов, превратили их в своих крепостных, а сами стали дворянами. Побежденные не могли смириться с поражением и вели борьбу за свое освобождение от чужеземного гнета.
Два общественных класса в своей основе суть две расы: раса победителей и раса побежденных. Классовая борьба в своей сущности есть борьба рас. Со стороны побежденных и их потомков эта борьба была войной за освобождение от чужого господства. Из среды крестьян вышли горожане, лучшие из них стали буржуа. Естественно, что крестьяне, рядовые горожане и буржуа составляют один класс, борьбу которого по праву возглавила самая передовая его часть — буржуазия. В ходе революции потомки побежденных одержали победу и по праву вернули себе власть над страной, которая была утрачена в результате франкского завоевания.
Дворянство во время революции проявило свою антинациональную суть, в массе своей бежав за границу и примкнув к внешним врагам Франции. Многие из них вступили в ряды армий государств, вошедших в состав антифранцузских коалиций, и с оружием в руках сражались против своей бывшей родины. И вот теперь вернувшиеся в обозе оккупационных войск дворяне снова пытаются вернуть страну к прошлому. Истинным французам нужно снова объединиться, чтобы добиться своего полного освобождения. И эту борьбу, естественно, может возглавить только самая активная часть народа — буржуазия. Ее нужно поддержать.
Таким образом, у историков эпохи Реставрации были две трактовки и общественных классов, и классовых интересов, и классовой борьбы: социальная и расовая. У одних выступала на первый план одна, у других — иная. Но главное в том, что и в случае социальной трактовки классов и классовых интересов такое объяснение возникновения классов делало появление феодальных имущественных отношений результатом сознательной деятельности группы людей.
Завоеватели путем насилия поработили людей, а затем закрепили это в праве. Бесспорно, что право является волей государства. Выходило, что феодальные отношения возникли по воле группы людей и созданного ими государства, т. е. являются, как и все прочие общественные связи, отношениями волевыми.
В результате снова замкнулся тот порочный круг, в котором вращалась социальная мысль просветителей XVIII в., включая и французских материалистов: общественное мнение определяется системой имущественных отношений, а сама система этих отношений возникла по воле группы людей, в силу того, что у них существовало именно такое, а не иное общественное мнение{36}.
И выходом из этого круга был, как и у просветителей, волюнтаризм. Люди, забравшие в свои руки власть, путем насилия или убеждения могут создать любые имущественные, а тем самым и все прочие отношения. И поэтому, наряду с рассмотренными выше положениями, свидетельствующими о фактическом признании французскими историками названной школы объективного характера исторического процесса, в их трудах встречаются и прямо им противоположные. „…Мир создается, — писал, например, Ф. Гизо в „Истории цивилизации в Европе“, — преимущественно самим человеком; от его чувств, идей, нравственных и умственных наклонностей зависит устройство и движение мира; от его внутреннего состояния зависит и состояние общества“{37}.
Надо сказать, что все эти общие, чаще всего четко не осознаваемые теоретические посылки в период до 1830 г. мало влияли на конкретные исследования историков эпохи Реставрации. Практически во всех своих главных исторических трудах они исходили из идеи фундаментальности имущественных отношений, что обусловило исключительную их ценность. Но в общетеоретическом плане изъян был огромным.
Французские историки эпохи Реставрации смогли бы продвинуться в теоретическом плане значительно дальше, если бы попытались применить основные положения своей концепции классов и общественной борьбы к современному им буржуазному обществу. Чисто идейные предпосылки для этого существовали. В самой Франции еще в XVIII в. появились мыслители, которые подметили существование и иных классов, кроме дворянства и крестьянства. Выше я уже упоминал двух: Г. Рейналя и Н. Ленге. Да и сами они приближались к этой идее, что можно видеть на примере и Ф. Гизо, и Ф. Минье.
Французские историки эпохи Реставрации были идеологами буржуазии. Они обратили внимание на ту классовую борьбу, которая обеспечила приход буржуазии к власти. Но ту классовую борьбу, которая угрожала классовому господству буржуазии, они заметить не захотели. Одни из них, что можно видеть на примере одного из приведенных выше высказываний Ф. Минье, утверждали, что с победой революции классовые различия вообще исчезают. Другие, в частности Ф. Гизо, признавая существование классов и в буржуазном обществе, тут же утверждали, что классовая борьба в нем „противоестественна“ и „безумна“. С победой буржуазии все конфликты между классами являются не более как „роковым недоразумением“, плодом „искусственной агитации“.
Когда речь заходила о классовых различиях в буржуазном обществе, а также внутри дореволюционного третьего сословия между буржуа и людьми, не имеющими средств производства, французские историки названной школы объясняли их возникновение умом, талантом и бережливостью первых, и леностью и беспечностью вторых.
Когда же после революции 1830 г., навсегда изгнавшей Бурбонов из Франции и передавшей власть снова и теперь окончательно в руки буржуазии, борьба теперь уже между капиталистами и рабочим классом стала приобретать все больший размах, французские историки рассматриваемой школы шаг за шагом стали отступать от основных положений своей прежней концепции.
Это сказалось, в частности, на оценке ими роли крестьянских восстаний. Если в 1820 г. О. Тьерри с гордостью писал: „Мы люди городов, люди коммун, люди земли, сыны тех крестьян, которых изрубили рыцари близ города Mo… сыны тех буржуа, которые заставили дрожать Карла V, сыны возмутившихся Жаков“{38}, то в более поздние годы он стал утверждать, что крестьянское восстание 1358 г. оставило после себя „лишь ненавистное имя и печальные воспоминания“{39}.
Если бы историки эпохи Реставрации занялись исследованием классов и классовой борьбы в буржуазном обществе, то с неизбежностью бы поняли, что ни завоевание, ни насилие само по себе взятое, ни законодательная деятельность государства не могут объяснить возникновение и существование тех или иных отношений собственности. Им бы пришлось обратиться к политической экономии. Но хотя они знали о существовании этой науки, ее достижения оказались ими невостребованными.
А между тем именно в результате ее развития было установлено, что существуют два вида отношений собственности. Первый вид — правовые, волевые по своей природе, отношения собственности. Именно эти и только эти отношения имелись в виду, когда речь шла об имущественных отношениях. Эти отношения действительно были производными. Но, кроме этих отношений собственности, существует другой их вид — экономические отношения собственности, которые проявляются и существуют как отношения распределения и обмена материальных благ. Имущественные отношения, или волевые отношения собственности, были производными от этих фундаментальных связей.
И именно детальное исследование социально-экономических отношений проложило путь к более глубокому, чем у французских историков эпохи Реставрации, пониманию сущности и общественных классов, и классовой борьбы, а тем самым и исторического процесса. Это сделали Карл Маркс (1818–1883) и Фридрих Энгельс (1820–1895), создавшие материалистическое понимание истории. Но о мыслителях нужно судить не по тому, что они не сумели сделать по сравнению с теми людьми, которые приняли у них эстафету, а по тому, насколько смогли продвинуться вперед от уровня, достигнутого их предшественниками. И если подходить к трудам французских историков Реставрации именно с таких позиций, то нельзя не признать их вклад в историософскую и теоретическую историческую мысль поистине огромным. „Что же касается меня, — писал К. Маркс, — то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл борьбу между ними. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, буржуазные экономисты — экономическую анатомию классов“{40}. Говоря о буржуазных историках, открывших существование общественных классов и борьбу между ними, К. Маркс имел в виду О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье и А. Тьера{41}. Наилучшее выражение и воплощение созданная этими историками концепция классов и классовой борьбы нашла в работе, которая предлагается вниманию читателя — книге Франсуа Минье „История Французской революции с 1789 по 1814 гг.“{42} Она представляет собой великий памятник не только исторической, но и философско-исторической мысли.
Ю. И. Семенов
Комментарии
1 Платон. Государство // Соч. в 3-х т. Т. 3. Ч. 1. М., 1971. С. 365.
2 Аристотель. Политика // Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 457, 462, 484, 491, 493, 496, 509.
3 Там же. С. 490, 493, 495.
4 Аристотель. Политика // Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 507.
5 Там же. С. 509.
6 Цит.: Пельман Р. История античного коммунизма и социализма. СПб., 1910. С. 560.
7 Тит Ливий. История Рима от основания города. Т. 1. М., 1989. С. 89.
8 Гай Саллюстий Крисп. О заговоре Катилины // Соч. М., 1981. С. 21.
9 Макиавелли Н. Государь. М., 1990. С. 19–20, 43, 45, 53, 64, 73, 74, 76.
10 Там же. С. 74.
11 Макьявелли Н. История Флоренции. М., 1973. С. 9.
12 Макиавелли Н. Государь. С. 29.
13 Макьявелли Н. История Флоренции. С. 10.
14 Макьявелли Н. История Флоренции. С. 115–116.
15 Мор Т. Утопия. М., 1953. С. 217.
16 Мор Т. Утопия. М., 1953. С. 218.
17 Мелье Ж. Завещание. Т. 2. М., 1954. С. 154–155.
18 Мабли Г. О законодательстве, или принципы законов // Избр. произв. М.; Л., 1950. С. 57.
19 Цит.: Солнцев С. И. Общественные классы. Важнейшие моменты в развитии проблемы классов и основные учения. Пг., 1923. С. 26.
20 Гельвеций К. А. О человеке // Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1974. С. 382.
21 Дидро Д. Человек // Собр. соч. Т. 7. М.; Л., 1939. С. 200.
22 Дидро Д. Последовательное опровержение книги Гельвеция „О человеке“. //Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 470.
23 Цит.: Солнцев С. И. Указ. раб. С. 26–27.
24 Linguet N. Théorie des loix civiles, ou Principes fondamentaux de la société. T. 2. London, 1767. P. 462.
25 Linguet N. Théorie des loix civiles, ou Principes fondamentaux de la société. T. 2. London, 1767. P. 470.
26 Idem. P. 464.
27 Вольней. Руины, или размышления о расцвете и упадке империй // Избр. атеист. произв. М., 1962. С. 52.
28 Цит.: Виппер Р. Очерки исторической мысли в XIX веке и первая историческая формула борьбы классов // Мир божий. 1900. № 3. С. 252.
29 Цит.: История философии. Т. 3. М., 1943. С. 424.
30 Guizot F. Du gouvernement de la France depuis la Restauration et du ministère actuel. Paris, 1821. P. V–VI.
31 Минье Ф. История Французской революции с 1789 по 1814 гг. М., 2006. С. 381.
32 Цит.: Плеханов Г. В. Материалистическое понимание истории // Избр. филос. произв. В 5 т. Т. 3. С. 651.
33 Минье Ф. История Французской революции с 1789 по 1814 гг. М., 2006. С. 35–36.
34 Там же. С. 36.
35 Минье Ф. История Французской революции с 1789 по 1814 гг. М., 2006. С. 36–37.
36 Подробно об этом: Семенов Ю. И. Философия истории: Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней. М., 2003. С. 273–279.
37 Гизо Ф. История цивилизации в Европе. СПб., 1906. С. 56.
38 Цит.: Виппер Р. Указ раб. С. 254.
39 Тьерри О. Опыт истории происхождения и успехов третьего сословия // Избр. соч. М., 1937. С. 41.
40 Маркс К. Письмо И. Вейдемейеру 5 марта 1852 г. // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 28. С. 422.
41 См.: Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Там же. Т. 21. С. 308; Он же. Письмо К. Марксу 9 марта 1847 г. // Там же. Т. 27. С. 80; Он же. Письмо В. Боргиусу 25 января 1894 г. // Там же. Т. 39. С. 176.
42 В этой связи нельзя не отметить, что Ф. Энгельс из всех французских историков эпохи Реставрации больше всего предпочитал Ф. Минье. (Энгельс Ф. Письмо Ф. Д. Ньювегейсту 4 февраля 1896 г. // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 36. С. 370).
О настоящем издании труда Ф. Минье „История Французской революции с 1789 по 1814 гг.“
Как указывалось во вступительной статье, существуют два перевода труда Ф. Минье „История Французской революции с 1789 по 1814 гг.“ на русский язык. Перевод под редакцией и с предисловием К. К. Арсеньева был опубликован впервые в двух томах в 1866–1867 гг., а затем в неизменном виде переиздавался в 1895, 1897, 1905 и 1906 гг.
В 1906 г. вышел другой, более современный перевод, выполненный И. М. Дебу и К. И. Дебу. Он и использован в настоящем издании, ибо в целом он достаточно точно передает французский оригинал. Текст дан в новой орфографии и под современной редакцией профессора Ю. И. Семенова. Исправлены грамматические и грубые стилистические ошибки; в ряде случаев, когда перевод был недостаточно точен, он был отредактирован, а несколько абзацев переведено заново.
Повсеместно в переводе И. М. Дебу и К. И. Дебу Парижская коммуна, возможно, по цензурным соображениям, именовалась Парижской думой, городской думой или городским управлением. В данном издании восстановлено название, которое было в оригинале.
Устранен разнобой в написании французских имен (так, например, один из руководителей вандейских мятежников именовался в издании 1906 г. то Штоффле, то Стоффи, то Стофле). При расхождении содержащейся в переводе русской транскрипции французских имен с принятой ныне дается современная (Сьейес вместо Сийеса, Бийо-Варенн вместо Билло-Варенна и Бильо-Варена, Инар вместо Изнара и т. п.). Географические и другие собственные названия (полков, секций Парижа и т. п.), приведенные в тексте перевода И.М. и К. И. Дебу только по-французски, даны в русской транскрипции.
В данном издании сохранены примечания К. И. Дебу. Они лишь слегка отредактированы Ю. И. Семеновым.
Введение
Характер Французской революции; ход ее и результаты, достигнутые ею. — Последовательные формы монархии. — Людовик XIV и Людовик XV. — Состояние умов, финансовое положение, общественные нужды и власть в момент вступления на престол Людовика XVI. — Характер Людовика XVI. — Морепа как премьер-министр; его тактика. — Он выбирает популярных министров, склонных к реформам; цель этого. — Тюрго, Мальзерб, Неккер; их планы, оппозиция со стороны двора и привилегированных классов; их падение. — Смерть Морепа. — Влияние королевы Марии-Антуанетты. — Популярные министерства сменяются министерствами куртизанов. — Колонн и его система; Бриенн, его характер и его попытки. — Бедственное положение финансов; оппозиция со стороны парламента, оппозиция провинций. — Отставка Бриенна. — Второе министерство Неккера. — Созыв Генеральных штатов. — Что привело к революции.
Я собираюсь дать краткий очерк Французской революции, с которой начинается в Европе эра нового общественного уклада, подобно тому, как английская революция начинает эру новых правительств. Эта революция не только изменила соотношение политических сил, но произвела переворот во всем внутреннем существовании нации. В то время еще существовали средневековые формы общества. Вся земля была разделена на враждовавшие друг с другом провинции[1], а общество разделялось на соперничающие друг с другом классы. Дворянство, утратив всю свою власть, однако, сохранило свои преимущества; народ не пользовался никакими правами; королевская власть не была ничем ограничена, и Франция была предана министерскому самовластию, местным управлениям и сословным привилегиям. Этот противозаконный порядок революция заменила новым, более справедливым и более соответствующим требованиям времени. Она заменила произвол — законом, привилегии — равенством; она освободила людей от классовых различий, землю — от провинциальных застав, промышленность — от оков цехов и корпораций[2], земледелие — от феодальных повинностей и от тяжести десятины, частную собственность — от принудительного наследования; она все свела к одинаковому состоянию, к одному праву и к одному народу. Чтобы произвести столь обширные реформы, революции пришлось победить много препятствий, и это вызвало наряду с длительными и благодетельными результатами ее — временные излишества. Привилегированные классы старались помешать ей. Европа пыталась подчинить ее себе; но, обострив этим только борьбу, она не могла ни изменить ее силы, ни уменьшить успеха. Внутреннее сопротивление привело к господству масс, а наступление извне — к военному деспотизму. В то же время, несмотря ни на господствовавшую анархию, ни на деспотизм, главная цель была достигнута: в империи во время революции разрушилось старое общество и на месте его создалось новое.
Когда какая-нибудь реформа сделалась необходимой и момент для выполнения ее наступил, то ничто уже не может помешать ей, и все ей способствует. Счастливы были бы люди, если бы они умели этому подчиняться, если бы одни уступали то, что у них есть лишнего, а другие не требовали бы того, чего им не хватает; тогда революции происходили бы мирным путем, и историкам не приходилось бы упоминать ни об излишествах, ни о бедствиях; им бы только пришлось отмечать, что человечество стало более мудрым. Но до сих пор летописи народов не дают нам ни одного примера подобного благоразумия: одна сторона постоянно отказывается от принесения жертв, а другая их требует, и благо, как и зло, вводится при помощи насилий и захвата. Не было еще до сих пор другого властелина, кроме силы.
Передавая историю этого важного периода, со дня открытия Генеральных штатов и до 1814 г., я постараюсь, по мере того как буду излагать ход революции, истолковывать решительные моменты ее. Мы увидим, чья вина в том, что, начавшись при обстоятельствах, обещавших полный успех, она так жестоко выродилась; каким образом она привела Францию к республике и каким образом на обломках этой последней она воздвигла империю. Эти различные фазы ее были почти неизбежны, так как события, обусловившие их, имели непреодолимую силу. Однако, было бы слишком смело утверждать, что все это иначе и быть не могло; наверное, можно сказать лишь одно, что революция, имея причины, которые ее произвели, и со страстями, которые она пробудила, должна была иметь такой ход и такое окончание. Раньше чем приступить к истории революции, посмотрим, что привело к созыву Генеральных штатов, которые собственно и привели ко всему остальному. Я надеюсь, что, излагая все, что предшествовало революции, покажу, что избежать ее было так же трудно, как трудно было вести ее.
Французская монархия со времени своего основания не имела ни постоянной формы, ни прочного государственного права. В первые времена французской монархии корона доставалась по выборам; верховная власть принадлежала нации, а король являлся только предводителем войск, зависящим от общей воли народа, постановлявшего все решения и определявшего всякое предприятие. Нация избирала своего верховного главу, короля, под председательством которого она осуществляла свою законодательную власть на Марсовых полях[3], а судебную власть — в низших народных собраниях под управлением одного из королевских чиновников. Эта королевская демократия во время феодального режима уступила место королевской аристократии. Верховная власть усилилась, вельможи отняли ее у народа, подобно тому, как впоследствии король отнял ее у вельмож. В эту эпоху монарх сделался наследственным владыкой, но не в качестве короля, а как владелец лена; законодательный авторитет остался принадлежностью аристократии в их обширных владениях или в парламентах баронов; а судебная власть над подданными сосредоточилась в руках вассалов в вотчинных судах[4]. Далее, власть все более и более концентрировалась, переходя от большего числа к меньшему, и в конце концов от небольшого числа представителей власть перешла к одному. В продолжение многих веков короли Франции, рядом последовательных усилий, разрушили феодальное здание и на его обломках утвердили свою власть. Они завладели ленами, подчинили себе вассалов, уничтожили парламент баронов, уничтожили или подчинили себе вотчинные суды, — они присвоили себе законодательную власть, а судебная власть отправлялась в их интересах парламентами юристов.
Генеральные штаты[5], которые созывались ввиду настоятельной нужды государства получить субсидию, составлялись из трех сословий — духовенства, дворянства и среднего сословия и никогда постоянного правильного значения не имели. Возникнув во время усиления королевской власти, сначала они пользовались господствующим влиянием, впоследствии были совершенно уничтожены ею. Но наиболее сильную и упорную оппозицию своему возвышению короли встретили не со стороны этих собраний, сила и судьба которых находилась в их руках, а со стороны аристократии, которая сначала защищала от короля свое господство, а потом свое политическое значение. Со времени Филиппа-Августа и до Людовика IX она боролась за сохранение своей власти; начиная с Людовика XI и до Людовика XVI — за то, чтобы сделаться орудием королевской власти. Фронда была последней кампанией аристократии. В правление Людовика XIV абсолютная монархия окончательно основалась и господствовала беспрепятственно.
Режим, господствовавший во Франции со времен Людовика XIV и до революции, скорее характеризуется полным произволом, чем деспотией, так как монарх мог гораздо больше того, что делал. Развитию этого огромного авторитета ставились лишь слабые преграды. Корона распоряжалась совершенно свободно — личностью при помощи бланковых приказов об арестовании (lettres de cachet)[6], собственностью — при помощи конфискации, доходами — при помощи налогов. Правда, некоторые корпорации обладали средствами обороны в виде так называемых привилегий; но эти привилегии очень редко уважались. Так, парламент[7] пользовался привилегией принимать или отвергать тот или иной налог, но король всегда заставлял его вносить налоги в парламентские росписи во время так называемых королевских заседаний и наказывал ослушных членов парламента ссылкою. Дворянство было освобождено от податей, духовенство имело право само себя облагать добровольными приношениями; некоторые провинции откупались от налога определенными суммами, другие самостоятельно производили раскладку их. Таковы небольшие гарантии, которыми обладала Франция; кроме того, все эти гарантии были направлены к выгодам имущих классов и к ущербу для народа.
Находящаяся в такой зависимости Франция к тому же была очень плохо сорганизована; общественные злоупотребления делались еще более тяжелыми вследствие несправедливого распределения гражданских прав французов. Разделенная на три сословия[8], которые в свою очередь делились на многочисленные классы, нация была предоставлена проявлениям деспотизма и злу, проистекающему от неравенства. Дворянство разделялось частью на придворных, живущих милостями короля, т. е. на счет народа, получая в свои руки управление различными провинциями или высшие должности в армии; частью на дворян, недавно получивших дворянское достоинство, руководящих администрацией, занимая должности интендантов и другие гражданские места[9]; частью на судейское дворянство, заведовавшее судебной властью и имевшее исключительное право занимать судебные должности; и, наконец, на дворянство земельное, угнетавшее деревню, пользуясь своими феодальными правами, пережившими права политические. Духовенство делилось на два класса, из которых одним были предоставлены епархии и аббатства с их богатыми доходами, а другим — апостольское служение и бедность. Среднее сословие, изнуренное налогами двора, унижаемое дворянством, вдобавок было еще само разделено на враждующие друг с другом корпорации, организованные для охранения односторонних интересов их. Это сословие владело едва одной третью всех земель, с которой они принуждены были платить феодальный оброк помещикам, десятинный сбор — духовенству и подати — королю. В возмездие за все эти жертвы они не пользовались никакими политическими правами, не принимали никакого участия в управлении и совершенно не допускались к государственной службе.
Людовик XIV подверг пружины абсолютной монархии слишком долгому и слишком сильному напряжению. Властолюбивый, раздраженный смутным временем юности, он уничтожил всякое противодействие, всякую оппозицию, как со стороны аристократии, проявлявшиеся в виде возмущений, так и со стороны парламента, проявлявшиеся в виде предостережений, а также и со стороны протестантов, стремившихся к свободе совести, что церковь объявила ересью, а король — мятежом. Людовик XIV покорил аристократию, призвав ее ко двору, где ценою своей независимости она купила себе удовольствия и милости. Парламент, бывший до тех пор орудием королевской власти, пожелал быть равносильным ей, за что король высокомерно заставил его смириться и замолчать на шестьдесят лет. Наконец, отмена Нантского эдикта была последним дополнением к этим проявлениям деспотизма. Самовластное правительство не только не хотело встречать сопротивление, но желало еще, чтобы его одобряли и ему подражали. Подчинив себе всякое проявление общественной деятельности, оно преследует свободу совести, а когда у него не осталось больше политических противников, оно начало искать новых жертв среди религиозных диссидентов. Безграничная власть Людовика XIV внутри государства была направлена против еретиков, а, выйдя за пределы его, направилась против Европы. Система притеснений нашла советников — в лице честолюбцев, служителей — в драгунах, нашла успех, который поощрял ее к дальнейшим действиям. Язвы, разъедавшие Францию, были покрыты лаврами, ее стоны заглушены победными песнями. Но в результате всего этого, когда перемерли даровитые люди, прекратились победы, промышленность перешла в другие страны, деньги исчезли, стало вполне ясно, что деспотизм своими успехами исчерпывает свои собственные средства и вперед уничтожает свое собственное будущее.
Смерть Людовика XIV послужила сигналом реакции: произошел резкий переход от религиозной нетерпимости к неверию, от духа покорности — к протестам. За время регентства третье сословие увеличило свое значение, как увеличив свое материальное благосостояние, так и возвысившись нравственно, между тем как дворянство все более и более теряло свое нравственное достоинство, а духовенство — свое влияние. В царствование Людовика XIV двор вел менее блестящие и очень разорительные войны; он начал тайную борьбу с общественным мнением и явную с парламентом. Воцарилась полная анархия, управление попало в руки любовниц, власть пришла в полный упадок, и оппозиция с каждым днем все более усиливалась.
Положение парламентов и сама система их изменились. Король предоставил им власть, которую потом они обратили против него. В тот момент, когда общими усилиями парламента и королевской власти остатки аристократии были окончательно разбиты, они сами разделились, как всякие соратники после победы. Королевская власть стремилась разбить сделавшееся опасным для нее, перестав быть полезным; а парламент в свою очередь хотел подорвать королевскую власть. Эта борьба между королем и парламентом, которая при Людовике XIV была все время благоприятна короне, при Людовике XV велась с переменным счастьем, а закончилась революцией. По самой своей природе парламент не может не быть орудием. Его привилегии и корпоративное честолюбие заставляли его всегда противостоять силе и помогать слабым; по очереди он помогал сначала короне против аристократии, потом народу против короны. Это и сделало его столь популярным в царствование Людовика XV и Людовика XVI, хотя он нападал на корону исключительно из соперничества с ней. Общественное мнение не требовало отчетов в побуждениях, руководивших им; оно сочувствовало не его властолюбию, а его сопротивлению; оно его поддерживало, потому что нашло в нем защиту. Одобряемый и поощряемый таким образом, парламент стал грозным для королевской власти. Сопротивления парламента после того, как им было отвергнуто завещание самого деспотического короля, требовавшего полного повиновения, после того, как он восстал против Семилетней войны, получил контроль над всеми финансовыми операциями и настоял на уничтожении иезуитов, сделались так энергичны и так часто повторялись, что двор, встречая их на каждом шагу, наконец, понял, что ему необходимо или повиноваться парламенту, или подчинить его себе. И он решил привести в исполнение план преобразования парламента, предложенный канцлером Мопу. Этот смелый человек, который, по собственному его выражению, был призван, чтобы освободить корону из-под ига приказных, заменил этот враждебный парламент другим, более послушным. Вслед за тем и вся магистратура Франции, по примеру парижской, потерпела ту же участь.
Но прошло время, благоприятное для государственных переворотов. Самовластие было настолько уже дискредитировано, что король едва отваживался им пользоваться, встречая неодобрение даже со стороны двора. Образовалась новая власть, власть общественного мнения, хотя и не признанная еще, но тем не менее получившая уже такое влияние, что решения ее становились законами. Нация, которая до сих пор совершенно игнорировалась, мало-помалу восстановляет свои права; она хотя и не принимает участия в управлении, но оказывает на него влияние. Этим путем образуется всякая новая сила; сначала она не принимает участия в управлении, а только наблюдает извне; затем она переходит от права контроля к праву содействия. И вот, наконец, настало время, когда среднее сословие должно было получить свое право участия в правлении. Оно уже раньше делало попытки к получению этого права, но эти попытки были бесплодны, так как были преждевременны; раньше оно не имело еще ничего, чем бы могло возвыситься, и не было достаточно сильно, чтобы приобрести власть, так как право свое можно получить только силой. Поэтому оно было только третьим сословием, занимая третье место как при восстаниях, так и в Генеральных штатах; все делалось при помощи его, но ничего для него. При феодальной тирании оно служило королям против господ; во время министерского и фискального деспотизма оно служило знати против короля; но в обоих этих случаях оно являлось лишь орудием, в первом — короны, во втором — аристократии. Борьба велась в чуждой ему сфере и за чуждые интересы. Когда аристократия во время Фронды была окончательно побеждена, третье сословие сложило оружие, что достаточно показывает, насколько роль его была второстепенной.
Наконец, после целого века абсолютного подчинения третье сословие появляется на сцене, но уже действует во имя своих собственных интересов. Что прошло, то не вернется, и для аристократии не было уже возможности вновь подняться после ее падения, так же, как невозможно это было и для абсолютной монархии. У королевской власти должен был явиться новый противник, так как никогда нет недостатка в кандидатах на власть. Этим противником явилось третье сословие, сила которого, богатство, просвещение и самостоятельность — росли с каждым днем; оно должно было победить королевскую власть и ограничить ее. Парламент был корпорацией, но не являлся сословием; в этой новой борьбе он мог способствовать переходу власти из одних рук в другие, но не мог удержать ее для себя.
Двор сам способствовал прогрессу третьего сословия, помогал развитию одного из наиболее сильных средств его — просвещению. Один из самых неограниченных монархов помогал движению умов и против своего желания создал общественное мнение. Поощряя восхваление, он подготовил осуждение, ведь нельзя преследовать свою выгоду так, чтобы это не обратилось против вас же. Когда кончились хвалебные песни, начались исследования, и философы восемнадцатого века сменили литераторов семнадцатого. Религия, законы, злоупотребления — все являлось для них предметом исследования и размышления. Они раскрывали права народа, выражали его нужды, указывали на несправедливости. Этим путем образовалось сильное и просвещенное общественное мнение, удары которого чувствовало правительство, но не осмеливалось заглушить его голос. К общественному мнению прислушивались даже те, на которых оно нападало: придворные во имя моды, власти в силу необходимости подчинялись его требованиям; таким образом, век реформ был подготовлен веком философии, так же точно, как этот последний был подготовлен веком процветания изящных искусств.
Вот в каком состоянии была Франция, когда 11 мая 1774 г. вступил на престол Людовик XVI. Новое царствование получило в наследство от предыдущего большие затруднения: расстроенные финансы, которые не могло исправить ни экономное и миролюбивое министерство кардинала Флери, ни ведущее к банкротству министерство аббата Терре, неуважение к власти, несговорчивый парламент и властное общественное мнение. Из всех королей Людовик XVI по своим намерениям и качествам лучше всего подходил к своей эпохе. Все были утомлены от произвола, он был склонен не пользоваться им; все были раздражены ужасным распутством двора Людовика XV, — новый король отличался чистотой нравов и умеренностью своих потребностей; все требовали реформ, которые сделались неизбежными, — он сознавал общественные нужды и гордился, что мог их удовлетворить. Но делать добро было так же трудно, как и продолжать зло. Надо было бы иметь силу, как для того, чтобы заставить привилегированные классы подчиниться реформам, так и для того, чтобы заставить народ переносить злоупотребления, а Людовик XVI не был ни преобразователем, ни деспотом. Ему не хватало той великой силы воли, которая одна только способна производить государственные перевороты и которая одинаково необходима как монарху, который хочет ограничить свою власть, так и монарху, желающему ее усилить. Людовик XVI имел здравый ум, прямое и доброе сердце, но не обладал энергичным характером и не мог настойчиво вести дела. Его проекты улучшений встречали препятствия, которые он не предвидел и которые он не успел победить. Таким образом, он пал благодаря своим попыткам реформ, как другой мог бы пасть, отказавшись от них. Его царствование вплоть до созыва Генеральных штатов было рядом безрезультатных попыток улучшений.
Выбор Морепа премьер-министром, который сделал Людовик XVI при восшествии на престол, особенно способствовал тому, что все его царствование получило такой характер нерешительности. Молодой король, проникнутый идеей о своих обязанностях и сознавая свою неспособность их выполнить, прибег к опытности семидесятитрехлетнего старика, который впал в немилость в царствование Людовика XV за свою оппозицию королевским любовницам. Но вместо мудреца он нашел в нем только царедворца, гибельное влияние которого осталось на всю его жизнь. Морепа мало заботился о благе Франции и о славе своего государя — он заботился только о том, чтобы не потерять его благосклонность. В качестве президента совета он жил в Версале в комнатах, смежных с покоями короля; он повлиял на ум и характер Людовика XVI, сделав их нерешительными; он приучил его к полумерам, к смене систем, к непоследовательности и, сверх всего, к необходимости во всем действовать чужим умом, а не своим. Морепа пользовался правом выбирать министров. Эти последние по отношению к нему так же держались, как он сам по отношению к королю. Боясь потерять свой кредит, он держал в отдалении от министерства людей, сильных своими связями, и назначал министрами людей новых, которые нуждались в нем, чтобы удержаться на месте и проводить свои реформы. Он по очереди призывал и поручал ведение дел Тюрго, Мальзербу, Неккеру, а они пытались вводить улучшения, каждый в той части управления, которая была им наиболее хорошо изучена.
Мальзерб, происходивший из судейской семьи, наследовал истинные добродетели, а не предрассудки парламентаризма. Свободный ум соединялся в нем с прекрасной душой. Он хотел каждому возвратить его права: осужденным — возможность защиты; протестантам — свободу совести; писателям — свободу печати; каждому французу — гарантию личности; он предложил отмену пыток, восстановление Нантского эдикта, уничтожение бланковых приказов об аресте (lettres de cachet) и отмену цензуры. Тюрго, человек с большим и сильным умом, с решительным характером, с необыкновенной силой воли, пытался осуществить еще более широкие замыслы. Он соединился с Мальзербом, чтобы с его помощью довершить учреждение такой административной системы, которая привела бы к единству в управлении и к равенству в государстве. Этот добродетельный гражданин постоянно был занят мыслью об улучшении судьбы народа: он один предполагал сделать все то, что позднее совершила революция, — уничтожить все сервитуты и все привилегии. Он предложил освободить деревню от барщины, провинции от их застав, торговлю от внутренних таможен, промышленность от всех стеснений и, наконец, заставить знать и духовенство платить налоги одинаково с третьим сословием. Этот великий министр, про которого Мальзерб говорил, что у него голова Бэкона, а сердце Лопиталя, хотел, при помощи провинциальных собраний, приучить нацию к общественной жизни и приготовить ее к восстановлению Генеральных штатов. Если бы он удержался на своем месте, он бы произвел революцию путем правительственных распоряжений. Но при режиме, в котором господствовали частные привилегии и всеобщее порабощение, нельзя было провести ни одного проекта, имевшего целью общественное благо. Тюрго, возбудив против себя неудовольствие придворных своими попытками к улучшению общественного строя и неудовольствие парламента отменой натуральных повинностей и внутренних таможен, наконец, встревожил старого министра тем влиянием, которое он стал приобретать над Людовиком XVI, благодаря своим добродетелям. Людовик XVI покинул его, хотя и говорил, что только он и Тюрго[10] одни желают блага народу.
В 1776 г. Тюрго был смещен с поста генерального контролера финансов[11] и заменен Клюни, бывшим интендантом в Сан-Доминго, который в свою очередь через шесть месяцев был заменен Неккером. Неккер был иностранец, протестант, банкир и скорее великий администратор, чем государственный человек; он задумал реформу Франции по плану менее обширному, чем план Тюрго, но он проводил его с большим тактом и выдержкой. Назначенный министром с тем, чтобы он нашел деньги для двора, он пользовался этой нуждой двора, чтобы дать некоторые свободы народу. Он поправил финансы, введя в них порядок, и дал возможность провинциям до некоторой степени участвовать в их управлении. Его идеи были благоразумны и верны: они состояли в том, чтобы уравнять доходы с расходами, сократив последние; в обыкновенное время пользоваться только налогами, а к займам прибегать лишь в особо важных случаях, когда вместе с настоящим затрагивались интересы и будущего; устанавливать налоги при помощи провинциальных собраний и установить гласную отчетность для облегчения заключения займов. Эта система основывалась на сущности займа, который, нуждаясь в кредите, требует от администрации гласности, а также на сущности налога, который, имея необходимость в согласии платящих, требует разделения с ними власти. Каждый раз, когда правительство имеет недостаток в средствах и принуждено просить их, то, если оно обращается с этим к заимодавцам, оно должно им представить свой баланс, если же оно обращается к плательщикам налогов, оно обязано предоставить им некоторое участие во власти. Таким образом, займы привели к отчетности, а налоги к Генеральным штатам; первые подчинили власть суду общественного мнения, а вторые — народу. Но Неккер, хотя и проводил реформы с меньшим нетерпением, чем Тюрго, и хотя желал устранить злоупотребления выкупом, в то время как его предшественник хотел их прямо уничтожить, не оказался счастливее его. Своей экономией он восстановил против себя придворных; действия провинциальных собраний возбудили негодование парламента, который хотел сохранить за собой исключительное право оппозиции; кроме того, премьер-министр не мог простить ему некоторые признаки влияния, которым он пользовался. И он был вынужден покинуть свой пост в 1781 г., несколько месяцев спустя после обнародования знаменитого отчета (Comptes rendus) о состоянии финансов, который внезапно посвятил Францию в состояние государственных дел и сделал уже навсегда невозможным возвращение к неограниченной власти.
Вскоре после удаления Неккера умер Морепа. Его место около Людовика XVI заняла королева и наследовала все его влияние на короля. Этому доброму, но слабому королю было необходимо, чтобы кто-нибудь им управлял. Его жена, молодая, красивая, деятельная и тщеславная, приобрела сильное влияние на него. Но дочь Марии-Терезии или слишком хорошо помнила о своей матери, или, наоборот, совершенно о ней забыла; в ней смешивались легкомыслие и властолюбие, и свою власть она употребляла только затем, чтобы облекать ею других, которые и были причиной гибели всего государства и ее собственной. Морепа не доверял министрам-царедворцам, а выбирал всегда министров популярных, хотя, правда, не поддерживал их; если это не привело к добру, то и зло не было увеличено. После его смерти популярных министров заменили министры-царедворцы, и они своими ошибками сделали кризис, который первые хотели предупредить своими реформами, неизбежным. Разница в выборе оказалась очень важной; благодаря ей с переменой людей произошла перемена во всей системе администрации. Этот момент надо считать началом революции. Отмена реформ и возвращение беспорядков ускорили ее наступление и усилили ее ожесточенность.
Колонн, бывший интендантом, был назначен генеральным контролером финансов. Управлять этим министерством, в то время самым важным, было крайне трудно. Неккер имел двух преемников, но никто не мог его заменить; тогда в 1783 г. обратились к Колонну. Колонн был смел, блестящ, красноречив, легко работал, ум имел легкий и изобретательный. По ошибке или по расчету, он принял в администрации систему, совершенно противоположную системе своего предшественника. Неккер советовал бережливость, Колонн восхвалял расточительность; придворные были виной падения Неккера, — Колонн думал удержаться благодаря им. Свои софизмы он поддерживал своей щедростью; королеву он убеждал празднествами, вельмож — пенсиями; он дал большое движение финансам, чтобы числом и легкостью своих операций заставить верить в справедливость своих желаний; он даже увлек капиталистов, будучи вначале очень аккуратен в своих платежах. Он продолжал делать займы и после заключения мира и исчерпал, таким образом, кредит, который своим благоразумием доставил правительству Неккер. Когда этот источник, которым он так неумело пользовался, был исчерпан, он, чтобы продлить свою власть, должен был прибегнуть к налогам. Но к кому обратиться за ними? Народ не был уже в состоянии платить больше, а привилегированные классы не желали ничем поступиться. Но надо было на что-нибудь решиться, и Колонн, надеясь достигнуть большего нововведением, созвал собрание нотаблей[12], которые 22 февраля 1787 г. и открыли свои заседания в Версале. Но обращение к помощи других должно было быть концом системы, основанной на расточительности. Министр, который поднялся благодаря тому, что щедро давал, не мог удержаться, когда стал просить.
Нотабли, выбранные правительством из среды высших классов, образовали особое собрание при министерстве, не имевшее ни собственного существования, ни полномочий. К этому собранию обратился Колонн, полагая, что оно, будучи зависимым, окажется более покорным и ему удастся избежать обращения к парламентам или к Генеральным штатам. Но это собрание, составленное из привилегированных, было мало склонно к жертвам. Его нерасположение к ним еще усилилось, когда оно увидало бездну, созданную всепоглощающим правительством. Оно с ужасом узнало, что в несколько лет долги страшно увеличились и достигли одного миллиарда шестисот сорока шести миллионов и что доходы дают ежегодно дефицит в сто сорок миллионов. Это открытие было сигналом падения Колонна. Он пал и был замещен своим противником в собрании — архиепископом Санским Ломени де Бриенном. Бриенн рассчитывал на преданность большинства нотаблей, так как они поддерживали его, чтобы низвергнуть Колонна. Но члены привилегированных сословий были так же мало расположены жертвовать Бриенну, как и его предшественнику; они помогали ему в его происках, когда это согласовалось с их интересами, но не захотели помогать его честолюбию, до которого им не было никакого дела.
Епископ Санский, которому ставили в упрек то, что он не имел плана, и не мог, собственно, иметь его. Нельзя было продолжать расточительность Колонна, но не время было возвращаться и к сокращениям Неккера. Экономия, которая в прежнее время была бы средством спасения, не могла уже помочь теперь. Теперь требовались или новые налоги, но парламент на них не соглашался, или новые займы, но кредит был истощен, или же, наконец, пожертвования со стороны привилегированных классов, которые не хотели их делать. Бриенн, который всю жизнь мечтал о министерстве, но который обладал слишком слабыми данными, чтобы выйти из этого затруднительного положения, испытал все средства, но ничего не достиг. Это был человек деятельного, но слабого ума, смелого, но непостоянного характера. Смелый перед тем, как начать что-нибудь, но потом ослабевавший, он погубил себя своей нерешительностью, своей недальновидностью и изменчивостью своих средств. Ему приходилось выбирать только между отчаянными средствами, но и тут он не мог решиться на которое-нибудь одно и ему следовать.
Собрание нотаблей оказалось мало покорным и очень бережливым. Одобрив учреждение провинциальных собраний, постановление о хлебной торговле, уничтожение повинностей натурой и установление нового штемпельного налога, собрание разошлось 25 мая 1787 г. Разойдясь, оно разнесло по всей Франции все, что стало ему известно о нуждах престола, об ошибках министерств, о расточительности двора и о непоправимых бедствиях народа. Бриенн, освободившись от этого собрания, прибег опять к налогам как к ресурсу, которым в продолжение некоторого времени не пользовались. Он потребовал занесения в парламентские регистры двух указов — указа о гербовом сборе и о поземельном налоге. Но парламент, находившийся в полной силе своего могущества и тщеславия и который в финансовых затруднениях правительства видел средство к увеличению своей власти, отказался исполнить его требование внесения в регистры. Парламент был изгнан в Труа; его пребывание там ему надоело, и министр возвратил его из этой ссылки под условием принятия указов. Но это было лишь отсрочкой неприязненных действий; нужды короны скоро сделали борьбу еще более ожесточенной. Министру снова нужны были деньги, само существование его было связано с получением нескольких займов, общая сумма которых достигала почти до четырехсот сорока миллионов. И ему необходимо было внесение их в парламентские регистры.
Бриенн ожидал оппозиции парламента; поэтому для внесения этих указов в регистры было устроено королевское заседание; а для того, чтобы задобрить магистратуру и общественное мнение, в том же заседании было постановлено восстановить протестантов в их правах, было обещано Людовиком XVI ежегодное опубликование финансовых отчетов и созыв Генеральных штатов не позднее как через пять лет. Но этих уступок было уже недостаточно: парламент все-таки отверг внесение займов в регистры и восстал против тирании министерства. Некоторые из его членов, в числе которых был и герцог Орлеанский, подверглись ссылке. Парламент постановил протестовать против lettres de cachet и требовал возвращения своих членов. Король отверг это постановление, но парламент подтвердил его. Борьба разгоралась все сильнее и сильнее. Магистратура Парижа встретила поддержку со стороны всей магистратуры Франции и поощрение со стороны общественного мнения. Она провозгласила права города и свою собственную некомпетентность в деле налогов; сделавшись либеральной из собственных выгод, великодушной вследствие гнета, она восстала против произвольных арестов и потребовала, чтобы Генеральные штаты собирались регулярно. После этого геройского выступления она приняла решение о несменяемости своих членов и объявила, что никто другой не вправе занять их должности. За этой смелой манифестацией последовал арест двух членов парламента — д'Эпремениля и Гуаляра, реформа самого парламента и учреждение верховного судилища (cour plénière).
Бриенн понял, что оппозиция парламента сделалась систематической и что она будет возобновляться при каждом испрошении субсидии или при каждом утверждении займа. Ссылка явилась только временным средством, которое остановило оппозицию, но не уничтожило ее. Поэтому он составил проект свести деятельность этого учреждения к исключительно юридической; для выполнения этого плана он избрал себе в помощники хранителя государственной печати Ламуаньона. Ламуаньон был очень подходящим человеком для проведения решительных мер; он обладал смелостью и энергичную настойчивость Мопу соединял с большим благоразумием и честностью. Но он ошибся в силе правительства и в том, что было возможно в его время. Мопу изменил парламент переменой состава его членов, а Ламуаньон хотел его уничтожить вовсе. Первая из этих мер в случае удачи дала бы только временное успокоение, вторая должна бы была дать успокоение окончательное, ибо она уничтожала власть, в то время как первая ограничивалась только перемещением ее. Но реформа Мопу оказалась непрочной, а реформа Ламуаньона неисполнимой. Тем не менее надо сказать, что проведение ее было начато вполне разумно. В один и тот же день была удалена вся магистратура Франции, чтобы уступить место новой судебной организации. Хранитель государственной печати отнял у парижского парламента его политические права, чтобы передать их верховному судилищу (cour plénière), составленному министерством; он ограничил, кроме того, его судебную компетенцию в пользу окружных судов, круг деятельности которых он расширил. Но общественное мнение было возмущено, уголовный суд (Châtelet) протестовал, провинции поднялись, верховное судилище не могло ни образоваться, ни начать действовать. Вспыхнули смуты в Дофине, в Бретани, в Провансе, во Фландрии, в Лангедоке, в Беарне; министерству вместо частичной оппозиции парламентов пришлось иметь дело с оппозицией более горячей и более всеобщей. Дворянство, третье сословие, провинциальные штаты и даже духовенство — все приняли теперь в ней участие. Бриенн, вынуждаемый финансовыми нуждами, созвал экстренное собрание духовенства, которое обратилось к королю с адресом, прося его об уничтожении верховного судилища и о немедленном собрании Генеральных штатов, так как только они могли бы поправить расстроенные финансы, обеспечить государственный долг и прекратить этот конфликт между властями.
Санский архиепископ своей распрей с парламентом отсрочил на время финансовые затруднения, но вызвал вместо них затруднения правительственные. И в момент, когда эти последние прекратились, первые появились снова и решили падение министерства. Не получая ни податей, ни займов, не имея возможности пользоваться верховным судилищем и не желая созывать парламенты, Бриенн прибег, наконец, к последнему ресурсу — обещал созвать Генеральные штаты. Но этой мерой он ускорил свое падение. Он был призван к управлению финансами с тем, чтобы выйти из затруднительного положения, а он его еще ухудшил; он должен был достать деньги, а взять их было негде. Кроме всего этого, он довел до отчаяния нацию, восстановил сословия против государства, скомпрометировал авторитет правительства и сделал неизбежным худшее, по мнению двора, средство к получению денег — созыв Генеральных штатов; он пал 25 августа 1788 г. По случаю его падения была приостановлена уплата государственных рент, а это являлось уже началом банкротства. Этот министр был предметом наибольших нападок, так как был последним. Унаследовав от прошлого все затруднения и все ошибки, он принужден был бороться против трудности своего положения очень слабыми средствами. Он пытался бороться интригами, притеснениями; он ссылал парламент, закрывал его на время, уничтожал его: все было против него, ничто не помогало. После долгой бесплодной борьбы он пал жертвой утомления и слабости, я не решаюсь сказать — вследствие своей неспособности, так как будь он гораздо более сильным и гораздо более искусным, будь он Ришелье или Сюлли, — он все равно пал бы. Никто не был уже в состоянии добывать деньги или продолжать угнетать народ. В оправдание ему надо сказать, что он не сам создал то положение, из которого не умел выпутаться; он виноват лишь тем, что был слишком самонадеян, когда принял его. Он пал жертвой ошибок Колонна, который воспользовался кредитом, созданным Неккером, для своей расточительности. Таким образом, Колонн разрушил кредит, а Бриенн, желая восстановить его силой, подорвал основание власти.
Правительству осталось только одно средство, престолу одно спасение — созыв Генеральных штатов. Их настоятельно требовали и парламент, и пэры королевства 13 июля 1787 г., и сословия Дофине в визильском собрании, и духовенства в своем парижском собрании. Провинциальные штаты приготовили к ним умы, нотабли явились предтечами их. Король, обещавший 18 декабря 1787 г. созвать Генеральные штаты в продолжение пяти лет, 8 августа 1788 г. назначил днем открытия их 1 мая 1789 г. Был опять призван Неккер, парламент восстановлен, верховное судилище уничтожено, окружные суды закрыты, провинции удовлетворены; новый министр принял все меры для избрания депутатов и созыва Штатов.
В это время в оппозиции, которая до сих пор отличалась единодушием, произошла большая перемена. Министерство Бриенна встречало противодействие со стороны всех сословий государства, так как оно стремилось все их угнетать. При Неккере министерство встречало оппозицию только со стороны тех сословий, которые домогались власти для себя и порабощения для народа. Правительство сделалось из деспотического — национальным, а они одинаково остались против него. Парламент поддерживал борьбу скорее за власть, чем во имя народного блага; дворянство соединилось с третьим сословием больше из ненависти к правительству, чем из любви к народу. Каждая из этих двух корпораций требовала созыва Генеральных штатов: парламент надеялся господствовать при помощи их, как в 1614 г., а дворянство полагало, что при помощи их оно вернет свое утраченное влияние; поэтому-то магистратура и предложила за образец Генеральных штатов 1789 г. принять Штаты 1614 г., но общественное мнение отвергло это предложение; дворянство не согласилось на двойное представительство третьего сословия, и раздор вспыхнул между этими двумя сословиями.
Дух времени, необходимость реформ, значение, которое приобрело третье сословие, — все требовало этого двойного представительства. И в провинциальных собраниях оно было уже допущено. Когда Бриенн перед выходом из министерства обратился к литераторам, желая знать лучший состав и лучшее устройство Генеральных штатов, появились в числе других работ, особенно излюбленных народом, знаменитая брошюра Сьейеса — „О третьем сословии“ (tiers état) и брошюра д'Антрега „О Генеральных штатах“ (états généraux). Общественное мнение с каждым днем высказывалось все больше и больше. Неккер, желая его удовлетворить и не осмеливаясь это сделать, желая угодить всем сословиям, желая заслужить всеобщее одобрение, созвал новое собрание нотаблей 6 ноября 1788 г., чтобы обсудить состав Генеральных штатов и способ избрания их членов. Он думал заставить это собрание согласиться с двойным числом представителей третьего сословия; но собрание отвергло это предложение, и он принужден был сам решить, против желания нотаблей, то, что он должен был бы решить, вовсе их не спрашивая. Неккер не сумел избегнуть распрей, потому что предварительно не разрешил всех затруднений. Он не принял на себя инициативы по вопросу о двойном представительстве третьего сословия, как позднее не принял ее и по вопросу о голосовании посословном или поголовном. Когда Генеральные штаты были собраны, разрешение этого второго вопроса, от которого зависела судьба власти и судьба народа, было предоставлено силе.
Хотя Неккеру и не удалось склонить нотаблей к принятию двойного представительства третьего сословия, но он настоял на принятии этой меры в совете. Королевским указом от 27 ноября было установлено, что общее число депутатов Генеральных штатов будет не меньше тысячи и что число депутатов от третьего сословия будет равно числу депутатов от дворянства и от духовенства обоих вместе. Кроме того, Неккер добился включения сельских священников в духовное сословие, а протестантов — в третье. Были созваны окружные собрания для выборов; каждый агитировал за выбор членов своей партии и старался, чтобы избирательные списки были составлены в его духе. Парламент имел мало влияния на выборы; двор не имел никакого. Дворянство выбрало несколько популярных депутатов, но большая часть избранных ими были люди преданные интересам своего сословия и одинаково враждебные как к третьему сословию, так и к олигархии знатных придворных фамилий. Духовенство избрало епископов и аббатов, стоявших за привилегии, а кроме того священников, сочувствовавших народному делу, которое было и их делом. Наконец, третье сословие выбрало людей просвещенных, твердых, единодушных в своих целях. Депутация от дворянства составилась из двухсот сорока двух дворян и двадцати восьми членов парламента; депутация духовенства — из сорока восьми архиепископов и епископов, тридцати пяти аббатов и деканов, двухсот восьми священников; наконец, депутация от общин — из двух духовных лиц, двенадцати дворян, восемнадцати городских сановников, ста двух членов окружных судов, двухсот двенадцати адвокатов, шестнадцати докторов, двухсот шестнадцати купцов и землевладельцев. Открытие Генеральных штатов было назначено на 5 мая 1789 г.
Так была вызвана революция. Двор тщетно старался предупредить ее, так же тщетно старался потом ее уничтожить. Под руководством Морепа король назначал популярных министров и делал попытки реформ; под влиянием королевы он назначал министров-царедворцев и имел властолюбивые тенденции. Репрессии также не дали того, чего нельзя было достигнуть реформами. После того, как напрасно он обращался к царедворцам за экономией, к парламенту за налогами, к капиталистам за займами, он стал искать новый класс плательщиков и обратил свой призыв к привилегированным классам. Он обратился к нотаблям, состоявшим из дворян и духовенства, с просьбой о принятии ими участия в тягостях государственного управления, но они отказались. И только тогда он обратился ко всей Франции и созвал Генеральные штаты. Он старался войти в сделку с сословиями раньше, чем пошел на сделку с народом, и только после того, как первые отказали ему, он обратился к стране, вмешательства и поддержки которой он боялся. Он предпочитал частные собрания, которые, будучи изолированы, должны были оставаться слабыми, собранию общему, которое, представляя собой все интересы, должно было сосредоточить в себе всю власть. До этой великой эпохи с каждым годом нужды правительства возрастали, а вместе с ними увеличивалось и сопротивление. Оппозиция перешла от парламентов к дворянству, от дворянства к духовенству и от него — к народу. Каждое из сословий начинало выказывать сопротивление по мере того, как королевская власть обращалась к нему за советом; так продолжалось до тех пор, пока все эти отдельные сопротивления не слились в одно — национальное, или, вернее, пока все они не умолкли перед этой общей оппозицией. Генеральные штаты только узаконили совершившуюся уже революцию[13].
Глава I С пятого мая 1789 г. по ночь четвертого августа
Открытие Генеральных штатов. — Мнение о Генеральных штатах двора, министерства, различных государственных сословий. — Проверка полномочий. — Вопрос о вотировании посословно или поголовно. — Сословие общин преобразуется в Национальное собрание. — Двор запирает зал заседаний; клятва в зале Jeu de Pommes. — Большинство духовного сословия присоединяется к общинам. — Королевское заседание 23 нюня; его бесполезность. — Проект двора; события 12, 13 и 15 июля: отставка Неккера; восстание Парижа; образование Национальной гвардии; осада и взятие Бастилии. — Последствия 14 июля. — Декреты ночи на 4 августа. — Характер происшедшей революции.
Открытие Генеральных штатов было назначено на 5 мая 1789 г. Открытию этому накануне предшествовало религиозное торжество. Король, его семейство, министры и депутаты всех трех сословий торжественной процессией двинулись из собора Парижской Богоматери в церковь Людовика Святого, чтобы отстоять здесь напутственную обедню. Возобновление этого народного торжества, которого Франция была лишена в течение столь долгого времени, было встречено с восторгом. День приобрел характер праздника. Громадная толпа стекалась в Версаль со всех сторон; погода стояла великолепная; пышность украшений не оставляла желать лучшего. Всех присутствующих воодушевляли звуки музыки, добродушная и довольная наружность короля, приветливость и благородная красота королевы, а более всего надежда на исполнение общих желаний. С другой стороны, однако, с большим прискорбием отмечались все тот же этикет, те же костюмы и те же сословные разделения, что были и на собрании 1614 г. Первое место занимало духовенство в рясах, мантиях и четырехугольных шляпах или в фиолетовой одежде и стихирях. За духовенством шло дворянство в черной, шитой золотом, одежде, с кружевными жабо и в шляпах с белыми перьями à la Генрих IV. Сзади всех следовало, наконец, скромное третье сословие, все в черном, в коротких плащах, в кисейных жабо и в шляпах без перьев и без петлиц. В церкви все три сословия заняли места все в том же порядке.
На другой день в зале для Малых забав (des Menus plaisirs) состоялось в присутствии короля заседание. Амфитеатром расположенные трибуны были наполнены зрителями. Депутатов призвали и ввели согласно порядку, установленному в 1614 г. Духовенство было помещено направо, дворянство налево, общины против трона, поставленного в глубине зала. Горячими рукоплесканиями были встречены депутаты от Дофине, от Крепи в Валуа (между ними находился герцог Орлеанский) и от Прованса. Неккер при входе стал также предметом восторженных приветствий. Общественный голос приветствовал всех тех, кто так или иначе содействовал созванию Генеральных штатов. Лишь только депутаты и министры заняли свои места в зале, вошел король в сопровождении королевы, принцев и блестящей свиты. Выход короля был встречен восторженными аплодисментами. Людовик сел на трон; как только он надел шляпу, его примеру последовали все три сословия. Общины, в противность тому, что соблюдалось при прежних Генеральных штатах, в этом отношении нисколько не задумались последовать примеру духовенства и дворянства; очевидно, прошло то время, когда третье сословие должно было все время во время заседаний оставаться с непокрытой головой и говорить не иначе как на коленях. Все в полном молчании ожидали речи короля, всем хотелось поскорее узнать, каковы истинные намерения правительства касательно Генеральных штатов. Пожелает ли оно приравнять настоящее собрание к прежним, или же предоставит ему ту роль, которую для него указывают нужды государства и величие переживаемой минуты.
„Господа, — сказал с заметным волнением король, — день, которого я желал всем моим сердцем, наконец, наступил, и я вижу себя окруженным представителями нации, управлять которой я считаю за особую честь. С последнего созыва Генеральных штатов прошло много времени; казалось, самый созыв этих Штатов вышел уже из обычая, но я не колебался восстановить его, ибо считаю, что из него государство может извлечь новую силу и в нем может быть новый источник благоденствия нации“. За этими первыми словами, обещавшими так много, последовали только общие объяснения о долгах и обещания сократить расходы. Король, вместо того, чтобы благоразумно начертать Штатам тот путь, по которому им следовало идти, ограничился приглашением сословий работать во взаимном согласии. Он говорил о нужде в деньгах и о своей боязни нововведений и жаловался на тревожное состояние умов, не предлагая, однако, никаких мер к их успокоению. Несмотря на это, ему сильно аплодировали, когда в конце своей речи он произнес следующие слова, прекрасно обрисовывавшие его намерения: „Вы можете, вы должны ожидать от меня всего того, что можно требовать от человека, наиболее чуткого к общественному благу, от государя, первого друга своих подданных. Пусть, господа, в вашем собрании царит счастливое согласие, пусть настоящая минута будет навсегда памятна для счастья и благоденствия государства. Таково желание моего сердца, таково самое мое горячее желание; это та награда, которую я ожидаю за честность моих намерений и за любовь мою к моему народу!“
Затем слово было дано хранителю государственной печати Барантену[14]; его речь явилась целой диссертацией о Генеральных штатах и благодеяниях короля. После длинного вступления он перешел, наконец, к вопросам дня. „Его Величество, — сказал он, — предоставив двойное представительство наиболее многочисленному из трех сословий, тому сословию, которое несет главную тяготу налогов, нисколько не изменил формы прежних совещаний. Хотя поголовная подача голосов, приводящая к одному общему результату, по-видимому, имеет преимущество более рельефно выражать общие желания, королю угодно, чтобы этот новый порядок мог быть введен только со свободного согласия всех государственных сословий и с одобрения Его Величества. Но каковы бы ни были мнения по этому вопросу, какое бы ни было усмотрено различие между предметами, подлежащими обсуждению собрания, не следует сомневаться, что полное согласие соединит все сословия в вопросе о налоге“. Правительство было не прочь применять поголовное голосование в вопросах финансовых, ибо оно вело быстрее к цели, но в вопросах политики оно склонялось в пользу вотирования по сословиям, ибо такое голосование представляло верное средство помешать нововведениям. Правительство при помощи этих средств полагало достигнуть своей истинной цели, получения субсидий, и думало в то же время помешать народу достичь нужных для него реформ. То, каким образом хранитель печати определил круг занятий Генеральных штатов, не оставило никаких сомнений в истинных намерениях правительства. Круг занятий был сведен почти исключительно к рассмотрению налога, и притом с непременной целью его вотировать, к выработке ограничительного закона о печати и пересмотру гражданского и уголовного законодательства. Все остальные преобразования хранителем печати были осуждены заранее, и речь свою он закончил следующим образом: „Справедливые желания удовлетворены, король не послушался нескромных нашептываний; он снисходительно забыл о них; он простил даже и те преувеличенные и ложные мнения, опираясь на которые, некоторые желают неизменные начала монархии заменить пагубными химерами. Вы, господа, несомненно, с негодованием отбросите те опасные нововведения, которые враги общественного блага стараются приплести к благотворным и необходимым реформам, тем реформам, что принесут с собой обновление, составляющее наибольшее желание Его Величества“.
Так говорить можно было или совершенно не понимая истинного желания нации, или открыто идя против него. Мало удовлетворенное собрание обратило свои взоры на Неккера, ожидая от него совершенно другого рода речей. Он был популярным министром; это он настоял на двойном представительстве третьего сословия, и все заставляло думать, что он выразил свои симпатии к поголовному голосованию, ибо только оно одно давало реальную возможность третьему сословию использовать свою численность. Однако, Неккер говорил как генеральный контролер и как человек осторожный. Речь его длилась три часа и являлась прежде всего длиннейшим отчетом о состоянии финансов; только совершенно утомив собрание, он перешел к вопросу, занимавшему все умы, но отнесся к нему нерешительно, не желая ссоры ни с королем, ни с народом.
Правительству следовало бы лучше понять значение Генеральных штатов. Уже одно возобновление их возвещало само по себе революцию. Ожидаемые с полной надеждой всем народом, они возобновлялись в такой момент, когда прежняя монархия была ослаблена и когда они одни были способны преобразовать государство и помочь нуждам королевской власти. Трудное время, сущность их мандата, выбор их членов — все указывало на то, что Штаты собрались не как данники, а как законодатели. Право возродить Францию им дало общественное мнение, а силу выполнить эту великую задачу они должны были найти в громадности злоупотреблений и в общественной поддержке.
Королю необходимо было принять участие в их работе. Таким образом действий он мог восстановить свою власть и обезопасить себя от крайностей революции, совершив ее сам по своей воле. Если бы, взяв в свои руки инициативу преобразований, он с твердостью, но и справедливостью указал новый порядок вещей; если бы, исполняя желания всей Франции, он определил права граждан, прерогативы Генеральных штатов, пределы королевской власти; если бы он отказался для себя — от самодержавия, для дворянства — от привилегий; если бы, наконец, он выполнил все те реформы, которых требовало общественное мнение и которые затем были совершены Учредительным собранием, — подобная решимость предотвратила бы пагубные распри, вспыхнувшие впоследствии. Трудно найти такого государя, который согласился бы разделить с кем-либо свою власть и который был бы достаточно мудр, чтобы добровольно уступить то, что ему все равно суждено потерять. Несомненно, однако, что Людовик XVI сделал бы это, если бы более следовал своим собственным влечениям и менее подчинялся влиянию своих приближенных. К сожалению, полная анархия царствовала в королевском совете. Когда собрались Генеральные штаты, для того, чтобы предотвратить разногласие, не было принято никакого решения. Безвольный Людовик XVI колебался между министерством, руководимым Неккером, и своим двором, руководимым королевой и некоторыми другими членами королевской семьи.
Неккер, удовлетворенный тем, что отстоял двойное представительство третьего сословия, боялся нерешительности короля и недовольства двора. Не отдавая себе полного отчета во всей важности переживаемого кризиса, который он принимал скорее за финансовый, чем за политический, он ждал для того, чтобы действовать, событий и утешал себя иллюзиями, что будет руководить ими, не сделав к тому никакой подготовительной работы. Он чувствовал, что старинная организация Генеральных штатов более не терпима и что существование трех сословий, пользующихся правом каждое само по себе не принять того или другого закона, являлось полным препятствием к осуществлению преобразований и к правильному ходу управления. Он надеялся, произведя испытание этой тройной оппозиции, уменьшить количество сословий и ввести английскую форму правления, соединив духовенство и дворянство в одной палате, а третье сословие — в другой. Он не понимал, что раз борьба будет начата, его вмешательство будет тщетно, что полумеры не принесут пользы никому, что наиболее слабые из упрямства, а наиболее сильные по увлечению не примут его системы умеренности. Он не понимал, что уступки имеют смысл только до победы.
Двор желал не узаконения правильного собирания Генеральных штатов, а их полного упразднения. Он предпочитал случайное сопротивление великих государственных сословий разделению власти с постоянным собранием представителей. Разделение сословий благоприятствовало его целям; он рассчитывал поддерживать рознь между ними и этим мешать их действиям. Генеральные штаты, вследствие плохой их организации, еще никогда не приходили ни к какому результату; двор надеялся, что то же будет и на этот раз, тем скорее, что первые два сословия были мало расположены в пользу преобразований, требуемых третьим. Духовенство желало сохранить свои привилегии и свои богатства[15]; оно ясно видело, что впереди ему предстоит принести гораздо больше жертв, чем приобрести выгод. Дворянство, со своей стороны, хорошо понимало, что, хотя оно и получило давно утраченную им политическую независимость, в будущем ему предстоит больше уступить народу, чем получить от королевской власти. Новая революция должна была совершиться почти исключительно в пользу третьего сословия; первые два сословия поэтому были расположены соединиться вместе и со двором против него, как раньше соединялись с ним против двора. Такая перемена фронта внушалась им исключительно расчетом, и высшие сословия шли рука об руку с государем, вовсе не имея к нему привязанности, как ранее они защищали народ, вовсе не имея в виду общественного блага.
Не было пощажено ничего, чтобы только поддержать подобное расположение духовенства и дворянства. Депутатов этих сословий осыпали любезностями. У княгини де Полиньяк собирался комитет из знатнейших лиц: в состав его были введены наиболее видные представители этих двух сословий. Усилиями этого комитета удалось переманить на сторону двора д'Эпремениля и д'Антрега, двух самых ярых защитников свободы в парламенте до созыва Генеральных штатов, теперь сделавшихся решительными ее противниками. Здесь, в этом комитете, разработали различный костюм для представителей различных сословий, стремясь разъединить их сначала этикетом, затем интригами, а наконец, и силой. Двор слишком основывал свои действия на воспоминании о прежних Генеральных штатах: он полагал возможным, что настоящее можно направлять согласно преданиям о прошлом, что можно сдержать Париж при помощи армии, третье сословие — при посредстве дворянства; что можно властвовать над Генеральными штатами, разъединяя сословия, и что разделить сословия можно, восстановив старинные обычаи, унижавшие общины и возвеличивавшие дворянство. Даже после первого заседания еще думали, что можно помешать всему, не делая вовсе никаких уступок.
6 мая, на другой день после открытия Генеральных штатов, дворянство и духовенство собралось в отведенных для них залах и занялось своей внутренней организацией. Третье сословие, из-за своей многочисленности собравшееся в зале Штатов, ждало сюда и другие два сословия; оно смотрело на свое положение как на временное, считало своих сочленов еще не утвержденными в звании депутатов и держалось системы выжидания, пока дворянство и духовенство к нему не присоединятся. Тут-то и началась та приснопамятная борьба, которая должна была решить, быть или не быть революции. Все будущее Франции зависело от того, произойдет или не произойдет слияние сословий. Этот важный вопрос предстал во всей силе при проверке полномочий депутатов. Депутаты третьего сословия вполне справедливо полагали, что проверка эта должна быть произведена сообща, так как, даже отказавшись от соединения сословий, нельзя было не согласиться, что интерес каждого из них требовал проверки полномочий депутатов других сословий; представители высших сословий в свою очередь заявляли, что раз каждое сословие должно работать по отдельности, то и проверка полномочий должна производиться каждым сословием независимо от других. Они слишком хорошо чувствовали, что стоит только сословиям соединиться вместе, хотя бы для одного только дела, никакое разъединение их в будущем не станет возможным.
Третье сословие действовало весьма осторожно, зрело и настойчиво. Оно шло к своей цели только рядом далеко не безопасных усилий, рядом медленных и далеко не решительных побед и постоянно возобновлявшихся схваток. Принятая ими с самого начала выжидательная система оказалась мерой наиболее разумной и верной: бывают случаи, когда для того, чтобы победить, надо исключительно уметь выжидать. Третье сословие было единодушно и само по себе представляло половину всех депутатов Генеральных штатов; среди дворянства была часть, настроенная демократично; большая часть сельских священников, которые составляли ядро сословия духовенства и были в нем чем-то вроде третьего сословия, была расположена в пользу третьего сословия. Соединению должно было содействовать утомление и бездействие; на это надеялось третье сословие, этого боялись епископы, и это побудило их предложить 13 мая себя в посредники. Посредничество это не могло иметь результатов, ибо дворянство продолжало не желать поголовного голосования, а третье сословие не соглашалось на голосование по сословиям. Примирительные совещания, безрезультатно протянувшись до 27 мая, были прерваны дворянством, окончательно высказавшимся за проверку полномочий в каждом сословии самостоятельно.
На следующий день после этого враждебного решения третье сословие, решившись провозгласить себя Национальным собранием, пригласило во имя Бога, мира и общественного блага присоединиться к ним духовенство. Двор, встревоженный таким поступком, вмешался и старался возобновить примирительные совещания. Задача примирить комиссаров была возложена на высших комиссаров-примирителей. Таким образом, Штаты становились в зависимость от комиссаров, а комиссары от королевского совета. Но и новые переговоры имели успеха не больше, чем прежние: они тянулись без конца; ни одно из сословий не желало уступить; наконец, дворянство прервало и их, подтвердив свои прежние решения.
В этих бесплодных переговорах прошло пять недель. Третье сословие, видя, что настало время сорганизоваться, что дальнейшие проволочки только возбудят против него народ, доверие которого оно заслужило вследствие отказа первых двух сословий, решилось действовать и в своих действиях высказало столько же такта и решимости, как и в своем бездействии. Мирабо заявил, что один из парижских депутатов имеет сделать сословию предложение; вслед за этим заявлением Сьейес, человек застенчивый, но с пытливым умом, пользовавшийся большим влиянием и более кого-либо другого способный мотивировать решение, показал невозможность соглашения, крайнюю необходимость скорейшей проверки полномочий, справедливость того, чтобы проверка эта была произведена сообща всеми сословиями, и убедил собрание постановить: пригласить дворянство и духовенство в зал собраний Генеральных штатов для присутствия при проверке полномочий, которая будет произведена во всяком случае, придут они или не придут.
За принятой для всеобщей проверки полномочий мерой последовала и другая, еще более энергичная. Третье сословие, закончив проверку, по предложению Сьейеса, 17 июня провозгласило себя Национальным собранием. Этой смелой выходкой, этим объявлением наиболее многочисленного сословия, сословия, единственно обладавшего законными полномочиями, помимо всех других сословий, пока они не подчинятся совместной проверке полномочий, представительным учреждением всей Франции, разом решались все спорные вопросы и совершалось превращение собрания Генеральных штатов в собрание народа. Сословное начало исчезало из политического уклада, и этим был сделан первый шаг к уничтожению классовой розни и в частной жизни. В незабвенном декрете 17 июня предсуществовала уже ночь на 4 августа; надо было, однако, отстоять принятое решение, и можно было опасаться, что поддержать такое решение не будет возможности.
Первым декретом Национального собрания было признание за собой верховной власти. Оно как бы поставило от себя в зависимость привилегированные сословия, провозгласив нераздельность законодательной власти. Оставалось еще справиться с двором при помощи налогов. Собрание признало их незаконность, но тем не менее постановило, что они должны быть платимы временно, пока оно существует, и должны быть прекращены в момент роспуска Собрания; Собрание успокоило капиталистов, обеспечив государственный долг, и позаботилось о нуждах народа, создав Продовольственный комитет.
Подобная твердость и предусмотрительность возбудили восторг народа. Те же, кто руководил двором, поняли, что поддерживаемые ими между сословиями несогласия не привели к желанной цели, что нужно для ее достижения искать других средств. Они думали, что одна королевская власть способна прямым приказом поддержать существование сословий, не нашедшее достаточной опоры в оппозиции дворянства. Чтобы заставить Людовика XVI принять враждебные меры, надо было, однако, устранить от него осторожные и миролюбивые советы Неккера; случай тому представился во время поездки короля в Марли. Король, одинаково подчинявшийся влиянию и хороших и дурных советов, окруженный двором, замешанным в партийную политику, поддался упрашиваниям, произведенным во имя интереса короны и религии, остановить мятежные действия общин и пообещал исполнить все, что от него желал получить двор. Было решено, что король явится в Собрание с возможной помпой, отменит принятые им решения, предпишет сохранение сословий в виде основного монархического закона и сам наметит те реформы, которые должны произвести Генеральные штаты. С этого времени место правительства занял тайный совет, и действовать стал он не под сурдинку, как прежде, а совершенно открыто. Планы действия и вырабатывались, и приводились в исполнение исключительно хранителем печати Барантеном, графом д'Артуа и принцами Конде и Конти. Неккер потерял всякое влияние: он предложил королю план примирительных действий, который мог бы иметь успех, пока еще борьба не дошла до такого ожесточения, но который был совершенно недействительным при нынешних обстоятельствах. Он предложил устроить снова в присутствии короля общее собрание Штатов и на нем согласиться на поголовное голосование в вопросах о налогах, но оставить в силе голосование по сословиям в делах частных интересов и привилегий. За мерой этой, неблагоприятной для третьего сословия, так как она поддерживала злоупотребления, давая в руки дворянству и духовенству средство противодействия их уничтожению, должно было последовать учреждение для ближайших Генеральных штатов двух палат. Неккер любил полумеры и желал постепенными уступками провести ту политическую реформу, которую следовало осуществить сразу. Наступил момент даровать народу все права — ибо все равно он готов был взять их сам. Проект королевского заседания Генеральных штатов, и без того уже совершенно недостаточный, новым советом был превращен в план прямого государственного переворота. Совет полагал, что Собрание будет устрашено королевским повелением, что Франция удовлетворится обещанием некоторых реформ. Он не понимал, что только в случаях самой большой крайности можно подвергать королевскую власть опасности ослушания.
Государственные перевороты совершаются всегда неожиданно и должны захватить врасплох тех, против которых они направлены. Тут поступили совершенно обратно, и приготовления к перевороту способствовали его неуспеху. Явилось опасение, что большинство духовенства признает Национальное собрание и присоединится к нему; чтобы предупредить такой решительный шаг, не ускорили время устройства королевского заседания, а заперли зал для собрания Штатов, полагая, что этим будут прекращены их заседания. Предлогом к такой неприличной и неловкой мере послужила якобы необходимость сделать кое-какие приготовления, требуемые присутствием в заседании короля.
Председателем Национального собрания в это время был Байи. Этот доблестный гражданин получил от нарождающейся свободы всякие почести, хотя вовсе их не добивался. Он был первым председателем Национального собрания, как он был первым парижским депутатом и позднее первым парижским мэром. Он был обожаем своими, уважаем противниками, и, несмотря на всю свою кротость и просвещенность, он обладал в самой высокой степени смелостью в исполнении своего гражданского долга. Извещенный в ночь на 20 июня хранителем печати о прекращении собраний, он остался верен постановлению Собрания и не побоялся ослушаться двора. На другой день в назначенный час он явился к залу заседаний и, найдя его занятым войсками, протестовал против такой деспотической меры. Тем временем подошли депутаты, шум увеличился; все оказались исполненными решимости не обращать внимания на опасность, с которой сопряжено заседание в подобных условиях. Наиболее раздраженные порывались ехать в Марли и там устроить заседание под окнами короля; кто-то предложил для заседания зал для игры в мяч (Jeu de pommes)[16]; это предложение было принято, и все депутаты отправились туда скопом. Байи шел впереди всех; народ восторженно сопровождал депутатов; солдаты вызвались служить им охраной; собравшись в совершенно пустом, служащем для игры в мяч зале, депутаты общин, не имея даже на чем сесть, вдохновленные святостью своего призвания, подняли руки и все, за исключением одного, поклялись не расходиться, пока не дадут Франции конституции.
Вслед за этой торжественной клятвой, принесенной 20 июня перед лицом всего народа[17], 22-го последовала важная победа. Национальное собрание, все еще не имея помещения для своих заседаний и не имея даже больше возможности собираться в зале для игры в мяч, который заняли принцы исключительно с целью не допустить туда депутатов, отправилось в церковь Св. Людовика. На этом заседании посреди патриотических кликов к Собранию присоединилось большинство священства. Таким образом, меры, предпринятые для того, чтобы устрашить Собрание, только подняли его мужество и ускорили то самое соединение, против которого они были направлены. Две крупные неудачи, таким образом, предшествовали торжественному заседанию 23 июня.
День этого заседания, наконец, наступил. Многочисленная стража окружила зал, где происходило собрание Генеральных штатов; двери были открыты исключительно для депутатов; публику в зал заседания не пустили. Король показался во всем блеске своего могущества. Принят он был, против обыкновения, полным молчанием. Речь, им произнесенная, переполнила чашу терпения тем своим властным тоном, которым он продиктовал приведение в исполнение различных мероприятии, не одобренных общественным мнением и отвергнутых Национальным собранием. Король жаловался на несогласия, истинным виновником которых был двор; осуждал поведение Собрания, в котором он признавал только собрание исключительное, сословное; он отменил все сделанные им постановления, предписал сохранение сословий, указал, какие и в каких границах должны быть произведены реформы, принуждал Генеральные штаты принять эти реформы, угрожал распустить Штаты и одному выполнить все, что, по его мнению, нужно для блага государства, если он встретит с их стороны еще какое-нибудь сопротивление. После такой автократической сцены, не отвечающей ни обстоятельствам, ни характеру самого Людовика, король удалился, повелев депутатам разойтись. Дворянство и духовенство исполнили это приказание. Депутаты третьего сословия, неподвижные, молчаливые, негодующие, не покинули своих мест. Несколько минут длилось тягостное молчание. Вдруг Мирабо прервал его словами: „Господа, то, что мы сейчас слышали, могло бы послужить к спасению отечества, если бы дары деспотизма не были всегда опасны. Что это за оскорбительная диктатура? Кругом оружие, национальный храм осквернен, и все это, чтобы повелеть нам быть счастливыми? Кто отдает вам грозные приказания? Ваш уполномоченный, тот, кто должен получать их от вас, от нас, господа, ибо мы облечены священным и неприкосновенным званием, ибо от нас двадцать пять миллионов людей ждут верного счастья, верного потому, что оно будет дано и принято всеми. Но свобода наших работ нарушена; Собрание окружено войсками. Где же враги народа? Разве перед воротами города находится Каталина? Я требую, чтобы вы, прикрывшись своим значением и своей законодательной властью, соблюли святость данной вами присяги; она не позволяет нам разойтись раньше, чем мы выработаем конституцию“. В это время великий церемониймейстер, видя, что Собрание не расходится, пришел напомнить ему о приказе короля. „Подите скажите вашему господину, — воскликнул Мирабо, — что мы здесь находимся по воле народа и выйдем отсюда, только уступая силе штыков“. — „Мы, — спокойно прибавил Сьейес, — остаемся сегодня тем же, чем были вчера; приступим к делу!“ И Собрание, исполненное решимости и величественное, приступило к работе. По предложению Камюса оно подтвердило все ранее сделанные постановления, а по предложению Мирабо установило неприкосновенность своих членов.
Этот день погубил авторитет королевской власти. Законодательная инициатива и моральная власть перешли от монарха к Национальному собранию. Те, кто своими советами вызвали это сопротивление, не чувствовали в себе дерзости наказать за него. Утром была решена отставка Неккера, а вечером и Людовик XVI, и королева умоляли его остаться на своем месте. Неккер не одобрял королевского заседания, и, отказавшись принять в нем участие, он снова завоевал доверие Собрания, которое он потерял было своими колебаниями. Время королевской немилости для него было всегда временем популярности; отказом повиноваться королю он становился союзником Собрания, и оно сейчас же давало ему свою поддержку. Каждая эпоха нуждается в человеке, который служил бы ей вождем и имя которого было бы знаменем партии; таким человеком для Национального собрания, пока шла борьба его со двором, служил Неккер.
На ближайшее заседание явилась та часть духовенства, которая примкнула к Собранию в церкви Святого Людовика; спустя несколько дней к ним присоединилось еще сорок семь депутатов дворянства и между ними герцог Орлеанский; ввиду этого, далее, уже сам двор счел необходимым пригласить оставшееся большинство дворянства и меньшинство духовенства прекратить ставшее совершенно бесполезным разъединение. С 27 июня заседания стали общими; сословия юридически прекратили свое существование; вскоре они исчезли и на самом деле. Сначала в зале общих заседаний они сохраняли за собой отдельные места, но затем мало-помалу сословия перемешались; пустые сословные преимущества должны были сгладиться перед властью народа.
Двор, после бесплодных попыток помешать организации Собрания, поневоле должен был присоединиться к нему и взять на себя руководство занятиями. Искренностью и доверием он мог бы еще загладить свои ошибки и заставить забыть свои неприязненные действия. Бывают минуты, когда следует взять на себя инициативу самопожертвования; бывают другие, когда не остается ничего другого, как только принять их. При открытии собрания Генеральных штатов король мог бы сам дать конституцию; теперь ему приходилось принять ее от Собрания; если бы он покорился этому обстоятельству, он несомненно улучшил бы свое положение. Но, придя в себя после первых моментов поражения, советчики Людовика XVI решили прибегнуть к помощи штыков там, где потерпел поражение авторитет; они уверили короля, что безопасность трона, поддержание законов королевства и даже самое благоденствие его народа требуют, чтобы он привел Собрание к покорности; что оно, помещаясь в Версале и близ Парижа, двух городов, ясно высказывавшихся в пользу Собрания, должно быть либо перенесено в другое место, либо распущено; что принять подобное решение надо немедленно для того, чтобы временно остановить течение революции, и что для этой цели необходимо как можно скорее созвать войско, которое устрашило бы Собрание и сдержало бы Версаль и Париж.
Покуда проектировались подобные меры, народные депутаты приступили к своим законодательным работам и принялись за выработку так нетерпеливо ожидаемой конституции, с которой, как они предполагали, не следовало мешкать. Из Парижа и других главных городов королевства им присылались адреса; их хвалили за их благоразумие и поощряли к продолжению дела возрождения Франции. Тем временем войско прибывало в большом количестве. Версаль принял вид лагеря; зал заседаний был окружен стражей, вход в него был воспрещен для простых граждан; кругом Парижа были расположены отряды войска, готовые, по-видимому, к его осаде или блокаде, смотря по тому, что могло понадобиться. Эти военные приготовления, транспорты артиллерии, приходившие с границ, и присутствие иностранных полков, повиновению которых не было границ, — все это указывало на существование каких-то зловещих проектов; народ был неспокоен, он волновался; Собрание решило известить обо всем монарха и потребовать роспуска войска.
Девятого июля по предложению Мирабо Собрание составило весьма почтительный, но твердый адрес королю, не произведший, однако, никакого действия. Людовик XVI объявил, что он один может судить, когда следует созвать войска и когда их надо распустить; он уверял, впрочем, что войска собраны только на всякий случай, чтобы предупредить волнение и охранять Собрание; он предложил, наконец, перенести Собрание в Нуайон или Суасон, то есть поставить его между армиями и лишить поддержки народа.
Париж был в состоянии величайшего брожения; громадный город был единодушен в своей преданности Собранию. Опасности, угрожавшие представителям народа, опасности, угрожавшие самим жителям столицы, а также недостаток в продовольствии — все располагало к Собранию. К делу революции с жаром пристали все: капиталисты из интереса и из-за опасения банкротства, люди просвещенные и весь средний класс — из-за патриотизма, народ, придавленный нуждой, винивший во всех своих страданиях высшие классы и двор, желавшие волнений и перемен. Трудно себе даже представить то движение, которое охватило в это время столицу Франции. Париж вышел из покоя и молчаливого подчинения; он как будто бы был удивлен новизной положения и пьянел от свободы и энтузиазма. Пресса подогревала умы, газеты знакомили публику с прениями Собрания и, таким образом, как бы давали ей возможность присутствовать на его заседаниях; повсюду под открытым небом, на улицах и площадях обсуждали те вопросы, которые дебатировались Собранием. Всего многочисленнее собрание было в Пале-Рояле[18]. Пале-Рояльский сад был всегда полон толпой, постоянно возобновлявшейся. Кафедрой служил стол, оратором был всякий гражданин; тут обсуждали опасности родины и ободряли друг друга к сопротивлениям. По предложению, исходящему отсюда, народ открыл двери тюрем аббатства и с триумфом вывел из них солдат французской гвардии, заключенных за отказ стрелять в народ; этот акт остался без последствий; особая депутация добивалась от Собрания заступничества за освобожденных узников; Собрание обратилось к милосердию короля; узники вернулись в тюрьму и получили прощение. С этих пор полк, к которому принадлежали эти узники, один из наиболее храбрых и наиболее многочисленных, стал благоприятно относиться к народному делу.
Таково было положение дел в Париже, когда двор, сосредоточив войска в Версале, Севре, на Марсовом поле и в Сен-Дени, счел возможным приступить к исполнению своего плана. Свои действия двор начал 11 июля изгнанием Неккера и полным обновлением Кабинета министров. Преемниками Пюи-Сегюра, Монморена, де ля Люзерна, Сен-При и Неккера были назначены: маршал Брольи ля Галисоньер, герцог де ля Вопоьон, барон Брётёи и интендант Фулон. Неккер в субботу, И июля, во время своего обеда получил записку от короля с предложением тотчас же покинуть королевство. Никому не сказав ни слова о приказании, которое он получил, Неккер спокойно докончил свой обед, затем сел в карету вместе с женой, как будто затем, чтобы ехать в Сен-Уэн, но вместо того отправился в Брюссель.
На другой день, в воскресенье 12 июля, приблизительно к четырем часам вечера, в Париже узнали об опале Неккера и об его отъезде за границу; эту меру сочли началом выполнения заговора, приготовления к которому уже давно намечались. Через короткое время весь город пришел в весьма сильное волнение; повсюду собирались толпы народа, более десяти тысяч человек сошлось в Пале-Рояле, раздраженные узнанной новостью, готовые на все, но не знающие, что предпринять. Молодой человек по имени Камиль Демулен, будучи смелее других и являясь одним из опытных ораторов толпы, с пистолетом в руке вскакивает на стол и говорит: „Граждане! Время не терпит; отставка Неккера — все равно что набат Варфоломеевской ночи для патриотов! Сегодня вечером все швейцарские и немецкие войска выступят с Марсова поля[19], чтобы нас перерезать! Нам остается один путь к спасению — самим взяться за оружие“. Слова Демулена принимаются толпой с шумным одобрением; Демулен предлагает патриотам нацепить кокарды, чтобы иметь возможность различать и защищать своих. „Какую кокарду, — говорит он, — вы хотите: зеленую, цвета надежды, или красную, цвета свободного ордена Цинцината?“ — „Зеленого, зеленого“, — отвечает толпа. Оратор сходит со стола и прикрепляет к своей шляпе лист с дерева; все остальные следуют его примеру; каштаны Пале-Рояльского сада оказываются почти совершенно обнаженными от листьев, а вся шумная толпа направляется к скульптору Курциусу.
У него толпа берет бюст Неккера и герцога Орлеанского, ибо распространился слух, что и этот последний также подвергся изгнанию; бюсты декорируют крепом и торжественной процессией несут по улицам. Шествие движется по улицам Сен-Мартен, Сен-Дени и Сен-Оноре, и с каждым шагом толпа все увеличивается; народ заставляет всех встречных снимать шляпы. Встречается по дороге конный патруль — толпа заставляет его следовать за собой. Таким образом, шествие доходит до Вандомской площади, и там толпа обносит бюсты кругом статуи Людовика XIV. Сюда является отряд германской гвардии; он пытается разогнать шествие, но быстро обращен в бегство градом камней; толпа продолжает свой путь и доходит до площади Людовика XV; здесь на нее нападают драгуны князя Ламбеска; некоторое время она оказывает сопротивление, но, наконец, не выдерживает; один из несших бюсты и один солдат убиты; толпа рассеивается, часть бежит к набережной, а другая устремляется в Тюильри, через ближайший мост. Князь Ламбеск, во главе своих солдат, с саблей наголо, преследует бегущих в самом саду; он бросается на безоружную толпу, совершенно не участвовавшую в шествии и случайно мирно гулявшую по саду. Какой-то старик ранен при этом саблей; публика защищается при этом стульями, взбирается на террасы; негодование становится всеобщим, и крики „К оружию!“ вскоре начинают раздаваться повсюду — в Тюильри, в Пале-Рояле, в городе и в предместьях.
Мы упоминали уже, что один полк французской гвардии был расположен в пользу народа; его поэтому заперли в казармах. Князь Ламбеск, несмотря на это, опасаясь его вмешательства, посылает шестьдесят драгун занять место около склада оружия этого полка, на улице Шоссе-д'Антен. Гвардейцы, недовольные уже одним тем, что их держат как арестантов запертыми, при виде иностранных драгун, с которыми у них было столкновение несколько дней перед тем, выходят из себя. Они решаются идти за оружием, и их офицерам стоит большого труда, при помощи просьб и угроз, удержать от этого намерения; спокойствие было водворено, но ненадолго, и они не хотят больше ничего слышать, когда до них доходит известие о нападении, произведенном в Тюильри, и о смерти одного из их товарищей. Они схватывают оружие, ломают решетки и, выстроившись в боевой порядок пред казармами и против немецких драгун, кричат им: „Кто идет?“ — „Немецкая королевская гвардия!“ — „Вы за третье сословие?“ — „Мы за тех, кто нам отдает приказания!“ После этих переговоров французская гвардия дает залп, убивающий двоих немецких солдат и ранящий троих; остальные драгуны бегут, вслед за тем французские гвардейцы скорым шагом и с ружьями „на руку“ проходят до площади Людовика XV, занимают место между Тюильри и Елисейскими полями, между народом и войсками, и остаются здесь всю ночь. Войска, находившиеся на Марсовом поле, тотчас же получили приказание двинуться вперед. Когда они пришли на Елисейские поля, французская гвардия встретила их залпами; пришедшие войска хотели заставить драться, но они отказались; один из швейцарских полков первый показал пример неповиновения, все остальные за ним последовали. Офицеры, отчаявшись заставить исполнять свои приказания, отвели войска назад, сначала до решетки Шальо, а затем и на Марсово поле. Планы двора не удались вследствие измены французской гвардии и отказа войск, даже иностранных, идти против столицы.
В тот же вечер народ отправился в ратушу и потребовал, чтобы ударили в набат и дали сигнал собранию округов и вооружению граждан. В ратуше собралось несколько избирателей, и они захватили в свои руки власть. Эти граждане в дни волнений оказали большую услугу своему городу и делу свободы своим присутствием духа, своим благоразумием и своей деятельностью; но во время замешательства первых минут восстания они не могли заставить себя слушать. Волнение достигло высшей степени, каждый слушался только своей страсти. Рядом с гражданами, воодушевленными самыми лучшими намерениями, находились люди подозрительной нравственности, искавшие в восстании только средства к беспорядку и грабежу. Толпы рабочих, употреблявшихся правительством для общественных работ и состоявшие по большей части из праздношатающихся и бродяг, зажгли заставы, наводнили улицы, разграбили некоторые дома; ночь с 12-го на 13-е прошла в шуме и тревоге.
Отъезд Неккера, вызвавший восстание в столице, произвел не меньшее впечатление в Версале и в Собрании. Удивление и неудовольствие и там были такие же, как и в Париже; депутаты собрались в зале заседания ранним утром; они были сумрачны, и их грусть зависела скорее от негодования, чем от уныния. „Как только заседание было открыто, — говорит один из депутатов, — Собрание в гробовом молчании, менее прислушиваясь к чтению, чем к собственным мыслям, заслушало несколько адресов, одобрявших его декреты“. Затем Мунье попросил слова; он объявил об отставке дорогих для народа министров и о том, кто выбраны их преемниками; он предложил проект адреса королю с требованием возвратить к власти прежних министров, с указанием на опасность насильственных мер, на несчастье, к которому могло повести приближение войск, и с объявлением, что Собрание торжественно отказывается от всякого участия в позорном банкротстве. При этих словах до сих пор сдерживавшее свое волнение Собрание разражается громкими аплодисментами и криками одобрения. Тут с грустным видом выступает вперед Лалли-Толендаль, друг Неккера, и просит слово; получив его, он произносит длинное и красноречивое похвальное слово министру; его слушают с глубоким вниманием; его скорбь отвечает скорби общественной, дело Неккера является делом всего отечества. Даже дворянство в этом случае не отдаляется от депутатов третьего сословия, может быть, потому, что оно считало опасность общей, а может быть потому, что боялось противоречием навлечь на себя такое же негодование, какое навлек на себя двор; может быть, наконец, что дворянство в этом случае просто было охвачено общим увлечением.
Пример подал граф Вирьё, один из депутатов дворянства, сказавший: „Мы собрались для того, чтобы выработать конституцию, будем же ее вырабатывать: скрепим наши взаимные узы, возобновим, подтвердим, освятим славные декреты 17 июня; соединимся все навеки в знаменитом решении, принятом 20-го числа того же месяца. Поклянемся все, да, именно все без различия сословий, быть верными этим декретам; они одни в настоящее время могут спасти королевство“. „Или мы добьемся конституции, — прибавил герцог Ларошфуко, — или нас не будет“. Согласие стало еще более единодушным, когда Собрание узнало о восстании в Париже, о беспорядках, которые оно за собой повлекло, о сожженных заставах, о собравшихся в ратуше избирателях, о полном смятении столицы и о том, что граждане вот-вот будут атакованы войсками или начнут драться друг с другом. Весь зал кричал в один голос: „Пусть даже воспоминание о наших временных несогласиях будет сглажено! Соединим наши силы для спасения отечества!“ Тотчас отправили к королю депутацию из восьмидесяти членов, в число которых вошли все депутаты Парижа. Во главе ее стал архиепископ Вьенский, президент Собрания. Депутация должна была сообщить королю о тех опасностях, которые угрожали столице и королевству, поставить ему на вид необходимость удалить войска и поручить охрану города гражданской милиции; кроме того, она должна была, если король выразит свое согласие, отправить из своей среды депутацию в Париж с этими утешительными вестями. Однако посланная Собранием депутация вскоре вернулась от короля, принеся малоудовлетворительный ответ.
Собрание увидело тогда, что ему остается рассчитывать только на самого себя и что проекты двора остались совершенно непоколебленными. Это не только не заставило Собрание упасть духом, но, наоборот, придало ему твердости. Собрание тотчас же утвердило большинством голосов ответственность министров и всех других советников короля, какого бы звания и положения они ни были; Собрание вотировало выразить Неккеру и другим удаленным министрам свое по этому поводу сожаление; оно объявило, что не перестанет настаивать на удалении войск и на установлении гражданской милиции; оно поставило государственный долг под защиту французской чести и подтвердило все свои предыдущие постановления. После всех этих мер Собрание приняло еще одну, бывшую не менее необходимой: опасаясь, чтобы ночью зал заседаний не был занят войсками, дабы затем разогнать Собрание, оно организовало непрерывное заседание впредь до нового постановления; Собрание решило, что часть депутатов будет заседать в течение ночи, а другая придет сменить ее рано утром. Чтобы облегчить президентство почтенного Вьенского архиепископа, Собрание выбрало вице-президента, который должен был заменять его в чрезвычайных обстоятельствах. Выбран был Лафайет, и он председательствовал в ночном собрании. Собрание это прошло без прений, депутаты оставались на своих местах в молчании, спокойные и решительные. Вот какими мерами, каким сочувствием общественному горю, какими постановлениями, каким единодушием энтузиазма и какой непоколебимой твердостью Собрание все более и более поднималось на высоту, соответственную опасностям минуты и его призванию.
В Париже восстание на следующий день, 13 июля, приняло более правильный характер. С утра народ собирался к ратуше; здесь, а затем по всем церквам ударили в набат, по улицам прошли барабанщики, созывавшие граждан. Собирались на всех площадях; были образованы отряды под названием волонтеров Пале-Рояля, Тюильри, Базоша, Аркебуза. Собрались округа, и каждый из них выбрал по 20 тысяч человек для самозащиты. Не хватало только оружия; его искали повсюду, где только была какая-либо надежда его найти. Завладели тем оружием, которое нашли у оружейников; забирая его, народ выдавал расписки. Требовали оружие из ратуши; напрасно избиратели, собравшиеся в ратуше, уверяли, что оружия у них нет, его требовали во что бы то ни стало. Избиратели призвали тогда городского голову де Флесселя, старшину купцов, как единственного, кто знал истинное военное положение столицы и которого популярность в народе могла принести большую помощь в таких затруднительных обстоятельствах. Толпа встретила Флесселя аплодисментами. „Друзья! — сказал он, — я ваш отец, и вы будете мной довольны“. В ратуше был организован постоянный комитет для принятия мер, касающихся общественной безопасности.
В это время пришло известие, что дом Лазаристов, в котором были большие запасы хлеба, ограблен, что толпа ворвалась в арсенал и разобрала там старое оружие, что оружейные лавки разнесены. Явилось опасение, что толпа дойдет до последних крайностей; она была разнуздана и, казалось, трудно было обуздать ее ожесточение. Но толпа была в состоянии энтузиазма и потому бескорыстна. Она сама обезоруживала подозрительных людей; хлеб, найденный у Лазаристов, был свезен на рынок; ни одного частного дома не было разграблено; задержанные у городских застав повозки с провизией, мебелью и посудой были отправлены на Гревскую площадь, где образовался огромный склад. Толпа росла все больше и больше, и все время раздавался крик: „К оружию!“ Было около часа. Купеческий старшина объявил, что весьма скоро привезут двенадцать тысяч ружей с Шарлевильской фабрики, а что за ними последуют еще тридцать тысяч.
Это известие внесло на некоторое время в толпу успокоение, и комитету удалось несколько более спокойно заняться организацией милиции из граждан. Менее чем в четыре часа был составлен, рассмотрен, утвержден, напечатан и расклеен план организации. Было решено, что число парижской Национальной гвардии, впредь до нового постановления, будет равно сорока восьми тысячам человек. Все граждане приглашались записываться в эту гвардию; каждый округ должен был образовать батальон, каждый батальон имел своих офицеров; командование этой милицией было предложено герцогу д'Омону, потребовавшему на ответ двадцать четыре часа. Покуда что маркиз де ля Салль был назначен помощником командира. Зеленая кокарда была заменена кокардой красной с синим — цвета города. Все это было делом нескольких часов; округа прислали свое одобрение мерам, принятым постановлениями комитета. Собранию предлагали свои услуги чиновники, включая сюда и судейских, медицинские студенты, полицейские служители и, что важнее, французские гвардейцы. Начали формироваться патрули, и им поручена была охрана улиц.
Народ с нетерпением ждал исполнения обещания купеческого старшины; ружья не приходили, вечер приближался, и на ночь боялись нападения войск. Появился слух об измене, так как оказалось, что была сделана попытка тайно вывезти из Парижа большое количество пороха и что его арестовали около застав. Вскоре, однако, прибыли ящики с надписью „артиллерия“. Их прибытие успокоило возбуждение; народ провожал их в ратушу, предполагая, что в них находится столь сильно ожидаемое оружие из Шарлевиля. Ящики были открыты и оказались наполненными тряпками и дровами. Народ кричал, что ему изменяют, он разразился упреками и угрозами против комитета и против купеческого старшины. Этот последний извинился, говоря, что он был обманут, и для того лишь, чтобы отделаться от толпы, или для того, чтобы выгадать время, он послал за оружием в Шартре. Но там оружия не было, и толпа вернулась еще более недоверчивой и еще более возбужденной. Комитет увидел, что для того, чтобы вооружить Париж и успокоить возбужденное недоверие, ему не остается ничего другого, как заказать выковать стальные пики; он тотчас же дал заказ на пятьдесят тысяч пик, и работа закипела. Чтобы избежать неистовств предыдущей ночи, город был освещен, и улицы его обходили по всем направлениям патрули.
На другой день народ, не получив оружия накануне, снова ранним утром явился к комитету, упрекая его во вчерашнем отказе и обвиняя в неудачах. Комитет тщетно искал оружия; из Шарлевиля его не присылали, не нашлось его и в Шартре; даже арсенал был пуст.
Народ в этот день уже не довольствовался никакими извинениями и положительно думал, что ему изменили; он всей массой бросился к Дому Инвалидов, где находился значительный склад оружия. Народ не выказал ни малейшей боязни пред войсками, собранными на Марсовом поле, он проник внутрь Дома Инвалидов, несмотря на убеждения его начальника де Сомбрейя, отыскал двадцать восемь тысяч ружей, сложенных в подвалах, завладел ими, взял большое количество сабель, шпаг, а также пушек, и все это оружие торжественно унес с собой. Пушки были размещены при входах в предместья, около Тюильрийского дворца, на набережных и на мостах, для защиты столицы от вторжения войск, которых можно было ждать с минуты на минуту.
В это же самое утро возбудило опасение известие, что двинуты к Парижу войска, бывшие в Сен-Дени, и что пушки Бастилии направлены на улицу Сент-Антуан. Комитет тотчас послал проверить это известие, разместил граждан для защиты города с этой стороны и отправил депутацию к коменданту Бастилии[20] с требованием снять пушки и не предпринимать никаких враждебных действий. Эта тревога, внушаемая крепостью, ненависть к злоупотреблениям, которые она покрывала, необходимость занять столь важный пункт и не оставлять его дольше в руках неприятеля во время всеобщего восстания привлекали внимание народа к Бастилии. С девяти часов утра и вплоть до двух часов дня повсюду в Париже раздавался один общий призыв: „К Бастилии, к Бастилии!“ Сюда направлялись со всех кварталов собранные в отряды граждане; вооружены они были ружьями, пиками и саблями. Окружавшая крепость толпа была уже значительна; на стенах крепости были поставлены часовые, а мосты были подняты, как в военное время.
Депутат округа Сен Луи де ля Кюлтюр, по имени Тюрио де ля Розьер, настоял, чтобы его пропустили для переговоров с комендантом Делоне. Допущенный к нему, он потребовал изменить направление пушек. Комендант отвечал ему, что пушки находятся постоянно в башнях и что он не вправе снять их оттуда; что, наконец, узнав о тревоге парижан, он готов их несколько отодвинуть назад за амбразуры. Тюрио с трудом добился, чтобы его пропустили в крепость дальше, так как он желал удостовериться, действительно ли крепость так безопасна для города, как уверял комендант. Проходя по крепости, он нашел, что три пушки были направлены на подходы к крепости и были совершенно готовы смести толпу, если бы она направлялась на приступ. Около сорока швейцарцев и восьмидесяти инвалидов находилось под ружьем. Тюрио убеждал их, равно как и штаб крепости, во имя чести и отечества не проявлять враждебных действий по отношению к народу; офицеры и солдаты поклялись не пользоваться оружием, если на них не будет нападения. Тюрио затем поднялся на вышку; отсюда он увидал громадную толпу, стекавшуюся со всех сторон, и подходившую массу жителей Сент-Антуанского предместья. Вне крепости между тем стали беспокоиться, не видя Тюрио, и требовали его возвращения. Чтобы успокоить народ, Тюрио поднялся на стены крепости и был приветствован общими аплодисментами со стороны сада арсенала. Он спустился, присоединился к своим, рассказал о том, что видел, и затем отправился в свой комитет.
Однако нетерпеливая толпа требовала сдачи крепости. От времени до времени среди нее раздавались слова: „Нам надо Бастилию, Бастилия должна быть наша!“ Вдруг из толпы вышли двое более смелых, чем другие; они бросились к крепости и топорами стали рубить цепи главного моста. Солдаты кричали им, чтобы они удалились, и грозили начать стрелять; однако они продолжали свою работу. Вскоре они разбили цепи, спустили мост и вместе с толпой устремились на него. Приблизившись к следующему мосту, они стали рубить и его. Тогда только гарнизон дал залп и залпом этим рассеял толпу; в скором времени толпа начала новую атаку, и в продолжение нескольких часов все ее усилия были направлены на второй мост, доступ к которому защищался непрерывным огнем крепости. Разъяренный таким упорным сопротивлением народ пытался разбить ворота при помощи топоров и поджечь гауптвахту; гарнизон дал залп картечью, причинивший большой урон осаждавшим, выведя из их строя много убитыми и ранеными. Это, однако, только усилило рвение толпы; народ продолжал приступ с упорством, возбужденный смелостью и твердостью храбрецов, Эли и Юлена.
Комитет в ратуше находился в сильнейшей тревоге. Осада Бастилии казалась ему безумным предприятием. Одно за другим он получал известия о неудачах народа около стен крепости. Комитет находился между двух огней: с одной стороны, ему грозили войска, если бы они оказались победителями, с другой стороны — толпа, требовавшая оружия для продолжения осады. Оружия у него не было, давать народу было нечего, а народ думал, что тут скрыта измена. Комитет послал вторую депутацию с целью прекратить враждебные действия и убедить коменданта вручить охрану крепости самим гражданам; однако депутация не была выслушана из-за шума, криков и звуков выстрелов. Комитет послал третью депутацию с барабаном и знаменем, чтобы легче было ее узнать, но и она не была счастливее: ни та, ни другая стороны не желали ничего слушать. Несмотря на свои старания и на свою деятельность, комитет, заседавший в ратуше, находился у народа в подозрении. В особенности возбуждал сильное недоверие купеческий старшина. „Он много раз надувал нас сегодня“, — говорили одни. „Он толкует, — замечали другие, — что следует рыть траншею, а на самом деле ему хочется только выиграть время“. „Товарищи! — вскричал, наконец, какой-то старик, — что нам разговаривать с этими предателями? Вперед! Следуйте за мной; через два часа Бастилия будет взята!“
Уже более четырех часов продолжалась осада, когда подошла Французская гвардия с пушкой. Ее прибытие совершенно изменило характер борьбы. Сам гарнизон начал настаивать пред комендантом о сдаче. Несчастный Делоне, страшившийся ожидавшей его участи, хотел взорвать крепость и погибнуть под развалинами крепости и предместья. С отчаянием рванулся он с фитилем в руках к пороховому погребу. Гарнизон арестовал его, поднял на башне белый флаг и опустил ружья дулами книзу в знак мирных намерений. Осаждавшие, однако, не прекратили битвы и подвигались вперед с криками „Опустите мосты!“ Швейцарский офицер через амбразуру предложил сдаться, если гарнизону позволено будет выйти из крепости с воинскими почестями. „Нет, нет“, — кричала толпа. Тот же офицер предложил сложить оружие, если гарнизону будет пощажена жизнь. „Спустите мосты, — отвечали ему ближайшие из осаждавших, — мы вам ничего не сделаем!“ Гарнизон поверил этому обещанию, открыл ворота и спустил мосты; осаждавшие бросились в Бастилию. Находившиеся во главе толпы желали спасти от ее мести коменданта, швейцарских солдат и инвалидов, но толпа кричала: „Отдайте их, отдайте их нам всех; они стреляли в своих сограждан и заслуживают виселицы“. Толпа вырвала из рук защитников коменданта, нескольких швейцарцев и нескольких инвалидов и всех тут же бесчеловечно умертвила.
Постоянный комитет не знал еще об исходе борьбы. Зал заседаний был наводнен яростной толпой, угрожавшей купеческому старшине и избирателям. Флессель начал тревожиться за свое положение: он был бледен, взволнован. Подвергнутый упрекам и страшным угрозам, он принужден был покинуть зал, где заседал комитет, и пройти в зал общих собраний, где собралось громадное количество граждан. „Он должен прийти, он должен идти с нами“, — кричали со всех сторон. „Это уж слишком, — ответил Флессель, — но будь что будет, я иду, куда меня зовут“. Не успел, однако, Флессель войти в большой зал, как внимание толпы было отвлечено шумом, доносившимся с Гревской площади; можно было разобрать крики: „Победа, победа, свобода!“ Эти крики возвещали приближение победителей. Вскоре они вошли в зал страшным триумфальным шествием. Наиболее отличившиеся были несены на руках и увенчаны лаврами. Их сопровождало более полутора тысяч человек с воспламененными глазами, растрепанными волосами, вооруженные чем попало, толкающие друг друга; их было столько, что пол трещал под их шагами. Один из толпы нес ключи и флаг Бастилии; у другого на штыке его ружья висели ее регламенты; третий, страшно сказать, в окровавленной руке держал пряжку от галстука коменданта. Вот в каком виде победители Бастилии, в сопровождении громаднейшей толпы, наводнившей площадь и набережную, вошли в зал ратуши для того, чтобы сообщить комитету о своей победе и решить судьбу тех пленников, которые остались еще в живых. Некоторые хотели в этом отношении подчиниться решению комитета, другие же кричали: „Нет пощады пленникам! Нет пощады тем, кто стрелял в своих сограждан!“ Однако коменданту Лассалю, избирателю Моро Сен-Мери и храброму Эли удалось успокоить толпу и добиться от нее всеобщей амнистии.
Но теперь пришла очередь несчастного Флесселя. Уверяют, что у Делоне было найдено письмо, подтверждающее его измену, о которой подозревали уже ранее. „Я тешу, — писал он, — парижан кокардами и обещаниями; старайтесь продержаться до вечера; вечером к вам придет подкрепление“. Народ толпился около бюро комитета. Самые умеренные требовали, чтобы Флесселя арестовали и посадили в тюрьму Шатле, но другие противились этому, говоря, что следует свести его в Пале-Рояль и там судить. Последнее мнение восторжествовало. „В Пале-Рояль, в Пале-Рояль!“ — кричали со всех сторон. „Будь по-вашему, господа! — ответил Флессель с довольно спокойным видом, — идемте в Пале-Рояль!“
С этими словами он спустился с эстрады, прошел через толпу, расступившуюся перед ним и последовавшую за ним, не делая ему никакого насилия. На углу набережной Пелетье какой-то неизвестный подбежал к Флесселю и убил его наповал выстрелом из пистолета.
После всех этих сцен вооружения, шума, битв, мести, убийств парижане, боявшиеся, что ночью на них будет произведено нападение, приготовлялись встречать врага. Все население принялось укреплять город. Строили баррикады, рыли траншеи, ломали мостовые; ковали пики, лили пули; женщины таскали камни в верхние этажи домов, чтобы отсюда бросать их в солдат; Национальная гвардия заняла сторожевые посты; Париж походил на огромную мастерскую и на огромный лагерь, и вся ночь проведена была под ружьем в ожидании битвы.
Но что же делалось в Версале в то время, когда восстание в Париже принимало характер такой необузданности, длительности и успеха? Двор готовился привести в исполнение свои замыслы против столицы и Собрания. Ночь с четырнадцатого на пятнадцатое была назначена для выполнения этих планов. Глава министерства барон Бретель обещал восстановить авторитет королевской власти не далее как в три дня. Маршал Брольи, командовавший войсками, собранными около Парижа, получил неограниченные полномочия. Тринадцатого числа должно было быть возобновлено заявление, сделанное 23 июня; предполагалось принудить депутатов принять его и затем распустить Собрание. Было приготовлено сорок тысяч экземпляров этой декларации, и все было сделано для того, чтобы быстро разослать ее по всему государству; кроме того, для удовлетворения крайней нужды казна была обеспечена более чем на десять тысяч миллионов государственными билетами. Парижские волнения не только не мешали двору, но даже благоприятствовали его намерена ниям. До самого последнего момента двор смотрел на это движение как на легко усмиримый мятеж; двор не верил ни в продолжительность, ни в удачу этого движения; ему казалось невозможным, чтобы город с его штатскими гражданами мог противиться армии.
Собрание знало обо всех этих замыслах. В продолжение двух дней, посреди тревог и опасений, оно заседало непрерывно. Оно не знало, однако, большей части того, что происходило в Париже. То до него доходило известие, что восстание стало всеобщим и что Париж двигается на Версаль, то — что войска двинуты в столицу. Иногда казалось, что слышны выстрелы пушек, и многие прикладывали ухо к земле, чтобы убедиться в этом. Четырнадцатого ночью пришло известие, что король в течение ночи должен уехать и что Собрание будет оставлено на произвол иностранных полков. Это последнее опасение не было совсем без основания; во дворце постоянно стояла заложенная карета, и вот уже несколько дней как ближайшая к королю стража не снимала сапог на ночь. К тому же в дворцовой оранжерее действительно происходили сцены, вызывающие опасения; наградами и угощениями вином двор подготовлял иностранные войска к выполнению своих планов. Все заставляло верить, что настал решительный момент.
Несмотря на близкую и все возрастающую опасность, Собрание показало себя непоколебимым и действовало сообразно своим требованиям и решениям. Мирабо первый предложил потребовать удаления войск и добился посылки новой депутации. Как только она успела отправиться, из Парижа прибыл один из депутатов виконт де Ноайль и сообщил Собранию об успехах восстания, о разграблении Дома Инвалидов, о вооружениях народа и об осаде Бастилии. Другой депутат Вимпфен дополнил этот рассказ описанием тех опасностей, которым он сам подвергался, и удостоверил, что ярость народа возрастает по мере увеличения для него опасности. Собрание постановило организовать службу курьеров, которые бы доставляли ему известия из Парижа каждые полчаса.
Тем временем два избирателя, Ганиль и Банкаль де Исcap, явившись в Собрание в качестве делегатов от комитета, заседавшего в ратуше, подтвердили все то, что ему только что сообщили депутаты. Делегаты сообщили Собранию о тех постановлениях, которые избиратели сделали для охранения порядка и для защиты столицы; они сообщили о потерях, понесенных под стенами Бастилии, о неуспехе депутаций, отправленных к коменданту, и добавили, что огонь гарнизона крепости усеял мертвыми телами все ее окрестности. При этом рассказе общий крик негодования вырвался у Собрания, и тотчас же была выбрана депутация для того, чтобы сообщить королю об этих последних известиях. Тем временем возвратилась первая депутация с ответом весьма малоудовлетворительным. Было десять часов вечера. Король, узнав о несчастных событиях, предвещавших события еще более важные, казалось, был растроган; он боролся с тем решением, которое его заставляли принять. „Вы все более и более раздираете мне сердце, — сказал он депутации, — вашими рассказами о бедствиях Парижа. Нельзя поверить, чтобы причиной их были приказания, отданные войскам. Вам известен ответ, сделанный мной предыдущей депутации: мне нечего к нему прибавить“. Прежний же ответ заключался в обещании удалить из Парижа войска, расположенные на Марсовом поле, и отдать приказания офицерам Генерального штаба стать во главе Национальной гвардии для ее управления. Этих мер, однако, не было достаточно, чтобы пособить в том опасном положении, до которого дело дошло; Собрание ими не было ни удовлетворено, ни успокоено.
Немного времени спустя депутаты д'Ормессон и Дюпор сообщили Собранию о взятии Бастилии и смерти Флесселя и Делоне. По этому поводу явилась мысль послать третью депутацию к королю и вновь просить об удалении войск. „Нет, — сказал Клермон-Тоннер, — оставим двору ночь для размышлений!“ В таком настроении Собрание провело всю ночь. Утром была выбрана новая депутация с целью поставить королю на вид те бедствия, которые повлечет за собой дальнейшее его упорство. Мирабо, пред самым уходом депутации, сказал ей: „Передайте ему, передайте прямо и открыто, что чужеземные орды, которыми нас окружили, вчера удостоились визита принцев, принцесс, фаворитов и фавориток, были предметом их ласк, подарков и ухаживаний; скажите ему, что всю эту ночь чужеземные наемники, пресыщенные золотом и вином, в своих песнях предсказывали порабощение Франции и что в своих грубых тостах они провозглашали упразднение Национального собрания; скажите ему, что в самом его дворце царедворцы танцевали под звуки этой варварской музыки и что такова же была прелюдия к Варфоломеевской ночи! Скажите ему, что тот Генрих, память которого благословляла вселенная, Генрих, которого он желал взять себе за образец, пропускал продовольствие в мятежный Париж, несмотря на то, что он сам его осаждал, а его свирепые советники ныне арестовывают ту муку, что торговля доставляет в голодную столицу“.
Депутация не успела, однако, отправиться, ибо король сам пришел в Собрание. Герцог Лианкур, пользуясь по праву хранителя гардероба доступом к королю, еще ночью уведомил короля об измене французской гвардии, об осаде и взятии Бастилии; при этих известиях, которые советники скрыли от него, удивленный монарх воскликнул: „Да ведь это бунт“. „Нет, Ваше Величество, — отвечал герцог Лианкур, — это не бунт, а революция“. Этот доблестный гражданин указал, далее, королю на все те опасности, которым он подвергается вследствие замыслов двора, на опасения и раздражения народа, на ненадежность войск и убедил его отправиться в Собрание, чтобы удостоверить благонамеренность своих намерений. Сначала эта новость вызвала восторженную радость. Но Мирабо остановил своих товарищей, выставляя им на вид, что не следует предаваться преждевременному восторгу. „Подождем, — сказал он, — чтобы Его Величество сам подтвердил нам те хорошие намерения, которые ему приписывают. В Париже течет кровь наших братьев, пусть мрачная почтительность будет приветом монарху от представителей несчастного народа: молчание народа — урок королям“. Собрание приняло мрачный вид, который его не покидал вот уже три дня. Король вошел без свиты, в сопровождении только своих братьев. Он принят был сначала глубоким молчанием; но когда он сказал, что он и нация представляют одно целое и неделимое и что, полагаясь на любовь и верность своих подданных, он отдал приказание войскам удалиться из Парижа и Версаля, когда он произнес эти трогательные слова: „Вы видите, я доверяюсь вам“, — раздались всеобщие аплодисменты. Собрание в одном общем порыве все поднялось на ноги и проводило короля во дворец.
Известие об этом быстро возбудило радость в Версале и Париже, где успокоенный народ разом перешел от вражды к благодарности. Людовик XVI, предоставленный самому себе, почувствовал, насколько для него было важно лично успокоить столицу, возвратить себе ее расположение и приобрести народную поддержку. Он послал объявить Собранию, что возвращает Неккера и что на следующий день едет в Париж; Собрание избрало депутацию в 100 членов, которые предшествовали королю в Париже. Депутация эта была встречена с энтузиазмом, двое из членов ее, Байи и Лафайет, были назначены: первый — парижским мэром, второй — начальником городской милиции. Они обязаны были этой честью: Байи — своему долгому и полному трудностей председательству в Собрании, а Лафайет — своим доблестным и патриотичным действиям. Друг Вашингтона и один из главных авторов американской независимости, Лафайет, вернувшись в отечество, первый высказался за собрание Генеральных штатов, затем присоединился вместе с меньшинством дворянства к Собранию и был с этого времени наиболее ревностным защитником революции.
Байи и Лафайет двадцать седьмого июля встретили короля во главе муниципалитета и парижской гвардии. „Ваше Величество, — сказал королю Байи, — я подношу Вам ключи Вашего доброго города Парижа: это те самые ключи, которые были поднесены Генриху IV. Тогда король завоевал народ, теперь народ завоевал своего короля“. От площади Людовика XV до ратуши король ехал среди Национальной гвардии, выстроенной в три или четыре ряда и вооруженной ружьями, штыками, копьями, косами и палками; лица были еще несколько мрачными, и единственные крики, которые раздавались, были: „Да здравствует нация!“ Но когда Людовик XVI вышел из кареты и принял из рук Байи трехцветную кокарду и когда, без какой-либо свиты, окруженный толпой, с полным доверием вошел в ратушу, со всех сторон раздались дружные аплодисменты и крики: „Да здравствует король!“ Примирение было полное: Людовик XVI получил самые ценные доказательства народной любви. Санкционировав выбор народа и утвердив новые назначения, король вернулся в Версаль, где были несколько обеспокоены относительно результата его поездки ввиду предшествовавших смут. Национальное собрание ждало короля на Парижской дороге; оно проводило его до замка, где король был встречен королевой и детьми, бросившимися в его объятия.
Контрреволюционные министры и все авторы неудавшихся планов покинули двор: граф д'Артуа со своими двумя сыновьями, принц Конде, принц Конти и семейство Полиньяк вместе с многочисленной свитой оставили Францию. Все они отправились в Турин, где к графу д'Артуа и принцу Конде вскоре присоединился Колонн, ставший их доверенным. Вот каким образом произошла первая эмиграция. Эмигрировавшие принцы не замедлили вызвать междоусобную войну в самом королевстве и составление европейской коалиции против Франции.
Неккер вернулся с триумфом. Этот момент был лучшим в его жизни, и немного найдется людей, кому приходилось переживать подобные минуты. Министр народа, попавший за него в немилость и возвращенный ради него же, он по пути из Базеля в Париж получил много доказательств благодарности и восторженной преданности народа. Въезд его в Париж был праздником. Но этот день, когда популярность его так сильно возросла, был в то же время последним днем ее. Толпа, продолжавшая свирепствовать против всех, кто так или иначе участвовал в проекте 14 июля, с ужасной жестокостью умертвила Фулона и его племянника Бертье. Неккер, возмущенный этими убийствами, опасаясь, чтобы за ними не последовали другие и в особенности стремясь спасти барона Безанваля, командовавшего парижской армией при маршале Брольи и арестованного народом, потребовал всеобщей амнистии и добился ее от собрания избирателей. Этот благодушный поступок, однако, был неосторожен, принимая во внимание существовавшее раздражение и недоверие; Неккер не знал народа; он не знал, с какой легкостью народ заподозревает своих вождей и разбивает своих кумиров. Народ подумал, что желают избавить его врагов от заслуженной ими кары; округа с жаром напали на незаконность амнистии, провозглашенной никем не уполномоченным собранием; самим избирателям пришлось эту амнистию отменить. Конечно, необходимо было народу посоветовать спокойствие и призвать его к пощаде; но лучшим к тому средством было бы потребовать не освобождения подсудимых, а суда над ними, суда, который бы избавил их от убийственной расправы толпы. То, что наиболее гуманно, — не всегда самое лучшее. Ничего не добившись, Неккер вдобавок восстановил против себя народ. Тем самым он вступил в борьбу против той самой революции, вождем которой он рассчитывал сделаться лишь потому, что на момент стал ее героем. Но отдельный человек слишком незначительная величина во время революции, когда волнуются массы; движение либо увлекает его, либо оставляет; надо, чтобы он или шел вперед, или погиб. Ни в какое время нельзя заметить более ясно подчинение человека обстоятельствам: во время революции появляется много вождей, но если она отдается, то отдается только одному из них.
Последствия дня 14 июля были огромны. Движение из Парижа перешло в провинции; повсюду население, следуя примеру столицы, создало для самоуправления муниципалитеты, а для самозащиты — Национальную гвардию. И сила, и власть совершенно переместились; королевское правительство потеряло их, понеся поражения, а народ завоевал их силой. Имели власть и пользовались повиновением только вновь выбранные правители; прежние потеряли всякое значение и стали предметом полного недоверия. В городах народ восставал против них и против привилегированных сословий, считая, и не совсем без основания, их противниками совершившейся перемены. По деревням пылали замки господ, и крестьяне сжигали их дворянские грамоты. Редко бывает, чтобы победители не злоупотребляли одержанной победой и приобретенной силой. Необходимо было для успокоения народа искоренить злоупотребления; народ в своем стремлении избежать этих злоупотреблений невольно смешивал привилегии с правом собственности. Сословия исчезли; произвол был уничтожен; следовало отменить и их старинный придаток — неравенство. Отсюда надо было начать постройку нового порядка вещей; эти предварительные меры были выработаны в продолжение одной ночи.
Собрание обратилось к народу с прокламациями, назначение которых было восстановить спокойствие. Много способствовало водворению порядка учреждение в Шатле суда для разбора дел относительно заговорщиков 14 июля, — суд этот соответствовал желаниям большинства. Оставалось принять более важную меру — отмену привилегий. Толчок к принятию этой меры дал виконт де Ноайль, сделавший вечером 4 августа предложение выкупить феодальные права и уничтожить личную крепостную зависимость[21]. Это предложение послужило сигналом отречения вообще от всякого рода привилегий: между обладателями их появилось соревнование в жертвах и патриотизме. Увлечение стало всеобщим, и в несколько часов Собрание дошло до декрета об отмене решительно всех привилегий. Герцог дю Шатле предложил выкуп десятинного сбора и замену его денежным налогом; епископ Шартрский — отмену исключительного права на охоту; граф де Вирьё — уничтожение права на голубятни[22]. Далее, были по очереди предложены и декретированы Собранием: отмена вотчинных судов, уничтожение продажности судебных должностей; отмена податных льгот и неравномерности налогов, уничтожение случайных доходов духовенства[23], упразднение аннат в пользу римского двора, соединение в одном лице нескольких доходных духовных должностей, отмена пенсий, полученных не по заслугам, и т. д. Вслед за жертвами частных лиц шли жертвы корпораций, городов и областей. Маркиз де Бланкон, депутат Дофине, торжественно от лица представляемой им провинции отказался от всех ее привилегий. Другие области последовали примеру Дофине, за ними пошли и города. Для увековечения этого дня была выбита медаль, а Людовику XVI Собрание присудило титул восстановителя французской свободы.
Эта ночь, названная одним из ее современников Варфоломеевской ночью собственности, была более всего Варфоломеевской ночью для злоупотреблений. Она расчистила развалины феодализма; она избавила людей от остатков крепостного права, землю от помещичьих притязаний, собственность поселянина — от опустошений, производимых зверями, и разорения десятинным налогом. Отменой вотчинных судов она привела к утверждению общественной власти. Уничтожение продажности судебных мест повело за собой безвозмездное судопроизводство. Она послужила переходом от положения вещей, где все преимущества были на стороне частных лиц, к такому положению вещей, где все права были на стороне народа. Эта ночь изменила весь облик королевства; она сделала всех французов равными между собой; всякий французский гражданин теперь мог достичь любой должности, приобрести собственность, заняться любой предпринимательской деятельностью. Эта ночь произвела переворот нисколько не менее важный, чем само восстание 14 июля, которого она являлась прямым следствием. Она сделала народ господином правительства и позволила подготовить новый общественный уклад, уничтожив старый.
Ход революции был очень быстрый, и она в короткое время достигла огромных результатов; ход ее был бы медленнее и результаты менее глубоки, если бы на нее не было столько нападений. Каждый отказ короля в санкционировании служил для нее поводом к успеху. Она разоблачила интригу, устояла против напора королевской власти, восторжествовала над силой. В момент, нами только что разобранный, здание абсолютной монархии окончательно развалилось по вине ее собственных вождей. 17 июня были уничтожены три сословия, и Генеральные штаты превратились в Национальное собрание, 23 июня было концом морального влияния монархии, а 14 июля — и ее материальной силы; первое наследовало от нее Собрание, а второе — сам народ. 4 августа, наконец, было венцом этой первой революции. Эпоха, которую мы только что рассмотрели, резко отличается от всех других; в этот короткий период времени сила переходит от одной стороны к другой, и совершаются все предварительные перемены. В следующую эпоху новый общественный уклад обсуждается и утверждается, и Собрание из разрушающего становится созидающим, или Учредительным.
Глава II С ночи 4 августа до 5 и 6 октября 1789 г.
Положение Учредительного собрания. — Партия высшего духовенства и дворянства; Мори и Казалес. — Партия министерства и обеих палат: Мунье, Лалли-Толендаль. — Народная партия; триумвират Барнава, Дюпора и Ламета; положение его; влияние Сьейеса; Мирабо, предводитель Собрания в это время. — Что надо думать об орлеанской партии. — Труды по составлению конституции: Декларация прав; непрерывность и единство Законодательного собрания; королевская санкция; внешние волнения, вызванные ею. План двора; обед телохранителей; возмущение 5 и 6 октября; король переезжает на жительство в Париж.
Национальное собрание, составленное из избранных и просвещеннейших представителей нации, было проникнуто самыми чистыми намерениями и стремлениями к общественному благу. Однако же, оно не обходилось без партий и без разногласий; общая масса не находилась под господством одной идеи или одного лица, и это большинство по свободному убеждению, часто самобытному, принимало решения и присуждало популярность. Посмотрим, какие партии и интересы существовали в Собрании.
Двор имел свою партию в Собрании; ее составляли лица привилегированных сословий; эта партия некоторое время бездействовала и только позднее приняла участие в прениях. Эта партия составилась из тех, кто в период спора между сословиями высказался против соединения. Несмотря на временное согласие с общинами во время последних событий, интересы аристократии были противоположны интересам народной партии; поэтому дворянство и высшее духовенство, составлявшие правую в Собрании, были в постоянном несогласии с этой партией, исключая известных дней общего увлечения. Недовольные революцией, которой они не могли ни помешать ей своими жертвами, ни остановить ее своим согласием на уступки, они систематически противодействовали почти всем ее реформам. Два человека являлись главными представителями этой партии; эти два человека не были первыми ни по рождению, ни по званию; они возвысились благодаря таланту. Это были Мори и Казалес; один являлся как бы представителем духовенства, другой — дворянства.
Эти два оратора привилегированных сословий, следуя интересам своей партии, не верившей в прочность реформ, больше протестовали, чем защищались, и во всех прениях преследовали одну цель — не разъяснения, а стремления вредить Собранию. Каждый из них вносил в свою роль склад своего ума и характера: Мори произносил длинные речи, Казалес делал резкие выходки. Первый на трибуне сохранил привычки проповедника и академика; он обсуждал законодательные вопросы, часто не понимая их и очень редко схватывая истинный смысл вопроса, даже по пунктам, выгодным для его партии. Он обнаруживал смелость, ловкость, разнообразие в приемах, блестящую легкость и остроумие, но у него не было глубоких доказательств, законченных суждений, не было истинного красноречия. Аббат Мори говорил так, как дерутся солдаты. Никто не мог так долго и так часто возражать, как он: доказательства заменять цитатами или софизмами, проявление чувства — ораторскими приемами. При большом таланте ему все-таки недоставало того, что дает таланту живость, — недоставало правды. Казалес был полной противоположностью Мори; у него был ум быстрый и прямой; способ выражения так же легок, но более воодушевленный, у него была искренность в движениях, и он умел выбрать лучшие доказательства. Не будучи ритором, он всегда находил верную сторону в вопросах, интересовавших его партию, предоставляя Мори декламацию. При ясности своих взглядов, при горячности характера, хорошем употреблении таланта в нем не было ничего ложного, кроме того, что создавалось его положением. Мори же к заблуждениям, неразлучным с его положением, присоединял еще ложное направление ума.
Неккер и министерство тоже имели свою партию, менее многочисленную, чем первая, так как это была партия умеренная. Франция в то время разделялась на прежние привилегированные сословия, которые противились революции, и на людей, которые ее желали и поддерживали общие интересы народа во всей их полноте. Между ними не было еще места для партии, которая присвоила бы себе роль посредника между ними. Неккер высказался за английскую конституцию; все, разделявшие его взгляды, по убеждению или из честолюбия, присоединились к нему. В числе присоединившихся были: Мунье, человек твердого ума и непоколебимого характера, который в этой системе видел образец представительного правления; Лалли-Толендаль, человек тех же убеждений, как и Мунье, но более способный убеждать других; Клермон-Тоннер, друг и союзник Мунье и Лалли, и, наконец, меньшинство дворянства и часть епископов, которые рассчитывали сделаться членами верхней палаты, если бы идеи Неккера восторжествовали.
Предводители этой партии, которую позднее стали называть монархистами, хотели произвести революцию путем приспособления и ввести во Франции готовый английский представительный образ правления. Они всегда убеждали более сильных войти в соглашение с более слабыми. До 14 июля они требовали у двора и у привилегированных классов удовлетворить общины, а потом они хотели, чтобы общины пошли на сделку с двором и привилегированными классами. Они полагали, что каждое сословие должно сохранить свое место в государстве, что смещенные партии обращаются в партии недовольные и что необходимо создать им легальное существование, чтобы избежать бесконечной борьбы с их стороны. Но ошибка их была в том, что они не заметили, что идеи их неприложимы в момент господства разыгравшихся страстей. Борьба уже началась, борьба, которая должна была дать восторжествовать системе, а не привести к сделке. Была одержана победа, которая заменила три отдельных сословия одним единым Собранием, и разрушить единство этого собрания, чтобы заменить его двумя палатами, было бы делом слишком трудным. Умеренная партия не могла добиться такого правления ни от двора, ни тем более от народа; первому оно казалось слишком народным, второму — слишком аристократичным.
Остальная часть Собрания составляла народную партию. Пока в ней не выделялись еще лица, подобные Робеспьеру, Петиону, Бюзо и т. п., которые хотели начать вторую революцию, когда первая была окончена. В это время самыми крайними элементами этой партии являлись Дюпор, Барнав и Ламет, составлявшие триумвират, идеи которого вырабатывались Дюпором и поддерживались Барнавом; Александр Ламет же руководил его действиями. В этом союзе было действительно что-то замечательное; господство духа равенства, характеризующее ту эпоху, сказалось в этом тесном союзе адвоката, принадлежащего к среднему сословию, советника, принадлежащего к парламентскому классу, и полковника, принадлежащего ко двору, которые отказались от своих сословных интересов и объединились во имя общественного и народного блага. Эта партия заняла положение более передовое, чем положение, в котором находилась тогда революция. 14 июля было днем триумфа среднего сословия: Учредительное собрание было его законодательной властью, Национальная гвардия его вооруженной силой, мэрия — его народной властью. Мирабо, Лафайет, Байи опирались на это сословие и сделались один — его трибуном, другой — его генералом, третий — его судьей. Партия Дюпора, Барнава и Ламета держалась принципов и поддерживала интересы этого периода революции; но эта партия, состоявшая из людей молодых, горячих патриотов, которые вносили в общественное дело свои лучшие качества, свои таланты, свое высокое общественное положение и которые свое стремление к свободе соединяли с честолюбивым стремлением играть первые роли, — эта партия на первых же порах несколько опередила революцию 14 июля. В Собрании она опиралась на членов крайней левой, вне Собрания — на клубы, в государстве — на народ, который содействовал революции 14 июля и не желал, чтобы одна только буржуазия воспользовалась победой этого дня. Становясь во главе людей, не имевших собственного предводителя, которые, будучи несколько удалены от участия в правлении, надеялись получить в нем место, она не переставала принадлежать этой первой эпохе революции. Эта партия образовала род демократической оппозиции в самом среднем сословии, расходясь с предводителями его только в некоторых второстепенных пунктах и вотируя в большинстве вопросов с ними вместе. Это было у них скорее соревнование в патриотизме, чем раскол в партии.
Дюпор, человек умный, приобретший раннюю опытность в управлении политическими страстями в борьбе парламента с министерством, которой он отчасти руководил, знал, что народ тотчас успокоится, как только завоюет себе права, а что, успокоившись, он потеряет свою силу. Чтобы постоянно держать настороже тех, кто управлял Собранием, городом, милицией, чтобы не допускать замедления в общественном деле и не распускать народ, который мог еще ему понадобиться, он задумал и осуществил знаменитый союз клубов. Это учреждение, как все то, что сообщает сильное движение нации, имело как хорошие, так и худые стороны. Оно препятствовало законной власти, когда ее одной было бы достаточно, и оно же придало страшную энергию революции, когда, подвергаясь нападению со всех сторон, она могла спастись лишь ценой самых жестоких усилий. Впрочем, сами основатели не предвидели всех последствий этого союза клубов. Для них он был только рычагом, который мог безопасно сдерживать движение общественной машины или усиливать ход ее, когда она начнет останавливаться; они не думали, что этим учреждением они будут работать в пользу толпы. После вареннского бегства, когда крайняя народная партия сделалась слишком требовательной и слишком угрожающей, они оставили ее и оперлись против нее на большинство Собрания и на среднее сословие, которое после смерти Мирабо осталось без вождя. В это время им было необходимо скорее остановить конституционную революцию, так как продолжение ее неминуемо должно было привести к революции республиканской.
Большинство Собрания, как мы уже говорили, составляли люди со здравым, практическим и даже возвышенным умом; предводителями его были два человека, не принадлежавшие к третьему сословию, но принятые в него. Без аббата Сьейеса Учредительное собрание, быть может, было бы менее единодушно в своих действиях, а без Мирабо оно было бы менее энергично.
Сьейес был одним из тех людей, которые основывают секты в века энтузиазма и которые в век просвещения приобретают власть над толпой силой разума. Уединение и философские занятия рано заставили созреть его ум; его идеи были новы и сильны, но слишком систематичны. Общество было главным предметом его изучения; он следил за его ходом, разлагал его пружины; форма правления не столько казалась ему вопросом права, сколько вопросом времени. В его систематизирующем уме ясно отражалось все современное общество с его разделениями, с его отношениями, с правами и движениями. Холодный по природе, Сьейес обладал жаром, внушаемым стремлением к открытию истины, той страстью, которая пробуждается, когда верят, что открытие ее близко. В своих идеях он был самостоятелен и презрительно относился к чужим выводам, так как находил их неполными, а в его глазах полуистина была заблуждением. Противоречия его раздражали; он был малообщителен; он хотел бы высказаться вполне, но не перед всеми он мог это сделать. Его учение передавали другим его приверженцы, что придавало ему какую-то таинственность и делало его предметом в некотором роде культа. Он обладал тем авторитетом, который дает установившаяся политическая наука, и конституция могла бы выйти из его головы во всеоружии, как Минерва из головы Юпитера или как законодательство древних, если бы в наше время каждый не желал бы конкурировать в этом или прибавить что-нибудь со своей стороны. Тем не менее все планы его, за исключением незначительных изменений, были приняты вполне, и в комитетах у него было больше учеников, чем сотрудников.
Мирабо пользовался на трибуне таким же влиянием, каким Сьейес в комитетах. Этому человеку нужен был только случай, чтобы сделаться великим. В Риме, во время процветания республики, он был бы одним из Гракхов; во время его упадка — Катилиной; во время Фронды он был бы кардиналом Рецом, а в дряхлой монархии, где такой человек, как он, мог употребить свои огромные дарования лишь на агитацию, он сделался известным лишь необузданностью своих страстей, преследованиями со стороны власти, распутной жизнью и страданиями за нее. Мощные силы его искали деятельности, и революция дала ему ее. Привыкший к борьбе против деспотизма, раздраженный дворянством, которое оттолкнуло его от себя за его увлечения, ловкий, смелый, красноречивый, Мирабо чувствовал, что революция будет его делом и жизнью. Он отвечал главнейшим потребностям своего времени. Его мысли, голос, жесты — все это было как бы создано для трибуна. В минуты опасности он увлекался и этим подчинял себе все Собрание; остроумными переходами он умел прекращать затруднительные прения; одним словом обрывал честолюбцев, заставлял умолкнуть личную вражду, приводил в замешательство своих соперников. Этот могущественный смертный, чувствовавший себя легко среди волнений, то неудержимо страстный, то безыскусственно свободный, пользовался в Собрании как бы верховной властью. Он быстро приобрел огромную популярность, которую и сохранил до самой своей смерти. Человек, которого все чуждались при вступлении его в собрание Генеральных штатов, был погребен в Пантеоне, горячо оплакиваемый Собранием и всей Францией. Без революции Мирабо не исполнил бы своего назначения, так как недостаточно быть великим человеком — надо родиться вовремя.
Герцог Орлеанский, которому тоже приписывали отдельную партию, имел весьма незначительное влияние на Собрание; он вотировал с большинством, а не большинство с ним. Личная привязанность к нему некоторых членов, его имя, опасения двора, популярность, которой награждались некоторые его мнения, скорее надежды, чем заговоры, преувеличили его значение как крамольника. В нем не было не только достоинств, но и недостатков заговорщика. Быть может, он содействовал народному движению своими деньгами и своим именем, но это движение вспыхнуло бы одинаково и без его помощи, и цели этого движения не имели ничего общего с его возвышением. И до сих пор часто делают грубую ошибку, полагая, что величайшая из революций вызвана была какими-то темными и ничтожными происками, как будто в такое время целый народ мог служить орудием в руках одного человека.
Собрание сделалось всемогущим; муниципальная власть зависела от него; Национальная гвардия повиновалась ему. Оно было разделено на комитеты, чтобы облегчить свои труды и сделать их успешнее. Королевская власть, хотя еще и существовала по праву, была уже до некоторой степени уничтожена, так как ей не повиновались, и Собрание должно было заменить ее влияние своим собственным. Поэтому, кроме комитетов, которые были обременены подготовлениями к своим работам, пришлось назначить еще другие, которым был поручен надзор за общественными делами. Комитет продовольствия занимался доставлением съестных припасов, столь важным в неурожайный год; Комитет сношений вел переписку с муниципалитетом и с провинциями; Следственный комитет принимал доносы на заговорщиков, врагов 14 июля. Но главным предметом забот Собрания были финансы и конституция, — два вопроса, происшедшим кризисом отодвинутые было на задний план.
Удовлетворив неотложным нуждам казны, Собрание, хотя оно было в сущности полновластным, согласовалось в своих действиях со своими избирателями. Оно внесло в свои начинания систему, свободу суждений и широкие рамки, которые должны были обеспечить Франции конституцию, согласную со справедливостью и народными нуждами. Американские Соединенные Штаты, в момент получения ими независимости, освятили особой декларацией права человека и гражданина, и с этого начинают все. Каждый народ, выходя из зависимого положения, чувствует потребность, раньше, чем установить свое правительство, провозгласить свои права. Французы, бывшие свидетелями американской революции и участвовавшие теперь в своей, предложили подобную же декларацию как вступление в свое законодательство. Это предложение должно было встретить сочувствие Собрания, состоявшего из законодателей и философов, которых не ограничивали никакие пределы и которые были воспитаны и всегда руководились основными непреложными идеями восемнадцатого века. Хотя эта декларация содержала только общие принципы и ограничивалась только изложением в общих чертах того, что конституция должна была сделать законом, тем не менее она должна была возвысить дух граждан и пробудить в них чувство собственного достоинства, сознание своего значения. По предложению Лафайета Собрание уже приступило к этому вопросу, когда события в Париже и декреты 4 августа заставили прервать эту работу. Оно возобновило их потом и закончило, освятив принципы, послужившие скрижалью для нового закона и водворившие право во имя человечества[24].
Когда эти общие положения были приняты, Собрание приступило к организации законодательной власти. Это был один из наиболее важных вопросов; им должны были определиться обязанности Собрания и должны были быть установлены его отношения к королю. В прениях по этому вопросу Собрание желало главным образом решить будущее законодательной власти. В данный момент Собрание, облеченное учредительной властью, не могло быть ограничено собственными своими постановлениями, и никакая посредствующая власть не должна ни помешать, ни отсрочить выполнение его миссии. Но какова должна быть в будущие сессии форма представительства? Останется ли Собрание неделимым или распадется на две палаты? В случае двух палат будет ли верхняя собранием аристократов или явится в форме руководящего сената? И, наконец, каково бы ни было представительное собрание по форме, должно ли оно быть постоянным или собираться лишь периодически, и должен ли король с ними разделить законную власть? Вот те затруднительные вопросы, которые волновали Собрание, а с ним вместе и весь Париж в продолжение сентября.
Легко будет понять, каким образом были разрешены эти вопросы, если вспомнить положение Собрания и его воззрения на верховную власть. В глазах Собрания король являлся не более как наследственным представителем нации, и ему не могло принадлежать право ни собирать ее представителей, ни руководить ими, ни распускать их. Поэтому оно отказало ему в праве инициативы в законодательстве и в праве распускать Собрание. Оно не допускало мысли, что Законодательное собрание может находиться в зависимости от короля. Оно опасалось, что если правительство получит слишком большую власть над Собранием, или если это Собрание не будет иметь постоянных заседаний, то король может воспользоваться этими интервалами между его сессиями, когда он будет один управлять государством, чтобы усилить свою власть и даже чтобы уничтожить новый режим. Поэтому оно решило противопоставить постоянно действующей власти постоянно существующее Собрание и утвердило организацию постоянного Законодательного корпуса. Что касается до его неделимости или до разделения его — прения по этому вопросу были очень оживленны. Неккер, Мунье, Лалли-Толендаль желали, чтобы, кроме палаты представителей, существовал бы еще сенат, члены которого назначались бы королем по представлению народа. Они видели в этом единственный способ обуздать власть и даже избежать тирании одного Собрания. Они имели нескольких сторонников в Собрании, разделявших их идеи или же рассчитывавших попасть в число членов верхней палаты. Большинство дворянства желало иметь не палату пэров, а аристократическое собрание, в которое оно само выбирало бы членов. К соглашению прийти они не могли; партия Мунье не принимала проект, восстановлявший сословия, аристократия отвергала сенат, окончательно сводивший на нет дворянство. Большинство представителей духовенства и общин высказалось за единство Собрания. Народной партии казалось незаконным учреждать пожизненных законодателей; эта партия полагала, что верхняя палата явится орудием в руках двора и аристократии и будет опасной, а в лучшем случае бесполезной, слившись с общинами. Таким образом, как дворянская партия по личному неудовольствию, так и народная, по духу абсолютной справедливости, обе отвергли верхнюю палату.
Это решение впоследствии вызвало много упреков. Приверженцы пэрства приписывали все несчастья революции отсутствию верхней палаты, как будто какое бы то ни было учреждение могло бы остановить ход революции. Не конституция дала ей тот характер, который она приняла, а сила обстоятельств, созданных борьбой партий. Что бы могла сделать верхняя палата, поставленная между двором и народом? Если бы она объявила себя защитницей двора, она все равно не могла бы ни руководить им, ни спасти его; ставши на сторону народа, она не могла бы усилить его, и, таким образом, как в первом, так и во втором случае она была бы лишней, и уничтожение ее было бы неизбежно. В подобных случаях события идут быстро, и все, что их задерживает, излишне. В Англии палата лордов была закрыта во время революционного кризиса, хотя она была очень покорной. Для каждой системы свое время: для начала революции нужна только одна палата, в конце их образуется две.
Вопрос о королевской санкции возбудил много прений в Собрании и сильное волнение в народе. Дело шло об определении участия короля при издании законов. Почти все депутаты были согласны в одном: они решили признать за ним право утверждать или отвергать законы, но одни хотели, чтобы это право было неограниченное, другие же хотели сделать его временным. В сущности это было почти одно и то же, так как невозможно было бы, чтобы король постоянно отвергал какой-нибудь закон, так что veto, хотя и абсолютное, имело бы значение лишь временной задержки. Однако, право, дававшее одному человеку возможность остановить волю целого народа, казалось чрезмерным, особенно вне Собрания, где его не так хорошо понимали.
Париж еще не оправился от волнений 14 июля; он делал первый опыт народного правительства и им еще слишком ясно ощущались свобода и беспорядок. Собрание избирателей, которое в затруднительных случаях заступало место временного муниципалитета, только что было заменено новым. Сто восемьдесят членов, назначенных округами, сделались законодателями и представителями общины. В то время, как они работали над планом муниципальной организации, каждый желал распоряжаться, так как во Франции к любви к свободе всегда немного примешивается честолюбие. Комитеты округов действовали помимо мэра; собрание представителей восставало против комитетов, а округа против собрания представителей. Каждый из шестидесяти округов присваивал себе законодательную власть, а исполнительную предоставлял своим комитетам. Все они считали членов общего собрания своими подчиненными и считали себя вправе отвергать его постановления. Эта идея господства избирателя над делегатом все более и более распространялась. Все непричастные к власти объединялись в особые собрания, на которых делали особые постановления. Солдаты вели прения в Оратории, портные у Колоннады, парикмахеры — в Елисейских полях, слуги — в Лувре. Но самые оживленные собрания происходили в саду Пале-Рояля; там обсуждались вопросы, занимавшие Национальное собрание, и контролировались его прения. Неурожай также часто являлся поводом к собраниям, которые были особенно опасными. Таково было состояние Парижа, когда начались прения по поводу права veto короля. Это право, уступаемое королю, внушало крайние опасения; говорили, что от этого зависит судьба свободы, что одно veto может привести опять к старому режиму. Толпа, которая по обыкновению не понимала сущности и разграничений власти, хотела, чтобы собрание, которому она доверяла, было бы всемогуще, а король, которому она не доверяла, был бы бессилен. Всякое право, как орудие, предоставленное в распоряжение двора, казалось им средством контрреволюции. Пале-Рояль взволновался; писались угрожающие письма тем членам Собрания, которые, как, например, Мунье, высказались за абсолютное veto; говорили о них как об изменниках, полагали, что необходимо их исключить из Собрания и идти на Версаль. Пале-Рояль послал депутацию в собрание общины, требуя объявить, что депутаты могут быть отозваны из Собрания своими избирателями и что все время они являются ответственными перед своими избирателями. Собрание отвергло требования Пале-Рояля и приняло меры, чтобы препятствовать сборищам. Национальная гвардия ему помогла, она была хорошо расположена; Лафайет приобрел ее доверие; она начала организовываться; введена была форма, по примеру французской гвардии; начала вводиться дисциплина; от своего вождя она заимствовала любовь к порядку и уважение к закону. Но среднее сословие, которое ее составляло, еще не владело исключительно народным правительством. Толпа, собранная 14 июля, не была еще рассеяна. Внешние волнения придали прениям по поводу veto бурный характер; благодаря этому такой простой вопрос получил чрезвычайную важность. Министерство, видя, что решение в пользу абсолютного veto было бы опасно в данную минуту и сознавая, что в сущности veto неограниченное и veto останавливающее одно и то же, уговорило короля согласиться на последнюю форму и отвергнуть первую. Собрание постановило, что король может откладывать утверждение решения Собрания не долее как на две сессии, и такое постановление всех удовлетворило.
Двор воспользовался волнениями, происходившими в Париже, чтобы осуществить другие свои планы. С некоторого времени он старался овладеть умом короля. Король вначале отказывался санкционировать декреты 4 августа, хотя они носили учредительный характер, и ему предстояло только их обнародовать. Принявши их наконец, он возобновил те же затруднения по отношению к декларации прав. Двор поставил своей целью внушить Людовику XVI, что он — жертва Собрания и принужден соглашаться на меры, которых он не желал бы принимать. Двор неохотно переносил свое положение и желал бы возвратить себе прежнюю власть. Единственным средством к этому он считал бегство, но ему надо было придать законный вид, ибо в присутствии Собрания и вблизи Парижа двор ничего не мог сделать. Королевская власть пала 23 июня, ее военная опора — 14 июля; оставалось только последнее средство — междоусобная война. Было очень трудно склонить короля на это; ждали последнего момента, чтоб его заставить бежать; нерешительность короля помешала выполнению этого плана. Предполагалось удалиться в Мец к маркизу Буйе, в центр его армии, и оттуда призвать собраться вокруг монарха дворянство, оставшееся верным ему войско и парламенты; затем объявить Собрание и Париж мятежными, потребовать от них повиновения, принудить их к нему и, таким образом, если и не удастся восстановить прежнее неограниченное правление, то, по крайней мере остаться на почве Декларации 23 июня. Таким образом, двор нуждался в удалении короля из Версаля, чтобы иметь возможность предпринять что бы то ни было; с другой стороны, приверженцам революции нужно было переселить его в Париж; орлеанская партия, если вообще такая существовала, должна бы была стараться застращать короля, чтобы принудить его к бегству, в расчете на то, что в его отсутствие Собрание назначит ее главу главным наместником королевства; наконец, народ, испытывавший большой недостаток в хлебе, должен был надеяться, что присутствие короля в Париже прекратит или уменьшит его нужду. При таком положении достаточно было малейшего повода, чтобы вызвать восстание, и двор доставил этот повод.
Под предлогом защиты от парижских волнений он созвал войска в Версаль, удвоил караулы, призвал драгунов и Фландрский полк. Эти военные приготовления вызвали живейшие опасения; распространился слух о контрреволюционном перевороте, говорили о предстоящем бегстве короля и о роспуске Собрания. В Люксембурге, в Пале-Рояле, в Елисейских полях появились незнакомые формы, черные или желтые кокарды; противники революции обнаруживали давно не замечавшуюся у них радость и оживление. Двор своим поведением подтверждал предположение и раскрывал цель всех этих приготовлений.
Офицеры Фландрского полка были встречены населением города Версаля с беспокойством, зато во дворце в честь их устраивались празднества, и они были даже допущены к игорному столу королевы. Старались всеми способами обеспечить себе их преданность; королевская гвардия дала им обед. На этот обед были приглашены все офицеры находившихся в Версале драгунского и стрелкового полков, офицеры швейцарской гвардии, швейцарской сотни, военно-полицейского управления и, наконец, Главного штаба Национальной гвардии. Местом этого празднества был выбран большой театральный зал, который предназначен был исключительно для самых торжественных придворных празднеств и который со времени свадьбы второго брата короля открыт был всего только один раз — для приема императора Иосифа II. Королевским музыкантам было приказано присутствовать на этом, даваемом гвардией, празднестве. Во время обеда с восторгом был встречен тост за королевскую фамилию, а тост за нацию был пропущен или не принят. При второй перемене в обеденный зал были введены гренадеры Фландрского полка, швейцарцы и драгуны для того, чтобы они могли быть свидетелями торжества и приняли бы участие в выражении чувств, воодушевлявших всех участников празднества. Энтузиазм возрастал с минуты на минуту. Вдруг возвещают о прибытии короля; он появляется в зале пиршества в охотничьем костюме в сопровождении королевы, несущей на руках дофина. Раздаются восклицания любви и преданности; с обнаженными шпагами пьют за здоровье королевской фамилии; и в ту минуту, когда Людовик XVI покидает зал, музыка играет „О Richard! О mon roi, l'univers t'abandonne!“ (О Ричард, о мой король, вселенная тебя покидает!). Сцена являлась действительно многознаменательной: уланский марш и вино, которое лилось в таком изобилии, заставляли присутствующих утратить всякую сдержанность. Музыка начинает играть атаку; присутствующие, пошатываясь, кидаются в ложи, лезут как бы на приступ; раздают белые кокарды, а кокарды трехцветные топчут ногами, и затем вся эта толпа рассыпается по галереям замка, где придворные дамы осыпают ее поздравлениями и украшают лентами и кокардами.
Таково было это знаменитое торжество 1 октября. Двор имел неосторожность возобновить его 3-го числа. Нельзя не пожалеть об этой роковой неосторожности. Двор не умел ни покоряться своей судьбе, ни изменять ее. Сбор войск вовсе не предупредил нападение Парижа; наоборот, он вызвал его; банкет нисколько не сделал преданность солдат более надежной и в то же время увеличил нерасположение народа. Для обеспечения безопасности двора не требовалось столько рвения, а для бегства — столько приготовлений. Но двор никогда не умел сразу решиться на надлежащие меры для достижения своих замыслов, довольствовался полумерами, а иногда, когда решимость, наконец, являлась, бывало уже слишком поздно.
В Париже известие о версальском пире вызвало сильные волнения. Начиная с 4-го числа, все предвещало восстание: глухой ропот, вызывающее поведение противников революции, опасения заговоров, негодование против двора, все возрастающий страх перед наступающим голодом; толпа уже обращала свои взгляды на Версаль. 5-го числа бунт вспыхнул со страшной, неудержимой силой; сигналом к нему послужило полное отсутствие муки. Какая-то молодая девушка ворвалась на гауптвахту, захватила там барабан и побежала с ним по улице, барабаня и выкрикивая „Хлеба! Хлеба!“ Вскоре к ней присоединилась целая масса других женщин; эта толпа, все время возрастая, направилась к ратуше; она оттеснила конную стражу, бывшую у дверей, и ворвалась внутрь, требуя хлеба и оружия; выломала двери, завладела оружием, ударила в набат и направилась к Версалю. Вскоре толпами собравшийся народ начал заявлять то же желание, и крик „В Версаль!“ сделался всеобщим. Впереди всех пошли женщины под предводительством Майяра, одного из участников взятия Бастилии. За ними заявили желание следовать народ, Национальная гвардия, французские гвардейцы. Напрасно комендант Лафайет противился этому желанию, — ни его усилия, ни его популярность не могли восторжествовать над упорством толпы. В продолжение семи часов говорил он с ней и удерживал ее. Наконец, выведенная из терпения таким промедлением и не слушая его более, она решила идти без него. Раз не удалось удержать ее, Лафайет сознал, что теперь его обязанность следовать за ней, чтобы сдерживать ее. Он добился от общественного управления разрешения и в 7 часов вечера дал сигнал к выступлению.
В Версале также было волнение, хотя и не такое грозное, как в Париже, Собрание и Национальная гвардия были взволнованы и раздражены. Двукратное пиршество телохранителей, поощрение, оказанное им королевой, которая сказала: „Я была очарована в четверг“, отказ короля принять Декларацию прав человека, его проволочки и недостаток в съестных припасах вызывали тревогу у народных представителей и вселяли в них подозрение. У Петиона, который сообщил Собранию о версальском пире, один из роялистских депутатов потребовал обосновать обвинения и указать, кого он считает виновником. На это Мирабо вскричал: „Пусть будет положительно объявлено, что за исключением короля — все подданные подлежат одинаковой ответственности, тогда я приведу вам доказательства“. Эти слова, которые явно указывали на королеву, заставили замолчать правую сторону. После и перед этими неприязненными прениями происходили не менее оживленные прения по поводу отказа короля принять Декларацию прав и по поводу голода в Париже. Наконец, была избрана депутация, которая должна была потребовать от короля полного принятия Декларации прав и ускорения всеми возможными средствами снабжения столицы съестными припасами. В это время объявили о прибытии в Версаль женщин под предводительством Майяра.
Их появление было совершенно неожиданным, так как они останавливали всех курьеров, которые могли бы сообщить об их приближении. Двор пришел в ужас. Версальские войска взялись за оружие и окружили дворец; но женщины вовсе не были настроены враждебно. Их предводитель Майяр уговорил их явиться в качестве просительниц; они просто изложили свои жалобы сначала Собранию, потом — королю. Таким образом, начало этого мятежного вечера прошло довольно спокойно. Но трудно было предполагать, что не явится причины к столкновениям и раздорам между этой беспорядочной толпой и телохранителями, ставшими предметом такой ненависти. Телохранители были размещены во дворе дворца перед Национальной гвардией и Фландрским полком. Промежуток, разделявший их, был заполнен женщинами и участниками взятия Бастилии. Среди беспорядка, неизбежного следствия подобного сближения, началась драка. Это было сигналом к беспорядку и схватке. Один офицер из телохранителей ударил саблей парижского солдата, за что был ранен выстрелом в руку. Национальная гвардия выступила против телохранителей. Схватка сделалась довольно сильной и стала бы кровопролитной, если бы не ночь и не дурная погода и если бы телохранители не получили приказания прекратить огонь и отступить. Но так как их считали зачинщиками, то толпа была в сильном ожесточении против них; она ворвалась в их казармы; два телохранителя были ранены, а третьего лишь с трудом удалось спасти.
Во время всей этой борьбы двор трепетал; обсуждался вопрос о побеге короля, приготовлены были кареты. Но караул Национальной гвардии заметил кареты у решетки оранжереи; их заставили вернуться и заперли решетку. К тому же и король, который или не знал до сих пор о замыслах двора, или не верил в возможность привести его в исполнение, отказался от бегства. К его опасениям примешались вообще его миролюбивые наклонности, и он не хотел ни отражать нападения, ни спасаться бегством. Он опасался, что если его победят, то его постигнет та же участь, которая постигла в Англии Карла I, а бежать не хотел, так как боялся, что в его отсутствие герцог Орлеанский будет провозглашен наместником королевства. Между тем дождь, усталость и бездействие телохранителей укротили ярость толпы. В это время явился Лафайет во главе парижской армии.
Его присутствие успокоило двор, а ответы короля парижской депутации удовлетворили толпу и армию. Вскоре деятельность Лафайета, его ум и дисциплина парижской гвардии повсюду водворили порядок. Тишина восстановилась. Толпа женщин и волонтеров, побежденная усталостью, разошлась. Одним только национальным гвардейцам поручена была охрана дворца; все другие были приняты на ночлег своими версальскими братьями по оружию. Около двух часов утра королевская фамилия, утомленная тревогами этой страшной ночи, наконец, могла отдохнуть. В пять часов утра Лафайет, обойдя посты, вверенные его гвардии, и, убедившись, что все в порядке и город спокоен, тоже на некоторое время мог забыться сном.
Но около шести часов несколько человек из народа, более пылких, чем другие, и раньше других проснувшиеся, стали бродить вокруг дворца. Они нашли незапертой решетку, известили об этом своих товарищей и через этот проход проникли во дворец. К несчастью, внутренние посты были заняты не парижской гвардией, а телохранителями. Это роковое обстоятельство было причиной всех несчастий этой ночи. Внутри стража не была даже удвоена; решетки едва осмотрели, и караул исполнялся так же небрежно, как и в обыкновенное время. Возбужденная толпа, проникшая в Версаль, заметила у окна одного из телохранителей и выругалась по его адресу; он выстрелил и ранил одного из них. Они бросились тогда на телохранителей, которые защищались геройски и отстаивали каждый шаг; один из них воспользовался временем, чтобы разбудить королеву, которой особенно угрожали нападающие, и она полуодетая убежала к королю. Во дворце поднялась страшная суматоха.
Лафайет, узнав о вторжении толпы в королевское жилище, вскочил на лошадь и пустился во весь опор к месту опасности. На площади он встретил телохранителей, окруженных разъяренной толпой, хотевшей их перебить. Он бросился в середину, подозвал на помощь стоявших недалеко нескольких солдат французской гвардии, рассеял толпу, спас телохранителей и поскакал во дворец. Там уже были гренадеры французской гвардии; они при первой же тревоге явились на защиту телохранителей, из которых многие были уже жестоко умерщвлены. Но дело еще не кончилось; толпа собралась на мраморном дворе под королевским балконом и громкими криками требовала короля. Король вышел. Народ потребовал, чтобы он выехал в Париж; он обещал туда поехать вместе со своим семейством. Взрыв рукоплесканий приветствовал эти слова короля. Королева решила последовать за ним; но предубеждение против нее было так сильно, что путешествие ее становилось опасным; надо было примирить с ней массу. Лафайет предложил ей выйти с ним вместе на балкон; после некоторого колебания она согласилась. Они вышли вместе; чтобы дать понять себя этой возбужденной толпе, чтобы победить ее неприязнь и возбудить энтузиазм, Лафайет почтительно поцеловал руку королевы, толпа ответила на это криками одобрения. Оставалось еще примирить толпу с телохранителями: Лафайет вышел с одним из них, приколол к его шляпе свою собственную трехцветную кокарду и обнял его на глазах у народа, и народ закричал: „Да здравствуют телохранители!“ Так кончилась эта сцена. Королевское семейство выехало в Париж под охраной Национальной гвардии и своей собственной стражи.
Возмущение 5 и 6 октября было истинно народным движением. Не надо искать тайных мотивов этого возмущения или приписывать его скрытому честолюбию. Оно было вызвано неосторожностью двора. Обед телохранителей, слухи о бегстве короля, страх междоусобной войны и голод были единственными причинами, поднявшими Париж против Версаля. Если частные подстрекатели, относительно существования которых остаются даже после самых тщательных расследований сомнения, и способствовали этому движению, они не изменили ни направления его, ни цели. Результатом этого события было уничтожение прежнего придворного режима; оно отняло у двора его стражу, перенесло королевскую резиденцию из Версаля в столицу — центр революции — и поместило его среди народа.
Глава III С 6 октября 1789 г. до смерти Мирабо в апреле 1791 г.
Продолжение октябрьских событий. — Преобразование провинций в департаменты. — Организация административных и муниципальных властей по принципу народного господства и выборов. — Финансы; все средства, к которым прибегали, оказались недостаточными. — Объявление имуществ духовенства национальным достоянием. — Продажа духовных имуществ вызвала появление ассигнаций. — Гражданская организация духовенства; религиозное противодействие епископов. — Годовщина 14 июля; уничтожение титулов. — Союз братства на Марсовом поле. — Новая организация армии — противодействие офицеров. — Раскол по поводу гражданской организации духовенства. — Клубы. — Смерть Мирабо. — В течение этого времени разделение партий становится все более заметным.
Эпоха, о которой говорится в этой главе, более замечательна резким разделением партий, чем важными историческими событиями. По мере того, как преобразовывалась государственная организация и законы, люди, интересов которых это касалось, стали противодействовать им. С самого созыва Генеральных штатов революция приобрела себе врага в лице двора; после соединения сословий и отмены привилегий к нему присоединилось дворянство; с установлением одного Законодательного собрания и неприятием двух палат — ее врагами стали министры и сторонники английского государственного строя. Против нее же стали провинции, как только проведено было разделение на департаменты. Со времени появления декрета об имуществах и гражданском устройстве духовенства — противниками ее стали все священники; после издания новых военных законов — все офицерство. Казалось бы, Собранию не надо было вводить столько перемен сразу, чтобы не создавать себе стольких врагов, но общие планы Собрания, его нужды, а также происки противников принуждали его к этому.
Как двор, после 14 июля, так и Собрание, после 5 и 6 октября, имели своих эмигрантов. Мунье и Лалли-Толендаль вышли из Собрания, отчаявшись в осуществлении свободы, раз их мнение не имело более последователей. Убежденные в правильности своих взглядов, они хотели, чтобы народ, освободив 14 июля Собрание, не вмешивался больше в политику. Это требование означало только непонимание революционных увлечений. Стоит раз воспользоваться услугами народа, чтобы стало трудным затем устранить его вмешательство; лучше поэтому, не сопротивляясь, стремиться регулировать это вмешательство. Лалли-Толендаль отказался от звания француза и возвратился в Англию, страну его предков. Мунье отправился в свою провинцию Дофине, где он намеревался поднять восстание против Собрания. Было, однако, непоследовательно ввиду недовольства одним восстанием поднимать другое, в особенности столь выгодное для противной партии; его же собственная партия была слишком слаба, чтобы противодействовать в одно и то же время и старому режиму, и напору революции. Несмотря на все свое влияние в Дофине, где он управлял прежними возмущениями, Мунье не мог из нее создать, как хотел, душу восстания, но его слабая попытка показала Собранию, что старинная провинциальная организация может привести к гражданской войне и потому должна быть реформирована.
После 5 и 6 октября народные представители последовали за королем в столицу, где их присутствие помогло водворению спокойствия. Народ был удовлетворен прибытием короля; причины, заставившие его волноваться, миновали. Герцог Орлеанский, которого правильно или нет называли инициатором волнений, был удален; он согласился уехать с поручением в Англию. Лафайет решился поддерживать порядок; Национальная гвардия, одушевленная лучшими желаниями, привыкала все более и более к дисциплине и повиновению; муниципалитет после неизбежного во всяком новом учреждении первоначального неустройства стал все более приобретать авторитет. Оставалась еще одна причина недовольства — голод. Несмотря на самопожертвование и предупредительность комитета, занятого снабжением населения съестными припасами, ежедневные народные собрания мешали общественному спокойствию. Однажды народ, во время страдания легко поддающийся обману, но ложному доносу задушил некоего Франсуа, булочника, о котором ходили несправедливые слухи, что он скупает хлеб. Тогда 21 октября был издан военный закон, который давал муниципалитету право действовать вооруженной силой войска для рассеяния сборищ, если народ не расходился по предварительно сделанному приглашению. Власть была в руках класса, заинтересованного в порядке; городские власти и Национальная гвардия были подчинены Собранию; стимулом этого времени было подчинение законам. Депутаты стремились только к завершению конституции и преобразованию государства. Они должны были спешить с этим, так как их враги создавали им препятствия, пользуясь для этого остатками старого режима. На всякую их попытку подобного рода депутаты отвечали изданием декрета, который, изменяя старый порядок вещей, отнимал у них средства нападения одно за другим.
Собрание начало с того, что разделило королевство правильным и равномерным образом. Провинция, с сожалением взиравшая на отмену своих привилегий, составляла отдельные государства с достаточно обширной территорией и слишком самостоятельной администрацией, — следовало ограничить их пространство, дать им новые названия и подчинить их общему управлению. 22 октября Сьейес и Туре представили Собранию проект от имени комиссии, два месяца занимавшейся этим вопросом, и Собрание приняло его.
Франция была разделена на 83 департамента, одинаковых по пространству и количеству населения; департаменты были разделены на округа, округа на кантоны. Администрация была в иерархическом отношении везде одинакова. В каждом департаменте был административный совет, состоявший из тридцати шести членов, и исполнительный комитет из пяти; первый из них, как показывает само название, постановлял решения, второй приводил их в исполнение. Округ был устроен по тому же образцу, но только в меньшем масштабе, и у него был административный совет и исполнительный комитет, только количество членов в них было меньше, и они были поставлены в зависимость от административных учреждений департамента. Кантон, состоящий из пяти-шести приходов, был только избирательной единицей, — активные граждане (а чтобы быть таковыми, следовало платить налог в размере трехдневного заработка)[25] собирались для выборов депутатов и судей. Все в новом плане было подчинено выборному началу, но выборы были двухстепенные. Было сочтено неосторожным предоставить массе прямой выбор депутатов, но в то же время отстранить ее совсем признавалось несправедливым; из затруднения полагали выйти при помощи двухстепенной подачи голосов. Активные граждане кантона избирали из своей среды выборщиков с целью при их посредстве избрать депутатов в Национальное собрание, администрацию департамента и округа и, наконец, судей. В каждом департаменте имелся уголовный, в каждом округе гражданский, а в каждом кантоне мировой суд.
Таково было устройство департамента. Оставалось еще создать такое же для общины. Управление общины было вручено общему совету и муниципалитету, число членов которого было пропорционально населению городов. Муниципальные чиновники выбирались непосредственно народом, и только они одни могли требовать содействия военной силы в случае беспорядка. Община составляла первую степень ассоциации, королевство — последнюю, департаменты были посредниками между общиной и государством, между интересами общегосударственными и чисто местными[26].
Установление этого плана давало народу господство; от самих граждан зависело избрание судей; им была вверена их собственная администрация; они делились на такие группы, которые, не лишая государство подвижности, поддерживали связь между его частями, не позволяя им обособиться. План этот был причиной недовольства многих провинций. Лангедок и Бретань протестовали против нового деления государства, а в свою очередь парламенты Меца, Руана, Бордо и Тулузы поднялись против уничтожения вакационных палат[27], отмены сословных преимуществ и сословного управления в провинциях. Представители старого режима не брезгали ничем, чтобы остановить Собрание в его шествии к нововведениям; дворянство волновало провинции, парламенты постановляли решения, духовенство издавало послания, а писатели пользовались свободой печати, чтобы нападать на революцию. Главными врагами революции были дворяне и духовенство. Парламенты не имели связи с нацией и составляли только судебную корпорацию, опасность со стороны которой устранялась уничтожением парламентов, тогда как дворяне и духовенство имели в своем распоряжении средства для возбуждения волнений, пережившие даже их самих. Сначала они тайно подкапывались под Собрание, а затем стали действовать более открыто, духовенство — поднимая местные восстания, а дворянство — вооружая Европу против революции. Они сильно надеялись на анархию, но анархия принесла много бед Франции и нисколько не улучшила их корпоративное положение. Теперь нам надо рассмотреть, каким образом духовенство дошло до вражды к революции, для чего нам придется немного вернуться назад.
Революция, начавшись из-за финансов, не могла еще покончить с затруднениями, вызвавшими ее. Собрание было занято более серьезными предметами. Созванное не затем только, чтобы кормить администрацию, но и чтобы дать устройство государству, оно должно было время от времени откладывать свои законодательные прения, чтобы заняться насущными потребностями казны. Неккер предложил временные ассигновки, и они были приняты Собранием по доверию, почти без прений. Несмотря на такую услужливость, Неккер все-таки видел, что финансы находятся в зависимости от конституции, а министерство от Собрания. 9 августа был декретирован первый заем в 30 миллионов, но он не удался; следующий заем в 80 миллионов, декретированный 27 августа, оказался недостаточным. Налоги были частью ограничены, частью уничтожены и ввиду трудности взимания не приносили ничего. Было бесполезно обращаться к общественному доверию, которое уже однажды отказало в своей помощи, и вот в сентябре Неккер предложил, как единственное средство, чрезвычайный налог, в виде единовременной уплаты 4-й части дохода. Определение дохода зависело только от самого гражданина, и он подтверждал свое показание посредством простой клятвы: „Я объявляю по правде“, так хорошо рисующей это время честности и патриотизма.
Мирабо принялся уговаривать Собрание дать Неккеру финансовую диктатуру. Он говорил о настоятельных нуждах государства, о работах Собрания, не позволяющих ему обдумать план министра или придумать другой выход; он говорил, что Неккер ручается за свой план; он указывал, что Собрание может сложить ответственность на Неккера, оказав ему доверие. Увидев, однако, что одни не одобряли взглядов министра, а другие находились в подозрении относительно чистоты его отношений к министру, Мирабо окончил свою, одну из лучших, им когда-либо произнесенных, речь указанием на наступающее банкротство: „Вотируйте за этот чрезвычайный налог, лишь бы он дал необходимые средства. Вотируйте за него, так как, если вы даже сомневаетесь в его справедливости, то вы не сможете отрицать его необходимости и нашего бессилия его заменить чем-нибудь другим. Вотируйте за него, так как общественное дело не терпит никакой задержки, и мы будем отвечать за каждую отсрочку. Берегитесь просить повременить — несчастье не ждет… Вспомните, господа, смешное восклицание, раздавшееся из Пале-Рояля, по поводу ничтожной опасности, которая могла явиться только в больном воображении или была следствием коварных замыслов недобросовестных людей: „Катилина у ворот Рима — а мы рассуждаем“[28]. На самом деле около нас не было тогда ни Катилины, ни опасности, ни заговоров, ни Рима. Но теперь банкротство перед нами, оно грозит уничтожить вас, вашу собственность, вашу честь, а вы рассуждаете“. Мирабо увлек Собрание, и среди всеобщих аплодисментов патриотический налог был принят.
Но это средство внесло лишь временную поддержку. Финансы революции требовали более глубоких и смелых мер, — мало было поддерживать революцию, надо было еще покрыть громадный дефицит, мешавший ее развитию и угрожавший ее будущности. Оставалось только одно средство — объявить имущества духовенства национальными и продать их для пополнения казны. Общественные интересы этого требовали, да это было и вполне справедливо, так как духовенство никогда не было собственником, а только управителем имуществ, пожертвованных религии, а не священникам. Нация, взяв на себя содержание церкви и духовенства, могла эти имущества присвоить и получить таким образом значительный источник доходов и достичь великого политического результата.
В государстве не должно было оставаться независимой и особенно старинной корпорации, так как во время революции все, что держится старины, ей враждебно. Духовенство, благодаря своей мощной организации, чуждой новым веяниям, представляло собой республику в королевстве. Подобная форма организации отвечала совершенно другому общественному строю, когда не было единого государства и каждое сословие заботилось о самоустройстве и самоуправлении. У духовенства были папские постановления, у дворянства — ленные законы, у народа — общинное самоуправление. Все было независимо, потому что все было разрознено. Теперь, когда должности сделались общественными, из духовенства предполагалось сделать религиозную магистратуру точно так, как из королевской власти сделали магистратуру политическую. Чтобы сделать церковь национальной, государство желало перевести духовенство на жалованье и отнять у него имущество, обеспечив за это ему, однако, приличную часть доходов. Вот каким образом была введена серьезная реформа, уничтожившая старинное церковное устройство.
Далее, самой существенной потребностью было уничтожение десятины, и так как это был налог, оплачиваемый сельским людом, то отмена должна была обратиться ему на пользу. Таким образом налог, объявленный подлежащим выкупу в ночь на 24 августа, был отменен 11-го числа вовсе без вознаграждения. Духовенство сперва восставало против этого, но, наконец, догадалось согласиться. Епископ Парижский, отказавшись от имени духовенства от десятины, остался верен духу, проявленному привилегированными сословиями в ночь на 4 августа. На этом пожертвования духовенства и закончились.
Несколько дней спустя поднялись прения о том, кому теперь должно принадлежать церковное имущество. Епископ Отенский Талейран предложил духовенству доверить их нации, которая употребит их на поддержку церкви для покрытия своих долгов. Он доказывал справедливость и умеренность этой меры и ту громадную поддержку, которую она принесет нации. Имущества духовенства заключались в нескольких миллиардах; вычитая отсюда долги, лежащие на этих имуществах, расходы по отправлению богослужения, содержание госпиталей и церковнослужителей, оставалась еще крупная сумма, вполне достаточная, чтобы погасить национальные долговые обязательства, как пожизненные, так и постоянные, и выкупить судебные должности. Против этого предложения восстало все духовенство, прения велись очень живо, но, несмотря на сопротивление духовенства, было решено, что оно никогда и не было собственником, а только простым хранителем имуществ, пожертвованных милостью короля или верующих, и нация, содержа духовенство на свой счет, должна получить обратно свои пожертвования. 2 декабря 1789 г. был издан декрет, которым церковное имущество передавалось нации.
С этого момента берет начало ненависть духовенства к революции. Будучи более сговорчивым в начале заседаний Генеральных штатов, чем дворянство, со времени потери своего имущества духовенство выказало себя таким же ненавистником нового режима, только еще более горячим и неутомимым. Взрыва не было только потому, что декрет, отчуждая имущества духовенства в пользу нации, не продавал их тотчас же. Управление ими осталось в руках духовенства, и оно надеялось, что имущество будет служить только обеспечением государственного долга и никогда не будет продано.
В действительности было очень трудно продать эти имущества, а времени терять было нельзя, так как казна держалась исключительно займом у дисконтной кассы, которая, доставляя ей деньги, сама начинала терять свой кредит ввиду выпуска билетов. В поисках за новыми финансовыми средствами, наконец, было испробовано все. Для того, чтобы покрыть расходы настоящего и будущего года, приходилось продать имущество духовенства на 400 миллионов ливров. Для облегчения этой операции парижский муниципалитет подписался на значительную сумму; его примеру последовали и муниципалитеты провинциальные. Они должны были внести в казну стоимость имуществ, получаемых ими от государства для перепродажи частным лицам, но у них не было ни денег, ни покупателей. Что было делать? Они выпустили муниципальные билеты, которыми предполагали уплачивать кредиторам до тех пор, пока не накопится достаточная сумма денег, чтобы выкупить эти билеты обратно. Тут только поняли, что вместо муниципальных билетов следовало выпустить государственные с принудительным курсом, которые заменяли бы звонкую монету; это упростило и объединило бы всю финансовую операцию; таким образом появились ассигнации.
Это нововведение очень помогло революции, и оно одно дало возможность продавать церковные имущества, так как ассигнации, будучи средством уплаты для государства, были залогом для кредиторов. Получив ассигнации, они вовсе этим не выражали согласия получить в уплату за ту сумму, которую они дали звонкой монетой, землю. Но рано или поздно ассигнации должны были попасть к людям, желающим за них получить землю; ассигнации при этом уничтожались, как уничтожается всякое залоговое свидетельство. Для того, чтобы ассигнации исполняли свое назначение, их обращение было сделано обязательным, для постоянства курса их выпускали не больше, чем на стоимость имений, определенных для продажи, а чтобы они не падали от слишком внезапного размена, на них стали давать проценты. С самого их выпуска Собрание хотело придать им прочность звонкой монеты. Оно надеялось, что звонкая монета, спрятанная из недоверия, появится снова, и ассигнации с ней будут соперничать. Обеспечение ассигнаций имениями делало их надежными, а проценты, получаемые с них, — выгодными, но эти проценты прекратились уже при втором выпуске ассигнаций. Вот какое было начало этих бумажных денег, выпущенных из необходимости и предусмотрительности. Они дали революции возможность выполнить много великих дел и потеряли свою цену по причинам, зависящим не столько от самой этой монеты, сколько от употребления, сделанного из нее впоследствии.
Когда после декрета 29 декабря духовенство увидело, что управление его имуществом перешло в руки муниципалитета, что назначена продажа имений на сумму 400 миллионов ливров, что появились бумажные деньги, облегчавшие эту продажу, оно ничем не захотело пренебречь, чтобы спасти свои богатства. Была сделана последняя попытка; духовенство предложило реализовать от своего имени заем в 400 миллионов ливров, но в этом ему было отказано, так как иначе пришлось бы его снова признать собственником того имущества, которого, по прежде выпущенному декрету, оно являлось только администратором. Тогда духовенство стало стараться всеми возможными способами мешать операциям муниципалитетов. На юге оно подняло католиков на протестантов, в проповедях запугивало верующих, в исповедальнях говорило о продаже имений как о святотатстве, с кафедры старалось набросить тень подозрения на чувства Собрания. Оно поднимало в собраниях, по мере возможности, религиозные вопросы, исключительно чтобы его скомпрометировать и смешать свои личные интересы с религиозными. Например, всю несостоятельность и вред монашеских обетов в это время прекрасно понимало само духовенство. После их уничтожения 13 февраля 1790 г. епископ из Нанси предложил неожиданно и не без коварства, чтобы католическая религия одна имела право совершать открыто богослужения. Собрание возмутили мотивы этого предложения, и оно отклонило его. То же самое предложение было сделано снова в другом заседании. После бурных споров Собрание объявило, что из уважения к Высшему Существу и к католической религии, единственно поддерживаемой на государственные средства, оно не может считать возможным решать предложенный вопрос.
В таком настроении находилось духовенство в июне и июле 1790 г., когда Собрание занялось его внутренней организацией. Духовенство ожидало с нетерпением этого случая, чтобы возбудить раскол. Этот неосторожный проект, принятие которого принесло столько зла, стремился возродить церковь на древних началах и ввести чистоту веры. Он был придуман не философами, а строгими христианами, желавшими, чтобы религия опиралась на конституцию и чтобы обе они способствовали благу государства. Предполагалось число епископов свести к числу департаментов, церковное деление страны сделать соответственным гражданскому; далее, епископа должны были выбирать те же избиратели, что выбирали депутатов или членов администрации, капитулы должны были быть уничтожены, а каноники заменены викариями[29]. Все это не затрагивало ни веры, ни богослужения. Прежде в продолжение долгого времени епископы и другие церковнослужители выбирались народом, а что касается епархиального разграничения, то это было делом чисто материальным, а не религиозным. Оставалось еще содержание духовенства, и оно было назначено в таком большом размере, что если доходы высших лиц духовенства и уменьшились, зато у священников, составляющих большинство духовного сословия, они были увеличены.
Гражданское устройство церкви, однако, представляло собой слишком удобный предлог для смут, чтобы не воспользоваться им как таковым. С началом прений архиепископ Экский возражал против взглядов церковного комитета. Судя по его словам, уставы церкви не разрешали, чтобы епископы были выбираемы гражданской властью; перед самой баллотировкой декрета епископ Клермонтский подтвердил взгляды епископа Экского и вышел из зала во главе всех недовольных. Декрет прошел, но духовенство стало воевать против революции. С этого момента оно еще теснее сошлось с недовольным дворянством. Оба привилегированных класса, считая себя одинаково потерпевшими, употребляли все свои усилия, чтобы мешать приведению в исполнение реформ. Едва только были образованы департаменты, как они послали туда комиссаров, чтобы собрать выборщиков и провести новые выборы. Они не столько надеялись на проведение на выборах своих кандидатов, сколько на могущее возникнуть между Собранием и департаментами разногласие. Этот замысел был разоблачен с трибуны и, сделавшись известным, не мог удаться. Его инициаторы принялись тогда за дело иначе; наступал конец полномочий депутатов Генеральных штатов, ибо, по желанию округов, они были выбраны только на один год; привилегированные классы воспользовались этим, чтобы требовать новых выборов в Собрание. Если бы они добились этого, то получили бы большое преимущество; поэтому они и ссылались теперь на желания народа. „Без сомнения, — отвечал им Шапелье, — вся власть сосредоточена в народе, но это неприменимо в данном случае; обновить теперь состав Собрания, когда конституция еще не кончена, значило бы уничтожить ее, а вместе с ней и свободу. Этого и добиваются люди, желающие видеть гибель свободы и конституции и возрождение различия сословий, расточительности государственных доходов и злоупотреблений, которые идут рука об руку с деспотизмом“. Взгляды всех устремились направо, на аббата Мори. „Отправьте таких людей в тюрьму, — резко воскликнул он, — а если вы их не знаете, то и не говорите о них“. „Невозможно себе представить, чтобы конституцию составило не одно и то же собрание, — продолжал Шапелье. — К тому же старых выборщиков больше не существует; округа входят в состав департаментов, сословия более не различаются. Таким образом, предложение о прекращении прежних полномочий лишено всякого смысла. Депутаты, полномочия которых теперь затронуты, поступят против конституции, если оставят это Собрание. Их присяга приказывает им оставаться здесь, а общественная польза этого требует.“ „Нас обманывают софизмами, — возразил аббат Мори, — с какого времени стали мы Национальным конвентом? Мне говорят о клятве, данной 20 июня, нисколько не беспокоясь, что она вовсе не уничтожает присягу, принесенную нами нашим избирателям! Наконец, господа, составление конституции закончено, нам остается только объявить, что король обладает полной исполнительной властью; мы собраны здесь только для того, чтобы укрепить за французским народом влияние на законодательство, постановить, что налоги возможны только с согласия народа; укрепить нашу свободу. Итак, конституция закончена, и я протестую против всякого декрета, который ограничивает право народа на представительство. Основатели свободы должны уважать свободу нации; она выше нас, мы уничтожаем свою власть, ограничивая власть нации“.
Правая сторона приняла слова аббата Мори рукоплесканиями. Мирабо тотчас же поднялся на трибуну. „Нас спрашивают, — сказал он, — когда депутаты стали Национальным конвентом? Я отвечаю: с того дня, когда найдя вход сюда окруженным солдатами, они пошли в первое попавшееся место, где явилась возможность собраться, и поклялись лучше погибнуть, чем изменить нации и отступиться от ее прав. Сущность наших полномочий, каковыми бы они ни были раньше, изменилась в этот день. Каковы бы они ни были, повторяю, наши усилия, наши труды их узаконили, а согласие нации их освятило. Все вы помните слова того героя древности, который пренебрег законными формальностями, чтобы спасти свое отечество. Потребованный к ответу как мятежник, он ответил трибуну: клянусь, я спас отечество! Господа, — продолжал Мирабо, обернувшись к депутатам общин, — клянусь, вы спасли Францию“. Собрание поднялось одним неудержимым движением и объявило, что оно разойдется, только завершив начатое дело.
Движение против революции вне стен Собрания тем временем все более и более увеличивалось. Были попытки подкупить или расстроить армию, но Собрание приняло серьезные меры на этот случай: оно лишило двор возможности производства в чины, чем привлекло войско к себе. Граф д'Артуа и принц Конде, уехавшие после 14 июня в Турин, устроили сношение с Лионом и югом, но так как эмиграция не была еще в такой силе, как потом в Кобленце, и не имела поддержки внутри страны, то все их планы были недействительны. Той же участи подверглись и все старания духовенства поднять бунт в Лангедоке. Им не удалось возбудить религиозную войну, и там произошло только несколько небольших вспышек. Нужно время, чтобы образовать партию, и еще большее, чтобы заставить ее решиться на серьезную борьбу. Более осуществимым был план вывезти тайно короля и доставить его в Перон. Маркиз Фавра с помощью брата короля готовился к исполнению этого плана, но заговор был открыт. Маркиз был приговорен парижским судом к смертной казни. Из этого плана ничего не вышло, так как делалось слишком много приготовлений. Бегство короля после октябрьских событий могло быть только тайным, как это и случилось немного позже.
Двор находился в затруднительном и двусмысленном положении. От него исходили все контрреволюционные попытки, но он никогда в них не признавался. Более чем когда-либо двор чувствовал свою слабость и зависимость от Собрания, и, горячо желая этого избегнуть, он все-таки боялся сделать подобную попытку, так как знал, что успех слишком труден. Вот почему двор только возбуждал к оппозиции других, не принимая в ней открытого участия; с одними он мечтал о старом режиме, с другими только лишь об обуздании революции. Мирабо с некоторого времени стал вести с двором переговоры. Будучи одним из главных творцов реформы, он хотел дать ей прочность, соединив партии. Его план был — склонить двор в пользу революции, а не выдать ее двору. Поддержка, которую он предложил, была конституционная, да она и не могла быть иной, ибо его сила была в любви к нему народа и в популярности, приобретенной за убеждения. Но он ошибся, позволив себя купить. Если бы не его громадные потребности, заставлявшие его брать деньги за советы, то он не был бы виновнее, чем Лафайет, Ламет и жирондисты, которые все вели сношения с двором. Но ни тот, ни другой никогда не обладали вполне доверием двора, обращавшегося к ним в худшем случае. С их помощью двор старался задержать ход революции, а с противниками революции он мечтал ее задавить совершенно. Из всех демагогов Мирабо, благодаря своей силе и обаятельности, был наиболее влиятельным при дворе.
Среди всех этих заговоров и интриг Собрание неутомимо работало над конституцией. Была выработана судебная реформа во Франции. Все судебные должности были сделаны срочными. При господстве деспотического правления власть исходила от трона — чиновники назначались королем. При конституционном правлении чиновники выбирались народом. Только престол мог быть преемственным, всякая другая власть, не составляя ни личной, ни семейной собственности, не могла быть ни пожизненной, ни наследственной. Все законодательство этой эпохи находилось в зависимости от основного принципа — верховной власти народа. Даже судебные власти не были лишены известной подвижности. Суд присяжных — это демократическое учреждение, некогда существовавшее повсюду и только в одной Англии пережившее нашествие феодализма и усиление королевской власти, был введен в уголовном судопроизводстве. Для гражданского судопроизводства были свои специальные судьи. Был установлен постоянный суд, две судебные инстанции как средство против юридических ошибок, и кассационный суд, следивший за сохранением правительственных форм закона. Такая значительная власть, идущая от трона, могла быть зависимой, только будучи несменяемой; теперь власть была в руках народа, и ее можно было сделать срочной, ибо, подчиняясь всем, она в сущности не подчинялась никому[30].
Другим серьезным вопросом было право войны и мира; Собрание разрешило его правильно и справедливо после прений, не имевших равных в других заседаниях по красноречию. Вопреки обыкновению, инициатива была предоставлена королю, ибо война и мир касаются ближе исполнительной, чем законодательной власти. Тот, кто был более осведомлен о своевременности объявления войны или заключения мира, тот и предлагал их; Законодательный же корпус принимал или отвергал это предложение.
Народный поток, вышедший из берегов в борьбе со старым порядком, входил мало-помалу в свое русло. Новые преграды сдерживали его со всех сторон. Революционное правительство распространилось весьма быстро; Собрание дало новому порядку своего монарха — народное представительство, территориальное устройство, сильную армию, народный суд, духовенство, монету; оно нашло обеспечение государственного долга землей и средство справедливо переместить из одних рук в другие часть земельных имуществ.
Наступало 14 июля. Этот день был национальным праздником, годовщиной освобождения. Приготовлялись почтить этот день празднеством, способным возвысить дух граждан и утвердить между ними общую связь. На Марсовом поле хотели скрепить братство всего королевства, и там, на чистом воздухе, депутаты 83 департаментов, народное представительство, парижская гвардия и король должны были присягнуть конституции. Перед этим праздником либеральные члены дворянства предложили отмену титулов, и Собрание снова имело заседание, подобное заседанию 4 августа. Титулы, гербы, ливреи были уничтожены 20 июня, и тщеславие вместе с властью потеряло свои преимущества.
Это заседание ввело равенство повсюду и, отменив остатки прежнего времени, согласовало слово с делом. Титулы прежде давали право на должности; гербы отличали могущественные семьи; целые армии вассалов одеты были некогда в ливреи; рыцарские ордена защищали государство против врагов, а Европу против исламизма. Теперь ничего подобного не было: титулы потеряли свое действительное значение и смысл; дворянство, перестав быть силой, перестало быть также и красой; и власть, и слава должны были теперь приходиться на долю народа. Но дворянство, держась крепче за свои титулы, чем за привилегии, или, быть может, ища только предлога открыто высказаться, воспользовалось этой мерой, чтобы открыто заявить свою ненависть и эмигрировать. Как для духовенства его 1ражданское устройство, так и для дворянства отмена титулов была больше предлогом, чем настоящей причиной вражды к революции.
Наступило 14 июля; редко революция имела такие хорошие дни, только погода не подходила к великолепному празднику. Депутаты всех департаментов представлялись королю, и он их принял весьма любезно. Много выражений любви получил он в тот день, но только как король конституционный. „Ваше Величество, — сказал ему глава бретонской депутации, опустившись на одно колено и подавая ему свою шпагу, — я кладу в Ваши руки верную шпагу храбрых бретонцев; она обагрится только кровью Ваших врагов“. Людовик XVI его поднял, обнял и возвратил ему шпагу. „Лучшее место для нее в руках моих дорогих бретонцев; я никогда не сомневался ни в их любви, ни в их верности, уверьте их, что я отец, брат и друг всех французов“. — „Ваше Величество, — прибавил депутат, — все Ваши подданные Вас любят и будут любить как короля-гражданина“.
Праздник братства французов должен был происходить на Марсовом поле. Большие приготовления были едва закончены к сроку. Все парижане соперничали между собой в работах, чтобы все окончить к 14 июля. Утром в 7 часов шествие выборщиков представителей парижской общины, президентов округов, Национального собрания, парижской гвардии, представителей армии, союзов, департаментов тронулось в порядке с места, где прежде была Бастилия. Присутствие всей Национальной гвардии, развевающиеся флаги с патриотическими надписями, разнообразные костюмы, звуки музыки, радость народа делали это шествие величественным. Оно пересекло весь город, перешло Сену при пушечных выстрелах по понтонному мосту, наведенному накануне, и вошло на Марсово поле через Триумфальную арку, разукрашенную патриотическими надписями. Каждая группа заняла свое заранее назначенное место в порядке и при шуме приветствий.
Четыреста тысяч зрителей поместилось на дерновых скамьях, окружавших обширное пространство Марсова поля. Посреди возвышался алтарь в античном стиле, вокруг него в обширном амфитеатре виднелись король, его семья, Национальное собрание, муниципалитет; представители департаментов были размещены по порядку со своими флагами; представители Национальной гвардии и армии стояли в рядах со своими знаменами. Епископ Отенский в святительском облачении взошел на алтарь, 400 священников, одетые в белые ризы и с развевающимися трехцветными перевязями, разместились по четырем углам алтаря. Обедня была отслужена при звуках военной музыки; епископ Отенский затем благословил государственную хоругвь и 83 знамени.
Глубокая тишина наступила на всей площади, и Лафайет, назначенный в этот день командующим всей Национальной гвардией королевства, первый вышел, чтобы принести гражданскую присягу. Он был внесен гренадерами на руках к алтарю при криках народа и здесь, повышенным голосом, от своего лица, от лица войска и представителей департаментов сказал: „Мы клянемся быть всегда верными нации и королю; клянемся поддерживать всеми силами конституцию, данную Национальным собранием и принятую королем, и жить связанными неразрывными узами братства“. Залпы артиллерии, продолжительные крики „Да здравствует нация, да здравствует король!“, звуки музыки — все смешалось вместе. Председатель Национального собрания дал такую же клятву; все депутаты одновременно повторили ее. Людовик XVI затем поднялся и сказал: „Я, король французов, клянусь употреблять всю власть, данную мне конституционным актом, для поддержания конституции, установленной Национальным собранием и принятой мной“. Взволнованная королева подняла наследника на руках и, показывая народу, сказала: „Вот мой сын; он вместе со мной разделяет те же чувства“. В этот момент знамена склонились, раздались восклицания народа; подданные верили чистосердечию монарха, а он — привязанности своих подданных, и этот день закончился благодарственным гимном.
Еще некоторое время продолжались эти праздники братства. Игры, иллюминация, танцы были устроены городом в честь депутатов. Был дан бал на месте, где год тому назад стояла Бастилия. Решетки, скалы, развалины были разбросаны то тут, то гам, а на воротах была надпись, противоречившая прежнему назначению этого замка: „Здесь танцуют“. „Танцевали действительно от души, беспечно, — говорит современник, — на том самом месте, где проливалось столько слез, где так часто стонали мужество, гений и невинность и так часто заглушались крики отчаяния“. По окончании празднеств была выбита медаль в память их, и депутаты разъехались по департаментам.
Праздник братства послужил только перемирием. Окончился он, и партии снова начали мелкие интриги в самом Собрании и вне его. Герцог Орлеанский вернулся после исполнения своей миссии или, лучше сказать, из своего изгнания. Парламент вел следствие по поводу дней 5 и 6 октября, виновниками которых считали его и Мирабо. Следствие, приостановленное на время, продолжалось; двор показал еще раз свою неосторожность, так как не следовало поднимать обвинение, не имея возможности доказать его. Мирабо, после горячей речи против этого следствия, заставил замолчать правую сторону и с торжеством покончил с делом, которое было затеяно с целью застращать его.
Нападали не только на отдельных депутатов, но и на все Собрание. Двор интриговал против него; правая сторона старалась толкнуть его на крайние меры. „Нам дороги его декреты, — говорил аббат Мори, — но нам надо их еще три или четыре“. Субсидированные пасквилянты продавали у дверей Собрания свои сочинения, способные уничтожить доверие народа к Собранию, министры порицали и мешали ему. Неккер, которого не покидала мысль о своем прежнем значении, писал Собранию записки, где осуждал его постановления и давал советы. Он никак не мог переварить второстепенную роль, но, с другой стороны, не хотел и следовать решительным планам Собрания, противоречившим его мнению о постепенности реформ. Наконец, побежденный или уставший от бесполезных усилий, Неккер 4 сентября 1790 г. подал в отставку и выехал из Парижа. Ему пришлось ехать по тем же провинциям, где 14 месяцев тому назад его встречали как триумфатора. Во время революции люди забываются быстро, потому что народ живет повышенным темпом и видит много людей. Кто хочет его видеть благодарным, тот должен беспрерывно служить ему сообразно его желаниям.
Дворянство, получив с отменой титулов новый предлог для недовольства, продолжало свою контрреволюционную деятельность. Так как оно не могло поднять народ, находивший реформу выгодной для себя, то приступило к другому плану, казавшемуся ему верным. Оно покидало королевство массами с тем, чтобы вернуться обратно при поддержке Европы. Но, ожидая, пока эмиграция устроится и сумеет найти иностранных врагов революции, оно продолжало возбуждать против Собрания неудовольствие внутри страны. Войско с некоторых пор, как мы уже говорили, всякий старается привлечь на свою сторону. Новый военный закон был выгоден для солдат; чины, даваемые прежде исключительно дворянству, теперь получались по старшинству. Большая часть офицеров были преданы старому порядку и не скрывали этого. Вынужденные присягать нации, закону и королю, — а присяга эта сделалась обязательной, — некоторые из них бросали армию и увеличивали собой число эмигрантов.
Генерал маркиз Буйе долго отказывался дать гражданскую присягу, и если наконец и дал ее, то с намерением сделать из вверенного ему войска врага революции. Под его начальством было многочисленное войско, расположенное у северной границы. Ловкий, смелый, преданный королю, враг революции в ее тогдашнем развитии, но сторонник известных реформ, что позднее в Кобленце заставило счесть его подозрительным, он держал свою армию вдалеке от народа, желая, чтобы она оставалась верной и дисциплинированной. Своим осторожным поведением и обаянием сильного характера он сохранил привязанность и доверие солдат. Не то было в других местах; офицеры были предметом общей ненависти; их обвиняли в краже денег, отпускаемых на солдатский стол, и в бесконтрольном распоряжении полковыми суммами. Сюда присоединялось также различие в политических убеждениях. Все это вызвало военные волнения. Первое случилось в Нанси в 1790 г., испугало всех и чуть не сделалось сигналом к гражданской войне. Три полка — Шато Вье, Мэтр де Кам и Королевский — восстали против своих начальников. Буйе получил приказ идти на них во главе Мецского гарнизона и Национальной гвардии. После довольно горячего сражения ему удалось усмирить восставших. Собрание его поздравило, но Париж, видя в солдатах патриотов, а в Буйе заговорщика, пришел в волнение от этой новости. Начались сходки и потребовали суда над министрами, пославшими Буйе усмирить Нанси. Лафайету, поддерживаемому Собранием, которое, видя себя между контрреволюцией и анархией, мудро и смело протестовало против той и другой, удалось разогнать недовольных.
Противники революции радовались всякому затруднению Собрания. По их мнению, оно должно было или зависеть от толпы, или лишиться совершенно ее поддержки; в том и другом случае возврат к старому казался им скорым и возможным. Духовенство в свою очередь помогало им. Продажа имуществ, которой оно противодействовало всеми силами, шла выше назначенной цены. Народ, освобожденный от десятины и уверенный в покрытии национального долга, вовсе не сочувствовал духовенству и не желал служить ему орудием. Тогда оно, чтобы поднять смуту, воспользовалось введением гражданского устройства. Этот декрет Собрания не затрагивал, как мы показали выше, ни церковных уставов, ни веры. Король его утвердил 26 декабря, но епископы, находя его более неудобным для своих личных целей, чем противным церковным уставам, объявили декрет вмешательством в права духовной власти. Папа, несмотря на убедительную просьбу короля, отказался одобрить этот декрет, ибо он лишал папский престол во Франции всякого влияния и, наоборот, оказал нравственную поддержку протесту епископов. Тогда епископы объявили, что не примут участия во введении гражданского устройства; те из них, которые будут отрешены от должности, должны протестовать против этого неканонического акта; без утверждения папы учреждение епархии будет недействительным, и архиепископы не будут рукополагать епископов, выбранных гражданами.
Своим противодействием этому союзу духовенства Собрание еще более его укрепило. Если бы оно оставило недовольных священников в покое, они никогда бы не смогли поднять религиозную войну. Собрание, к сожалению, потребовало, чтобы духовенство присягнуло в верности — нации, закону и королю и поддерживало бы гражданское устройство церкви. Отказ от этой присяги влек за собой смещение от должности епископа или священника. Собрание надеялось, что высшее духовенство из выгоды, а низшее из честолюбия исполнят предъявленное им требование. Епископы же были уверены, что все духовенство последует их собственному примеру и, не принимая присяги, оставит государство без богослужения, а народ без священников. Но ни та, ни другая надежда не оправдались. Большая часть епископов и приходских священников, бывших в Собрании, не приняли присяги; но несколько епископов и довольно много священников согласились присягнуть. Протестующее духовенство было отрешено от должности, избиратели нашли им заместителей, которые и были рукоположены епископом Отенским и Лидаским Отставленное духовенство, однако, отказалось покинуть свои места, а своих заместителей объявило самозванными, таинства, совершаемые ими, недействительными и христиан, согласившихся принять их, отлученными от церкви. Они не уезжали из своих епархий, рассылали послания и в них возбуждали народ к неповиновению законам; таким образом, личные выгоды и новая организация духовенства сделались сперва вопросом религиозным, затем делом партии. Появилось два духовенства: одно конституционное, другое мятежное. Каждое имело своих приверженцев, и оба считали друг друга или бунтовщиками, или еретиками. Религия сделалась орудием для одного и препятствием для другого, смотря по тому, была ли она вопросом личной выгоды или страсти. Священники создавали фанатиков, революционеры — неверующих. Народ, который до той поры не был заражен этим злом высших классов, терял всюду веру своих отцов, благодаря неосторожности тех, которые предлагали им или веру, или революцию. „Епископы, — говорит маркиз де Феррьер, а его нельзя подозревать в излишнем осуждении духовенства, — отказались от всякого примирения и своими происками отвергали всякое соглашение; католической религией они жертвовали своему безрассудному упрямству и привязанности к земным благам“.
Перед народом, как перед властелином, заискивали все партии. Религия оказалась недействительным средством воздействия, — пришлось искать другого; таким, и притом могущественным средством в то время являлись клубы. Клубы в то время были частными собраниями, где спорили о мерах правительства, государственных делах, декретах Собрания. Их постановления пользовались известным влиянием, хотя и не имели никакой фактической силы. Первый клуб был основан бретонскими депутатами; они еще в Версале собирались вместе, чтобы согласовать свои действия. Когда Национальное собрание было перенесено из Версаля в Париж, то бретонские депутаты и их сторонники стали вести свои заседания в старом монастыре якобинцев, откуда клуб и получил свое название. Вначале эти заседания были приготовлениями к работе в Собрании, а затем, согласно мировому закону — все, что существует, развивается, — Якобинскому клубу показалось недостаточным оказывать влияние только на ход дел в Собрании. Клуб захотел оказывать воздействие на общество, на народ и ради этого допустил в число своих членов простых граждан. Его организация стала значительно шире, влияние возросло; обо всех его заседаниях писалось в газетах; он открыл отделения в провинции, и рядом с законной властью появилась другая власть, которая началась с советов первой, а кончила тем, что стала почти ею править.
Якобинский клуб, теряя свой первоначальный характер и становясь все более и более народным собранием, лишился нескольких из своих основателей. Они составили ядро нового клуба под названием Клуба 89 года. Во главе его стояли Сьейес, Шапелье, Лафайет и Ларошфуко, а в Якобинском — братья Ламеты и Барнав. Мирабо участвовал в обоих клубах, и оба одинаково искали его поддержки. Эти клубы, из которых один господствовал в Собрании, а другой в народе, были сторонниками нового порядка, хотя в различной степени. Аристократы, желая напасть на революцию своими собственными силами, стали открывать роялистские клубы, в противовес клубам народным. Первый клуб, названный „внепартийным“, продержался недолго, так как не представлял собой ничьих мнений. Возродившись под именем „монархического“, он собрал в число своих членов всех, разделявших его стремления. Желая быть популярным у народа, члены клуба стали раздавать народу хлеб, но народ, видя в основании клуба ловушку контрреволюционной партии, отказывался от всякой помощи, срывал его заседания и заставил несколько раз переменить места собраний. Наконец, ввиду того, что деятельность этого клуба служила частым поводом к вспышкам мятежа, городские власти принуждены были в январе 1791 г. его закрыть.
Недоверчивость народа была напряжена до высшей степени. Отъезд королевских теток, значение которого было сильно преувеличено, заставил возрасти его беспокойство и навел его на подозрение, что готовится еще одно бегство. Подозрения эти не были лишены совершенно основания; они вызвали вспышку мятежа, которым пожелали воспользоваться контрреволюционеры, чтобы увезти короля. Этот проект расстроился благодаря ловкости и решительности Лафайета. В то время, как народ бросился в Венсен, чтобы сломать там башню, по его мнению, соединенную подземным ходом с Тюильрийским дворцом и могущую помочь бегству короля, более шестисот вооруженных людей явилось в Тюильри и убеждало короля искать спасения в бегстве. Лафайет, посланный в Венсен во главе Национальной гвардии, сначала рассеял собравшуюся толпу, а затем обезоружил контрреволюционеров в самом дворце. Первая мера должна была бы подорвать к нему доверие народа, но оно было восстановлено второй.
Эта политика еще более заставила бояться бегства Людовика XVI. Когда через некоторое время он захотел переехать в Сен-Клу, народ и его собственная стража воспрепятствовали ему это исполнить, несмотря на все усилия Лафайета, хотевшего заставить уважать закон и свободу короля. Собрание, со своей стороны, установив неприкосновенность особы короля, определив, что регентство принадлежит ближайшему в мужском колене наследнику престола, объявило, что бегство монарха из пределов королевства ведет его к лишению престола. Усиление эмиграции, не скрываемые нисколько ее намерения да и угрожающее положение европейских кабинетов — все заставляло бояться, как бы король не принял подобного решения.
Тогда-то Собрание в первый раз хотело приостановить декретом все усиливающуюся эмиграцию, но издать такой декрет было почти невозможно. Наказывать тех, которые покидали королевство, значило бы нарушать основные начала свободы, определенные Декларацией прав человека. Ничего не делать против эмиграции — значило бы подвергать Францию опасности, так как дворяне уезжали с надеждой насильно ею завладеть потом. В Собрании, за исключением партии, сочувствовавшей эмиграции, одни видели в ней только право, а другие только опасность и, сообразно своей точке зрения, были за или против карательных мер. Далее, требовавшие принятия подобных мер желали, чтобы они не были суровыми; действительными же могли быть меры только подобного рода, и, к счастью, Собрание отступило перед ними. По предложенному, но не принятому закону беглец приговором комитета из трех членов мог быть присужден к гражданской смерти и конфискации имущества. „Дрожь, пробежавшая по Собранию при чтении этого постановления, — сказал Мирабо, — показала, что оно пригодно лишь для законов Дракона, а не может стать рядом с постановлениями Национального собрания Франции. Я заявляю, что буду считать себя освобожденным от всех клятв верности к тем, кто имеет столько позорной смелости назначить диктаторскую комиссию. Народная любовь, к которой я стремлюсь и которой пользуюсь, вовсе не слабый тростник. Я хочу, чтобы она укоренилась на земле на основе справедливости и свободы“. Внешнее положение не было еще настолько тревожным, чтобы следовало ввести подобную меру во имя охраны и безопасности революции.
Мирабо недолго наслаждался народной любовью, в которой он так был уверен. Это заседание было для него последним; через несколько дней его жизнь, истощенная страстями и работой, прервалась. 2 марта 1791 г. его не стало; его смерть была принята как общественное несчастье. Весь Париж провожал его гроб, Франция носила по нему траур, и его останки были погребены в здании, посвященном „благодарной нацией своим великим людям“. Ни в могуществе, ни в любви народа у Мирабо не было преемников; после его смерти часто во время дебатов взгляды всего Собрания обращались туда, откуда слышалась прежде властная речь, оканчивавшая всякие споры. Мирабо умер вовремя — он помог революции своей смелостью во время тяжких испытаний ее и своим могучим умом после ее победы. В его голове гнездились глубокие планы; он хотел укрепить трон и упрочить революцию — две вещи, в подобное время совершенно несовместимые. Королевская власть, если бы он сделал ее независимой, непременно захотела бы подчинить себе революцию, революция в случае победы не могла не поглотить власть короля. По-видимому, совершенно невозможно претворить старую власть в новое политическое устройство; может быть, революции нужно время, чтобы стать законной, а трон затем в обновленном виде должен приобрести интерес новизны, свойственный всякому новому установлению.
Начиная с 5 и 6 октября 1789 г., вплоть до апреля 1791 г., Национальное собрание продолжало переустройство Франции; двор изощрялся в мелких интригах и в планах о бегстве, привилегированные классы искали новых средств могущества, так как все прежние привилегии были у них отняты. Они отыскивали всевозможные предлоги для смуты и пользовались ими, чтобы напасть на новый порядок и восстановить старый при помощи анархии. При уничтожении провинции они взывали к сословиям, после образования департаментов сделали попытку произвести новые выборы депутатов; когда истек срок депутатских полномочий, они требовали роспуска Собрания; после введения нового военного закона — склоняли офицеров к измене, но, видя, что все эти средства не приводят ни к чему, дворянство стало уезжать из страны, чтобы поднять Европу против революции. В свою очередь духовенство, недовольное потерей своего имущества и преобразованиями церкви, вело усиленную пропаганду с целью поднять народ на борьбу против нового порядка. Итак, все это время партии все более разъединялись, и классы, враждебные революции, подготовляли гражданскую и внешнюю войны.
Глава IV С апреля 1791 г. по 30 сентября, т. е. до закрытия Учредительного собрания
Политика Европы перед Французской революцией, система союзов, принятая различными государствами. — Общая коалиция против революции; мотивы каждого государства. — Конференция в Мантуе и ее декларация. — Бегство в Варенн; арест короля, отстранение его от престола. — Республиканская партия впервые отделяется от конституционной монархической партии. — Эта последняя восстановляет короля. — Пильницкая декларация. — Король принимает конституцию. — Конец Учредительного собрания; его значение.
Французской революции предстояло изменить европейскую политику; она должна была покончить с войнами государей между собой и положить начало войнам государей с их народами. Эта последняя борьба началась бы гораздо позже, если бы ее возникновение не ускорили сами государи. Желая подавить революцию, они расширили пределы ее распространения; нападая на нее, они неизбежно должны были сделать ее победоносной. Политическая система, управлявшая Европой, пришла к концу. Жизнь многих государств, бывшая при феодальном правлении совершенно внутренней, при монархическом стала значительно более внешней. Первая из этих эпох закончилась почти в одно время для всех великих европейских наций. Тогда короли, так долго находившиеся в постоянной борьбе со своими вассалами, ибо они с ними были в постоянном соприкосновении, встретились друг с другом на границах своих государств и стали вести войны между собой. Так как ничье преобладание, ни Карла V, ни Людовика XIV, не могло сделаться всемирным, ибо против сильнейшего всегда образовывалась лига из более слабых, то после ряда превратностей различного рода господств и союзов установилось что-то вроде европейского равновесия. Для того, чтобы правильно оценить последующие события, небесполезно рассмотреть, в чем это равновесие состояло перед революцией.
Австрия, Англия и Франция, начиная с Вестфальского мира и до второй половины XVIII ст., были тремя наиболее могущественными государствами Европы. Выгода соединяла первые два государства против третьего. Австрии приходилось опасаться Франции в Голландии; Англия боялась ее на море. Соперничество во власти или в торговле зачастую приводило к схваткам между ними, и все они старались постоянно нанести одно другому ущерб и так или иначе ослабить соперника. Испания, с тех пор как трон ее занял один из Бурбонских принцев, была союзницей Франции против Англии. Впрочем, Испания была уже конченным государством: отброшенная в угол континента, изнемогшая под системой Филиппа II, лишенная вследствие фамильных связей единственного врага, который еще мог заставить ее поддерживать в себе дух, она только на море удерживала за собой кое-что из прежнего своего могущества. Франция, кроме того, имела союзников еще и других на всех, так сказать, флангах Австрии: на севере Швецию, на востоке Польшу и Турцию, на юге Баварию, на западе Пруссию и, наконец, в Италии — Неаполитанское королевство. Все эти государства поневоле должны были стать союзниками Франции, так как она была противницей Австрии, а ее нападений им приходилось постоянно опасаться. Пьемонт, находясь между двумя группами соперничающих государств, смотря по обстоятельствам и имея в виду в каждом отдельном случае свою выгоду, примыкал то к одной стороне, то к другой. Голландия вступала в союз то с Англией, то с Францией в зависимости от того, какая партия — штатгальтера или народная — получила в республике главенство. Швейцария все время оставалась нейтральной.
Во второй половине XVIII ст. на севере Европы усилились две державы: Россия и Пруссия. Фридрих-Вильгельм, накопив казну и устроив армию, превратил прусское курфюршество в сильное королевство; Фридрих Великий еще более увеличил его территорию. Россия долгое время занимала совершенно обособленное положение, но Петром Великим и Екатериной II была введена в европейскую политику. Усиление этих двух держав внесло видоизменения в прежние союзы. С согласия венского кабинета Россия и Пруссия произвели первый раздел Польши, в 1772 г., а в 1776 г. после смерти Фридриха Великого императрица Екатерина и император Иосиф заключили союз с целью произвести подобный же раздел европейской Турции.
Ослабленный со времени необдуманно предпринятой и несчастной Семилетней войны, версальский кабинет присутствовал при разделе Польши, не оказывая ему никакого препятствия; он видел приготовления для окончательного разрушения Оттоманской империи и не мог воспрепятствовать им; ему пришлось даже остаться безмолвным свидетелем того, как погибла союзная ему республиканская партия в Голландии под ударами Пруссии и Англии. Эти две державы при помощи военной силы восстановили в 1786 г. наследственное штатгальтерство в Голландии. Единственным почетным делом французской политики была поддержка, оказанная независимости Северной Америки. Революция 1789 г., расширив пределы нравственного влияния Франции, весьма сильно уменьшила ее влияние дипломатическое.
Англия, управляемая в это время молодым Питтом, была в 1788 г. встревожена честолюбивыми планами России. Для противодействия им она заключила союз с Пруссией и Голландией. Начало неприязненных действий было совершенно подготовлено, но им помешала смерть Иосифа и вступление на престол в феврале 1790 г. Леопольда II, принявшего в июле Рейхенбахскую конвенцию. Конвенция эта при посредничестве Англии, Пруссии и Голландии установила основания мира между Австрией и Турцией, мира, который затем окончательно был подписан в Систове 4 августа 1791 г.; одновременно она заботилась также и о прекращении смут в Нидерландах. Под давлением Англии и Пруссии Екатерина II точно так же заключила 28 декабря в Яссах мир с Портой. Этими переговорами и вытекающими из них трактатами был положен конец политическим распрям XVIII ст., и державам были развязаны руки для того, чтобы заняться Французской революцией.
Европейские государи до сих пор не имели других врагов, кроме как среди себя же; теперь во Французской революции они увидели врага нового и всем им общего. Прежние враждебные и союзные отношения, уже и без того отчасти нарушенные во время Семилетней войны, теперь окончательно переменились: Швеция вступила в союз с Россией, а Пруссия с Австрией. С одной стороны теперь стояли все европейские государи, а с другой — один французский народ, один, пока его пример или ошибки государей не дадут ему союзников. В скором времени против Французской революции образовалась общая коалиция: Австрия вступила в нее в надежде расширить свои пределы, Англия с целью отомстить за американскую войну и ради предохранения от революционной заразы, Пруссия, чтобы укрепить угрожаемое самодержавие и дать занятие праздной армии, не упуская из виду и территориальных приобретений, германские князья — чтобы возвратить некоторым из них феодальные права, потерянные ими после уничтожения этого уклада в Эльзасе; шведский король в качестве рыцаря абсолютизма, чтобы восстановить его во Франции, как он восстановил его в собственной стране; Россия для того, чтобы, пока Европа будет занята в другом месте, покончить с Польшей; наконец, все государи Бурбонского дома — из-за родственных чувств и в интересе собственной власти. Эмигранты укрепляли всех этих государей в их замыслах и подстрекали к нападению. По их мнению, Франция не имела армии или, по крайней мере, способных военачальников, была лишена денежных средств, раздираема раздорами, утомлена Собранием, расположена к старому порядку вещей и не имела ни средств, ни желания защищаться. Эмигранты со всех сторон массами стекались для того, чтобы принять участие в этой короткой кампании, и образовали правильные отряды под начальством принца Конде в Вормсе и под начальством графа д'Артуа в Кобленце.
Граф д'Артуа в особенности торопил кабинеты. Император Леопольд находился в Италии; граф д'Артуа едет к нему туда в сопровождении Колонна, бывшего у него министром, и графа Альфонса де Дюрфора, служившего посредником между ним и Тюильрийским дворцом и привезшего ему разрешение короля вступить в переговоры с Леопольдом. Свидание состоялось в Мантуе, и после него граф де Дюрфор свез Людовику XVI от имени императора тайную декларацию, в которой ему обещалась в самом непродолжительном времени помощь со стороны коалиции. Австрия должна была выставить 35 000 войска на границы Фландрии, германские князья 15 000 в Эльзасе, швейцарцы 15 000 на лионскую границу, сардинский король тоже 15 000 на границы Дофине, Испания должна была довести свою каталанскую армию до численности в 20 000 человек, Пруссия выказывала полное расположение к союзу, английский король должен был принять в нем участие в качестве ганноверского курфюрста. Все войска должны были быть двинуты одновременно в конце июля; к этому времени Бурбоны должны были высказать свой протест, а союзные державы ответить на него манифестом. До этого времени предполагалось все дело держать в тайне, избегать всякого частного вторжения в пределы Франции и не предпринимать никаких попыток к бегству. Таков был результат переговоров в Мантуе, происходивших 20 мая 1791 г.
Людовик XVI, однако, может быть, не желая отдаваться всецело в руки иностранцев, а может быть, и боясь влияния графа д'Артуа, которое тот мог бы получить, вернувшись в отечество во главе победоносных эмигрантов и восстановив прежнее государственное устройство, предпочел попытаться поднять монархию сам, без всякой посторонней помощи. Он имел в генерале маркизе де Буйе, одинаково осуждавшем как эмиграцию, так и Собрание, преданного и умелого сторонника, обещавшего королю убежище и помощь среди своей армии. С некоторого времени между ним и королем происходила тайная переписка: Буйе делал все приготовления, чтобы принять короля. Воспользовавшись как предлогом движением неприятельских войск к границе, он стал лагерем в Монмеди; далее, он расположил отряды вдоль дороги, по которой пришлось бы бежать королю, и отряды эти должны были служить королю конвоем. Надо было объяснить подобного рода распоряжения, и предлогом было выставлено охранение казны, из которой выплачивалось жалованье войскам.
Со своей стороны королевская фамилия втайне готовилась к отъезду; немногие были посвящены в эту тайну: никакими внешними проявлениями это намерение не разоблачалось. Напротив того, Людовик XVI и королева прилагали все усилия к тому, чтобы удалить всякие подозрения, и ночью 20 июня, в момент, назначенный для бегства, они вышли из дворца поодиночке и переодетыми. Им удалось пройти незамеченными мимо стражи на бульвар, где их ждала карета. В ней они отправились по направлению к Шалону и Монмеди.
На другой день при известии об этом бегстве Париж пришел сначала в оцепенение; вскоре, однако, это чувство сменилось негодованием. Парижане стали собираться группами, волнение все увеличивалось и увеличивалось. Тех, кто только не сумел воспрепятствовать бегству, обвиняли в способствовании ему; подозрение не пощадило ни Лафайета, ни Байи. В этом бегстве видели уже близкое вторжение чужеземных войск во Францию, триумф эмигрантов, возвращение к старому порядку вещей или по меньшей мере продолжительную междоусобную войну. То, как себя повело в эту тяжелую минуту Собрание, однако, вскоре внесло успокоение и уверенность во взволнованные умы. Собрание приняло все меры, требуемые подобным трудным положением: оно призвало к себе всех министров и видных сановников, успокоило народ соответственной прокламацией, приняло меры к поддержанию общественного порядка, взяло в свои руки исполнительную власть, поручило министру иностранных дел, Монморену, довести до сведения держав о своих миролюбивых намерениях, послало комиссаров в армию, чтобы заручиться ее содействием и привести ее к присяге теперь уже не королю, а Собранию; наконец, оно отправило по всем департаментам задержать всякого, кто бы попытался переехать границы Франции. „Таким образом, — говорит маркиз де Феррьер, — меньше чем в течение четырех часов Собрание оказалось облеченным полной властью; административный механизм шел своим порядком, общественное спокойствие не получило ни малейшего нарушения: Париж и Франция на этом пагубном для монархии опыте убедились, что монарх совершенно чужд тому правительственному механизму, что существует под его именем“.
Между тем Людовик XVI и его семейство приближались к цели своего путешествия. Удача первых дней и отдаление от Парижа сделали короля менее осторожным и более доверчивым; он неосторожно показался, был узнан и 1 июля задержан в Варение. Тотчас были подняты на ноги все национальные гвардейцы; офицеры отрядов, приготовленных Буйе, напрасно стремились освободить короля, — драгуны и гусары, находившиеся под их начальством, не желали или боялись им помогать. Извещенный о прискорбном происшествии, Буйе явился на помощь сам во главе кавалерийского полка. Было уже, однако, поздно, — король выехал из Варенна за несколько часов до прибытия Буйе; его солдаты чувствовали себя усталыми и отказались ехать дальше. Повсюду были под ружьем национальные гвардейцы, и Буйе не оставалось ничего другого, ввиду неудавшейся попытки, как покинуть армию, а затем и Францию.
Собрание, узнав об аресте короля, послало к нему трех комиссаров, членов Собрания: Петиона, Латур-Мобура и Барнава; комиссары встретили королевское семейство в Эперне и вместе с ним возвратились в Париж. Именно во время этой поездки Барнав был так тронут здравым смыслом Людовика XVI, предупредительностью Марии-Антуанетты и судьбой всего столь униженного королевского семейства, что не только тогда выказывал всем им живейшее участие, но не перестал и впоследствии подавать им свои советы и свою помощь. Королевскому кортежу по прибытии в Париж пришлось проезжать среди огромной толпы; толпа хранила неодобрительное молчание, не было слышно ни рукоплесканий, ни ропота.
Король был временно устранен от престола, и к нему и к королеве была приставлена стража; для допроса их обоих были назначены особые комиссары. Все партии охватило волнение; одни хотели удержать короля на троне, несмотря на его попытку бежать; другие считали, что он уже сам отрекся от престола, осудив в манифесте, обращенном к народу в момент своего отъезда, не только революцию, но и все изданные от его имени и им подписанные во время этой, как он выражался, неволи, декреты.
Тут выступила на сцену республиканская партия. До сих пор она была либо в зависимом положении, либо скрывалась, и не являлось никакого предлога для проявления ее деятельности. Та борьба, что происходила сначала между Собранием, затем между конституционалистами и приверженцами прежнего порядка вещей, теперь перешла к конституционалистам и республиканцам. Таково во время революции нормальное течение событий. Сторонники вновь созданного порядка сблизились между собой и отказались от тех разногласий, что существовали между ними и вредили их делу даже во время всемогущества Собрания, не говоря уже о том, что они были совершенно пагубны теперь, когда с одной стороны надо было опасаться эмиграции, а с другой — толпы. Мирабо не было; центр, на который опирался этот красноречивый трибун и который состоял из людей наименее из всего Собрания честолюбивых и наиболее преданных идее, мог, соединившись с Ламетами, восстановить Людовика XVI и конституционную монархию и воспротивиться чрезмерному увлечению народа.
Союз этот образовался и на деле: Ламеты вступили в соглашение с Андре и другими важнейшими членами центра, открыли переговоры с двором и учредили в противовес якобинцам Клуб фельянов. Но у якобинцев не было недостатка в вождях: под предводительством Мирабо они боролись против Мунье, затем под предводительством Ламетов восстали против Мирабо; теперь они пошли против Ламетов под предводительством Робеспьера и Петиона. Партия, желавшая второй революции, всегда поддерживала наиболее крайних деятелей уже завершенной революции, ибо таким образом она приближала к себе борьбу и победу. Теперь партия из подчиненной становилась независимой; она не сражалась больше на пользу других и за счет другого мнения, но ради самой себя и под собственным флагом. Двор своими многочисленными ошибками, своими неосторожными махинациями и в конце всего бегством монарха дал возможность республиканской партии открыто высказать свои цели и задачи. Ламеты, бросив республиканскую партию, предоставили ее настоящим ее вождям.
Ламетам, в свою очередь, пришлось вытерпеть нападки толпы, замечавшей только сближение их с двором, но не вникавшей в его условия. В Собрании Ламеты пока что, при поддержке конституционалистов, были наиболее сильными. Им необходимо было как можно скорее восстановить на престоле короля, так как все время, что продолжалось его временное устранение, республиканцы имели повод каждую минуту потребовать полного низложения короля и перейти к совершенно новому порядку вещей. Комиссары, которым было поручено допросить Людовика XVI, сами продиктовали ему объяснение, которое затем и представили палате; оно до известной степени сгладило скверное впечатление от бегства. Докладчик от имени семи комитетов, выбранных для рассмотрения этого важного вопроса, заявил, что нет места ни для суда над Людовиком XVI, ни для низложения его с престола. Прения, последовавшие за этим докладом, были продолжительны и оживленны; все старания республиканской партии, несмотря на их упорство, были тщетны. Большинство ораторов партии высказалось по вопросу: все они требовали либо низложения короля, либо регентства, т. е. народного правления, либо перехода к нему. Барнав возразил на все их доводы; он закончил свою речь следующими знаменательными словами: „Преобразователи государства, следуйте неизменно своей дорогой. Вы показали, что обладаете достаточным мужеством, чтобы искоренить злоупотребления власти; вы показали, что обладаете всем, что нужно для того, чтобы поставить на свои места мудрые и благие учреждения; докажите теперь, что у вас достаточно благоразумия, чтобы их защитить и поддержать. Нация только что проявила великое доказательство своей силы и мужества; она торжественно и совершенно добровольно выказала все, что она может противопоставить угрожающим ей нападениям. Продолжайте принимать меры предосторожности: пусть наши пределы и границы будут сильнейшим образом защищены. Но в тот момент, как мы выказываем всю нашу силу, выкажем также нашу умеренность, доставим вселенной, обеспокоенной событиями, у нас происходящими, мир, дадим возможность всем, кто сочувствует нашей революции в иноземных государствах, окончательно возликовать. Ведь эти сочувствующие кричат нам со всех сторон: вы сильны, будьте же мудры, будьте же умеренны; это будет венцом вашей славы; этим путем вы покажете, что умеете пользоваться различными талантами, средствами и добродетелями в различных условиях“.
Собрание согласилось с мнением Барнава. Но, чтобы успокоить народ и озаботиться о будущей безопасности Франции, оно постановило, что король будет считаться отрекшимся от престола, если после присяги конституции нарушит ее, если встанет во главе армии для войны с народом или потерпит, чтобы кто-нибудь напал на него от его имени; что, став в таком случае простым гражданином, он теряет свое право неприкосновенности и может быть судим за все, что совершит после отречения от престола.
В тот день, когда этот декрет был принят Собранием, главари республиканской партии постарались возбудить толпу. Так как зал собраний был окружен национальными гвардейцами, то вторгнуться в него и запугать Собрание не было никакой возможности. Агитаторы, не будучи в состоянии воспрепятствовать изданию декрета, вооружили против него народ. Под их влиянием была составлена петиция, которая оспаривала полноправность Собрания, взывала к верховному суду нации, смотрела на Людовика XVI, со времени его бегства, как на лишенного престола и требовала его замещения. Эта петиция, составленная Бриссо, автором „Французского патриота“ и президентом комитета изысканий города Парижа, 17 июля была возложена на алтарь отечества на Марсовом поле: народ толпами собирался для подписания ее. Предупрежденное об этом Собрание вызвало городской муниципалитет и приказало ему заботиться об общественной безопасности. Лафайет пошел против мятежников и на первый раз ему удалось рассеять их без пролития крови. Муниципальные чиновники заняли здание Дома Инвалидов; однако, в тот же день толпа собралась снова, и в большем количестве, и с большей решимостью. Дантон и Камиль Демулен говорили к толпе возбуждающие речи с самого алтаря отечества. Толпа при этом приняла двух инвалидов за шпионов, убила их и насадила их головы на пики. Восстание становилось угрожающим. Лафайет снова отправился на Марсово поле во главе отряда Национальной гвардии из тысячи двухсот человек. Байи сопровождал его и приказал развернуть красное знамя. К толпе обратились с требуемыми законом предупреждениями, но она отказалась разойтись и, не желая признать властей, кричала „Долой красное знамя!“ и осыпала национальных гвардейцев градом каменьев. Лафайет дал залп, но в воздух; это нисколько не устрашило толпу, и она возобновила нападение. Тогда, вынужденный к тому упорством бунтовщиков, Лафайет скомандовал второй залп, на этот раз настоящий и убийственный по своим последствиям. Испуганная толпа ударилась в бегство, оставив громадное количество убитых на поле, где некогда происходило братание. Волнение прекратилось, порядок был восстановлен, но кровь была пролита, и народ никогда не простил ни Лафайету, ни Байи того, к чему они были вынуждены суровой необходимостью. Это была настоящая битва, в которой республиканская партия, еще не довольно сильная и не имевшая достаточной поддержки, потерпела поражение от монархической конституционной партии. Бунт на Марсовом поле был прелюдией к дальнейшим народным движениям, начавшимся около 10 августа.
Покуда вышеописанное совершалось в Собрании и Париже, эмигранты, сначала обнадеженные бегством Людовика XVI, при известии об его аресте упали духом. Брат короля, бежавший в одно время с ним, но бывший более счастливым, добрался до Брюсселя один с полномочиями и титулом регента. Эмигранты после этого стали надеяться исключительно на европейскую помощь; офицеры стали дезертировать из-под своих знамен; 290 членов Собрания высказали протест против его декретов, надеясь этим путем оправдать нападение иностранных войск. Буйе написал угрожающее письмо, отчасти с несбыточной целью устрашить армию, а отчасти ради того, чтобы принять на себя всю ответственность за бегство короля; наконец, император австрийский, король прусский и граф д'Артуа собрались в Пильнице и составили здесь знаменитую Декларацию 27 августа, подготовившую вторжение во Францию, но не только не облегчившую участь короля, но, напротив, сделавшую бы ее более тяжелой, если бы Собрание, несмотря на угрозы толпы и иностранцев, не сохранило бы свое постоянное благоразумие и не осталось неизменно при своих прежних намерениях.
В Пильницкой декларации государи рассматривали дело Людовика XVI как дело свое личное. Они требовали, чтобы ему предоставлена была свобода отправиться, куда он пожелает, т. е. к ним, чтобы его восстановили на престоле, чтобы Собрание было распущено и чтобы владетельные немецкие принцы получили обратно свои феодальные права в Эльзасе. В случае отказа они угрожали Франции войной, в которой должны были принять участие все государства, поставившие себе задачей гарантировать существование французской монархии. Эта декларация вместо того, чтобы застращать, только раздражила и Собрание, и народ. Каждый задавал себе вопрос, по какому праву европейские государи вмешиваются во внутренние дела Франции, по какому праву они отдают приказания великому народу и ставят ему какие-то условия; а так как государи грозили силой, то народ стал готовиться к тому, чтобы дать отпор. Пограничные линии были приведены в состояние обороны, собрано под ружье 100 000 человек Национальной гвардии, и народ ожидал нападения неприятеля с полной уверенностью, что у себя дома и в момент революции его нет возможности победить.
Между тем Собрание приближалось к концу своих трудов; гражданские отношения, общественные налоги, свойства преступлений и преследование их, производство следствий и наказания были выработаны так же старательно и полно, как и общие конституционные отношения. В законы о наследствах, в налоги и наказания был введен принцип полной равноправности; для того, чтобы принести все на королевское утверждение, оставалось только соединить все декреты в один общий кодекс. Собрание начинало уже уставать и от своих работ, и от своих распрей; сам народ, которому, как всегда во Франции, наскучивало все то, что длится слишком долго, желал нового народного представительства; созыв избирательных собраний был назначен на 5 августа. К несчастью, члены настоящего Собрания не имели права участвовать в следующем; так было постановлено еще до бегства короля в Варенн. В этом важном вопросе Собрание было увлечено бескорыстием одних, соперничеством других, анархическими притязаниями аристократов и посягательством на преобладание республиканцев. Напрасны были слова Дюпора: „Нас пичкают различного рода принципами, как же до сих пор никто не подумал, что постоянство есть также один из правительственных принципов? Неужели желают подвергать Францию, страну горячих и непостоянных голов, каждые два года революции в законах и во мнениях?“ Этого именно и ждали и якобинцы, и аристократы, но только с различной целью. Во всех подобного рода вопросах Учредительное собрание ошибалось или было порабощено; когда дело шло о министрах, то против мнения Мирабо оно приняло, что депутат не может занимать министерского места; зашла речь о переизбрании — оно декретировало, что его собственные члены не могут быть избраны во второй раз; оно пошло даже дальше и запретило депутатам в течение четырех лет, после роспуска Учредительного собрания, занимать какую бы то ни было должность по назначению короля. Эта всех охватившая мания бескорыстия заставила вскоре Лафайета отказаться от должности командира Национальной гвардии, а Байи от звания мэра, таким образом, эта замечательная эпоха совершенно прикончилась с Учредительным собранием, и от нее ничего не осталось ко времени Собрания законодательного.
Свод конституционных законов в одно целое послужил предлогом возбудить вопрос об их пересмотре. Эта попытка пересмотра, однако, возбудила общее недовольство и не имела никакого успеха; задним числом нельзя было делать конституцию более аристократичной из боязни, чтобы народ не пожелал ее тогда видеть еше более демократичной. Чтобы несколько сдержать владычество народа, в то же время не отрицая его, Собрание постановило, что Франция имеет право пересматривать свою конституцию, но что будет благоразумным не пользоваться этим правом ранее чем через 30 лет.
Конституционный акт был представлен королю шестьюдесятью депутатами; вместе с тем был положен конец временному его отрешению от престола; Людовик XVI вступил в отправление своей власти и стал прямым начальником той стражи, которая ему полагалась по закону. Король стал свободен; тогда ему поднесли конституционный акт. Несколько дней король посвятил на рассмотрение этого акта, а затем написал Собранию: „Я принимаю Конституцию; я беру на себя обязательство поддерживать ее всеми мерами внутри государства и защищать от нападений извне; я обязуюсь заставлять исполнять ее всеми имеющимися в моем распоряжении мерами. Я объявляю, что, узнав об одобрении Конституции огромным большинством народа, я отказываюсь от прежнего моего требования принимать участие в ее выработке, а так как я ответственен только перед народом, то никто другой на мой отказ не имеет права выражать претензий“.
Письмо это возбудило бурные аплодисменты. Лафайет потребовал и заставил декретировать амнистию всем, кто преследовался по делу о бегстве короля или за проступки против революции. На другой день король лично явился в Собрание, чтобы принять Конституцию. Народ проводил его туда аплодисментами; депутаты и присутствовавшая публика принимали его с восторгом; в этот день король снова приобрел доверие и привязанность народа. Наконец, на 29-е было назначено закрытие Собрания. Король прибыл на заседание, речь его прерывалась частыми рукоплесканиями. Он сказал: „Вам, господа, вам, показавшим столько неутомимого рвения в вашей долгой и трудной работе, остается исполнить еще одну обязанность. Когда вы разъедетесь по всем концам государства, вы должны объяснить вашим согражданам истинный смысл изданных вами законов, напомнить о них тем, кто их не признает, очистить и собрать воедино все мнения при помощи личного примера любви к порядку и уважения к законам“. — „Да!“ — закричали все депутаты единодушно. — „Я надеюсь, что вы будете истолкователями моих чувств перед нашими согражданами“. — „Да, да“. — „Скажите же им всем, что король всегда будет их первым и наиболее верным другом, что он нуждается в их любви, что он не сумеет быть счастливым иначе, как с ними и их счастьем, что надежда содействовать их счастью будет поддерживать его мужество, а наилучшей наградой ему будет самоудовлетворение, раз они будут счастливы“. — „Эта речь напоминает Генриха IV,“ — говорит чей-то голос, и Людовик XVI покидает зал заседаний среди самых бурных проявлений любви и преданности.
Тогда Туре, обращаясь к народу, произносит твердым голосом: „Учредительное собрание объявляет, что его миссия закончена и что оно закрывает свои заседания“. Так закончило свое существование первое и знаменитое Народное собрание. Оно было мужественно, просвещенно, справедливо и не имело другой страсти, кроме страсти к законности. В два года оно выполнило своими усилиями и неутомимой настойчивостью величайшую революцию, которую когда-либо могло пережить одно поколение. Не прекращая своих работ, оно обуздывало деспотизм и анархию, раскрывая заговоры аристократов и удерживая в повиновении толпу. Его главной ошибкой было то, что оно не вверило продолжение революции тем людям, которые ее совершили. Оно сложило с себя власть совершенно подобно тем законодателям древности, которые, выработав законы и введя их в свое отечество, затем добровольно удалялись в изгнание. Новое Собрание не пожелало упрочить выработанное первым, и революция, вместо того, чтобы закончиться, была начата сначала.
Конституция 1791 г. была выработана сообразно принципам, отвечающим идеям и положению Франции. Эта Конституция была детищем среднего сословия, в это время бывшего наиболее сильным; ведь известно, что учреждениями всегда завладевает та сила, что в данное время доминирует. Если господствующая сила принадлежит одному человеку, она является деспотизмом, если нескольким — привилегией, а если всем — она есть право; право есть и начало, и венец общественного устройства. Франция, наконец, его достигла, пройдя через феодализм, бывший установлением аристократическим, и через абсолютную власть — установление монархическое. Равенство между гражданами было освящено, и власть была признана как народное полномочие; только таковы должны были быть при новом режиме условия отношений между людьми и такова форма правления.
В этой Конституции народ был источником всякой власти, но сам непосредственно не обладал ею; в его руках были только первоначальные выборы, а затем его уполномоченные выбирались уже между людьми просвещенных классов. Они составляли Национальное собрание, пополняли суды, администрацию, муниципалитет, милицию и, таким образом, имели в своих руках всю силу и всю власть в государстве. Просвещенный класс был единственно способен отправлять все эти должности, потому что только он обладал сведениями, достаточными для управления страной. Народ не был еще достаточно просвещен для того, чтобы принимать непосредственное участие в государственном управлении: в его руки власть попадала только случайно и на короткое время; но народ получал гражданское воспитание и практиковался в управлении на первоначальных избирательных собраниях; такова настоящая задача каждого общества, заключающаяся не в том, чтобы отдавать преимущества в наследственное владение одного какого-либо класса, а в том, чтобы распределять их между всеми, кто только способен ими обладать. Вот в чем состояла главная характерная черта Конституции 1791 г.; всякий получал известное право, как только оказывался способным им обладать или пользоваться; Конституция расширяла свои рамки сообразно ходу цивилизации и с каждым днем должна была призывать к управлению государством все большее и большее количество людей. Вот в чем она видела истинное равенство людей, ибо отличительная черта равенства есть допущение, а неравенства — исключение. Делая власть подвижной вследствие того, что она была выборной, Конституция делала ее всем доступной, делала ее общественной собственностью, в то время, как привилегия, передавая власть по наследству, создавала из нее собственность частную.
Конституция 1791 г. установила такую иерархию власти, в которой отдельные члены друг другу отвечали и друг друга дополняли. Только одна власть короля, в том приходится сознаваться, была чересчур подчинена власти народа. К несчастью, всякая высшая власть, откуда бы она ни исходила, всегда дает себе слишком слабый противовес, раз она сама себя и должна ограничивать. Учредительное собрание ослабляет королевскую власть; король-законодатель урезывает права Собрания.
Разбираемая Конституция была, однако, менее демократична, чем Конституция Соединенных Штатов, которая оказалась удобоприложимой, несмотря на большую величину американской территории; это служит доказательством, что не самые формы установлений, но то, встречают ли они одобрение или, наоборот, порицание, способствует или препятствует их проведению в жизнь. В молодой стране, да еще после войны за независимость, как это было в Америке, всякая конституция являлась возможной; единственным неприятелем тут являлась партия метрополии, и раз она была побеждена, то борьба поневоле должна была закончиться, ибо поражение этой партии было неизбежно и должно было повлечь за собой ее изгнание. Не так проходит социальная революция у народов, долго существующих. Перемены затрагивают те или иные интересы, интересы эти создают партии, партии вступают друг с другом в борьбу, и чем на большем числе сказывается победа, тем сильнее бывает жажда мщения. Это как раз то, что случилось во Франции. Дело Учредительного собрания погибло не столько вследствие своих недостатков, сколько вследствие нападок партий. Находясь между аристократией и толпой, Собрание подвергалось нападкам первой и захватам второй. Толпа не стала бы властительницей, если бы ее вмешательство и ее помощь не были вызваны гражданской войной и иностранной коалицией. Она пожелала взять в свои руки управление отечеством только ради того, чтобы защитить его; тут-то она и произвела свою революцию, как ранее ее произвело среднее сословие. У толпы было свое 14 июля, — этим днем для нее было 10 августа; у нее было свое Учредительное собрание — Конвент, свое правительство — Комитет общественного спасения; но, как мы увидим дальше, без эмиграции не было бы и республики[31],[32].
Законодательное национальное собрание Глава V С 1 октября 1791 г. по 21 сентября 1792 г.
Первые сношения Законодательного собрания с королем. — Положение партии: фельяны, поддерживаемые средним классом; жирондисты, поддерживаемые народом. — Эмиграция и непокорное духовенство; декрет против них, veto короля. — Объявление войны. — Жирондистское министерство; Дюмурье и Ролан. — Объявление войны королю венгерскому и богемскому. — Поражение французских войск; приказ о резервном лагере из 20 тысяч человек под Парижем; декрет о высылке неприсягнувших священников; veto короля; падение жирондистского министерства. — Петиция мятежников 20 июня, чтобы заставить короля принять декреты и вернуть министров. Последние попытки конституционной партии. — Манифест герцога Брауншвейгского. — События 10 августа. — Военный мятеж Лафайета против творцов 10 августа; он не удается. — Разногласия в Собрании и в новом городском управлении; Дантон. — Вторжение пруссаков. — Убийства 2 сентября — Аргонская кампания. — Причины событий во время Законодательного собрания.
Первое собрание открыло свои заседания 1 октября 1791 г. и тотчас же объявило себя Национальным законодательным собранием. С первых же шагов у него явился случай показать свою преданность новому порядку и то уважение, которое оно чувствовало к творцам Французской революции. Конституционный акт был ему торжественно вручен архивариусом Камю и двенадцатью самыми старейшими членами Национального собрания. Собрание приняло акт, стоя с непокрытыми головами, и поклялось среди всеобщих аплодисментов или жить свободным, или умереть. Оно сейчас же постановило выразить благодарность членам Учредительною собрания и принялось за свои работы.
Первые сношения собрания с королем не имели характера согласия и доверия. Двор, надеясь иметь при Законодательном собрании первенствующее положение, потерянное им при собрании Учредительном, вел себя неосторожно относительно беспокойной, подозрительной народной власти, желавшей быть первой в государстве. Собрание послало к королю депутацию из 60 своих членов с известием, что оно собралось. Король не принял депутацию лично, а велел сказать ей через министра юстиции, что он ее примет завтра в полдень. Такой необдуманный отказ и вмешательство министра в сношения между королем и Собранием оскорбили депутацию. Поэтому, когда она, наконец, была принята, Дюшатель, ее глава, сказал королю лаконически: „Ваше Величество, Национальное законодательное собрание окончательно организовалось; нас выбрали, чтобы Вам объявить об этом“. Людовик XVI ответил еще суше: „Я не могу явиться в Собрание раньше пятницы“. Такое поведение относительно Собрания было неловким и не могло заслужить народную любовь.
Собрание одобрило ту сдержанность, с которой председатель объяснялся с королем, и в отместку позволило себе вскоре поступок, достойный осуждения. Церемониал, с которым короля следовало принять в Собрании, уже был установлен предыдущими законами. Ему было сохранено кресло в виде трона, и его особу титуловали „государь“ и „Ваше Величество“. Депутаты при его входе вставали и снимали шляпы, садились, надевали шляпы и снова вставали и снимали их, почтительно подражая движениям короля. Некоторые, слишком беспокойные, находили такое снисхождение недостойным верховного собрания. Депутат Гранжнёв предложил, чтобы наименования „государь“ и „Ваше Величество“ были заменены более конституционным и даже более красивым „король французов“. Кутон пошел еще дальше и предложил дать королю простое кресло, совершенно такое же, как у председателя. Эти предложения вызвали легкое осуждение со стороны некоторых членов, большая же часть их торопливо приняла. „Я надеюсь, — сказал Гаде, — что французский народ будет всегда больше благоговеть перед простым креслом, на котором сидел президент, чем пред позолоченным троном главы исполнительной власти. Я даже и не говорю, господа, о титулах „государь“ и „Ваше Величество“, я просто удивляюсь, что Национальное собрание рассуждает об их сохранении. Слово „государь“ — значит господин; это пережиток уже не существующего феодального строя. Что касается второго титула, то его следует относить или к Богу, или к народу“.
Предварительное обсуждение было отвергнуто. Предложение было пущено на голоса и принято значительным большинством, но так как такое постановление являлось враждебным королю, то конституционное мнение было против него, порицая эту чрезвычайную и неуместную принципиальную точность. На другой день те, которые требовали предварительного обсуждения, настаивали на отмене решения, принятого накануне. В то же время распространился слух, что король не приедет в Собрание до отмены декрета, и он был аннулирован. Эти маленькие распри между двумя силами, из которых каждая боялась быть захваченной врасплох, боялась высокомерных поступков, в особенности злого умысла, на этот раз кончились ничем. Всякое воспоминание о неудовольствии было сглажено присутствием Людовика XVI в Законодательном собрании, где он был встречен со всеми знаками уважения и восторга.
В своей речи он главным образом касался всеобщего умиротворения. Он указал Собранию вопросы, которые должны были привлечь его внимание, а именно — финансы, гражданские законы, торговля и промышленность и укрепление нового порядка. Он обещал отдать все свои силы водворению дисциплины и порядка в армии, привести королевство в оборонительное положение и вообще вести дело так, чтобы Европа получила о революции самое высокое мнение. Он прибавил следующие слова, встреченные одобрениями: „Господа, чтобы наши будущие работы так же, как ваше усердие, принесли все то добро, которое от них ждут, необходимо, чтобы царствовало постоянное согласие и ненарушимое доверие между Законодательным корпусом и королем. Враги нашего спокойствия будут искать возможности нас разъединить, но пусть любовь к отечеству нас сблизит и общественное благо сделает неразлучными. Итак, общественная власть будет развиваться без затруднения, администрация не будет тревожиться напрасно, собственность и вера каждого будут равно обеспечены, и никому не останется предлога жить вдалеке от страны, где законы в силе и все права уважаются“. К несчастью, существовало два класса вне революции, не желавших слиться вместе с ней; их усилия внутри Франции и в Европе затрудняли осуществление умных и миролюбивых слов короля. Когда в государстве происходит перетасовка общественных сил, тотчас между ними возгорается война, и одна сторона начинает враждебные действия против другой. Внутренние волнения, поднятые неприсягнувшими священниками, военные сборы эмигрантов и подготовление коалиции заставили скоро Законодательное собрание пойти дальше, чем это дозволяла конституция и его собственные первоначальные предположения.
Состав этого Собрания был вполне народным. Так как мысли всех были на стороне революции, то ни двор, ни дворянство, ни духовенство не могли оказать никакого влияния на выборы. В этом Собрании не было, как и в предыдущем, приверженцев абсолютной власти и привилегий. Обе фракции левой стороны, на которые она раскололась к концу Учредительного собрания, сохранились и теперь, но не в той численности и не в той силе. Народное меньшинство того собрания стало здесь большинством. К такому результату привели: запрещение выбирать уже испытанных членов Учредительного собрания, необходимость выбирать лиц, отличающихся своим мнением и поведением, и в особенности живое влияние клубов. В скором времени партии определились; образовались правая, центр и левая, как и в Учредительном собрании, только с другим характером, чем раньше.
Правая сторона, образовавшаяся из ярых конституционалистов, составляла умеренную партию. Главнейшими членами ее были: Матьё Дюма, Рамон, Воблан, Беньо и другие. Они вели переговоры с двором через Барнава, Дюпора, Александра Ламета, бывших ее старинными вождями. Людовик XVI редко следовал их совету, относясь с большим доверием к мнению своих приближенных. Эта партия опиралась на Клуб фельянов и среднее сословие. Национальная гвардия, армия, совет департаментов и вообще все конституционные власти были ее сторонниками. Но эта партия фельянов уже не главенствовала в Собрании и скоро лишилась и другой надежной точки опоры; городское управление попало в руки ее противников — левых.
Левые образовали партию так называемых жирондистов; во время революции она была переходной между средним сословием и народом. У нее не было тогда плана ниспровержения существующего порядка, но она была намерена защищать революцию всеми средствами в противовес конституционной партии, желавшей употреблять для этого только средства законные. Во главе ее были блестящие ораторы департамента Жиронды, давшей ей свое имя: Верньо, Гаде, Жансонне и провансалец Инар, красноречие которого отличалось еще большей силой, чем всех остальных. Главным вождем партии являлся Бриссо, бывший член городского управления в Париже во время предыдущей сессии и ставший теперь членом Законодательного собрания. Взгляды Бриссо, желавшего коренных реформ, необыкновенная деятельность его ума, отразившаяся в журнале „Патриот“, его речи с трибун Собрания и в Клубе якобинцев, его обширные познания об иностранных государствах — давали ему власть в то время, когда партии боролись между собой и каждую минуту могла возгореться война с Европой. Влияние Кондорсе зависело главным образом от его репутации человека глубокомысленного и преданного демократическим теориям, что давало ему обличие Сьейеса этого второго революционного поколения. Петион, смелый и страстный, был человек действия своей партии. Благодаря внушающей доверие наружности, красноречию, умению обращаться с народом он был вскоре выбран на должность мэра, которую до тех пор Байи отправлял в интересах среднего сословия.
Из рядов левой стороны, наконец, выделилась новая, еще более крайняя партия, члены которой — Шабо, Базир, Мерлен из Тионвиля — были для жирондистов тем же, чем Петион, Бюзо и Робеспьер для левой Учредительного собрания. Это было началом фракции демагогов, извне поддерживавшей жирондистов с помощью клубов и народа. Настоящими предводителями этой партии, опиравшейся на целое сословие и жаждавшей укрепить свою собственную власть, были: Робеспьер, упрочивший свое влияние в Клубе якобинцев после выхода из Учредительного собрания, Дантон, Камиль Демулен и Фабр д'Эглантин, действовавшие среди кордельеров и создавшие новый клуб из людей еще более горячих, чем сами якобинцы, которые в общем все же принадлежали к буржуазии, пивовар Сантерр, пользовавшийся влиянием в предместьях, где были сосредоточены народные силы. Партия эта, однако, не имела самостоятельного значения, и только переворот мог дать ей главенство.
Центр Законодательного собрания составляли люди, преданные новому порядку. Как в центре Учредительного собрания, так и здесь убеждения были одинаково умеренные, но сила их была различна. Теперешний центр не поддерживался более сильным сословием, с помощью которого он мог бы твердой рукой обуздывать все крайние партии. Общественные опасности заставили скоро почувствовать необходимость в крайних мнениях и в партиях, стоявших вне Собрания, это окончательно уничтожило значение и силу центра. Подобно всем умеренным партиям, он был поглощен крайней левой, как более сильной.
Положение Собрания было очень затруднительно. Его предшественник завещал ему партии, которые оно заведомо не могло примирить. С самых первых своих заседаний оно должно было заняться борьбой с ними. Эмиграция оказывала устрашающие успехи. Оба брата короля, принц Конде и герцог Бурбонский, протестовали против утверждения Людовиком XVI конституционного акта, то есть против единственного способа соглашения. Они говорили, что король не мог поступиться правом древней монархии, и их протест, распространившийся по всей Франции, произвел большое впечатление на сторонников монархии. Офицеры покидали армию, дворяне свои замки, целые роты солдат дезертировали и становились в ряды войск, собиравшихся по ту сторону границ. Медлившим присылали прялки и тем, кто не покидал королевства, угрожали, что их сочтут за третье сословие, когда дворянство вернется с победой. В австрийских Нидерландах и пограничных курфюршествах устроилась так называемая внешняя Франция. С помощью и покровительством иностранных дворов в Брюсселе, в Вормсе и Кобленце открыто готовились к контрреволюции. Здесь принимали послов от эмигрантов, тогда как посланники французского народа или вовсе не принимались, или были принимаемы неблагосклонно; случалось даже, что их, как, например, Дюверье, лишали свободы. Французские путешественники и купцы, подозреваемые в патриотизме и сочувствии революции, были в опале у Европы. Швеция, Россия, Испания и многие державы высказались совершенно открыто; последней управлял маркиз Флорида-Бланка, совершенно преданный делу эмиграции. Пруссия держала свое войско под ружьем. На альпийских и пиренейских границах был увеличен кордон испанских и сардинских войск, и Густав III Шведский собирал боевую армию.
Диссидентское духовенство прилагало все усилия, чтобы внутри страны вызвать диверсию, полезную эмигрантам. „Священники, а в особенности епископы, — говорит маркиз де Феррьер, — употребляли все средства фанатизма, чтобы вооружить сельский и городской люд против гражданского устройства духовенства“. Епископы приказывали священникам не совершать церковных треб в церквах, где служили священники, принявшие присягу, из боязни, чтобы народ не смешивал церковных обрядов и духовенства двух родов. „Кроме окружных посланий, — говорил он, — к приходским священникам в деревнях еще распространялись наказы, составленные специально для народа. В них говорилось, что не должно обращаться для совершения церковных треб к священникам, принявшим присягу, что все „втируши“, принимавшие участие хотя бы только своим присутствием в богослужении, совершают смертный грех, что венчания, совершаемые самозваными священниками, не будут считаться действительными, и обвенчавшиеся навлекут проклятие на себя и на детей своих. Не позволялось иметь никаких сношений ни с священниками, принявшими присягу, ни с отпавшими от церкви; муниципальные чиновники, вводившие в должность выборных священников, делались такими же отступниками, как они сами. Звонарям церкви и старостам предписывалось бросать свои должности в самый момент подобного введения в должность… Этими фанатическими посланиями епископы добились того, чего хотели; повсюду разгорелись религиозные волнения“.
Особенно значительными они были в Кальвадосе, Жеводоне и Вандее. Эти провинции особенно плохо поддавались революционному влиянию, потому что там средний просвещенный класс был немногочисленным, а народ издавна находился в руках духовенства и дворянства. Испуганные жирондисты решили принять строгие меры против эмиграции и диссидентских священников, нападавших на существующий порядок. Бриссо предложил остановить эмиграцию, отбросив, наконец, систему мягкости и снисходительности, с какой, говорил он, до сих пор к ней относились. Он делил эмигрантов на три категории. К первой он относил вождей эмиграции, в том числе двух братьев короля; ко второй чиновников, покидавших свою страну и свои должности и старавшихся увлечь к тому же своих товарищей; к третьей тех, кто, боясь за свою жизнь, из ненависти к революции или по другим причинам бросали отечество, но не вооружались все-таки против него. Бриссо требовал применения суровых законов против первых двух категорий и говорил, что, будучи только плохим политиком, можно отнестись не снисходительно к последней. Некоторые жирондисты хотели ограничиться более строгим надзором, другие находили, что в их распоряжении нет никакого иного средства, чтобы уничтожить дух мятежа, как изгнать подобных священников из пределов королевства. „Всякий путь к примирению, — говорил горячий Инар, — делается бесполезным; я спрашиваю, чего добились путем часто повторяемых прощений? Ваши враги только увеличивали свою смелость в зависимости от вашей снисходительности; они перестанут вредить вам, только истощивши все средства. Они должны быть или побежденными, или победителями; и надо быть слепым или лишенным всякого политического чутья, чтобы не видеть этой великой истины“.
Конституционалисты протестовали против этих мер; они не отрицали опасности, но считали подобные законы проявлением самоуправства и говорили, что выше всего надо ставить уважение к конституции и потому ограничиваться принятием предупредительных мер. Достаточно принять их против эмиграции и подождать открытия настоящего заговора мятежного духовенства; они советовали не переступать закон даже против врагов из боязни, что, раз вступив на этот путь, нельзя будет уже остановиться, и революция погибнет, как и старый порядок, благодаря своей несправедливости. Собрание, однако, считая безопасность государства делом более важным, чем точное выполнение буквы закона, понимало всю опасность колебания и, обуреваемое страстями, всегда приводящими к крутым мерам, не было остановлено этими соображениями. 30 октября оно обнародовало с общего согласия постановление относительно старшего брата короля — Людовика Станислава Ксавье. Ему было приказано на основании конституции вернуться во Францию в течение двух месяцев, в противном случае он лишался своих прав на регентство. Но когда дело коснулось закона против эмигрантов и духовенства, согласие снова нарушилось. 9 ноября Собрание декретировало, что французы, собравшиеся но ту сторону границы, подозреваются в заговоре против отечества. Если к 1 января 1792 г. они будут еще находиться в сборищах, то их сочтут заговорщиками, присудят к смерти и, после заочного осуждения, доход с их имуществ пойдет в пользу нации без нарушения, впрочем, прав их жен, детей и законных кредиторов. 29 ноября Собрание издало подобное же постановление против мятежного духовенства. Все должны были дать гражданскую присягу под страхом лишиться своего содержания и быть заподозренными в мятеже против закона. В случае вторичного отказа священники подвергались строгому надзору. Если в их приходах вспыхивал религиозный мятеж, то их отвозили в главный город департамента; если было доказано их участие в подстрекательстве к бунту, то их сажали в тюрьму.
Король утвердил постановление, касающееся его старшего брата, но наложил свое veto на два остальных. Незадолго пред этим он публично выразил порицание эмиграции и написал уехавшим принцам, призывая их вернуться в королевство. Он звал их во имя спокойствия Франции, во имя любви и послушания к нему, как их брату и королю, и в конце письма прибавлял: „Я вам буду вечно благодарен, если вы, помогая мне привести в исполнение мое непоколебимое решение, не заставите меня действовать против вас“. Эти благоразумные советы остались без результата. Людовик XVI, осуждая поведение эмигрантов, не хотел все-таки утвердить меры, принятые против них. В этом отказе его поддерживали конституционалисты и департаментские советы. И эта поддержка не была бесполезна в такое время, когда он казался причастным эмиграции в глазах народа, вызывал неудовольствие жирондистов и отделялся от Собрания. Ему следовало добиться полного единения с конституционалистами, так как он в своих письмах ссылался на конституцию и пользовался предоставленными ему правами против революционеров. Его положение могло быть упрочено, если бы он согласился искренно подчиниться первой революции и дело буржуазии сделал бы своим личным делом.
Но двор и не думал сдаваться; ожидая лучших дней, он бросался из стороны в сторону и повсюду искал поддержки. Он продолжал переговоры с Европой, против вмешательства которой ничего не имел и сам король; он интриговал вместе с министрами против народной партии и пользовался услугами фельянов, не доверяя, в сущности говоря, и им, в борьбе против жирондистов. Двор рассчитывал больше всего на пронырливость Бертрана де Мольвиля, стоявшего во главе совета короля. Этот министр учредил Французский клуб, члены которого были у него на жалованьи. Он покупал одобрение трибун Собрания, надеясь этой подделкой под революцию победить настоящую. Цель его была играть партиями и уничтожать влияние конституции, соблюдая букву закона.
Таким своим поведением двор неосторожно ослабил конституционалистов вместо того, чтобы их укрепить. Он даже помог во вред им избранию Петиона в мэры. Бескорыстие, охватившее Учредительное собрание, заставило всех, кто занимал при нем общественные должности, выйти в отставку. 8 октября Лафайет отказался от командования Национальной гвардией, а Байи от должности мэра. Конституционная партия предлагала, чтобы Байи был заменен Лафайетом, ибо должность мэра Парижа была чрезвычайно важной в политическом отношении, позволяя легко предупреждать или, наоборот, возбуждать мятеж в Париже. До сих пор эта должность занималась членами партии конституционалистов, что дало им возможность, например, подавить волнения на Марсовом поле. Конституционалисты уже потеряли главенство в Собрании и командование Национальной гвардией; теперь от них ушла и муниципальная власть. Двор отдал Петиону, кандидату жирондистов, все голоса, которыми он только располагал. „Лафайет, — говорила королева Бертрану де Мольвилю, — хочет сделаться мэром Парижа, чтобы потом стать дворцовым мэром. Петион якобинец, республиканец, но слишком глуп, чтобы быть вождем партии“. 14 ноября Петион был выбран мэром большинством шести тысяч семисот восьми голосов из десяти тысяч шестисот тридцати двух вотировавших избирателей.
Жирондисты, которым эти выборы дали значительную силу, не удовлетворились переходом власти мэра к своей партии. Франция недолго могла существовать в таком опасном и переходном положении; декреты — справедливые или несправедливые, но долженствующие служить охраной революции — были отвергнуты королем, но не заменены никакой другой правительственной мерой. Министерство проявило или полную неспособность, или злонамеренную беспечность. Жирондисты, наконец, обвинили министра иностранных дел Делессара в умалении достоинства государства и в подвергании его опасности ввиду его тона сношений с иностранными державами, а также ввиду слишком большой медлительности и полной неспособности; они не менее напали и на военного министра дю Портайя и морского, Бертрана де Мольвиля, как на не приведших ни берегов, ни границ в оборонительное положение. Особенно глубокую народную ненависть возбуждали курфюрсты Трирский, Майнцский и епископ Шпейерский, которые благосклонно относились к военным сборищам эмигрантов. Дипломатический комитет предложил собранию объявить королю, что нация будет удовлетворена, если он потребует от пограничных государей рассеяния в продолжение трех недель сборищ эмигрантов и если соберет необходимые военные силы, чтобы заставить уважать международное право. Такой важной мерой жирондисты хотели заставить Людовика XVI взять на себя торжественное обязательство и показать Ратисбонскому сейму и другим европейским дворам твердую решимость Франции.
Инар поддерживал этот проект с трибун. „Поднимемся, — сказал он, — на высоту нашего призвания, будем говорить с министром, с королем и со всей Европой с нам подобающей твердостью. Скажем министрам, что нация не совсем-то была довольна поведением каждого из них, что они должны выбрать между общественной благодарностью и законным наказанием и что под словом ответственность мы подразумеваем смерть. Скажем королю, что его собственная выгода требует охраны конституции, что он царствует только благодаря народу и для народа, что нация его господин и что он подданный закона Скажем Европе, что французский народ, раз вынувши меч, бросает ножны и будет искать их только покрытый лаврами победы; что если министры вовлекут государей в войну против народа, мы завлечем все народы в смертельную войну против государей. Скажем, что все войны, происходившие по приказанию деспотов…“ Тут его прервали аплодисментами, и он воскликнул: „Не аплодируйте, не аплодируйте, уважайте мой энтузиазм, ибо это энтузиазм свободы. Итак, скажем Европе, что все войны, ведшиеся, по приказанию деспотов, между народами, походили на удары, наносимые в темноте друг другу друзьями по наущению подстрекателя. Как только появится дневной свет, они бросят свое оружие, обнимутся и покарают предателя. Точно так же, если в то время, когда армии врагов будут сражаться с нами, свет философии ударит нам в глаза, народы обнимутся перед лицом низвергнутых тиранов, и да утешится земля и да возвеселится небо!“
Собрание единодушно и восторженно приняло предложенную меру и послало 29 ноября депутацию к королю. Воблан был во главе этой депутации. „Государь, — сказал он Людовику XVI, — едва Национальное собрание бросило взгляд на положение государства, как заметило, что источник мятежа, до сих пор его волнующий, надо искать в преступных приготовлениях французских эмигрантов. Их смелость поддерживается германскими государями, нарушающими свой договор с Францией и совершенно забывшими, что они обязаны нам Вестфальским миром, обеспечивающим их права и безопасность. Враждебные приготовления, эти угрозы ворваться во Францию требуют усиленного у нас вооружения, поглощающего громадные суммы денег, которые нация предписала бы вручить своим кредиторам.
От Вас, Ваше Величество, зависит прекратить такое течение дел. Вы должны заговорить с иностранными державами, как подобает королю французов. Скажите им, что везде, где устраивается что-либо против Франции, она может видеть только врагов своих. Мы свято сохраним клятву не делать никаких завоеваний, мы предлагаем доброе соседство, неизменную дружбу свободного, могущественного народа, мы будем уважать их законы, обычаи, права, но мы желаем, чтобы и они так же относились к нам. Скажите им, наконец, что если германские государи будут поддерживать их враждебные планы против французов, мы принесем к ним не меч и пожары, а свободу!“
Людовик XVI ответил, что он серьезно рассмотрит предложения Собрания, и через несколько дней лично приехал объявить свое решение. Оно было согласно с общим желанием. Король объявил среди рукоплесканий свое намерение дать знать курфюрсту Трирскому и другим, что если до 15 января в их владениях не будут рассеяны сборища эмигрантов и прекращены их враждебные приготовления, то он будет видеть в них своих врагов. Он прибавил, что напишет императору, чтобы он, как глава Германского союза, употребил свою власть для устранения несчастий, к которым могло повести дальнейшее упрямство его членов. „Если эти ноты не будут приняты во внимание, то, господа, — прибавил король, — мне останется только объявить войну, которую не может начать напрасно торжественно отказавшийся от завоеваний, но которую великодушная и свободная нация предпримет сообразно указанию своей чести и безопасности“.
Переговоры короля с имперскими князьями поддерживались военными приготовлениями. Шестого декабря новый военный министр Нарбонн заменил Портайля. Нарбонн, выбранный из фельянов, молодой, деятельный, честолюбивый, желавший отличиться торжеством своей партии и охраной революции, сейчас же уехал к границам. Был объявлен набор в полтораста тысяч человек. Собрание вотировало для этой цели двадцать миллионов на чрезвычайные расходы, были образованы три армии под командой Рошамбо, Люкнера и Лафайета, брат короля принц д'Артуа и принц Конде были обвинены в покушении и заговоре против общественной безопасности, государства и конституции. Имущества их были взяты в казну, и так как срок, назначенный брату короля для возвращения во Францию, истек, то он потерял свое право на регентство.
Курфюрст Трирский обязался разогнать сборища эмигрантов и больше не допускать их. Однако все ограничилось призраком роспуска эмигрантского войска; Австрия дала приказ маршалу Бендеру защищать курфюрста в случае нападения и подписала постановления Ратисбонского сейма. Сейм требовал восстановления владетельных князей в их правах; он не желал, чтобы их вознаграждали деньгами за потерю права, и предложил Франции выбрать между восстановлением феодализма в Эльзасе и войной. Эти оба поступка венского кабинета были не очень мирного характера; австрийские войска были двинуты к нашим границам, и это ясно показывало, что не следует доверять кажущемуся бездействию Австрии. В Голландии находилось пятьдесят тысяч австрийских войск, шесть тысяч были в Бреслау да еще тридцать тысяч двигалось из Богемии. Эта наблюдающая армия могла в каждый момент стать наступательной.
Собрание почувствовало необходимость заставить императора на что-нибудь решиться. Оно считало курфюрстов только подставными лицами, так как князь Кауниц считал законным союз государей, соединившихся для безопасности и чести своих корон. Жирондисты решили лучше упредить этого опасного соперника, чтобы не дать ему время еще лучше подготовиться; они потребовали, чтобы они до 10 февраля ясно и определенно объяснили свои настоящие намерения относительно Франции. В то же время они напали на министров, ненадежных в случае войны. Неспособность Делессара и происки Бертрана де Мольвиля особенно давали им повод к нападению. Только одного Нарбонна они щадили. Они поддерживали разногласия в совете короля, члены которого были наполовину, как Бертран де Мольвиль и Делессар, враждебными революции, а наполовину конституционными, как Нарбонн и министр внутренних дел Кайе де Жервиль. Людям, несходным ни в намерениях, ни в средствах, невозможно было понимать друг друга. Бертран де Мольвиль вел распри с Нарбонном, предпочитавшим видеть поведение своих товарищей более открытым и решительным и желавшим добиться для трона поддержки Собрания. Нарбонн пал в этой борьбе, и это повело за собой распадение министерства. Жирондисты обвинили Бертрана де Мольвиля и Делессара: первый успел ловко оправдаться, а другой должен был предстать перед верховным орлеанским судом.
Король, обеспокоенный этим нападением Собрания на членов своего совета и особенно боясь за преданного суду Делессара, не видел другого выхода, как выбрать министров из среды победившей партии. Только союз с тогдашними вождями революции мог спасти свободу и трон. Он восстановил бы согласие между королевской властью, Собранием и городским управлением. Если бы это министерство удержалось в силе, жирондисты с помощью двора сделали бы то, что после разрыва с ним они считали возможным сделать только без него. Членами нового министерства были назначены: морским министром — Лакост, финансов — де Клавьер, юстиции — Дюрантон, военным — де Грав, вскоре замененный Серваном, иностранных дел — Дюмурье и внутренних дел — Ролан. Двое последних были наиболее влиятельными и замечательными людьми в Совете.
Когда началась революция, Дюмурье было 47 лет; всю свою жизнь он провел в интригах и слишком хорошо помнил об этом в эпоху, когда легкие средства смогли употребляться только в помощь великим, но не заменять их. В первую половину своей политической деятельности он искал возможности выдвинуться, а во вторую — удержаться на месте. Придворный до 1789 г., конституционалист при первом Собрании, жирондист при втором, якобинец при республике, он менялся, сообразуясь с обстоятельствами. Но он имел все качества даровитого человека, предприимчивый характер, неутомимую деятельность, широту взглядов, пылкость в действиях и необыкновенную уверенность в успехе. Кроме того, он был откровенен, легкомыслен, остроумен и дерзок, одинаково пригоден и к ведению военных действий, и к осторожному выжиданию, находчив, тактичен; он умел покориться всяким обстоятельствам с тем, чтобы при первой возможности изменить их в свою пользу. Все эти высокие качества, правда, ослаблялись его недостатками: он был легкомыслен, опрометчив, крайне непостоянен и в поступках, и в помыслах — и все это вследствие какой-то органической потребности в интригах. Наибольшим недостатком Дюмурье было отсутствие политических убеждений. Во время революции, не принадлежа ни к какой партии, нельзя ничего сделать ни для свободы, ни для власти, — одного честолюбия здесь слишком мало, надо смотреть не на ближайшую цель, а на далекое будущее и надо быть страстнее своих единомышленников. Кромвель и Бонапарт это хорошо знали. Дюмурье же, служивший некогда орудием партий, думал победить их своими интригами; ему недоставало увлечения своей эпохой, а это единственно дополняет человека и подчиняет ему других.
Ролан был прямой противоположностью Дюмурье, — свобода застала его с вполне готовым характером, как будто бы сложившимся под ее влиянием. У него были красивые манеры, высокая нравственность, испытанные убеждения; он страстно любил свободу и был способен бескорыстно пожертвовать ей всей своей жизнью и погибнуть за нее без сожаления. Он был достоин того, чтобы родиться во время республики, но он не годился для революции, так как не умел найтись во время смуты и борьбы партий. Его способности не были блестящими, характер его был несколько узок, он не умел ни узнавать людей, ни держать их в руках; если бы не его жена, он никогда бы не выдвинулся, несмотря на то, что был трудолюбив, развит и деятелен. Все, чего ему не хватало, в изобилии находилось в ней: она обладала силой, ловкостью, благородством, предусмотрительностью. Мадам Ролан была душой Жиронды, вокруг нее собрались все выдающиеся и смелые люди партии для беседы об опасностях и нуждах родины, она возбуждала к деятельности способных, отправляла на трибуны красноречивых.
Двор назвал это составленное в марте министерство министерством санкюлотов. В первый раз, когда Ролан появился во дворце (против правил этикета) в сапогах с завязками и круглой шляпе, церемониймейстер отказался его принять. Принужденный все-таки впустить Ролана, он обратился к Дюмурье и сказал: „Милостивый государь, на его башмаках нет пряжек“. „Все погибло“, — отвечал хладнокровно Дюмурье. Вот чем занимались еще при дворе. Первым шагом министерства была война. Положение Франции становилось все более опасным, все заставляло бояться враждебных действий Европы. Леопольд Австрийский умер, и это обстоятельство способно было ускорить решение венского кабинета. Его молодой преемник, Франц II, мог быть менее миролюбивым и благоразумным. Австрия собирала свои войска, намечала лагеря, назначала генералов. Она вторглась в пределы Базеля и поставила гарнизон в Порантрюи, чтобы обеспечить себе доступ в департамент Дуб. Нечего было больше сомневаться в ее планах. Сборища эмигрантов в Кобленце возобновились еще при большем многолюдстве, венский кабинет только на время рассеял эмигрантов, собравшихся опять в бельгийских провинциях, чтобы предупредить вторжение французов в эту страну, еще не готовую дать им отпор; он только старался сохранить внешние приличия, а сам в то же время позволил учредить в Брюсселе настоящий генеральный штаб эмигрантов, обладавший даже особой формой и белой кокардой. Наконец, и ответы князя Кауница на потребованные объяснения были совершенно неудовлетворительны. Вскоре он прямо-таки вовсе отказался вести переговоры, и барону Кобенцелю было приказано сказать, что Австрия не откажется от своих ранее предъявленных требований: восстановление монархии на основаниях королевского заседания 23 июля и возвращения духовенству его имуществ, германским принцам — земель Эльзаса со всеми их правами, а папе — Авиньона и графства Венсен. Всякое соглашение стало невозможным, нечего было рассчитывать на сохранение мира. Франции угрожала судьба, незадолго перед тем испытанная Голландией, или даже участь Польши. Весь вопрос заключался в том, ждать ли объявления войны неприятелем, или первым начать ее, использовать ли энтузиазм народа, или дать ему охладиться. Настоящий виновник войны не тот, кто ее объявляет, а тот, кто делает ее неизбежной.
20 апреля Людовик XVI появился в Собрании, окруженный своими министрами. „Господа, — сказал он, — я пришел в Национальное собрание по поводу крайне серьезных дел, требующих полного внимания народных представителей. Министр иностранных дел прочтет вам доклад о нашем политическом положении, составленный им для Совета министров“. Дюмурье отвечал королю; он перечислил все обиды, полученные Францией от Австрии: цель конференций в Мантуе, Рейхенбахе и Пильнице; союз, устроенный Австрией против Французской революции; он указал на ее усиленное вооружение, на открытое покровительство эмигрантам, на повелительный тон, на подчеркнутую медленность переговоров и, наконец, на нетерпимые условия ее ультиматума. После целого ряда соображений, мотивированных враждебным поведением короля Венгрии и Богемии (король Франц II еще не был выбран императором), чрезвычайными условиями, в которых находилась нация, ясно выраженным ею мнением не терпеть дольше никаких оскорблений, никаких нарушений ее прав, честью и добросовестностью Людовика XVI, хранителя достоинства и безопасности Франции, — Дюмурье закончил свою речь указанием на полную неизбежность войны с Австрией.
После Дюмурье Людовик XVI сказал вторую речь. „Господа, — произнес он взволнованным голосом, — вам теперь известны результаты переговоров, веденных мной с венским двором. Единодушное мнение всех членов моего совета составляет заключение этого доклада. Я сам его разделяю. Он составлен, имея в виду пожелание, неоднократно выраженное в Национальном собрании, и в согласии с чувствами, заявленными мне множеством граждан с разных сторон королевства; все предпочитают войну дальнейшему оскорблению французского народа и постоянно угрожающей нации опасности. Я должен был предварительно употребить все средства для сохранения мира. Сегодня я предлагаю Национальному собранию, на основании конституции, объявить войну королю Венгрии и Богемии“. На речь короля некоторые депутаты ответили аплодисментами, но большинство осталось в молчании, подавленное волнением минуты и важностью принимаемого решения. После отъезда короля Собрание назначило на этот вечер чрезвычайное заседание, где единогласно было решено начать войну. Таким образом, началась война с одной из главных союзных держав; она продолжалась четверть века, укрепила победоносную революцию и изменила карту Европу.
Вся Франция с радостью приняла известие о войне. Война дала новый толчок и без того волновавшемуся народу. Округа, муниципалитеты, народные общества писали адреса, ставили рекрутов, присылали добровольные пожертвования, ковали пики; вся нация, казалось, поднялась, ожидая нападения Европы или желая сама напасть на нее. Но энтузиазм, ведущий часто в конце концов к победе, не может заменить организацию войска. При начале войны, пока рекруты еще не обучены, можно было рассчитывать только на постоянные войска. Вот каково было положение французских сил: обширная граница между Дюнкерком и Базелем была занята тремя большими корпусами. Налево от Дюнкерка до Филипвиля находилась Северная армия, численностью около сорока тысяч пехоты и восьми тысяч конницы, под начальством маршала Рошамбо. Лафайет командовал Центральной армией в сорок пять тысяч пехоты и семь тысяч кавалерии, расположенной от Филипвиля до линии Вайсембурга Наконец, Рейнская армия из тридцати пяти тысяч пехоты и восьми тысяч кавалерии, под начальством маршала Люкнера, занимала место от линии Вайсенбурга до Базеля. Охрана пиренейской и альпийской границ была доверена генералу Монтескью; армия его была немногочисленна, но с этой стороны Франции бояться было нечего.
Маршал Рошамбо предполагал оставаться в оборонительном положении и защищать границы. Дюмурье, напротив, желал первым начать военные действия, чтобы использовать свою готовность к войне. Он был очень предприимчив и хотя и был министром иностранных дел, но руководил войной; план его был принят. План заключался в быстром вторжении в Бельгию. В 1790 г. эта провинция пыталась сбросить с себя австрийское иго, чего и добилась на некоторое время, но потом была снова покорена превосходными силами. Дюмурье предполагал, что брабантские патриоты облегчат вторжение французов, видя в нем средство для своего освобождения, С этой целью он придумал вторжение в трех пунктах. Два генерала, Теобальд Диллон и Бирон, командовавшие под общим начальством Рошамбо войсками во Фландрии, получили приказание двинуться один с четырьмя тысячами человек из Лилля в Турне, другой с десятью тысячами из Валансьена в Монс. В то же время Лафайет с частью своей армии выступил из Меца и направился ускоренным маршем в Намюр через Стене, Седан, Мезьер и Живе. Этот план для своего выполнения требовал привычных солдат, которых почти тогда не было, и полного согласия военачальников, достигнуть которого было почти невозможно. К тому же наступавшие войска были недостаточно сильны для такого предприятия. Едва только Теобальд Диллон, 28 апреля перейдя границу, встретил врага, как панический ужас овладел войском. Из рядов стали кричать „Спасайся, кто может“, и, увлеченный в бегство своими солдатами, Диллон был убит ими. То же самое и при тех же обстоятельствах произошло в корпусе Бирона, и он вынужден был отступить в беспорядке на свои старые позиции. Это внезапное и общее для обеих колонн бегство надо отнести или к страху перед врагом солдат, никогда не видавших боевого огня, или к недоверию к полководцам, или, наконец, к злонамеренным людям, кричавшим о предательстве.
Лафайет, сделав в несколько дней пятьдесят лье по дурным дорогам, прибыл в Бувьен и узнал там о неудаче в Лилле и Валансьене. Он убедился, что вторжение не удалось, и правильно решил, что не останется ничего лучшего, как отступить. Рошамбо жаловался на опрометчивость и неудобство мер, предписанных ему самым решительным образом. Не желая плясать под дудку министров и быть пассивным орудием в деле, которым он должен был бы сам руководить, он подал в отставку. С этого момента французская армия встала в оборонительное положение. Защита границ была разделена между двумя корпусами, из которых один, доверенный Лафайету, растянулся от моря до Лонгви, а другой, под начальством Люкнера, от Мозеля до Юры. Лафайет отдал левое крыло своей армии под начальство Артура Диллона, а правое его крыло прикасалось к армии Люкнера, помощником которого на Рейне был Бирон. В таком положении французы ожидали появления союзников.
Первые неудачи увеличили несогласие между фельянами и жирондистами. Генералы относили неудачи к плану Дюмурье, министры — к тому, как этот план выполнялся генералами, назначенными еще при Нарбонне и принадлежавшими к партии конституционалистов. Якобинцы обвиняли контрреволюционеров в том, что они были причиной бегства своими криками „Спасайся, кто может“. Нескрываемая ими радость, их надежда на скорое вступление союзников в Париж, на возвращение эмигрантов, на восстановление старого режима усиливала подозрение якобинцев. Подозревали, что двор, увеличивший королевскую стражу с тысячи восьмисот человек до шести тысяч и набравший ее исключительно из противников революции, был в согласии с коалицией. Говорили о тайном совете, под названием австрийского, но существование его доказать не могли. Недоверие дошло до наивысшей степени.
Собрание приняло тотчас же меры, отвечавшие духу партии: оно перешло на поприще войны, и жирондистам пришлось согласовать свое поведение значительно менее со справедливостью, чем с общественной безопасностью. Собрание объявило свои заседания непрерывными и распустило наемную стражу короля. Постоянно возобновляемые смуты духовенства заставили Собрание издать декрет об изгнании мятежных священников из страны. Все это было сделано, чтобы в одно и то же время не иметь на руках усмирения внутреннего врага и борьбы с коалицией. Чтобы загладить последние поражения и иметь на границе запасную армию, Собрание приняло 8 июня предложение военного министра Сервана устроить под Парижем лагерь из 20 000 человек, собранных из департаментов. В то же время оно старалось поднять дух народа революционными праздниками и начало вооружать толпу пиками, находя такую помощь небесполезной в опасности.
Все эти меры были приняты не без протеста конституционной партии. Она противилась устройству лагеря под Парижем в двадцать тысяч человек, считая его войском партии, призванным против Национальной гвардии и трона. Штаб Национальной гвардии протестовал, а потому состав его был изменен в угоду господствующей партии. В состав новой гвардии были введены роты, вооруженные пиками. Конституционалисты были еще более недовольны этой мерой, вводившей низший класс в их ряды; она, казалось им, была принята с целью заменить буржуазию чернью. Наконец, конституционалисты открыто осуждали изгнание духовенства как карательную меру.
С некоторых пор Людовик XVI сделался холоднее к своим министрам, ставшим, в свою очередь, к нему более требовательными. Они требовали, чтобы он допустил к своей особе присягнувших священников, показав таким образом свое одобрение гражданскому устройству духовенства и удалив этим предлог для смут. Король настойчиво отказался, решив не делать больше никаких уступок в деле религии. Последние декреты окончательно порвали его связь с жирондистами; несколько дней он ничего не говорил о них и никому не давал узнать своих мнений на этот счет. В это время Ролан написал ему свое знаменитое письмо об его конституционных обязанностях, письмо, в котором он умолял монарха сделаться искренно королем революции и этим успокоить умы и упрочить свою власть. Это письмо окончательно рассердило короля, решившего еще раньше порвать с жирондистами. В этом намерении его поддерживал Дюмурье, покинувший свою партию и образовавший с Дюрантоном и Лакостом партию, враждебную Ролану, Сервану и Клавьеру. Дюмурье, как ловкий честолюбец, советовал Людовику XVI отставить министров, которыми он был недоволен, но в то же время утвердить ради популярности декреты. Дюмурье выставил ему декрет против духовенства, как выгодный для их безопасности. Изгнание обеспечивало их от более жестоких карательных мер. Он предлагал предотвратить революционные последствия от устройства двадцатитысячного лагеря, отправляя батальоны, по мере их прибытия, в действующую армию. На этих условиях Дюмурье согласился взять портфель военного министра и выдержать натиск своей собственной партии. Но Людовик XVI, приняв отставку министров 13 июня, не утвердил декретов. Дюмурье уехал в армию, потеряв всякое уважение своей партии. Собрание постановило объявить Ролану, Сервану и Клавьеру чувство сожаления от имени нации по поводу их отставки.
Король выбрал новых министров из партии фельянов: Сипьон Шамбона стал министром иностранных дел, Терье-Монтей — внутренних, Больё — финансов, Лажар — министром военным; Лакост и Дюрантон остались во главе министерств юстиции и морского. Все эти люди не обладали ни именем, ни влиянием, и сама их партия приближалась к концу своего существования. Конституционное положение, при котором она могла господствовать, все более и более изменялось в революционное. Каким образом партия законности и умеренности могла удержаться между двумя крайними и воинственными партиями, из коих одна приближалась извне для уничтожения революции, а другая во что бы то ни стало решила ее защитить! Фельяны были лишними при таком положении вещей. Король, чувствуя их слабость, надеялся в то время только на Европу, и Мале-Дюпан был послан к коалиции с секретным поручением.
Между тем все те, которых опередила народная волна и которые принадлежали по своим убеждениям к началу революции, соединились для усиления этого слабого отсталого направления. Монархисты, во главе которых стояли Лалли-Толендаль и Малуэ, некогда бывшие главными членами партии Неккера и Мунье, фельяны, управляемые прежним триумвиратом Дюпора, Ламета и Барнава, и, наконец, Лафайет, имевший громкую конституционную репутацию, старались обуздать клубы и укрепить законный порядок и королевскую власть. Якобинцы много волновались в это время, их влияние делалось огромным, они были во главе партии народа. Чтобы их обуздать, надо было им противопоставить прежнюю партию буржуазии; но эта партия была расстроена, и ее могущество падало с каждым днем. Чтобы поддержать ее, Лафайет написал 16 июля из лагеря в Мобеже письмо Собранию, в котором он доносил на партию якобинцев; он требовал уничтожения господства клубов, независимости и утверждения конституционной монархии и убеждал Собрание от своего имени, от лица войска и во имя всех друзей свободы употреблять для защиты общественной безопасности только законом определенные средства. Это смелое письмо возбудило горячие разногласия между правой и левой сторонами Собрания. Несмотря на чистые и бескорыстные побуждения, это письмо со стороны молодого генерала, стоявшего во главе целой армии, показалось поступком, достойным Кромвеля, и с этого времени репутация Лафайета, которую до сих пор щадили его враги, подверглась нападкам. Если говорить о его поступке с точки зрения политики, он был только неосторожен. Жирондистов, удаленных из министерства, остановленных в своих мероприятиях ради общественной безопасности, незачем было еще дольше возбуждать; тем более не следовало Лафайету, в интересах своей партии, тратить понапрасну свое влияние.
Жиронда решилась ради своей безопасности и безопасности революции завоевать обратно свое влияние, не выходя, однако, из дозволенных конституцией средств. Ее целью не было низвержение короля, как это стало впоследствии, а она только хотела вернуть его в свою среду. Для этого она прибегла к народному вмешательству. После объявления войны к дверям Собрания явилась вооруженная толпа, предлагая свои услуги для защиты отечества; она получила позволение продефилировать с оружием в руках через зал заседаний. Такая снисходительность была неблагоразумна и делала недействительными все законы против сборищ; но обе партии находились в исключительном положении, и каждая из них обращалась к помощи незаконных средств: двор — к Европе, Жиронда — к народу. Народ находился в сильном волнении. Коноводы предместий, в числе которых находились депутаты: Шабо, Сантерр, мясник Лежандр, Гоншон и маркиз Сен-Ирюг, подготовляли народ в продолжение многих дней к революционной демонстрации, похожей на неудавшуюся на Марсовом поле. Приближалось 20 июня, годовщина клятвы в зале для игры в мяч (Jeu de pommes). Под предлогом почтить этот памятный день гражданским праздником и посадить в честь свободы майское дерево вооруженная толпа около восьми тысяч человек вышла из предместий Сент-Антуана и Сен-Марго и двинулась к Собранию.
Прокурор-синдик Рёдерер явился донести об этом Собранию, а в это время бунтовщики приблизились к дверям зала. Ее предводители потребовали дозволения представить петицию и продефилировать через зал Собрания. Горячие споры поднялись между правой стороной, не хотевшей принять вооруженных посетителей, и левой, требовавшей, основываясь на предыдущих примерах, их допущения. Верньо объявил, что Собрание нарушает все законы, допуская в свою среду вооруженное скопище людей. Но, рассмотрев все обстоятельства, он в то же время находил, что нельзя отказать им в позволении, уже данном многим другим. Нельзя было противостоять желаниям возбужденной толпы, поддерживаемой частью депутатов. Народ уже толпился в коридорах, когда Собрание решило, что просители будут впущены. Депутация была введена. Оратор ее объяснялся угрожающим тоном; он сказал, что народ уже восстал, что он готов помочь себе сильными мерами, мерами, подразумеваемыми Декларацией прав под словами сопротивление притеснению, что несогласные с Собранием депутаты, если таковые имеются, должны покинуть землю свободы и уехать в Кобленц. Наконец, переходя к настоящей цели этой антиконституционной петиции, он прибавил: „Исполнительная власть более не находится в согласии с нами; нам не надо другого этому доказательства, кроме отставки, данной министрам-патриотам. Итак, счастье свободного народа подчинено капризу короля. Да разве король может иметь другую волю, кроме воли закона? Народ этого хочет, а его голова стоит головы коронованных деспотов. Голова народа — родословное дерево нации; перед таким крепким дубом тонкий тростник должен сгибаться! Мы жалуемся, господа, на бездействие наших войск, мы требуем, чтобы вы дознались причин его. Если бездействие происходит по воле исполнительной власти, то да будет она уничтожена!“
Собрание ответило депутации, что рассмотрит их петицию; оно напомнило им об уважении к законам и установленной власти и, наконец, разрешило им продефилировать мимо себя. Тогда вся эта толпа, состоявшая из тридцати тысяч человек, вместе с женщинами, детьми и национальными гвардейцами с пиками, с развевающимися знаменами и со значками самого революционного значения, прошла через зал, с пением знаменитого припева „Ça ira“ и криками „Да здравствует нация! Да здравствуют санкюлоты; долой veto!“ Во главе шествия шли Сантерр и маркиз Сен-Ирюг. Выйдя из Собрания, шествие направилось ко дворцу, причем податели прошения шли впереди.
Наружные двери дворца были по приказанию короля открыты; толпа ворвалась внутрь, и в то время, когда она разбивала двери топорами, Людовик XVI приказал их открыть и сам вышел к народу в сопровождении немногих приближенных. Народная волна остановилась на мгновение перед королем, но задние ряды, не сдерживаемые присутствием короля, продолжали напирать. Из предосторожности короля поставили в глубине окна. Никогда не проявлял он столько мужества, как в этот горестный день. Окруженный Национальной гвардией, сдерживавшей толпу, король, спокойный и твердый, сидел на стуле, поставленном на столе, чтобы дать ему возможность свободно дышать и быть видным толпе. Тем, кто громкими криками требовал утверждения декретов, он неизменно отвечал: „Не в такую минуту и не таким образом можно получить мое согласие“. Мужественно отказав в том, что составляло цель этого движения, он не считал возможным оттолкнуть символ, пустой для него, но в глазах народа означавший свободу, и надел красную шапку, протянутую ему на конце пики. Толпа была вполне удовлетворена этой уступкой; она разразилась аплодисментами, когда король, задыхаясь от жары и жажды, выпил стакан вина, поданный ему полупьяным рабочим. В это время Верньо, Инар и другие жирондисты прибежали на помощь королю, чтобы уговорить народ прекратить эти недостойные сцены. Собрание, незадолго перед тем окончив заседание, испуганное этим вторжением, поспешно собралось снова и послало одну за другой несколько депутаций, для защиты Людовика XVI. Наконец, пришел и запоздавший мэр Петион; он влез на стул и, осыпая упреками народ, пригласил его разойтись; народ послушался. Грубые и дерзкие бунтовщики, желавшие достигнуть утверждения декретов и возвращения министров, ушли, ничего от короля, несмотря на нанесенные ему оскорбления, не добившись.
День 20 июня восстановил общественное мнение против виновников его. Народную партию резко упрекали за этот набег на королевское жилище, за оскорбление, нанесенное Людовику XVI, за противозаконность прошения, поданного с угрозами вооруженной толпой. Народная партия видела себя принужденной занять оборонительное положение; будучи виновна в мятеже, она понесла притом полное поражение. Конституционалисты приняли тон оскорбленной господствующей партии; но это продолжалось недолго, потому что они не были поддержаны двором. Национальная гвардия предложила королю находиться на страже при его особе; герцог де Ларошфуко де Лианкур, командовавший войсками в Руане, хотел увезти короля к преданным ему войскам. Лафайет предлагал ему отвезти его в Кампьен и поставить во главе своих войск. Людовик XVI отклонил все эти предложения. Он надеялся, что агитаторы успокоятся на время после своей неудачной попытки, ждал своего избавления с помощью коалиции, деятельность которой усилилась после событий 20 июня. Он не хотел принимать услуг от конституционалистов, потому что тогда ему пришлось бы войти с ними в соглашение.
Между тем Лафайет решил сделать последнюю попытку в пользу законной монархии. Поручив другому командование армией и собрав адрес против последних событий, он уехал в Париж и 28 июня появился неожиданно в Собрании. Он требовал не столько от своего имени, сколько от имени войска наказания мятежников 20 июня и уничтожения секты якобинцев. Его поступок возбудил различные чувства в Собрании; правая сторона рукоплескала ему, но левая восстала против ее поведения. Гаде предложил рассмотреть вопрос о виновности генерала, покинувшего свою армию и предписывающего свои законы Собранию. Только остаток уважения к Лафайету помешал Собранию последовать совету Гаде; после горячих споров оно предложило Лафайету присутствовать на заседаниях в качестве почетного гостя. Тогда Лафайет обратился к Национальной гвардии, преданной ему так долго, надеясь с ее помощью закрыть клубы, рассеять якобинцев, возвратить Людовику XVI власть, данную ему законом, и упрочить конституцию. Левая партия была напугана и ждала всего от смелости и решительности своего противника на Марсовом поле. Но двор, опасаясь победы конституционалистов, сам уничтожал все планы Лафайета; тот назначил смотр гвардии, а двор, воспользовавшись своим влиянием на командиров роялистских батальонов, помешал смотру. Избранные роты гренадеров и егерей, настроенные лучше других, должны были собраться у Лафайета и отправиться от него против клубов, но собралось не более тридцати человек. Тщетно попытавшись привлечь к делу конституции и народной обороны двор и Национальную гвардию, увидав себя покинутым даже теми, для помощи которым он приехал, Лафайет возвратился к своему войску, потеряв народную любовь и влияние. Эта попытка была последним проявлением жизни конституционной партии.
Тогда Собрание, естественно, вернулось к вопросу о положении Франции, которое еще не изменилось. Чрезвычайная Комиссия двенадцати представила через посредство Пасторе мало успокоительную картину положения и раздоров партий. Жан Дебри предложил от имени той же комиссии, для успокоения чрезвычайно взволнованного народа, чтобы, в случае приближения решительного момента, собрание объявило „Отечество в опасности“ и приняло тогда меры к охранению общественной безопасности. Прения открылись этим важным предложением. Верньо нарисовал в речи, глубоко потрясшей Собрание, все опасности, которым в это время подвергалась страна. Он говорил, что все: собрания эмигрантов, союз государей, поход иностранных армий к французским границам, внутренние волнения — все делается во имя короля. Он обвинил короля, что он останавливает своими отказами порыв нации и предает, таким образом, Францию коалиции. Он ссылался на ту статью конституции, где было сказано, что если король станет во главе армии и направит ее силы против нации или открыто не воспротивится подобному предприятию, ведущемуся от его имени, он признается отрекшимся от престола. Предположив, далее, что Людовик XVI добровольно отказался от обороны отечества, Верньо прибавил: „Не вправе ли мы сказать ему в таком случае: „Король! Вы, без сомнения, вместе с тираном Лизандром думали, что истина стоит не дороже лжи и что надо людей забавлять клятвами, как маленьких детей игрушками; Вы притворялись любящим законы только для того, чтобы сохранить власть, дающую возможность презирать их; притворялись любящим конституцию, чтобы она не свергла Вас с престола, где Вам нужно было оставаться, чтобы уничтожить ее. Не думаете ли Вы обмануть нас этими лицемерными обещаниями? Не думаете ли Вы отвлечь наше внимание от наших несчастий коварством Ваших извинений? Значит ли это защищать нас — противопоставлять иностранным солдатам слабые силы, не оставлявшие даже сомнения в их поражении, и отвергать планы укрепления страны? Зачем Вы не обуздали генерала, нарушившего конституцию, и сковали мужество тех, кто ей служил? Для нашего счастья или нашей гибели конституция оставила Вам право выбора министров; для нашей славы или для позора сделала она Вас главой армии? Для того ли она дала Вам права утверждения законов, цивильный лист и другие преимущества, чтобы Вы уничтожили конституционным путем и конституцию, и королевство? Нет! Нет! Вы, не тронутый великодушием народа, весь проникнутый любовью к деспотизму, Вы теперь ничто для конституции, так Вами недостойно оскверненной, ничто для народа, которому Вы так предательски изменили!“
При теперешнем положении Жиронды она могла рассчитывать только на низвержение короля. Верньо, правда, говорил только предположительно, но вся народная партия действительно ставила в вину Людовику XVI все те планы, которые в устах Верньо были только предположением. Несколько дней спустя Бриссо высказался откровеннее: „Никогда еще не была так велика опасность, как та, что теперь угрожает стране. Отечество в опасности, и не по недостатку войск или отсутствию мужества в армии, не потому, что ее границы плохо укреплены, а средства незначительны. Нет, отечество в опасности, потому что его силы парализованы и парализованы кем же? Тем человеком, которого конституция поставила во главе, а вероломные советники сделали врагом ее. Вас пугают королями Венгрии и Пруссии, а я говорю вам, что главная сила этих королей при нашем дворе, и раньше всего надо победить ее здесь. Вам говорят, чтобы вы уничтожили мятежных священников во всем королевстве, а я говорю вам, что, поразив Тюильрийский дворец, вы тем самым поразите всех священников. Вам говорят, чтобы вы преследовали всех изменников, мятежников и заговорщиков, а я скажу вам, что они все исчезнут, если вы уничтожите совет в Тюильри, потому что он и есть тот центр, куда сходятся все нити, где сочиняются все козни, откуда исходят все подстрекательства. Нация — игрушка в руках этого совета. Вот тайна нашего положения, вот источник зла, и вот куда следует направить лечение!“
Жиронда, таким образом, приготовляла Собрание к низложению короля, но вначале оно занялось важным вопросом о грозящих отечеству опасностях. Три соединенных комитета объявили, что наступила пора принять меры к общественной безопасности, и 5 июля Собрание обнародовало торжественную формулу: „Граждане, отечество в опасности!“ Тотчас же гражданские власти встали в положение непрерывной бдительности; все граждане, способные носить оружие и уже служившие в Национальной гвардии, были призваны в действующую армию; каждый должен был объявить об имеющемся у него оружии и военных припасах: кому не могли дать ружья, тех вооружили пиками; на общественных площадях вербовали в батальоны добровольцев, подняв знамя с надписью: „Граждане, отечество в опасности!“ В Суасоне устроили лагерь; все эти необходимые меры обороны довели до высшего предела революционное исступление. Всего заметнее было оно в годовщину 14 июля, когда чувство толпы и выборных от департаментов неудержимо прорвалось. Петион в то время был кумиром толпы, и к нему были отнесены все почести празднества. Несколько дней тому назад он был отставлен от должности советом департамента за свое поведение 20 июня, но Собрание вернуло его обратно, и в день праздника братства раздавался единодушный крик „Петион или смерть!“ Несколько батальонов Национальной гвардии, как, например, де Фий-Сен-Тома, высказывали еще свою преданность ко двору. Они стали предметом подозрения и злобы народа. Между гренадерами де Фий-Сен-Тома и марсельскими добровольцами произошла схватка на Елисейских полях: несколько гренадеров было ранено. С каждым днем кризис становился все неизбежнее; партия войны не могла больше переносить конституционалистов. Нападки на Лафайета увеличились; его преследовали в журналах, на него доносили в Собрание. Наконец, открылись неприятельские действия; Клуб фельянов был закрыт; роты гренадеров и егерей Национальной гвардни, главный оплот буржуазии, были распущены; линейные войска и часть швейцарцев удалены из Парижа, и всем этим открыто было подготовлено ужасное событие 10 августа.
Поход пруссаков и знаменитый манифест герцога Брауншвейгского ускорили наступление катастрофы. Пруссия соединилась с Австрией и с германскими принцами против Франции. Эта коалиция, к которой присоединился еще туринский двор, несмотря на то, что к ней не примкнули все те державы, которые вначале предполагали участвовать в ней, все же являлась грозной силой. Смерть Густава III, долженствовавшего встать во главе нападающей армии, вывела Швецию из коалиции; замена министра Флорида-Бланка графом д'Аранда, человеком более осторожным и умеренным, помешала Испании вступить в коалицию; Россия и Англия, хотя тайно и одобряли поведение европейского союза, но не участвовали в нем открыто. После описанных нами военных событий армии больше наблюдали одна за другой, чем действовали. Между тем Лафайет заставил свою армию усвоить дисциплину и внушил ей преданность; а Дюмурье, назначенный под начальство Люкнера в лагерь при Моде, приучил порученное ему войско к военному делу мелкими стычками и ничего не значащими успехами. Таким образом, они образовали ядро хорошей армии; доверие солдат и дисциплина для отражения будущего вторжения союзников были положительно необходимы.
Герцог Брауншвейгский начальствовал над союзниками, под его начальством была неприятельская армия, состоявшая: из 70 тысяч пруссаков, 68 тысяч австрийцев, гессенцев и эмигрантов. План вторжения был следующий, герцог Брауншвейгский должен был с пруссаками перейти Рейн у Кобленца, подняться по левому берегу Мозеля, атаковать французскую границу в ее наиболее слабом месте и направиться в столицу через Лонгви, Верден и Шалон. Принц Гогенлоэ должен был действовать на его левом фланге по направлению к Тионвилю и Мецу с гессенцами и одним корпусом эмигрантов. Генерал Клерфэ с австрийцами и другим корпусом эмигрантов в то же время должен был опрокинуть Лафайета, стоявшего между Седаном и Мезьером, перейти Маас и идти к Парижу через Реймс и Суасон. Таким образом, к столице оттягивались неприятельские войска с центра и обоих флангов, с Мозеля, с Рейна и от Нидерландов. Другие корпуса, расположенные на рейнской и крайней северной границах, должны были облегчить центральное вторжение, нападая на французские войска с этих сторон.
26 июля, в то время как армия двинулась и вышла из Кобленца, герцог Брауншвейгский издал манифест от имени императора австрийского и короля прусского. Он упрекал тех, кто насильно захватил бразды правления во Франции, в нарушении правильного порядка и ниспровержении законного правительства, в ежедневно возобновляемых покушениях и преступлениях против короля и его семьи, в произвольном лишении прав собственности германских князей в Эльзасе и Лотарингии и, наконец, в том, что они переполнили всякую меру терпения, объявив Его Величеству императору войну и напав на его Нидерландские провинции. Герцог объявлял, что союзные государи идут во Францию, чтобы прекратить там анархию, пресечь нападки на трон и церковь, возвратить королю безопасность и свободу, которых его лишили, восстановить его законную власть. В соответствии с этим герцог возлагал ответственность во всех беспорядках до прибытия союзных войск на Национальную гвардию и городские власти и требовал, чтобы они вернулись к своей прежней верности королю. Он говорил, что все жители города, осмелившиеся защищаться, будут немедленно наказаны как бунтовщики по всей строгости военных законов, а их дома разрушены или сожжены; что если Париж не возвратит королю полной свободы и должного уважения, то, по решению союзных государей, члены Национального собрания, советов департамента, округа, городское управление и Национальная гвардия будут лично отвечать своими головами и будут судимы военным судом без надежды на помилование. Если будет произведено нападение на дворец или король подвергнется оскорблениям, то союзные государи отомстят за это примерным и навсегда памятным образом, предав Париж войскам на разграбление и разрушив его до основания. Герцог, наконец, обещал в случае немедленного повиновения парижан приказаниям коалиции, что союзные государи будут ходатайствовать перед Людовиком XVI о прощении всяких их вин и заблуждений.
Этот напыщенный и нетактичный манифест, не скрывавший намерений ни эмиграции, ни Европы, обращавшейся к великому народу свысока тоном приказания, возвещая ему открыто все бедствия вторжения и сверх того мщение и деспотизм, возбудил общее народное восстание. Более чем что-либо он ускорил падение монархии и помешал успеху коалиции. С одного конца Франции до другого раздавался один крик, одно желание — сопротивляться; на тех, кто не разделял этого желания, смотрели как на врагов родины и святого дела ее независимости. Народная партия, поставленная в необходимость победить, не видела иного средства, кроме устранения короля, для чего надо было объявить его лишенным престола. Но каждый в этой партии хотел добиться этой цели по-своему: жирондисты постановлением Собрания, народные вожди — восстанием, Дантон, Робеспьер, Камиль Демулен, Фабр д'Эглантин, Марат и т. п. составляли еще не сложившуюся партию, которую только революция могла вынести из народной среды в Собрание и муниципалитет. Впрочем, они были настоящими вождями готовящегося движения низших классов против среднего сословия, к которому принадлежали жирондисты по своему положению и привычкам. С этого времени начались несогласия между желавшими уничтожения двора на основании существующих законов и стремившимися осуществить это с помощью народа. Эти последние не могли терпеливо выжидать результатов медленных прений. Волнуемые всеми революционными страстями, они решились на вооруженное восстание, к которому уже давно открыто готовились.
Это предприятие было несколько раз намечено, но всякий раз отлагалось. 26 июля должно было вспыхнуть восстание, но оно было плохо задумано, и Петион остановил его. При вступлении в Париж марсельских волонтеров, идущих в Суасонский лагерь, жители предместий должны были встретить их и двинуться вместе с ними ко двору. Но это восстание тоже не удалось; однако, прибытие марсельцев ободрило заговорщиков в столице, так как они имели уже совещание в Шарантоне, с предводителями волонтеров, о низвержении трона. Городские кварталы сильно волновались; прежде всего вспыхнул мятеж в Моконселе, о чем дано было знать в Собрание; в клубах обсуждали вопрос о низложении короля, и 3 августа мэр Петион явился в Законодательное собрание с этим требованием от имени городского управления и секций. Прошение было передано в экстренную Комиссию двенадцати. 8 августа обсуждался вопрос об обвинении Лафайета. Большинство, с опасностью для себя, собрав остатки мужества, горячо защищало его; он был оправдан, но всех, подававших голос за него, при выходе из Собрания народ провожал оскорблениями и свистками.
На следующий день волнение умов было чрезвычайно; Собрание узнало, благодаря многочисленным письмам депутатов, что накануне, при выходе из Собрания, им угрожали смертью за то, что они подали голос за Лафайета. Воблан объявил, что целая толпа ворвалась в его дом и искала его. Жирарден воскликнул: „Никакие прения невозможны без полной свободы мнений. Объявляю выбравшим меня, что я не могу обсуждать дела, если Законодательный корпус не обеспечит за мной свободу и безопасность“. Воблан требует настоятельно, чтобы Собрание приняло более действенные меры для уважения закона. Он настаивает также, чтобы марсельские волонтеры, поддерживаемые жирондистами, были отправлены без замедлений в Суасон. Во время этих прений президент получил записку от министра Жоли. Тот извещал его, что зло приняло крайние размеры и народ готов на все. Он отдавал отчет о совершенных накануне насилиях, не только относительно депутатов, но и многих других лиц. „Я донес, — писал дальше министр, — об этих преступлениях в уголовный суд, но законы теперь бессильны. Честь и совесть заставляют меня объявить, что без немедленной помощи Законодательного собрания правительство перестанет считать себя ответственным“. Во время этих перипетий приходит весть, что секция Кенз-Вэн заявила, что если Собрание не объявит в этот же день об упразднении трона, то в полночь ударят в набат, соберут народ и нападут на дворец. Это решение было передано всем сорока восьми секциям, и все, за исключением одной, приняли его. Собрание потребовало прокурора-синдика департамента, который указал на полное свое желание при полном бессилии остановить восстание. Вызвали мэра, сказавшего, что если секции захватили верховную власть, то он может влиять на народ только убеждением. Собрание разошлось, не приняв никаких мер.
Мятежники назначили 10 августа днем своего нападения на дворец. 8 августа марсельцы были переведены со всем своим оружием, пушками и знаменем из своих казарм на улицу Бланш, в монастырь кордельеров. Они получили пять тысяч боевых патронов, розданных им по приказанию полицейского управления. Центром восстания было предместье Сент-Антуан. Вечером, после бурного заседания, якобинцы отправились туда, и восстание было тотчас организовано. Было решено сменить управление департамента, арестовать Петиона и, чтобы снять с него всякую ответственность, освободить его от обязанностей и заменить городское управление муниципалитетом из мятежников. Агитаторы направились сейчас же по кварталам предместий и в казармы бретонских и марсельских волонтеров.
Двор был предупрежден за несколько времени об опасности и приготовился к обороне. Может быть, он надеялся не только устоять, но даже восстановить свое прежнее значение. Внутренность дворца была занята швейцарцами в числе восьми или девяти сотен, офицерами распущенной гвардии и целой толпой дворян, приверженцев короля, явившихся вооруженными пистолетами, шпагами и саблями. Главный командир Национальной гвардии, Манда, явившись со своим штабом для защиты дворца, отдал приказ вооружиться батальонам, наиболее преданным конституции. Министры были во дворце с королем. Прокурор-синдик департамента явился туда же по приказу короля, потребовавшего к себе также и мэра Петиона, чтобы узнать о положении дел в Париже и получить его согласие отвечать силой на силу.
В полночь ударили в набат и забили в барабаны; мятежники стали собираться и выстраиваться; члены секций изгнали муниципалитет, назначив временный городской совет, отправившийся в ратушу, чтобы управлять оттуда восстанием. Со своей стороны, батальоны Национальной гвардии двинулись ко дворцу, где были помещены во дворах или при главных входах, вместе с конными жандармами; артиллеристы заняли аллеи Тюильрийского дворца своими орудиями, в то время как швейцарцы и добровольцы охраняли внутренние помещения. Оборона дворца находилась в наилучшем положении.
Тем временем несколько депутатов, разбуженных набатом, отправились в зал Законодательного собрания и открыли заседание под председательством Верньо. Узнав, что Петион находится в Тюильри, и предполагая, что он там задержан и ждет освобождения, они потребовали его в Собрание для дачи отчета о положении Парижа. По этому приказанию Петион покинул дворец и явился в Собрание, куда явилась еще другая депутация, требующая его возвращения, считая его пленником в Тюильри. Он отправился с этой депутацией в ратушу и был там новым городским управлением отдан под стражу трехсот человек. Не желая в этот день беспорядка, никакой другой власти, кроме мятежной, новое городское управление велело прийти командиру Манда, чтобы узнать от него о мерах, принятых во дворце. Манда колебался повиноваться, но, не зная еще, что муниципальная власть перешла в другие руки и имея в виду, что долг требовал повиновения, он отправился в ратушу по вторичному приглашению городского управления. Войдя и увидя новые лица, он побледнел. Его обвинили в разрешении войскам стрелять в народ. Манда задрожал. Его отправили в тюрьму аббатства, но при выходе он был убит на лестнице ратуши. Городское управление сейчас же передало начальство над Национальной гвардией Сантерру.
Со смертью Манда двор лишился своего наиболее решительного и влиятельного защитника. Присутствие Манда, добытый им приказ употребить силу по мере необходимости были нужны, чтобы заставить Национальную гвардию драться; появление дворян и роялистов ее сильно охладило. Манда перед своим уходом напрасно просил королеву удалить эту толпу, убеждения которой были подозрительны для конституционалистов.
Около четырех часов утра королева позвала к себе прокурора-синдика департамента Рёдерера, проведшего ночь в Тюильри, и спросила его, что следует предпринять в таких обстоятельствах. Рёдерер ответил, что считает необходимым, чтобы король и королевское семейство отправились в Национальное собрание. „Вы предлагаете, — сказал Дюбушаж, — отвести короля к его врагам!“ Рёдерер отвечал, что из шестисот членов Собрания 400 высказались два дня назад в пользу Лафайета и, наконец, что он предлагает эту меру как наименее опасную. Тогда королева ответила ему повелительным тоном: „Здесь есть войско, настало время узнать, кто одержит верх: король ли и конституция, или бунтовщики“. „Надо посмотреть, Ваше Величество, — сказал Рёдерер, — какие меры приняты для защиты“. Велели прийти Лашне, заменившему Манда в его отсутствие. Его спросили, принял ли он все меры, необходимые, чтобы помешать толпе прорваться во дворец, велел ли он охранять площадь Карусель. Лашне отвечал утвердительно, а затем, обратившись к королеве, он прибавил раздраженным тоном: „Я должен предупредить Ваше Величество, что королевские покои полны людей всякого рода, которые стесняют наши действия и, не допуская никого до короля, озлобляют Национальную гвардию“. „Это ничего не значит, — возразила королева. — Я отвечаю вам за всех здесь находящихся людей; они пойдут впереди, позади, в рядах, как вы пожелаете. Они готовы на все, что только может понадобиться. Это надежные люди“. Ограничились тем, что послали двух министров, Жоли и Шампьона, в Собрание, чтобы уведомить об опасности и требовать у него комиссаров и помощи.
Между защитниками дворца возник уже разлад, когда Людовик XVI в пять часов утра появился, чтобы сделать им смотр. Он обошел сперва внутренние посты и нашел их одушевленными лучшими намерениями. Его сопровождало несколько членов его семьи, и он казался чрезвычайно грустным. „Я не отделяю, — сказал он, — мое дело от дела хороших граждан, мы или спасемся, или погибнем вместе“. Потом он спустился во двор, в сопровождении нескольких генералов. Едва король появился, забили поход, и раздался крик: „Да здравствует король!“, повторенный Национальной гвардией. Но артиллеристы и батальон Круа-Руж ответили криком: „Да здравствует нация!“ В это время прибыли новые батальоны, вооруженные ружьями и пиками, и, дефилируя перед королем, чтобы занять свое место на сенекой террасе, кричали: „Да здравствует нация, да здравствует Петион!“ Король продолжал смотр, огорченный этим предзнаменованием. Он был встречен с выражением величайшей преданности батальонами Фий-Сен-Тома и Пти-Пер, занимавшими террасу вдоль дворца. В то время, как король проходил по саду, чтобы осмотреть пост Пон-Турнана (подъемного моста), батальоны, вооруженные пиками, преследовали короля криком: „Долой veto, долой изменника!“ Когда король вернулся, они сошли со своего прежнего места и поместились около Королевского моста, повернув свои орудия против дворца. Два других батальона, стоявшие во дворах, последовали их примеру и, расположившись на площади Карусель, казалось, были готовы перейти в наступление. Король вернулся домой бледный, унылый. Королева сказала: „Все потеряно! Этот смотр принес больше вреда, чем пользы“.
Между тем, как все это происходило в Тюильри, инсургенты подступали несколькими колоннами. Они употребили целую ночь на то, чтобы собраться и организоваться; поутру они ворвались в арсенал и поделили между собой находящееся там оружие. Колонна Сент-Антуанского предместья, численностью около пятнадцати тысяч человек, и колонна Сен-Марсо, в пять тысяч человек, двинулись в 6 часов утра. По дороге к ним присоединялось все больше и больше народа. Директория департамента поставила на Новом мосту пушки, чтобы помешать соединению мятежников, шедших с двух сторон реки, но прокурор городского управления, Манюэль, отдал приказ увезти с этой позиции пушки, и проход по мосту стал свободным. Авангард предместий, состоящий из марсельских и бретонских волонтеров, уже выступил с улицы Сент-Оноре и расположился в боевом порядке на площади Карусель, направив свои пушки на дворец. Жоли и Шампьон вернулись из Собрания и объявили, что заседание его не может состояться из-за недостаточного количества членов; их было не больше шестидесяти или восьмидесяти человек, и они не пожелали выслушать этих министров. Тогда прокурор-синдик департамента, Рёдерер, вместе с членами департаментского совета появился перед мятежниками и сказал им, что такая толпа не может иметь доступа ни к королю, ни в Национальное собрание. Он предложил выбрать двадцать депутатов и поручить им выразить требование народа. Но его не стали слушать. Тогда Рёдерер обратился к Национальной гвардии, напомнив статью закона, предписывающую ей, в случае нападения, отвечать силой на силу. Но только небольшая часть Национальной гвардии была расположена последовать его словам, а артиллеристы, вместо ответа, разрядили свои орудия. Рёдерер, видя, что инсургенты торжествуют повсюду, что они господствуют в городском управлении и располагают по своему желанию толпой и даже войском, поторопился вернуться во дворец, чтобы стать во главе исполнительной власти.
Король собрал совет из королевы и министров. В это время один из членов муниципалитета встревожил всех, заявив, что колонны мятежников приближаются ко дворцу. „Что же они хотят?“ — спросил хранитель печати Жоли. „Свержения короля с престола“, — отвечал член муниципалитета. „Пусть собрание выскажется по этому поводу“, — заявил тогда министр. „Что же будет после этого свержения?“ — спросила королева. Член муниципалитета поклонился, ничего не отвечая. В эту минуту вошел Рёдерер и еще более увеличил смятение двора, объявив, что опасность чрезвычайна, что мятежники не желают вести переговоров и что Национальная гвардия ненадежна. „Ваше Величество, — сказал он, — Вам нельзя терять ни минуты, Вы будете в безопасности только в Национальном собрании; по мнению департамента, Вам необходимо немедленно отправиться туда; во дворах дворца у Вас слишком мало людей для защиты его, да и на тех вполне положиться нельзя; артиллеристы только при одном предложении защищать короля разрядили свои орудия“. Король отвечал сначала, что он видел, что на площади Карусель народу немного, а королева с живостью прибавила, что у короля достаточно средств, чтобы защищать дворец. Но после новых настояний Рёдерера король, пристально поглядев на него в течение нескольких секунд, сказал королеве, вставая: „Идем!“ Принцесса Елизавета, видя это, спросила прокурора-синдика: „Господин Рёдерер, отвечаете ли вы за жизнь короля?“ — „Да, принцесса, — отвечал он, — я отвечаю своей собственной жизнью, и я пойду впереди короля“.
Людовик XVI вышел из своей комнаты вместе с семьей, министрами, членами департамента и объявил всем, пришедшим защищать его, что он направляется в Национальное собрание. Он поместился между двух рядов Национальной гвардии, назначенной служить ему конвоем, прошел через все покои и Тюильрийский сад. Собрание, предупрежденное о прибытии короля, выслало ему навстречу депутацию. „Ваше Величество, — сказал ему глава депутации, — Собрание, спеша содействовать Вашей безопасности, предлагает Вам и Вашему семейству убежище в своей среде“. Шествие двинулось и с большим трудом пересекло террасу фельянов, занятую взволнованной толпой, произносившей ругательства и угрозы. Король с семьей достиг с большим трудом зала Собрания, где они расположились на скамьях министров. „Господа, — сказал король, — я явился к вам во избежание страшного преступления; я надеюсь, что нигде не буду в такой безопасности, как среди вас“. — „Ваше Величество, — отвечал Верньо, занимавший председательское место, — Вы можете рассчитывать на твердость Национального собрания; его члены поклялись умереть, защищая права народа и конституционную власть“. Король занял тогда место рядом с президентским. Но Шабо напомнил, что Собрание не может совещаться в присутствии короля, и Людовик XVI, вместе со своими, перешел в помещение Логографа[33], находившееся позади места президента, откуда можно было все видеть и слышать.
Со времени ухода короля из дворца всякий повод к сопротивлению исчез, к тому же с уходом Национальной гвардии, конвоировавшей короля, уменьшились и средства к защите. Жандармы покинули свой пост с криками: „Да здравствует нация!“ Национальная гвардия склонялась на сторону осаждающих. Враги стояли, однако, лицом к лицу, и хотя причины для боя более не существовало, он все-таки начался. Толпа мятежников окружила дворец, марсельцы и бретонцы, стоявшие впереди, выломали дворцовые ворота, выходившие на площадь Карусель, и ворвались на дворцовый двор. Во главе их был унтер-офицер по фамилии Вестерман, друг Дантона, человек весьма решительный. Он выстроил солдат в боевой порядок и приблизился к артиллеристам; артиллеристы по его приглашению присоединились вместе со своими орудиями к марсельцам. Швейцарцы стояли неподвижно на окнах дворца; обе стороны некоторое время смотрели друг на друга, не предпринимая нападения. Кое-кто из осаждавших подошли даже к швейцарцам, чтобы побрататься с ними, и швейцарцы бросали в знак мира в окна свои патроны. Нападающие между тем вошли в сени дворца, где находились другие его защитники. Только решетка разделяла их. Тут-то и началась битва, хотя никто не знал, с чьей стороны было произведено первое нападение. Швейцарцы открыли убийственный огонь против мятежников и рассеяли их. Площадь Карусель была быстро очищена. Вскоре, однако, марсельцы и бретонцы вернулись с подкреплением, швейцарцев стали расстреливать пушками, и дворец был взят. Швейцарцы держались до тех пор, пока не получили королевского приказания прекратить огонь. Пришедшие в ярость мятежники продолжали их преследовать; это была уже не битва, а резня. Чернь предавалась во дворце всем крайностям победы.
Между тем Собрание было в большой тревоге; первые пушечные выстрелы вызвали смятение; по мере того, как учащались залпы артиллерии, смятение все увеличивалось. Был момент, когда члены Собрания считали себя погибшими; один из членов, поспешно вбежав в зал, закричал: „По местам, законодатели, на нас нападают!“ Несколько депутатов встали, чтобы уйти. „Нет, нет, — закричали другие, — наше место здесь!“ С трибуны для публики раздался крик: „Да здравствует Национальное собрание!“ Собрание ответило криком: „Да здравствует нация!“ В это время с улицы слышался крик: „Победа, победа!“, и судьба монархии была решена.
Собрание тотчас же составило прокламацию, чтобы восстановить спокойствие и убедить народ уважать правосудие, магистратуру, права человека, свободу, равенство. Но толпа и ее предводители были всемогущи и этим хотели воспользоваться. В Собрание явился новый муниципалитет за утверждением своих полномочий. Ему предшествовали три знамени с надписями: Отечество, Свобода, Равенство. Приветствие их носило характер требования; заканчивалось оно требованием свержения короля с престола и созыва Национального конвента. Депутации следовали одна за другой, и все выражали одно и то же желание или, лучше сказать, предъявляли то же самое требование. Собрание видело себя вынужденным удовлетворить народ, однако оно не хотело взять на себя лишение короля престола. Верньо вошел на трибуну и от имени Комиссии двенадцати сказал: „Предлагаю вам весьма суровую меру, но я обращаюсь при этом к вашей горести, чтобы доказать вам, как необходимо, чтобы эта мера была принята теперь же“. Эта мера заключалась в созыве Национального конвента, в отставке министров и во временном отречении короля от его сана. Собрание единогласно приняло эту меру; в министерство были призваны опять жирондисты, и наделавшие столько шума декреты были приведены в исполнение. Было выслано за границу около четырех тысяч не присягнувших священников и в армию были посланы комиссары для обеспечения ее верности. Людовик XVI, которому Национальное собрание указало сначала для жительства Люксембургский дворец, был переведен всемогущим городским управлением под предлогом, что без этого оно не отвечает за его безопасность, узником в Тампль. Наконец, 23 сентября было назначено открытие чрезвычайного Собрания для решения участи монархии, которая фактически пала 10 августа, в день восстания черни против среднего класса и конституционной монархии, подобно тому как 14 июля было восстание среднего класса против класса привилегированного и против абсолютной королевской власти. 10 августа было началом новой диктаториальной эпохи, эпохи революционного произвола. Обстоятельства все осложнялись, завязывалась обширная война, требовавшая усиленной энергии, и эта народная, а потому и беспорядочная энергия сделала господство низших классов беспокойным и жестоким. Вопрос совершенно изменился по существу; целью стала не свобода, но общественная безопасность, и период Конвента, от падения Конституции девяносто первого года до утверждения Директорией Конституции III года, был долгой борьбой революции против партий и Европы. Да и могло ли быть иначе? „Революционное движение, раз начавшись, — говорит де Местр, — могло привести к спасению Франции и монархии только при помощи якобинизма. Наши потомки, не заботясь о наших горестях и поплясывая на наших могилах, будут смеяться над нашим теперешним невежеством; они легко утешатся в крайностях, нами пережитых, ибо благодаря им сохранилась целость прекраснейшего государства“.
Департаменты выразили сочувствие событиям десятого августа. Армия, всегда переживающая немного позже влияние революции, была еще конституционно-роялистской, но так как войска зависели от партий, то они должны были легко покориться господствующему направлению. Младшие генералы: Дюмурье, Кюстин, Бирон, Келлерман, Лабурдонне — были склонны одобрить последние перемены. Они не приняли еще ничьей стороны, но надеялись, что революция подвинет их по службе. Не то было с двумя главнокомандующими: Люкнер колебался между восстанием 10 августа, которое он назвал маленьким парижским приключением, и своим другом Лафайетом. Этот последний, глава конституционной партии, верный до конца своей присяге, хотел защищать низверженный трон и несуществующую конституцию. Под его начальством было около тридцати тысяч человек, преданных лично ему и его делу. Главная его квартира находилась близ Седана Выработав план сопротивления в пользу конституции, он сошелся с муниципалитетом этого города и управлением Арденского департамента, чтобы основать гражданский центр, к которому могли присоединиться и другие департаменты. Трое комиссаров, Керсан, Антонель и Перальди, присланные Законодательным собранием в его армию, были арестованы и посажены в Седанскую тюрьму. Поводом к этой мере было следующее соображение: „Национальное собрание было насиловано в своих поступках, и члены его, согласившиеся принять подобное поручение, могут быть только вождями или орудиями партии, насильственно поработившей Собрание и короля“. Войско и гражданские власти затем возобновили присягу конституции, и Лафайет старался расширить круг восстания в армии против восстания народного.
Может быть, в это время генерал больше заботился о прошлом, о законе, о всеобщей присяге и меньше всего о том чрезвычайном положении, в котором находилась Франция. Он видел только, что наиболее дорогие надежды друзей свободы разрушены, он видел, что власть захвачена демагогами и якобинцами. Но он не замечал печальной неизбежности положения, которое вело к торжеству этих последних пришельцев к революции. Буржуазия, достаточно сильная, чтобы уничтожить старый порядок и возвыситься над привилегированными классами, почила после этой победы и оказалась поэтому неспособной отразить эмиграцию и целую Европу. Для этого создалось новое движение, образовались новые убеждения, появился многочисленный класс людей пылких, еще не утомленных и воодушевленных десятым августа так, как буржуазия в свое время была одушевлена 14 июля. Лафайет не мог сойтись с этой новой партией; он сражался с ней во время Учредительного собрания, на Марсовом поле, до и после двадцатого июля. Он не мог ни продолжать играть свою прежнюю роль, ни защищать существование справедливой, но осужденной событиями партии, не подвергая опасности судьбу своей страны и результаты той революции, которой он был искренно предан. Его продолжительное сопротивление возбудило бы гражданскую войну между армией и народом в то самое время, когда он сам не был уверен, что соединение всех усилий окажется достаточным для ведения войны с иностранцами.
Наступило 19 августа; неприятельская армия, выступив из Кобленца 30 июля, поднималась вверх по Мозелю и подвигалась к границам Франции. Войска ввиду общей опасности были расположены подчиниться Собранию; Люкнер, вначале одобрявший Лафайета, теперь с клятвами и слезами отрекался от него перед муниципалитетом Меца, и Лафайет сам почувствовал, что приходится уступить более сильной, чем он, судьбе. Он покинул свою армию, приняв на себя ответственность всего этого восстания. Его сопровождали Бюро-де-Пюзи, Латур-Мобур, Александр Ламет и несколько офицеров его Генерального штаба. Он направился через неприятельские посты в Голландию, чтобы уехать оттуда в Соединенные Штаты, его вторую родину. Но его узнали и арестовали вместе с его спутниками. Вопреки всяким человеческим правам, с ним обошлись как с военнопленным и засадили сперва в Магдебургскую тюрьму, а потом австрийцы увезли его в Ольмюц. Английский парламент ходатайствовал в его пользу, но только Бонапарт, после Кампоформийского договора, освободил его из тюрьмы. В продолжение 4-летнего крайне суровою заключения Лафайет, подвергаясь всем лишениям, не зная о судьбе свободы и своей родины, не имея впереди ничего, кроме безнадежного положения, выказывал героическое мужество. Ему предлагали освобождение из тюрьмы ценой некоторых уступок, но он решил — лучше быть заживо погребенным в своей тюрьме, чем поступиться чем бы то ни было из того святого дела, которому он служил.
В наше время редко встречаются люди, жизнь которых была бы так же чиста, как жизнь Лафайета, мало характеров таких прекрасных, популярностей более продолжительных и более заслуженных. Лафайет защищал свободу в Америке рядом с Вашингтоном и хотел утвердить таким же путем ее и во Франции, но такая прекрасная роль во время нашей революции была невозможна. Когда народ добивается свободы без внутренних раздоров и когда у него нет других врагов, кроме иностранцев, он может найти освободителя; тут к его услугам являются такие люди, как принц Оранский — в Нидерландах, Вашингтон — в Америке; но когда свободы домогаются, несмотря на внутренние раздоры и внешних врагов, среди партий и сражений, — тут возможно появление только Кромвеля и Бонапарта; они делаются диктаторами революции среди сражений или во время бессилия партий. Лафайет, деятель первой эпохи революции, восторженно говорил о ее результатах. Он стал генералом среднего сословия и был таковым как во главе Национальной гвардии во время Учредительного собрания, так и во главе действующей армии во время Собрания законодательного. Своему возвышению он был обязан среднему сословию и пал вместе с ним. Можно о нем сказать, что если он и делал в своем положении кое-какие ошибки, все-таки целью его всегда была свобода, а руководителем закон. Тот образ действия, которому он посвятил себя еще в молодости, с целью освободить два мира, его доблестное поведение, его неизменная твердость заставят потомство отдать ему должную честь; в потомстве человек не может сохранить о себе двух мнений, как это бывает во время борьбы партий, но приобретает свою настоящую репутацию.
Творцы 10 августа все более и более расходились между собой, так как не соглашались относительно результатов, какие должна была иметь эта революция. Отважная и жестокая партия, овладевшая городским управлением, хотела при его помощи господствовать в Париже, при помощи Парижа — над Национальным собранием и при помощи последнего — над всей Францией. Добившись заключения Людовика XVI в Тампль, она приказала разбить все статуи короля, уничтожила все эмблемы монархии. Управление департамента имело в своих руках наблюдательную власть над муниципалитетом; муниципалитет ее уничтожил, чтобы сделаться совершенно независимым. Закон требовал, чтобы активный гражданин удовлетворял известным условиям; партия, находившаяся у власти, декретировала уничтожение этого закона для того, чтобы ввести чернь в управление государством. Она требовала в то же время учреждения чрезвычайного трибунала для суда над заговорщиками 10 августа. Собрание выказывало себя недостаточно послушным и старалось посредством прокламаций призвать народ к более умеренным и справедливым чувствам; оно получало поэтому из ратуши угрожающие послания. „Как гражданин, — говорил один из членов Парижской коммуны, — как ставленник народа, объявляю вам, что сегодня в полночь ударят в набат и забьют сбор. Народу надоело ожидать, пока отомстят за него, бойтесь, как бы он сам не занялся правосудием“. — „Если через три или четыре часа, — говорит другой, — не будет назначен председатель суда, если он не начнет функционировать, произойдут громадные несчастья в Париже!“ Чтобы избежать новых бедствий, Собрание было вынуждено назначить чрезвычайный уголовный суд. Этот трибунал осудил нескольких людей, но он показался Парижской коммуне слишком медленным в отправлении дел; она питала самые ужасные замыслы. Во главе его стояли Марат, Панис, Сержан, Дюплен, Ланфан, Лефорт, Журдей, Колло д'Эрбуа, Бийо-Варенн, Тальен и другие. Но главным вождем этой партии был Дантон, более чем кто другой способствовавший 10 августа. В продолжение всей этой ночи он бегал из секций в казармы марсельцев и бретонцев, а из них в парижские предместья. В качестве члена революционной Парижской коммуны он руководил всеми ее действиями и был выбран затем министром юстиции.
Дантон был исполином среди революционеров. Никакое средство не казалось ему предосудительным, лишь бы оно было для него полезным, и, по его мнению, смелость была гарантией успеха. Дантона называли Мирабо черни, и он действительно походил на этого трибуна высших классов: такие же резкие черты лица, сильный голос, порывистые манеры, смелое красноречие, повелительный вид. Пороки их были также одинаковы, но у Мирабо и они были пороками патриция, у Дантона — демократа; все, что было смелого в замыслах Мирабо, увлекало и Дантона, но в другом виде, так как он был в революции представителем другого класса и другого времени. Горячий, обремененный долгами и нуждой, распутный, отдававшийся по очереди то своим страстям, то своей партии, он был значителен в своей политике, когда стремился добиться своей цели, и делался беспечным, достигнув ее… Этот всемогущий демагог являлся как бы смешением пороков и добродетелей. Продавшись двору, он сохранил гордую смелость своих республиканских чувств даже в низости своей продажности. Он являлся истребителем людей, не будучи жестоким; он был неумолим относительно масс и человечен и великодушен к отдельным личностям{1}. В его собственных глазах революция являлась игрой, где победитель, если встречалась надобность, принимал на ставку даже жизнь побежденного. Спасение его партии стояло для него выше закона, даже выше человечности, — этим и объясняются его преступления, когда он счел республику утвердившейся.
В это время пруссаки приближались, как это уже было раньше указано, и через двадцать дней похода перешли границу. Седанская армия, не имея вождя, не была способна сопротивляться столь превосходящим ее и вдобавок прекрасно организованным силам; 20 августа пруссаки осадили Лонгви, 21-го они бомбардировали его, и 24-го Лонгви сдался. 30-го неприятельская армия появилась перед Верденом, осадила его и начала бомбардировку. Верден был взят, и дорога к столице была совершенно открыта. Взятие Лонгви и приближение громадной опасности повергли Париж в величайшее волнение и тревогу. Исполнительный совет, составленный из министров, был призван в Комитет всеобщей обороны для совещания о принятии мер, необходимых в таких опасных обстоятельствах. Одни хотели ожидать врагов под стенами столицы, другие — отступить к Сомюру. „Вам небезызвестно, — сказал Дантон, когда пришел его черед высказаться, — что вся Франция заключается в Париже; если вы покинете столицу на произвол врагов, этим вы предадите себя и Францию в их руки. Париж надо удержать всеми средствами; я не могу принять план, настаивающий на удалении отсюда. Да и второй план мне не кажется лучшим. Невозможно думать о сражении под стенами столицы: 10 августа разделило всю Францию на две партии; из них одна предана трону, а другая желает республики. Последняя — вы не должны в этом отношении заблуждаться — составляет крайнее меньшинство в государстве, а только на нее одну вы можете рассчитывать в битве. Другая откажется идти против врагов; она будет возбуждать Париж в пользу иностранцев, в то время как ваши защитники, поставленные между двух огней, будут умирать, отражая врага. И они будут побеждены, в этом я не сомневаюсь… Гибель Франции и ваша собственная будет тогда неизбежна. Если, вопреки всякому ожиданию, они вернутся победителями коалиции, — эта победа будет также поражением для вашей партии, так как она вам будет стоить смерти многих тысяч храбрецов; роялисты же, более многочисленные, чем вы, ничего во время борьбы не потеряют в своей силе и влиянии. Мое мнение таково: чтобы расстроить намерения роялистов и задержать врага, надо нагнать на роялистов ужас!“ Комитет, поняв тайный смысл этих ужасных слов, пришел в ужас. „Да, говорю я вам, — снова начал Дантон, — надо нагнать на них ужас!“ Комитет своим молчанием с отвращением отверг это ужасное предложение; Дантон тогда вошел в соглашение с Парижской коммуной: он хотел обуздать своих врагов ужасом, втянуть все более и более толпу в свои планы, сделать ее своей соучастницей и не оставить революции другого спасения, кроме победы.
Начались домашние обыски, проходившие в грозной и мрачной обстановке; много лиц, подозрительных революционной партии своим положением или убеждениями, были посажены в тюрьму. Эти несчастные узники набирались предпочтительно среди двух диссидентских классов, духовенства и дворянства, и обвинялись во всевозможных заговорах во время Законодательного собрания. Граждане, способные носить оружие, были сформированы в полки на Марсовом поле и 11 сентября были отправлены к границе. Забили сбор, ударили в набат, раздались пушечные выстрелы, — и Дантон предстал перед собранием, чтобы дать ему отчет в мерах, принятых для спасения родины. „Выстрелы, слышанные вами, — сказал он, — обозначают не тревогу, а наше наступление на врагов. Что нужно, чтобы победить и уничтожить их? Нужна смелость, еще смелость и всегда смелость!“ Известие о взятии Вердена пришло в ночь с первого на второе сентября. Городское управление воспользовалось этой минутой, когда испуганному Парижу неприятель казался уже у ворот города, чтобы осуществить свои ужасные планы. Снова раздались пушечные выстрелы, снова забили в набат, заперли заставы, и началась резня.
Узников, заключенных в Карме, Аббатстве, в Консьержери, Форсе и других тюрьмах, резала в течение трех дней толпа около трехсот убийц, руководимая и оплачиваемая городским управлением. Убийцы с холодным фанатизмом профанировали самые священные формы правосудия, делаясь попеременно то судьями, то палачами; они, казалось, исполняли какое-то ремесло, а не совершали дело мести; они резали без запальчивости, без угрызений совести, с убеждением фанатиков и покорностью палачей; случалось, что какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства трогали убийц и пробуждали в них человеческие чувства, справедливость и милосердие, но они поддавались им только на минуту, а затем продолжали свое дело. Таким путем было спасено несколько жертв, но их было немного. Собрание желало помешать этой резне, но не было в силах это сделать, министры были так же бессильны, как и Собрание, кровожадное городское управление было всемогуще и руководило всем; мэр Петион был лишен всякого значения; солдаты и тюремная стража боялись сопротивляться убийцам и не мешали им; толпа частью была соучастницей, частью оставалась равнодушной; остальные граждане не смели даже высказывать своего ужаса; и можно было бы только изумляться, каким образом такое беспримерное и продолжительное злодейство было задумано, беспрепятственно выполнено и выдержано, если бы не знать, на что способен фанатизм партий и что может заставить вытерпеть ужас. Наказание за это ужасное преступление все-таки не миновало его творцов. Большая их часть погибла среди поднятой ими бури, и от тех самых насильственных мер, которыми они пользовались. Редко случается, чтобы представители партии не испытали той же участи, какой они обрекали других.
Исполнительный совет, руководимый в военных операциях генералом Серваном, двинул к границе батальоны последнего набора. Затем совет решил назначить самого искусного генерала в наиболее угрожаемый пункт, но выбор был затруднителен. Среди генералов, высказавшихся в пользу последних политических переворотов, Келлерман оказался способным быть только второстепенным командующим; ограничились поэтому только тем, что назначили его вместо нерешительного Люкнера. Кюстин, хотя и знаменитый военной опытностью, был более способен к какому-нибудь смелому подвигу, чем к командованию огромной армией, на которой покоились надежды всей Франции. Нельзя было предполагать больших военных способностей также и в Бироне, Лабурдонне и других генералах, и потому их оставили на их старых местах командиров отдельных корпусов. Оставался один Дюмурье; против него жирондисты питали ненависть, ибо они подозревали его в честолюбивых видах и во вкусах и наклонностях авантюриста, хотя, впрочем, отдавали справедливость его превосходным способностям. Он был, однако, единственный генерал, отвечавший серьезности положения, и Исполнительный совет вручил ему командование над Мозельской армией.
Дюмурье поспешно отправился из лагеря при Моде в Седан. Он созвал военный совет, единодушно решивший отступить к Шалону или Реймсу и прикрыться Марной. Далекий от того, чтобы следовать такому гибельному совету, способному только навести уныние на войско и предать в руки врагов Лотарингию, Труаз-Эвеше, часть Шампаньи и тем открыть дорогу к Парижу, Дюмурье задумал план, достойный гениального человека. Он понял, что надо смелым походом двинуться к Аргонскому лесу и там непременно остановить неприятеля. Этот лес имел четыре выхода: налево — Шен-Попюле, в центре — Круз-о-Буа и Гранпре, направо — Илетты; они открывали или преграждали проход во Францию. Пруссаки находились от него на расстоянии только шести лье, а Дюмурье приходилось пройти до него двенадцать; и притом для того, чтобы овладеть лесом, надо было действовать скрытно. Маневр этот удался Дюмурье блестяще; генерал Диллон, направленный на Илетты, занял проход семью тысячами солдат; сам Дюмурье прибыл в Гранпре и устроил там лагерь в тринадцать тысяч человек, Круз-о-Буа и Шен-Попюле были также заняты и охранялись несколькими отрядами. Выполнив этот маневр, Дюмурье написал военному министру Сервану: „Верден взят. Я жду пруссаков. Лагери при Гранпре и Илеттах — Фермопилы Франции. Но я буду счастливее Леонида“.
Заняв такую позицию, Дюмурье мог задержать врага, в ожидании помощи, посылаемой ему со всех концов Франции. Батальоны волонтеров были разосланы сначала по лагерям, расположенным внутри страны, а затем, когда они получили здесь начальную организацию, их отправляли в его армию. На границе Фландрии Бернонвиль получил приказ двинуться с девятью тысячами солдат и быть на левом фланге Дюмурье в Ретеле к 13 сентября. Дюваль также должен был явиться 7-го с семью тысячами солдат в Шен-Попюле; наконец, к правому флангу Дюмурье шел из Меца Келлерман с двадцатью двумя тысячами солдат. Следовало только суметь выиграть время.
Герцог Брауншвейгский, овладев Верденом, перешел через Маас тремя колоннами. Генерал Клерфэ действовал на правом его фланге, а князь Гогенлоэ на левом. Отчаявшись заставить Дюмурье отступить с позиции, нападая на него с фронта, он постарался обойти его. Дюмурье неосторожно поместил все свои силы в Гранпре и Илеттах и был очень слабо защищен в Шен-Попюле и Круз-о-Буа, так как эти два пункта действительно имели неважное значение. Пруссаки овладели ими и едва не окружили лагерь Дюмурье в Гранпре, чем бы заставили его положить оружие. После этой громадной ошибки, уничтожившей все его первоначальные маневры, Дюмурье все-таки не отчаялся в своем положении. Он тайно снялся с лагеря в ночь на 14 сентября, перешел через Эну, доступ к которой мог быть ему отрезан, и, проведя все отступление не менее ловко, чем поход в Аргонский лес, расположился лагерем при Сент-Мену. Он уже задержал в Аргоне наступление пруссаков; подходила осень, погода портилась, — ему оставалось только удержаться на новой позиции до соединения с Келлерманом и Бернонвиллем, и успех кампании был бы обеспечен. Солдаты привыкли бы к войне, и армия с прибытием Келлермана и Бернонвилля 17-го числа оказалась бы численностью в 70 тысяч человек.
Прусская армия следила за всеми движениями Дюмурье. 20 сентября она напала на Келлермана при Вальми, чтобы отрезать французской армии отступление к Шалону. С обеих сторон завязалась оживленная канонада. Пруссаки двинулись колоннами на высоты Вальми, чтобы занять их. Келлерман также построил свою пехоту колоннами и приказал не стрелять, а ждать приближения врага и принять его в штыки. Он отдал этот приказ при криках „Да здравствует нация!“ — и этот крик, повторенный от одного конца линии до другого, изумил пруссаков еще больше, чем твердый вид французских войск. Герцог Брауншвейгский велел отступить своим уже несколько поколебленным батальонам; артиллерия продолжала стрелять до вечера; неприятель пытался снова идти в атаку, но был отброшен. Победа этого дня осталась за французами, и незначительный успех при Вальми произвел на войско и на общественное мнение Франции впечатление как бы самой полной победы.
Одновременно началось уныние неприятеля и его отступление. Пруссаки, поверив обещаниям эмигрантов, видели в походе не что иное, как военную прогулку. У них не было ни запасов, ни продовольствия. Посреди страны, не имеющей природной защиты, они встретили сопротивление, увеличивавшееся с каждым днем: продолжительные дожди размыли дороги; солдаты шли по колена в грязи, и около четырех дней у них не было другой пищи, кроме похлебки из немолотого хлеба. К этому присоединились болезни, происшедшие от употребления жесткой воды, лишений и сырости; все это вместе производило страшные опустошения в их армии. Герцог Брауншвейгский советовал отступить, в противоположность мнению короля прусского и эмигрантов, желавших рискнуть сражением и овладеть Шалоном. Но так как судьба прусской монархии зависела от ее армии, — в случае поражения полная гибель всей армии была неизбежна, — совет герцога взял верх. Завязались переговоры, и пруссаки, отступая от своих первых притязаний, требовали только восстановления короля на конституционном троне. Конвент тем временем, однако, уже начал свои действия; республика была уже объявлена, и Исполнительный совет отвечал, „что Французская республика не станет слушать никаких предложений, прежде чем прусские войска не очистят совершенно французскую территорию“. Пруссаки начали вечером 30 сентября свое отступление. Их понемногу тревожил Келлерман, посланный Дюмурье для их преследования, а сам Дюмурье отправился в Париж, чтобы насладиться своей победой и подготовить поход в Бельгию. Французские войска заняли Верден и Лонгви, а неприятель, пройдя Арденны и Люксембург, перешел в конце октября Рейн у Кобленца.
Эта кампания была отмечена повсеместными успехами Франции. Во Фландрии герцог Саксен-Тешенский принужден был снять осаду с Лилля после семидневной ужасной бомбардировки, длившейся непрерывно, но безуспешно. На Рейне Кюстин овладел Триром, Шпейером и Майнцем. На Альпах генерал Монтескью овладел Савойей, а генерал Ансельм — Ниццким графством. Победоносные на всех пунктах французские войска везде перешли в наступление, и революция была спасена.
Если представить картину государства, только что выдержавшего большой кризис, и сказать: в этом государстве существовало неограниченное правительство, и власть его была сокращена, было два привилегированных класса, и они потеряли свои преимущества; был многочисленный народ, уже освобожденный успехами цивилизации и просвещения, но без политических прав, принужденный, после испытанных отказов, сам завоевать свои права; и если к этому прибавить: правительство сначала противодействовало революции, затем подчинилось ей, а привилегированные классы все время с ней боролись, то вот что можно будет заключить из этих данных.
Правительство станет сожалеть о своих уступках; народ проникнется недоверием к нему, и привилегированные сословия будут каждое по-своему нападать на новый порядок вещей. Дворянство не будет в состоянии делать этого внутри страны и эмигрирует, чтобы возбудить иностранные державы к нападению. Духовенство, не имея никаких средств действия вне страны, останется внутри нее и будет здесь разыскивать и поддерживать врагов революции. Народ, угрожаемый извне, волнуемый внутри, раздраженный против эмигрантов, вооруживших иностранцев, и против иностранцев, нападающих на его независимость, не менее питающий злобу и против духовенства, волнующего страну, поступит как с врагом и с духовенством, и с эмигрантами, и с иностранцами. Сперва он потребует надзора за священниками, а затем и их изгнания; далее, он потребует конфискации доходов эмигрантов и предпримет войну против европейской коалиции. Первые деятели революции осудят эти меры, осквернявшие закон, следующие деятели, наоборот, увидят в этих мерах спасение отечества, и вспыхнет несогласие между теми, кто предпочитает конституцию государству, и теми, кто предпочитает государство конституции. Монарх, побуждаемый интересами своего сана, своими наклонностями и совестью, отвергнет политику революционеров и прослывет сообщником контрреволюции, так как покажется, что он ей покровительствует. Тогда революционеры попытаются привлечь на свою сторону короля, застращав его, а когда это им не удастся, ниспровергнуть монархию.
Такова была история Законодательного собрания: внутренние смуты повели за собой декрет против священников, внешние угрозы — декрет против эмигрантов, союз иностранных держав — войну против Европы. Первое поражение наших войск — образование лагеря в двадцать тысяч человек. Отказ Людовика XVI утвердить большую часть этих декретов заставил жирондистов подозревать его; распри этих последних с конституционалистами, из которых одни желали быть законодателями[34], как в мирное время, другие — врагами, как в военное, разъединили сторонников революции. Для жирондистов весь вопрос свободы заключался в победе, а победа зависела от декретов. Двадцатого июня была сделана попытка заставить короля принять их, но, проиграв это дело, они заключили, что следует отказаться или от революции, или от монархии, и потому устроили десятое августа. Таким образом, без эмиграции, приведшей к беспорядкам, король примирился бы с конституцией, а революционерам не пришлось бы и думать о республике.
Национальный конвент Глава VI С 21 сентября 1792 г. по 21 января 1793 г.
Первые меры, принятые Конвентом. — Каким образом Конвент был составлен. — Соперничество монтаньяров и жирондистов. — Сила и намерения этих партий. — Робеспьер; жирондисты обвиняют его в стремлении к диктатуре. — Марат. — Новое обвинение Робеспьера в диктатуре, предъявленное Луве; защита Робеспьера; Конвент переходит к очередному вопросу. — Монтаньяры, одержав победу в этой борьбе, требуют суда над Людовиком XVI. — Мнения партий по этому поводу — Конвент решает, что Людовик XVI будет судим, и притом именно самим Конвентом. — Людовик XVI в Тампле; ответы перед Конвентом, его защита, его осуждение, мужество и душевная чистота его последних минут жизни. — Чего ему, как королю, недоставало, и в чем заключались его достоинства.
20 сентября 1792 г. Конвент организовался[35], а собрания свои открыл 21-го. На первом же заседании[36] им была уничтожена королевская власть и провозглашена республика. 22-го Конвент тесно связал республику с собой, постановив, что началом летосчисления будет считаться не четвертый год свободы, а первый год Французской Республики. После этих первых мер, единодушно и даже с известным соперничеством в демократичности и энтузиазме принятых обеими партиями, определившимися к концу деятельности Законодательного собрания, Конвент вместо того, чтобы приняться за работу, предался внутренним раздорам. Жирондисты и монтаньяры, прежде чем организовать новую революцию, пожелали определить, кто будет главным вершителем ее судьбы, и в борьбе за первенство их не остановили даже громадные опасности положения. Дело в том, что приходилось более чем когда-либо бояться действий европейской коалиции. Австрия, Пруссия и некоторые немецкие князья напали на Францию уже до 10 августа; все заставляло думать, что теперь, после падения монархии, заключения в тюрьму Людовика XVI и сентябрьских избиений, против Франции выступят и остальные государи. Внутри страны число противников республики также все возрастало. К приверженцам прежнего порядка, знати и духовенству, теперь надо было прибавить поклонников конституционной королевской власти, всех тех, кого живо заботила судьба Людовика XVI и кто не верил в возможность свободы без порядка и при владычестве толпы. Несмотря на столько препятствий и столько противников, в то время, как согласие было столь необходимо для борьбы, Жиронда и Гора напали друг на друга с яростным ожесточением. Надо признать, однако, что партии по своим воззрениям не могли существовать совместно и что их вождям было совершенно невозможно сблизиться друг с другом; слишком много было поводов к разъединению в их стремлении к первенствованию и в их намерениях.
Жирондисты в силу самих обстоятельств были вынуждены стать республиканцами. Гораздо больше приставало им оставаться конституционалистами. Этого требовала и прямота их намерений, и их нерасположение к толпе, и отвращение к крутым мерам, и в особенности благоразумие, которое позволяло им браться только за то, что было возможно; однако им не было возможности оставаться тем, чем они себя показали сначала. Они не могли удержаться на той наклонной плоскости, которая неудержимо вела их к республике, и мало-помалу привыкли к подобному образу правления. Теперь они желали республики чистосердечно и пламенно, но не закрывали глаза на то, насколько трудно будет ее установить и затем укрепить. Задача казалась им великой и прекрасной, но они видели, что существует большая нехватка в подходящих людях. Толпа не была достаточно просвещена и не имела тех чистых нравов, которые необходимы для подобного общественного уклада. Революция, произведенная Учредительным собранием, была законна не только потому, что оказалась возможной, но и потому, что была справедлива: у нее была своя конституция, она имела своих граждан. Не то было с революцией новой, — она призывала к кормилу государства низший класс и не могла поэтому быть прочной. Она задевала интересы слишком многих, а защитников могла иметь только временных, ибо низший класс, вмешиваясь в дело в момент кризиса, не мог в нем принимать постоянно непосредственное участие. Между тем только на этот класс и можно было опираться, решившись на вторую революцию. Жирондисты не поняли этого и весьма быстро очутились в ложном положении; они потеряли сочувствие конституционалистов и не приобрели помощи от демократов; они не стали ни наверху, ни внизу общества Поэтому они образовали какую-то полупартию и, не имея под собой почвы, были быстро побиты. Словом, после 10 августа жирондисты очутились между средним классом и толпой совершенно в том же положении, в каком была партия Неккера и Мунье, или монархисты, после 24 июля, между привилегированными классами и буржуазией.
Гора, напротив того, желала республики вместе с народом. Люди, стоявшие во главе этой партии, оскорбленные тем доверием, которым пользовались жирондисты, искали случая свергнуть их и стать на их место. Они были менее образованы, менее красноречивы, но зато более ловки, решительны и неразборчивы в средствах. Самая крайняя демократия казалась им наилучшим образом правления. Предметом их постоянной лести и не менее горячей, хотя и основанной на личных интересах заботы, было то, что они называли народом, т. е. самые низшие классы общества. Ни одна партия не была так опасна для Франции, как эта, но ни одна не была и так последовательна. Она работала для тех, в рядах которых сражалась.
От самого открытия заседаний Конвента жирондисты заняли правые скамьи, а монтаньяры разместились на верхних скамьях крайней левой, откуда и было дано название их партии — Гора. Жирондисты были партией наиболее в Собрании численной; в общем выборы в департаментах были в их пользу. Громадная часть депутатов Законодательного собрания была переизбрана, а так как в это время связи значили очень много, то все члены, так или иначе связанные с Жирондой или Парижской коммуной до 10 августа, вошли в Конвент со своими прежними убеждениями. Были, рядом с Жирондой и Горой, в Конвенте также и люди, не придерживавшиеся никакой системы, не принадлежавшие ни к какой определенной партии, не имеющие ни привязанностей, ни вражды; они образовали то, что в это время было известно под названием Равнины, или Болота. Члены Равнины присоединялись то к той, то к другой партии, смотря по тому, какую в данном случае они считали более правой, но все это пока им можно было оставаться умеренными и не бояться за свою собственную участь.
Гору составляли парижские депутаты, выбранные под давлением Коммуны 10 августа, и некоторые весьма ярые республиканцы из департаментов; пополнялась она впоследствии теми, кого гнал сюда страх или кого экзальтировали события. По численности Гора в Конвенте была менее значительна, чем Жиронда, но даже в эту эпоху она тем не менее была весьма влиятельна. Она царствовала в Париже, Коммуна ей сочувствовала, а Парижская коммуна в это время приобрела первенствующее значение в государстве. Монтаньяры пытались управлять и департаментами Франции, установив постоянные сношения между Парижской коммуной и провинциальными муниципалитетами для выяснения образа действий и намерений. Старания их не увенчались, впрочем, полным успехом, и департаменты в большей своей части остались расположенными к их политическим противникам, которые поддерживали это благожелательное отношение при помощи брошюр и журналов, рассылаемых министром Роланом, дом которого монтаньяры называли бюро общественного ума, а друзей — интриганами. Поддержка общин должна была, однако, рано или поздно явиться к монтаньярам, а пока что их поддерживали якобинцы. Этот наиболее влиятельный, наиболее многолюдный и наиболее старинный клуб при каждом кризисе менял свою политическую физиономию, не меняя названия; он составлял кадры, куда являлись люди властолюбивые, покоряя одних и исключая из клуба с ними несогласных. Парижский клуб был метрополией якобинцев и почти неограниченно управлял провинциальными отделениями. Монтаньяры овладели клубом. Жирондистов они вынудили из него уйти, действуя против них доносами и пользуясь возбуждаемым в них отвращением; вышедших из состава клуба представителей буржуазии они заменили санкюлотами. Во власти жирондистов оставалось одно министерство, но оно вследствие сопротивления, оказываемого Парижской коммуной, почти не обладало никакой властью. В столице монтаньяры располагали почти всеми действительными средствами и силами. На общественное мнение они действовали при помощи Клуба якобинцев, на секции и предместья они влияли при посредстве санкюлотов, а восстаниями руководили при помощи муниципалитета.
Учредив республику, партии первым делом напали друг на друга Жирондисты были возмущены сентябрьскими избиениями и с ужасом видели на скамьях Конвента людей, эти избиения вызвавших. Двое из них внушали им особенно сильную антипатию и отвращение — Робеспьер, мечтавший, по их мнению, о диктатуре, и Марат, ставший с самого начала революции в своих листках проповедником убийств. Робеспьера они старались разоблачить со значительно большей страстностью, чем благоразумием. Робеспьер не был еще достаточно страшен, чтобы навлечь на себя подозрение в стремлении к диктатуре. Обвиняя Робеспьера в замыслах в то время совершенно неправдоподобных, и к тому же обвиняя совершенно бездоказательно, враги его способствовали только росту популярности этого деятеля и увеличили его значение.
Робеспьер, сыгравший такую ужасную роль во Французской революции, тем временем стал выдвигаться на первое место. До тех пор, несмотря на все его усилия, в его же собственной партии всегда находились люди, превосходившие его; во время Учредительного собрания таковыми являлись знаменитые вожди этого собрания, во время Законодательного собрания — Бриссо и Петион, 10 августа — Дантон. В эти различные моменты он всегда бывал против тех, кто затмевал его популярностью или репутацией. Среди великих людей первого собрания он мог выделиться только странностью своих мнений и потому выказывал себя крайним реформатором; во время второго собрания противники его стояли за реформы, поэтому он сделался конституционалистом. В Клубе якобинцев он ратовал в пользу мира, ибо противники его были за войну; после 10 августа он, продолжая соединять интересы собственного тщеславия с интересами толпы, стал в Клубе якобинцев вести кампанию против жирондистов и стараться вытеснить оттуда Дантона. Будучи человеком заурядных способностей и имея пустой и тщеславный характер, Робеспьер, именно в силу своей посредственности, всегда выступал на политическую арену позже всех, что во время революции, безусловно, весьма выгодно; вследствие же своего страстного самолюбия он стремился повсюду занять первое место и не отступал ни перед чем, чтобы такое первенствующее положение получить и на нем удержаться. Робеспьер в полной мере обладал всем, что нужно для тирании: душой, правда, вовсе не великой, но во всяком случае незаурядной, преданностью одной господствующей страсти, внешностями патриотизма и заслуженной репутацией неподкупности; кроме того, он отличался строгим образом жизни и не имел ни малейшего отвращения к пролитию крови. Робеспьер на собственном примере доказал, что во время гражданских волнений политическую карьеру делают не умом, а поведением и что упрямствующая посредственность в это время сильнее недостаточно последовательного гения. К этому надо прибавить еще, что Робеспьера поддерживала громадная фанатическая секта, для которой он еще со времени закрытия Учредительного собрания требовал власти и взгляды которой всегда отстаивал. Эта секта зародилась в XVIII ст. и была воплощением некоторых идей этого века. В политике ее девизом было абсолютное верховное владычество народа, как его понимал Ж.-Ж. Руссо в „Общественном договоре“ („Contrat social“), а в религии — идеи савойского викария из „Эмиля“ того же писателя; идеи эти партии затем временно удалось осуществить в Конституции 1793 г. и в поклонении Верховному Существу. В различные эпохи революции встречалось значительно больше систем и фанатизма, чем это обыкновенно думают.
Может быть, жирондисты предвидели владычество Робеспьера, может быть, они увлеклись своей к нему ненавистью, но во всяком случае они предъявили к нему обвинение в самом для республиканца ужасном преступлении. Париж находился в волнении под влиянием раздоров партии; жирондисты пожелали издать закон против тех, кто вызывает беспорядки и призывает к излишествам и насилиям и в то же время дает Конвенту независимую силу, опирающуюся на все 83 департамента. По их требованию была назначена комиссия для составления доклада по этому предмету. Гора напала на эту меру, находя ее обидной для Парижа. Жиронда отстаивала свое предложение, указывая на проект триумвирата, составленный парижскими депутатами. „Я родился в Париже, — сказал тогда Осселэн, — и я состою депутатом его. Нам говорят, что в Париже возникла партия, желающая учреждения диктатуры, триумвиров и трибунов. Я громогласно заявляю, что надо быть или глубоко невежественным человеком, или закоренелым злодеем, чтобы выработать подобный план. Пусть будет проклят тот из парижских депутатов, кто посмел возыметь подобную мысль“. „Да, — воскликнул марсельский депутат Ребекки, — в нашем Собрании существует партия, стремящаяся к диктатуре, и я назову вождя этой партии: это Робеспьер. Вот человек, которого я изобличаю перед вами“. Барбару своим свидетельством подкрепил это изобличение. Барбару был одним из главных деятелей 10 августа; он предводительствовал марсельцами и пользовался довольно большим влиянием на юге Франции. Он заявил, что 10 августа обе партии, все время спорившие за первенство в Париже, заискивали в марсельцах и что он был приглашен к Робеспьеру; тут его уговаривали примкнуть к гражданам, обладающим наибольшей популярностью, причем Пани прямо указал на Робеспьера как на того добродетельного человека, которому пристало сделаться диктатором Франции. Барбару говорил так против Робеспьера, ибо был человеком дела. Правая, кроме него, имела и еще несколько членов, думавших, что следует окончательно одолеть противника, чтобы не быть побежденным им. Эти люди желали, противопоставляя Конвент Парижской коммуне, разъединить департаменты от Парижа и полагали, что не следует щадить врагов, пока они слабы, ибо этим им дается возможность и время усилиться. Однако, большая часть правой опасалась открытого разрыва и не сочувствовала крутым мерам.
Обвинение Робеспьера не имело никаких последствий, но оно пало на Марата, советовавшего диктатуру в своем журнале „Друг народа“ и оправдывавшего убийства. Когда он взошел на трибуну с целью оправдаться, собрание охватило чувство ужаса. „Долой, долой!“ — раздались крики со всех сторон. Марат остался непоколебим и, воспользовавшись минутой молчания, сказал: „У меня в этом собрании много личных врагов“. — „Все, все!“ — „Я взываю к их стыду; я прошу их не позволять себе неистовых криков и неприличных угроз против человека, служившего делу свободы и оказавшего им самим гораздо больше услуг, чем они думают; сумейте хоть на этот раз выслушать оратора“. Далее Марат изложил Конвенту, пораженному его дерзостью и хладнокровием, то, что он думал относительно проскрипций и диктатуры. Долгое время он убегал, прячась в подземельях от общественной ненависти и изданных против него приказов об аресте. Появлялись только его кровожадные листки; в них он требовал казней и подготовлял толпу к сентябрьским избиениям.
Не существует такой сумасбродной мысли, которая не могла бы прийти в голову человека и, что хуже всего, которая не могла бы быть приведенной в исполнение в известный момент. Марат был одержим несколькими подобными идеями. Революция имеет врагов, а, по мнению Марата, для ее успешного продолжения этих врагов не должно быть; самое простое, по его мнению, поэтому уничтожить всех врагов и для того назначить диктатора, исключительная обязанность которого была бы в издании постановлений о проскрипциях; он с жестокой циничностью проповедовал эти две меры, не щадя не только приличий, но даже и человеческой жизни и считая слабыми умами всех тех, кто называл его проекты ужасными, а не глубокомысленными. Революция имела и других деятелей, таких же кровожадных, но ни один из них не оказал такого пагубного влияния на свою эпоху, как Марат. Он развратил и без того уже шаткую нравственность партий, он подал те две идеи, которые затем Комитет общественного спасения через своих комиссаров привел в исполнение и которые заключались в диктатуре и массовом истреблении врагов революции.
Обвинение Марата также не имело последствий; он внушал больше отвращения, но менее злобы, чем Робеспьер. Некоторые видели в нем только сумасшедшего, другие в этих распрях видели исключительно проявление вражды партий, совершенно не представляющее интереса с точки зрения республики. К тому же казалось опасным изгонять из Конвента одного из его членов или выставлять против него обвинения; это был трудный шаг даже для партий. Дантон, впрочем, не оправдывал Марата. „Я не люблю его, — говорил он, — я на деле познакомился с его характером: Марат человек вулканический, упрямый и необщительный. Зачем, однако, в том, что он пишет, отыскивать мнение какой-либо партии? Разве общее возбуждение умов не происходит единственно исключительно от движения самой революции?“ Робеспьер со своей стороны удостоверял, что он Марата знает очень мало, что до 10 августа он только один раз разговаривал с ним и что после этого единственного разговора Марат, крайние убеждения которого он вовсе не одобрял, нашел ею взгляды настолько узкими, что написал в своем журнале, что он, Робеспьер, не имеет ни взглядов, ни смелости государственного человека.
Однако именно против Робеспьера была направлена главная ненависть, так как его значительно больше опасались. Первое обвинение Ребекки и Барбару успеха не имело. Несколько времени спустя министр Ролан представил доклад о состоянии Франции, и в частности Парижа; в нем он разоблачил сентябрьские убийства, неправильные действия Коммуны и козни агитаторов. „Раз, — говорил он, — самые мудрые и неустрашимые защитники свободы навлекают на себя ненависть и подозрение, раз громко проповедуют принципы мятежа и грабежа, а общественные собрания высказывают им свое одобрение, раз раздается ропот даже против самого Конвента, я не могу сомневаться, что приверженцы старого порядка вещей или ложные друзья народа, скрыв свое сумасбродство или свое злодейство под маской патриотизма, составили целый план переворота, при помощи которого они рассчитывают возвыситься на развалинах и трупах и насытиться кровью, золотом и жестокостью“. В подтверждение своего доклада Ролан прочитал письмо, которым вице-президент второй палаты уголовного трибунала извещал его, что и ему, и другим наиболее известным жирондистам грозит опасность; что, по словам их врагов, существует необходимость в новом кровопускании и что эти люди не желают и слышать ни о ком другом, кроме Робеспьера.
При этих словах Робеспьер бежит на трибуну, чтобы оправдаться. „Никто, — говорит он, — не посмеет обвинить меня в лицо“. „Я, — вскричал тогда Луве, один из самых решительных представителей Жиронды, — да, я, Робеспьер, — продолжал он, устремив на него пылающий взгляд, — я тебя обвиняю“. Робеспьер, до этого времени сохранявший полное присутствие духа, смутился: ему однажды пришлось уже помериться в Клубе якобинцев с этим опасным противником, и он знал его за человека умного, пылкого и беспощадного. Луве тотчас же попросил слова и в красноречивейшей импровизации не пощадил ни его поступков, ни имен; он обрисовал деятельность Робеспьера в Клубе якобинцев, в Парижской коммуне, в избирательном собрании: „Везде он клеветал на лучших патриотов, расточал самую низкую лесть нескольким сотням граждан, сначала рассматриваемых как население Парижа, затем просто как народ и, наконец, как народ-владыка; везде он перечислял свои собственные заслуги, свои совершенства, свои добродетели и никогда не забывал, засвидетельствовав силу, величие и право на главенство народа, прибавить, что он также принадлежит к народу“. Далее Луве показал, как Робеспьер прятался 10 августа, а затем властвовал на заседаниях заговорщиков Парижской коммуны. Переходя затем к сентябрьским убийствам, он воскликнул: „Революция 10 августа была делом всех, но революцией 2 сентября (тут он обратился в сторону монтаньяров) мы обязаны вам и только вам, и разве вы сами не гордитесь ею? Разве ваши единомышленники не называли нас со свирепым презрением патриотами 10 августа, а о себе с гордостью разве не говорили, что они патриоты 2 сентября? Пусть же им остается это отличие, достойное свойственного им мужества, пусть оно остается за ними для нашего прочного оправдания и для их длительного позора. Эти якобы друзья народа хотели обвинить парижский народ в тех ужасах, которыми была запятнана первая неделя сентября… Они бесчестно клеветали на него. Парижский народ умеет сражаться, но не умеет убивать. В прекрасный день 10 августа весь парижский народ собрался перед Тюильри, это совершенная правда, но ложь, что его видели перед тюрьмами в ужасный день 2 сентября. Сколько внутри тюрем в этот день было палачей? Двести, а вернее, что и того меньше; а сколько можно было насчитать вне тюрем праздных зрителей, привлеченных сюда поистине непонятным любопытством? Только вдвое больше. Но говорили, если народ в убийствах не принимал участия, то почему же он не помешал им? Почему? Да потому, что охранительная власть Петиона была парализована, потому, что Ролан говорил напрасно, потому, что министр юстиции Дантон не говорил вовсе… потому, что президенты 58 секций дожидали реквизиций, которых главный комендант не произвел вовсе, потому, что муниципальные советники в своих шарфах предводительствовали убийцами и присутствовали на этих ужасных избиениях. Но Законодательное собрание? Законодательное собрание! Представители народа, вы отомстите за него. Бессилие, к которому были приведены ваши предшественники, составляет самое важное из всех преступлений, за которые надо наказать тех одержимых, которых я перед вами разоблачаю“. Возвращаясь далее к Робеспьеру, Луве указал на его честолюбие, происки, чрезмерное влияние на чернь и закончил свою страстную филиппику перечислением целого длинного ряда фактов, начиная каждое обвинение с этих грозных слов: „Робеспьер, я обвиняю тебя“.
Луве сошел с трибуны под гром рукоплесканий. Бледный и сопровождаемый ропотом, взошел на трибуну Робеспьер с целью оправдаться. Из смущения или из боязни быть обвиненным он попросил для дачи объяснений восьмидневной отсрочки. По прошествии этого времени он появился в Конвенте уже не обвиняемым, а скорее триумфатором; с иронией отверг он обвинения Луве и произнес самому себе длиннейшую апологию. Надо сознаться, что ввиду неопределенности обвинений ему было затруднительно их смягчить или опровергнуть. Трибуны были расположены рукоплескать Робеспьеру; сам Конвент, видевший в обвинении Робеспьера исключительно ссору оскорбленных самолюбий и не боявшийся этого, по словам Барера, временщика и маленького производителя беспорядков, был расположен положить конец этим дебатам. Поэтому, когда Робеспьер в заключение своей речи сказал: „Относительно лично себя я не стану делать никаких выводов; я отказался от легкого способа отвечать на клевету моих врагов разоблачениями еще более грозными; я совершенно откинул всю обвинительную часть моей защитительной речи. Я отказываюсь от вполне законной мести, которой я мог бы преследовать моих клеветников; я не добиваюсь ничего другого, кроме восстановления мира и торжества свободы“, — ему зааплодировали, и Конвент перешел к обсуждению очередного вопроса. Луве желал возражать Робеспьеру, но ему не дали слова; безуспешно вызывался быть обвинителем Барбару, а Ланжюине говорил против перехода к очередным делам, — прения возобновлены не были. Даже сами жирондисты вторили Робеспьеру; ошибочно с их стороны было поднимать обвинение, но еще ошибочнее теперь не поддержать его. Монтаньяры одержали победу, и Робеспьер только приблизился к той роли, от которой он был ранее так далек. Во время революции люди быстро становятся тем, чем их считают; монтаньяры признали в Робеспьере своего главу только потому, что жирондисты его считали таковым и за это преследовали.
Еще важнее, чем личные нападки, были дебаты о правительственной системе и об образе действия властей и партий. Жирондисты потерпели поражение не только в борьбе против отдельных лиц, но и против Парижской коммуны. Ни одна из предложенных ими мер не была принята: все они были или плохо обоснованы, или слабо поддержаны. Им необходимо было усилить правительство, переменить состав муниципалитета, удержаться в Клубе якобинцев и овладеть им, привлечь на свою сторону толпу или по крайней мере предупредить ее действия, но они ничего этого не сделали. Один из жирондистов, Бюзо, предложил учредить при Конвенте стражу из 3000 человек, набранных в провинции. Эта мера должна была во всяком случае поддержать независимость Собрания, но требовали ее недостаточно настойчиво, и она не была принята. Таким образом, жирондисты произвели нападение на Гору и не ослабили ее, напали на Коммуну и не сумели подчинить ее, боролись с предместьями и не уничтожили их влияния. Париж они раздражили, призывая на помощь провинцию, а нужной помощи получить не сумели; вообще действовали противно самому примитивному благоразумию, ибо всегда вернее сделать что-нибудь, а не угрожать только.
Противники жирондистов прекрасно воспользовались этим обстоятельством. Они озаботились тайно распространять слухи о том, что жирондисты стремятся перенести республику на юг Франции, а остальную часть страны оставить на произвол судьбы; подобные слухи не могли не скомпрометировать Жиронду. Из этих слухов возникло обвинение в федерализме, ставшее затем таким пагубным для этой партии. Жирондисты не уразумели всей опасности такого обвинения и пренебрежительно к нему отнеслись. Обвинению этому, однако, давали все больше веры по мере того, как Жиронда слабела, а противники ее становились все более смелыми. Поводом к более ясному выражению обвинения сначала послужил проект обороняться ог неприятеля за Луарой и, если север будет захвачен неприятелем и Париж взят, перенести место пребывания правительства на юг, а затем то предпочтение, которое жирондисты оказывали провинциям, и то ожесточение, которое они проявляли против агитаторов столицы. Проект обороны противникам Жиронды нетрудно было представить в искаженном виде, приписав его составление другому времени, а из порицания беспорядочных поступков одного города они вывели намерение составить союз всех городов против Парижа. Такими сопоставлениями и передержками удалось выставить жирондистов в глазах толпы федералистами. Пока они выступали с обвинениями против Парижской коммуны и Робеспьера, монтаньярам удалось провести декрет о единстве и нераздельности республики. Здесь также было средство для нападения, и этим предложением набрасывалось на жирондистов подозрение, хотя они и поспешили согласиться с внесенным предложением и даже как будто сожалели, что сами его не сделали.
На пользу монтаньярам послужило еще одно дело, по-видимому, совершенно чуждое распрям партий и во всяком случае весьма прискорбное. Монтаньяры, ободренные неудачей направленных против них попыток, ждали только случая самим перейти в наступление. Конвент был утомлен нескончаемыми дебатами; те члены, которых распри непосредственно не касались, и даже те, которые, хотя и числились в той или другой из враждующих партий, но не стояли в них на первом месте, чувствовали необходимость в соглашении и желали заняться делами республики. Наступило кажущееся перемирие, и внимание Собрания было на некоторое время направлено на новую конституцию, но монтаньяры заставили прервать эти занятия, потребовав какого-нибудь постановления по поводу смещенного с престола монарха. Вождями крайней левой руководили в этом случае многочисленные причины: всего более не желали они, чтобы организация республики пришлась на долю жирондистов и умеренных членов Равнины, стоявших во главе конституционного комитета и действовавших одна через Петиона, Кондорсе, Бриссо, Верньо, Жансонне, а другие через Барера, Сьейеса и Томаса Пейна. Эти люди установили бы буржуазный режим, придав ему только более демократический, чем по Конституции 1791 г., характер. Гора же желала полного господства толпы. Достигнуть своих целей, однако, им не было возможности иначе, как получив господство, а получить его нельзя было иначе, как поддерживая революционное состояние Франции. Кроме желания помешать установлению законного порядка при помощи такого ужасного государственного переворота, каким являлось осуждение Людовика XVI, переворота, который должен был привести в возбуждение все страсти и привлечь к ним все крайние партии, так как в них бы они увидели неподкупнейших хранителей республики, — монтаньяры надеялись еще на то, что жирондисты, не скрывавшие своего желания спасти короля, должны будут выказать свои чувства и тем окончательно погубят себя во мнении толпы. Без всякого сомнения, между монтаньярами были и действовавшие в этом случае совершенно искренне, и такие, в глазах которых Людовик XVI являлся виновным перед революцией, и, наконец, считавшие всякого развенчанного монарха опасным для нарождающейся демократии, но вся партия не могла бы себя выказать такой беспощадной, если бы не стремилась вместе с Людовиком XVI погубить и Жиронду.
С некоторого времени монтаньяры стали подготовлять публику к суду над королем. Якобинский клуб осыпал его ругательствами: об его характере распространялись самые оскорбительные сплетни; его осуждения требовали во имя упрочения свободы. Различные народные общества присылали в Конвент в этом смысле составленные адреса; секции Парижа являлись в заседание; по залу Конвента проносили на носилках раненых 10 августа, взывавших о мести Людовику Капету. Людовика XVI иначе не называли теперь, как этим именем, желая заменить титул короля его фамилией.
Партийные задачи и народное ожесточение — все соединилось против этого несчастного бывшего владыки. Те, кто всего два месяца назад отвергли бы самую идею о каком-либо другом наказании королю, кроме низвержения, теперь были повергнуты в полное оцепенение: во время кризиса так легко утрачивается право защищать свои убеждения. Содержание железного шкафа, найденного у короля в его дворце, особенно усилило фанатизм черни и ослабило защитников короля. После 20 августа в числе бумаг короля были найдены документы, доказывавшие сношения короля с недовольными принцами, эмигрантами и Европой. В составленном по распоряжению Законодательного собрания докладе король обвинялся в намерении изменить государству и подавить революцию. Его упрекали за то, что он 16 апреля 1791 г. написал Клермонтскому епископу, что если бы он приобрел прежнюю власть, то восстановил бы прежний способ правления и возвратил бы духовенству его прежние права. Ему ставили в вину, что позже он предложил начать войну только с целью ускорить приход своих освободителей, что он находился в сношениях с людьми, писавшими ему: „Война принудит все державы соединиться против злоумышленников и злодеев, тиранизирующих Францию, с целью наказание их поставить примером для всех тех, кто пожелал бы нарушить мир в государстве… Вы можете рассчитывать на 150 000 человек пруссаков, австрийцев и вообще иностранцев и на армию из 20 000 эмигрантов“. Наконец, Людовика обвиняли в том, что, публично высказывая порицания своим братьям, он тайно одобрял их образ действия, и в том, что он вообще никогда не переставал действовать против революции.
В подтверждение всех этих обвинений появились и новые факты. В Тюильрийском дворце позади одного из стенных панно оказалось углубление, закрытое железной дверкой. Этот секретный шкаф был указан министру Ролану, и в нем были найдены новые доказательства относительно всех заговоров и интриг дворцовой партии против революции; тут были проекты усилить конституционную власть короля при помощи народных вождей и восстановить прежний порядок при помощи аристократов, планы Талона, соглашения с Мирабо, предложения Буйе, принятые во время Учредительного собрания, и некоторые планы, выработанные уже во время Законодательного собрания. Это открытие еще усилило уже существовавшее ожесточение против Людовика XVI. В Якобинском клубе бюст Мирабо был совершенно уничтожен, а в Конвенте его закрыли занавеской.
В Собрании был возбужден вопрос о процессе несчастного государя, но в сущности, раз он был уже свергнут с престола, он не мог быть даже преследуем. Не существовало и судилища, которое бы было компетентно произнести над ним приговор. Не было и наказания, которому бы его можно было подвергнуть. Конвенту, чтобы создать внешнюю законность для обвинения короля, поэтому пришлось прибегнуть к ложному толкованию права неприкосновенности, которым пользовался Людовик XVI. Громадная ошибка партий заключается в том, что они не столько заботятся о справедливости, сколько о том, чтобы не показаться несправедливыми. Законодательный комитет, которому было поручено составить доклад по вопросу, может ли быть судим Людовик XVI, и если может, то нельзя ли судилищем над ним сделать Конвент, высказался в положительном смысле. Депутат Майль, говоривший от имени этой комиссии, восстал против принципа неприкосновенности, а так как принцип этот признавался в предшествовавшую революции эпоху, то он прибег к уловке, указывая на то, что Людовик неприкосновенен как король, но не как частный человек. Он утверждал, что так как нация не может отказаться от того, чтобы гарантировать себя от произвола правительства, то она противопоставила неприкосновенности короля ответственность его министров, и что там, где король действовал как частный человек и где, следовательно, его ответственность ни на кого не переносилась, он переставал пользоваться правом неприкосновенности. Майль, таким образом, ограничивал дарованную конституцией неприкосновенность Людовика XVI только его поступками и действиями как короля. Он говорил, далее, что Людовик XVI должен быть судим, ибо свержение его с престола вовсе не обозначает наказания, а является простой переменой правительства, что судить его надо по уголовным законам, касающимся изменников и заговорщиков, и, наконец, что судить его должен сам Конвент без соблюдения форм, принятых в других судах. Конвент является представителем народа, народ заключает в себе совокупность всех интересов, представляет собой правосудие, и потому нет возможности, чтобы национальное судилище нарушило правосудие, и не к чему связывать его какими бы то ни было формами. Вот цепью каких страшных софизмов законодательный комитет превращал Конвент в судилище. Партия Робеспьера выказала более последовательности, выставляя на вид исключительно государственные соображения и совершенно отвергая всякие формы, как ложные.
Прения открылись через шесть дней после доклада комитета, 13 ноября. Сторонники неприкосновенности короля, признавая его виновность, утверждали, что судить его нельзя. Главным между ними был Моррисон; он говорил, что неприкосновенность короля носит общий характер, что конституция предусмотрела нечто значительно более существенное, чем тайные происки короля, а именно открытое нападение на революцию, и даже за это наказанием положила только низложение с трона, что этим народ обеспечил себе владычество, что мандатом Конвенту было преобразование правительства, а не суд над Людовиком XVI, что не только законы справедливости, но и обычаи войны не позволяют поступать так, как предлагает комитет, ибо считается бесчестным отделываться от врага иначе, как во время битвы, и по окончании ее он подлежит покровительству закона, что, наконец, республике нет никакого интереса осудить Людовика XVI, что ей следует по отношению к нему ограничиться принятием мер предосторожности, т. е. либо удержать его пленником, либо изгнать его из Франции. Мнение Моррисона было мнением и всей правой Конвента. Равнина разделяла мнение комитета, а Гора отвергала одновременно и неприкосновенность Людовика XVI, и суд над ним.
„Граждане, — сказал Сен-Жюст, — я хочу доказать, что одинаково ложны и мнение Моррисона, сохраняющего за королем полную неприкосновенность, и мнение комитета, полагающего, что короля надо судить как частное лицо. Я утверждаю, что короля следует судить как врага; что нам следует не столько судить его, сколько окончательно сразить; что так как он совершенно ни при чем в том договоре, которым связаны между собой французы, то формы судопроизводства, к нему применимые, следует искать не в гражданском кодексе законов, а в международном праве; что всякого рода промедления и осмотрительность в этом случае являются настоящей неосторожностью и что если всего гибельнее отдалять минуту, когда мы себе дадим законы, то немногим менее гибельно откладывать и решение участи короля“. Сведя все к соображениям неприязни и политики, Сен-Жюст прибавил: „Тем самым людям, которые будут судить Людовика, затем придется основать республику; те, кто сколько-нибудь опасаются или ужасаются справедливой казни короля, никогда не будут в состоянии устроить республику. Граждане, если римский народ по прошествии шестисот лет существования, полного добродетелей и ненависти к королям, если Великобритания после смерти Кромвеля, несмотря на всю свою энергию, увидела возрождение монархической власти, то чего приходится опасаться у нас всем добрым гражданам и друзьям свободы при виде, как топор дрожит в ваших руках и как народ с первых дней свободы чтит воспоминание о своих оковах?“
Та ярая партия, что желала заменить судебный приговор простым насильственным актом, что думала отбросить всякого рода законы и формы и поразить Людовика XVI как побежденного пленника, продолжая неприязненные действия даже после победы, в Конвенте составляла слабое меньшинство; она сильно поддерживалась зато вне Конвента якобинцами и Парижской коммуной. Несмотря на ужас, который она уже успела внушить, кровожадные предложения ее были отвергнуты Конвентом. Защитники неприкосновенности короля в свою очередь сумели выставить на вид и государственные соображения, и правила и законы справедливости и милосердия. Они указывали на то, что одни и те же лица не могут в одно и то же время быть и судьями и законодателями, и обвинителями и присяжными. Они стремились дать возможность нарождающейся республике ознаменовать свое появление блеском высоких добродетелей, великодушия и всепрощения; они желали, чтобы республика последовала примеру Рима, завоевавшего свободу и сохранившего ее в продолжение пяти веков, благодаря своему великодушию, ибо он изгнал Тарквиниев, но не уничтожил их. С точки зрения политики они указывали на прискорбные последствия осуждения короля, несомненно увеличившего смелость анархической партии в самой Франции и заставившего те европейские державы, что пока оставались нейтральными, вступить в коалицию против республики.
Но вот на трибуну вышел Робеспьер, выказавший в продолжение этого длительного процесса смелость и настойчивость, предвозвещавшие всю его будущую силу, и стал поддерживать предложение Сен-Жюста. Он упрекнул Конвент в том, что он колеблется над вопросом, уже разрешенным восстанием, и что своей жалостливостью и публичностью защиты усиливает совершенно разбитую монархическую партию. „Собрание, — сказал Робеспьер, — незаметно для себя было далеко отвлечено в сторону от основного вопроса. Не может быть и речи ни о каком судебном процессе, Людовик вовсе не обвиняемый, а вы не судьи; вы государственные люди и только таковыми и можете быть. Вам вовсе не надо постановлять приговор за или против этого человека. Вам необходимо принять меры общественной безопасности, выполнить акт национальной предусмотрительности. Свергнутый с престола король может служить только для двух целей: он может либо быть орудием против спокойствия государства и колебать его свободу, либо упрочить то и другое. Людовик был королем; республика уже учреждена; вопрос, нас занимающий, этими словами вполне разрешается. Людовик не может быть судим, ибо он не только уже был судим, но и был осужден, в противном случае нет оправдания для республики“. В заключение своей речи Робеспьер потребовал, чтобы Конвент объявил Людовика XVI изменником против французов и преступником перед всем человечеством и немедленно приговорил его к смертной казни во имя восстания.
Монтаньяры этими крайними предложениями и тем сочувствием, которое они возбуждали вне Конвента и у фанатической и жестокой черни, полагали сделать осуждение короля в некотором роде неизбежным. Забегая необыкновенно далеко вперед перед другими партиями, монтаньяры заставляли их следовать за собой, хотя бы издали. Большинство Конвента, состоявшее из большей части жирондистов, не решавшихся признать Людовика неприкосновенным, и из Равнины, по предложению Петиона и против мнения монтаньяров и тех, кто признавал за Людовиком неприкосновенность, постановило, что Людовик XVI будет судим Конвентом. После этого Роберт Ленде от имени Комиссии двадцати одного составил доклад о Людовике XVI. Был составлен также обвинительный акт о тех действиях, которые ставились королю в вину, и король-пленник был вызван Конвентом в заседание. Людовик уже в продолжение четырех месяцев находился заключенным в Тампле; там он вовсе не пользовался той свободой, которую ему дало Законодательное собрание, назначив для жительства Люксембургский дворец. Подозрительная Парижская коммуна строго следила за ним; однако, покорный своей судьбе и готовый ко всему, Людовик не выказывал ни сожаления, ни злобы. При нем находился всего один слуга, Клери, прислуживавший в то же время и всему королевскому семейству. Первые месяцы заточения король провел вместе с семьей и находил некоторую отраду хоть в присутствии близких; он утешал и поддерживал двух своих подруг по несчастью — жену и сестру; он являлся наставником молодого дофина и излагал ему поучения несчастного человека и короля-пленника. Он очень много читал и весьма часто обращался к „Истории Англии“ Юма; в ней он находил много монархов, низвергнутых с престола, и одного между ними осужденного народом. Каждому свойственно подыскивать и интересоваться судьбами, схожими с собственной. Однако недолго королю пришлось находить утешение в общей жизни со своей семьей; как только зашла речь о суде над ним, его с семьей разлучили. Парижская коммуна полагала необходимым помешать пленникам сговориться относительно того, что говорить в свое оправдание; надзор за Людовиком XVI делался с каждым днем все мелочнее и строже.
Тем временем Сантерр получил приказание привести Людовика XVI на суд Конвента. Сантерр отправился в Тампль в сопровождении мэра, который и передал королю о возложенном на них поручении и спросил, намерен ли он повиноваться. Людовик после минутного колебания отвечал: „Это новое насилие; приходится уступить ему“. Таким образом, Людовик согласился явиться перед Конвентом, в противоположность Карлу I, отвергшему компетентность своих судей. Когда в Конвенте узнали о прибытии короля, Барер сказал: „Народные представители, вам придется сейчас отправлять народное правосудие. Пусть же ваше поведение соответствует этим новым вашим функциям“, а обратясь к трибунам, прибавил: „Граждане, вспомните то страшное молчание, которым был встречен Людовик после бегства в Варенн; это молчание было предвестником суда народов над королями“. Людовик XVI вошел в зал с полным самообладанием; войдя, он обвел собрание смелым взором. Он остановился у входа, и президент взволнованным голосом сказал ему: „Людовик, французский народ предъявляет к вам обвинения. Сейчас вы услышите обвинительный акт; Людовик, садитесь!“
Для короля было приготовлено кресло, и он опустился в него. Во все время продолжительного допроса он выказал много спокойствия и присутствия духа, на каждый вопрос он отвечал всегда кстати и, по большей части, трогательно и успешно. Он отклонил все упреки, сделанные ему касательно его поведения до 14 июля, напомнив Собранию, что в то время власть его еще не была ограничена; на обвинения относительно поступков до вареннского бегства указал на то, что Учредительное собрание особым декретом признало его объяснения удовлетворительными; и, наконец, ответственность за все, что произошло перед 10 августа, сложил на министров, ответственных во всем, что касалось публичных действий, а всякого рода тайные поступки, в которых обвинили его лично, прямо отрицал. Отрицания эти, однако, в глазах Конвента не уничтожили значения фактов, установленных по большей части документами, писанными целиком королем или подписанными его рукой. Король в этих отрицаниях пользовался просто тем естественным правом, которое принадлежит каждому обвиняемому. Он не признал ни существования пресловутого железного шкафа, ни подлинности предъявленных ему документов. Людовик ссылался на охранительный закон, которого Конвент не желал допускать, а Конвент стремился доказать наличность контрреволюционных попыток, которых не хотел признавать король.
Когда Людовик XVI был отвезен обратно в Тампль, Конвент занялся обсуждением его просьбы о предоставлении ему защитника. Тщетно противились положительному в этом отношении решению некоторые из монтаньяров; Конвент постановил, что Людовик может иметь защитника. Для этой цели он указал даже на Тарже и Тронше, но первый от них отказался. Тогда почтенный Мальзерб сам вызвался быть защитником короля. „Меня два раза, — вскричал он, — призывали на совет к тому, кто был в то время моим повелителем, когда этой чести добивался всякий. Я обязан оказать ему теперь подобную же услугу, теперь, когда подобная обязанность большинству кажется сопряженной с опасностью“. Предложение Мальзербом услуг было принято. Людовик XVI, покинутый всеми, был тронут подобным выражением преданности. Когда Мальзерб пришел к нему, Людовик встал навстречу, крепко обнял его и сказал со слезами на глазах: „Ваша жертва великодушна тем более, что, рискуя своей жизнью, моей вы не спасете“. Мальзерб и Тронше тотчас же занялись защитой короля и пригласили себе в помощь Десеза; они старались ободрить короля, но он оказался не питающим никаких надежд: „Я убежден, что противникам удастся меня погубить; но будь что будет, станем заниматься процессом так, как будто бы была полная надежда его выиграть; да, наконец, я его и действительно выиграю, раз память обо мне останется незапятнанной“.
Наступил, наконец, день, когда должна была быть произнесена защитительная речь. Людовик присутствовал на этом заседании, а речь была произнесена Десезом среди гробового молчания Собрания и трибун. Десез в защиту царственного подсудимого привел все возможные соображения справедливости. Он взывал к дарованной королю неприкосновенности; он говорил, что невозможно судить Людовика как короля, что, будучи обвинителями, народные представители не могут быть его судьями. Во всем этом не было ничего нового, все это уже высказывалось в Конвенте представителями партий. Главным образом, однако, он старался оправдать поведение Людовика XVI и приписать ему исключительно чистые и безупречные намерения. Закончил он свою речь следующими знаменательными словами: „Вслушайтесь заранее в тот приговор, который произнесет история: вступив на престол в возрасте 20 лет, Людовик проявил на нем пример нравственности, правосудия и бережливости; у него не было никакой слабости, никакой порочной страсти; он был постоянным и верным другом народа. Стоило народу пожелать, чтобы разорительный налог был отменен, и Людовик его отменил; народ пожелал отмены рабства, и Людовик его отменил; народ потребовал реформ, — реформы были даны; желал народ изменений в законах, — изменения производились; народ захотел, чтобы миллионы французов снова получили свои права, — он возвратил их; народ стремился к свободе, и свобода была дана. У Людовика нельзя отнять славы предупреждения своими пожертвованиями желаний народа, и, несмотря на это, его предлагают вам… Но нет, граждане, я не буду заканчивать моей фразы, меня останавливает суд истории; история, помните это, будет судить вас и ваш суд, а ее судом будет суд веков“. Страсти были, однако, глухи и неспособны ни к справедливости, ни к предусмотрительности.
Жирондисты желали спасти Людовика XVI; они боялись, однако, обвинений в роялизме, а это обвинение против них уже выставлялось монтаньярами. Все время процесса их поведение было двусмысленным; они не имели храбрости открыто высказаться ни за, ни против царственного подсудимого, и их неопределенная умеренность не только не принесла пользы ему, но и окончательно погубила их самих. Они не поняли, что в этот момент дело короля, дело, касавшееся не престола, а жизни, было тесно связано с их собственным существованием. Предстояло или при помощи строгой справедливости, или при помощи кровавого акта насилия решить, возвратится ли Франция к законному образу действий или будет продолжен революционный период ее истории. С тем или иным решением было тесно связано торжество Жиронды или Горы. Монтаньяры сильно волновались. Они утверждали, что в погоне за формой была позабыта революционная энергия и что защитительная речь Людовика XVI была публичным изложением монархического учения, предложенным вниманию нации. Якобинцы оказывали монтаньярам существенную помощь, и в Конвент являлись с требованием смерти короля депутация за депутацией.
Тем временем жирондисты, не осмелившиеся поддерживать неприкосновенность короля, предложили ловкий способ избавить Людовика XVI от казни, апеллировав на решение Конвента к народу. Крайняя правая еще раз протестовала против преобразования Конвента в судилище. Но компетентность Конвента была предрешена, и здесь сделать ей ничего не удалось; ее усилия поэтому пришлось направить на другое. Салль предложил признать Людовика виновным, но выбор наказания предоставить первичным избирательным собраниям. Бюзо из опасения, что Конвент станут упрекать в слабости, полагал, что он сам должен определить королю наказание, но затем свое решение представить на утверждение народу. Это последнее мнение особенно сильно оспаривалось не только монтаньярами, но даже и большей частью умеренных членов Конвента, видевших в созыве выборных собраний призрак гражданской войны. Собрание единогласно постановило, что Людовик во взводимом на него обвинении виновен раньше, чем был разрешен вопрос об апеллировании к народу. За апелляцию было подано 284 голоса, а против нее 442 при 10 воздержавшихся. Предстояло тогда решить ужасный вопрос о наказании, которому подлежал король. Париж находился в самом крайнем волнении; депутатам делались угрозы у самых дверей Конвента; было полное основание опасаться новых народных волнений и насилий; Клуб якобинцев разражался градом самых необузданных ругательств против короля и правых Конвента. Партия Горы, до той поры самая малочисленная в Конвенте, старалась собрать большинство при помощи страха и заранее решилась даже в случае неудачи покончить с королем. Четыре часа продолжалась поименная подача голосов, и, наконец, по ее окончании президент Верньо сказал: „Граждане, сейчас я провозглашу результат баллотировки. Правосудие сказало свое слово, теперь черед за человеколюбием“. Всего вотировавших было 721. Абсолютное большинство составляло, таким образом, 361 голос. Смертный приговор был произнесен большинством в 26 голосов. Мнения перепутались; многие жирондисты голосовали за казнь, правда, с отсрочкой ее исполнения; большая часть правой вотировала изгнание или заключение; некоторые монтаньяры подавали голоса вместе с жирондистами. Когда выяснился результат баллотировки, президент с оттенком горести в голосе произнес: „От имени Конвента я объявляю, что он признал Людовика Капета заслуживающим казни“. Защитники короля появились у кафедры; все они были сильно взволнованы. Они взывали к милосердию Собрания, указывая на то незначительное количество голосов, которым прошло решение о казни. Но и этот вопрос обсуждался уже раньше и раньше был решен. „Законы всегда принимаются простым большинством голосов“, — сказал один из монтаньяров. „Да, — возразил ему чей-то голос, — но надо принять во внимание, что декрет можно затем и отменить, а возвратить жизнь нет возможности“. Мальзерб хотел говорить, но не имел для этого достаточно силы. Рыдания заглушили его голос, и он смог произнести только несколько умоляющих бессвязных слов. Его отчаяние тронуло Собрание. Как последнее средство к спасению короля, жирондисты попробовали добиться отсрочки исполнения казни, но и тут они потерпели неудачу, и роковой приговор был произнесен в окончательной форме.
Людовик был готов к такому приговору. Когда Мальзерб, весь в слезах, пришел возвестить Людовику смертный приговор, он нашел его в темной комнате, сидевшего в глубокой задумчивости, облокотясь локтями на стол и закрыв лицо руками. При шуме шагов Мальзерба Людовик поднялся со своего места и сказал: „Целых два часа я был занят тем, что старался припомнить, заслужил ли я за все время моего царствования хотя бы малейший упрек от своих подданных. И что же, клянусь вам, г-н Мальзерб, клянусь от всего сердца, как человек, который в самом непродолжительном времени предстанет перед Всевышним, я постоянно желал для моего народа счастья, и никогда у меня не являлось никакого желания или намерения, противных его благу“. Мальзерб постарался уверить короля, что отсрочка казни не будет отвергнута, но Людовик этому не поверил. Провожая Мальзерба, он просил не покидать его в последние минуты. Мальзерб обещал ему вернуться, но сколько раз он ни являлся затем в Тампль, его к королю не допускали. Людовик часто спрашивал о нем и был очень огорчен, что он не приходит. Он без заметного волнения принял объявление о смертном приговоре, сообщенное ему министром юстиции. Он попросил только три дня для того, чтобы приготовиться к предстанию перед Всевышним, попросил также, чтобы его напутствовал священник, которого он укажет, и чтобы до смерти ему было разрешено видеться с женой и детьми. Только две последние просьбы его были удовлетворены.
Минута свидания была для этой несчастной семьи ужасна, а минута расставания еще того ужаснее. Людовик, уходя, обещал повидаться с семьей еще наутро, но, удалившись в свою комнату, почувствовал, что это испытание слишком невыносимо и, ходя по комнате большими шагами, сказал: „Я не пойду“. Это была последняя его борьба; позже он думал только уже о приготовлении к смерти. В ночь, предшествующую казни, он спал спокойно. В пять часов, согласно его просьбе, он был разбужен Клери и отдал свои последние распоряжения. Он принял причастие, поручил Клери передать его последние слова и вручил ему все то, что имел еще право завещать: кольцо, печать и несколько прядей волос. Между тем забили барабаны, слышен был грохот подъезжающих орудий, раздавался смутный шум от множества голосов. Наконец, появился Сантерр. „Вы пришли за мною, — сказал ему Людовик, — через минуту я буду к вашим услугам“. Затем он передал муниципальному чиновнику свое завещание, потребовал шляпу и сказал совершенно твердым голосом: „Едем“.
Целый час пришлось карете затратить для того, чтобы доехать от Тампля до площади Революции. На протяжении всего пути были расставлены в два ряда солдаты; под ружье было собрано более 40 000 человек. Париж был угрюм. У граждан, присутствовавших на этой прискорбной казни, не видно было ни одобрения ее, ни сожаления к королю; все были молчаливы. Приехав к месту казни, Людовик вышел из кареты. Он твердыми шагами взошел по ступеням на эшафот, принял коленопреклоненный последние благословения от священника, который, как говорят, сказал ему: „Сын святого Людовика, иди на небо“. Затем, хотя и с видимым отвращением, он позволил связать себе руки и, живо обернувшись к левой стороне эшафота, сказал: „Я умираю невинный, но я прощаю моим врагам, а ты, несчастный народ…“ Тут был дан сигнал начать барабанный бой, и он покрыл голос короля. Три палача его схватили, и в 10 часов 10 минут он перестал жить.
Таким образом погиб, имея тридцать девять лет от роду и после шестнадцати с половиной лет царствования, проведенных в поисках добра, лучший, но слабейший из монархов. Предки оставили ему в наследство революцию. Более чем кто-либо из них он был способен предотвратить или закончить ее, ибо он вполне мог стать перед тем, как она разразилась, королем-реформатором или после нее королем конституционным. Он являлся, пожалуй, единственным из государей, не имевшим никаких страстей, и в том числе страсти к власти, и соединявшим в себе страх перед Богом и любовь к народу — два качества, необходимых для того, чтобы быть хорошим королем. Погиб он жертвой страстей, которых вовсе не разделял, страстей своих приближенных, которые были ему совершенно чужды, и страстей толпы, которых он не возбуждал. Мы не много знаем королей, о которых сохранилась бы такая добрая память, как о Людовике XVI. История может сказать о нем, что при большей твердости характера он был бы королем единственным в своем роде.
Глава VII С 21 января до 2 июня 1793 г.
Политическое и военное положение Франции. — Англия, Голландия, Испания, Неаполь и все имперские округа присоединяются к коалиции. — Дюмурье, покорив Бельгию, задумывает поход в Голландию. — Он желает восстановить конституционную монархию. — Неудачи французских войск — Борьба монтаньяров и жирондистов; заговор 10 марта. — Восстание в Вандее; его успехи. — Измена Дюмурье. — Жирондистов обвиняют в сообщничестве с ним; новые комплоты против них. — Учреждение Комиссии двенадцати с целью разрушить планы заговорщиков. — Восстания 27 и 31 мая против Комиссии двенадцати; Комиссия уничтожена. — Восстание 2 июня против 22-х главных членов Жиронды; арест их. — Совершенное поражение этой партии.
Смерть короля сделала совершенно невозможным примирение между партиями и значительно увеличила число внешних врагов революции. Республиканцам теперь приходилось бороться со всей Европой против разнообразных классов недовольных и, кроме того, еще между собой. Монтаньяры, однако, руководившие брожением народных масс, полагали, что в своем влиянии зашли уже слишком далеко для того, чтобы не довести дело до крайности. План Дантона и монтаньяров, выбравших его своим предводителем, был таков: напугать врагов революции речами, призраками опасности и восстаниями возбудить фанатизм толпы, вверить все народу — и управление, и заботу о безопасности республики, вызвать в нем во имя свободы, равенства и братства страстный энтузиазм, поддерживать его в этом напряженном состоянии кризиса и пользоваться его страстями и его силой. Не кто иной, как Дантон, усиливал народное возбуждение по мере возрастания опасностей для республики и именно он, вместо законов свободы, под именем революционного правительства водворил в государстве деспотизм толпы. Робеспьер и Марат шли еще дальше, чем он; они хотели обратить в постоянный тот режим, на который Дантон смотрел только как на неизбежный переход. Дантон был политическим вождем, а Робеспьер был настоящим сектантом; при этом у первого из них преобладало честолюбие, а у второго — фанатизм.
Монтаньяры при посредстве катастрофы 21 января одержали важную победу над Жирондой, политика которой была значительно более нравственной, чем их, которая желала спасти революцию, не обагряя ее кровью. Их гуманность, однако, вначале слишком робкая, и их слишком поздно начавший проявляться дух справедливости не послужил им ни для чего и в конце концов обратились против них самих; жирондистов обвиняли в том, что они являются врагами народа, только потому, что они восставали против его крайностей; о них говорили, что они сообщники тирана, так как они хотели спасти Людовика XVI; их обвиняли, наконец, в измене республике, так как они проповедовали умеренность. Подобными упреками монтаньяры преследовали жирондистов с упорным ожесточением и в Конвенте, и вне его, начиная с 21 января и кончая 31 мая и 2 июня. Долгое время жирондисты пользовались поддержкой центра, который вместе с правой были против убийств и анархии, а вместе с левой — за меры общественного спасения. Эта масса, которая, в сущности говоря, и составляла нечто среднее в Конвенте и воплощала его дух, выказывала некоторую решимость и уравновешивала до известной степени силу Горы и Парижской коммуны до тех пор, пока среди нее находились жирондисты, всегда красноречивые, иногда бесстрашные и унесшие с собой в тюрьму и на эшафот всю твердость и все великодушные решения Собрания.
Была, впрочем, и минута согласия между различными партиями Собрания. Лепелетье Сент-Фаржо был заколот одним из бывших телохранителей короля, по имени Пари, за то, что вотировал за казнь Людовика. Члены Конвента ввиду общей всем угрожающей опасности на могиле Лепелетье поклялись позабыть все свои раздоры, но, однако, скоро снова занялись ими. В Mo подверглись преследованию некоторые из сентябрьских убийц, наказания которых требовали достойные уважения республиканцы. Монтаньяры, опасаясь, чтобы не стали разбираться и в их образе действия в прошлом и чтобы их противники не воспользовались преимуществом произнесенного над бунтовщиками и убийцами приговора для открытого нападения на них, принудили прекратить преследования. Эта безнаказанность придала еще больше храбрости вождям толпы; Марат, приобретший к этому времени почти неограниченное влияние на толпу, подбил народ к грабежу торговцев, которых он обвинял в скупке жизненных припасов. Он страшно восставал в своих листках и в Якобинском клубе против буржуазной аристократии, купцов и государственных людей (так он называл жирондистов), т. е. против всех тех, кто в народе или Конвенте противились еще господству санкюлотов и монтаньяров. В фанатизме и непобедимом упорстве этих сектантов было что-то ужасающее. С самого начала Конвента они не называли жирондистов иначе, как интриганами, за то влияние, которое они приобрели, и за те не совсем-то прямые средства, которые они употребляли в департаментах против смелых и публичных действий якобинцев.
Рядом с этим в Клубе якобинцев изобличения жирондистов производились совершенно регулярно. „В Риме один оратор ежедневно повторял: надо разрушить Карфаген. Пусть же кто-нибудь из якобинцев каждый день с трибуны произносит: надо уничтожить интриганов. Да и кто может устоять против нас? Мы сражаемся против преступления и эфемерной власти богатства; за нас истина, справедливость, бедность, добродетель… Располагая таким оружием, якобинцам вскоре можно будет сказать: мы только прошли мимо, а они, наши противники, уже перестали существовать“. Марат, значительно более смелый и решительный, чем Робеспьер, ненависть и планы которого всегда были более или менее прикрыты, был покровителем всех доносчиков и всех анархистов. Многие из монтаньяров ставили ему в вину, что он компрометирует их партию и их задачи запальчивостью Своих советов и не знающими удержу крайностями; все же якобинцы из простого народа поддерживали его даже против Робеспьера, редко одерживавшего верх в разногласиях с Маратом. Разграбление имущества некоторых купцов, к которому в феврале месяце призывал „Друг народа“(Ami du peuple) и которое должно было служить примером, было осуществлено на деле; на Марата был сделан Конвенту донос, и Конвент после бурного заседания постановил предать его суду. Декрет этот, однако, не был приведен в исполнение, так как обыкновенные суды не имели ровно никакого авторитета и власти. Эта двойная проверка силы одной стороны и слабости другой стороны произошла в течение февраля. В скором времени события еще более решительного характера привели жирондистов к окончательной гибели.
Военное положение Франции до этих пор было более или менее удовлетворительное. Дюмурье только что закончил блестящую Аргонскую кампанию завоеванием Бельгии. После отступления пруссаков он явился в Париж, чтобы подготовить вторжение в австрийские Нидерланды. Возвратившись назад к армии 20 октября 1792 г., он начал наступление 28-го числа того же месяца. План, который был испробован так некстати с такими незначительными силами и таким малым успехом в начале войны, был возобновлен и приведен в исполнение с гораздо большими силами и средствами. Дюмурье во главе Бельгийской армии из 40 000 человек двинулся из Валансьена к Монсу, упираясь справа на Арденскую армию из 16 000 человек, под начальством генерала Валанса, шедшую из Живе на Намюр, а слева на Северную армию из 18 000 человек, двигавшуюся под начальством генерала Лабурдонне из Лилля к Турне. Австрийская армия, расположенная перед Монсом, ожидала боя в траншеях. Дюмурье разбил ее совершенно; сражение при Жемапе открыло французам путь в Бельгию и было началом нового преобладания в Европе силы французского оружия. После победы 6 ноября Дюмурье 7-го вошел в Монс, 14-го в Брюссель, а 28-го в Льеж; Баланс тем временем занял Намюр, Лабурдонне завладел Антверпеном, и к середине декабря завоевание австрийских Нидерландов было совершенно закончено. Французская армия, обеспечив себе полное господство на Маасе и Шельде и отбросив австрийцев за Роэр, хотя смело могла бы прогнать их и за Рейн, расположилась на зимовку.
С этих пор начались враждебные отношения между Дюмурье и якобинцами. 15 декабря Конвент особым декретом отменил законы, действовавшие в завоеванных странах, и везде ввел в них демократическое устройство. Якобинцы со своей стороны послали в Бельгию особых агентов для пропагандирования там революции и для учреждения клубов наподобие якобинского; фламандцы приняли сначала французов с восторгом, но затем довольно быстро охладели к ним вследствие тех реквизиций, которые войска там производили, повсеместного грабежа и той невыносимой анархии, которую за собой внесли якобинцы. Вся партия, сражавшаяся против австрийского владычества и надеявшаяся стать свободной под протекторатом Франции, нашла слишком тяжелым французское господство и стала сожалеть о том, что призвала на помощь и поддерживала французов. Дюмурье, у которого были свои проекты независимости для фламандцев и удовлетворения честолюбия для себя, отправился в Париж с жалобой на подобный не политический образ действия по отношению к завоеванной стране. Он изменил свой образ действия, бывший до тех пор двусмысленным. Ранее он не пренебрегал ничем, чтобы удержаться, ладил с обеими партиями и не примкнул ни к одной из них, надеясь управлять правой при помощи своего друга Жансонне, Горой при посредстве Дантона и Лакруа и внушить уважение обеим сторонам своими победами. Теперь, во время своей второй поездки в Париж, он сделал попытку остановить действия якобинцев и спасти Людовика XVI, но не успел в этом и, возвратясь к армии, начал свою вторую кампанию, весьма недовольный результатами поездки и приняв решение воспользоваться своими новыми победами, чтобы приостановить ход революции и переменить ее правительство.
Все границы Франции должны были быть атакованы одновременно европейскими державами. Военные успехи революции и катастрофа 21 января заставили войти в коалицию против Франции большую часть правительств, до того времени колебавшихся или нейтральных.
При известии о смерти Людовика XVI Сент-Джеймский кабинет выслал из Англии французского посла Шовелена, которого он уже отказался признавать и раньше, с 10 августа, дня свержения Людовика с престола. Конвент, увидя, что Англия присоединяется к коалиции и что, следовательно, все ее обещания относительно сохранения нейтралитета обманчивы и ложны, 1 февраля 1783 г. объявил войну королю великобританскому, равно, как и голландскому штатгальтеру, который, начиная с 1780 г., был вполне подчинен Сент-Джеймскому кабинету. Англия, которая до той поры сохраняла по крайней мере мирную по отношению к Франции внешность, теперь воспользовалась представившимся случаем, чтобы выступить на театре военных действий. Будучи давно готовым к разрыву, Питт, напрягая все свои силы, заключил в течение шести месяцев семь союзных договоров и шесть договоров о субсидиях. Вот эти договоры: 4 марта договорные статьи между Англией и Ганновером; 25 марта Лондонский дружеский договор между Англией и Россией; 10 апреля договор о субсидиях с ландграфом Гессен-Кассельским, 25 апреля договор о субсидиях с Сардинией; 25 мая Мадридский договор о союзе с обеими Сицилиями, 14 июля союзный договор с Пруссией, заключенный в лагере перед Майнцем; 30 августа Лондонский союзный договор с австрийским императором; 21 сентября договор о субсидиях с маркграфом Баденским; 26 сентября Лондонский союзный договор с Португалией. По всем этим договорам, в особенности же по договорам с Пруссией и Австрией, Англия обязалась выдать значительные субсидии. Англия в конце концов стала душой коалиции против Франции; флот ее всякую минуту готов был распустить паруса, министерство получило в свое распоряжение на необычайные расходы 80 миллионов, и Питт стремился воспользоваться революцией, чтобы укрепить за Англией преобладание, подобно тому, как в 1650 г. Ришелье и Мазарини воспользовались кризисом в Англии, чтобы распространить влияние Франции в Европе. Сент-Джеймский кабинет руководствовался главным образом интересами чисто английскими; он желал достичь во что бы то ни стало упрочения аристократической власти в его собственной стране и приобретения исключительного господства Англии в обеих Индиях и на море.
Сент-Джеймский кабинет произвел и второй набор держав в коалицию. В Испании только что произошла перемена министерств: пресловутый Годой, герцог д'Алькудиа, а впоследствии князь де ля Пэ, был при помощи интриг и происков Англии и эмигрантов поставлен во главе министерства. Испания тогда прервала сношения с Французской Республикой, предварительно тщетно ходатайствуя за Людовика XVI и обещая сохранять нейтралитет, если королю будет пощажена жизнь. Германская империя вся присоединилась к державам, ведущим войну; Неаполь последовал примеру правительства папской области, высказавшегося против Франции; во всей Европе нейтралитет продолжали сохранять только Венгрия, Швейцария, Швеция, Дания и Турция. Россия все еще была занята вторым разделом Польши.
Республике теперь со всех сторон угрожали наиболее опасные и лучшие в Европе войска. Ей приходилось сражаться на Альпах с 45 000 австрийцев и сардинцев, на Пиренеях с 50 000 испанцев; на нижнем Рейне и на границах Бельгии с 70 000 австрийцев, подкрепленных 38 000 англо-голландцев; между Маасом и Мозелем с 33 400 австрийцами; на среднем и верхнем Рейне с 112 600 пруссаками, австрийцами и имперцами. Чтобы справиться со всем этим неприятелем, Конвент декретировал набор в 300 000 человек. Эту меру внешней обороны сопровождала партийная мера внутри страны. Когда вновь сформированные батальоны перед тем, как выступить из Парижа, явились перед Конвентом, Гора потребовала учреждения особого чрезвычайного судилища для поддержания изнутри той революции, во имя которой войска шли сражаться на границах. Это судилище из девяти членов должно было судить безапелляционно и без участия присяжных. Жирондисты всеми силами старались воспрепятствовать учреждению такого произвольного и страшного судилища, предназначенного для их наказания. Им удалось достичь только одного: ввести в это судилище присяжных, не допустить в состав его людей крайних убеждений и парализовать его действия все время, пока они сохраняли хоть некоторое влияние.
Главные усилия коалиции были направлены на длинную границу между Антверпеном, Рурмондом и Гюнингеном. Принц Кобургский должен был атаковать французскую армию на Роэре и Маасе и проникнуть в Бельгию, в то время как на другом конце границы пруссаки должны были выступить против Кюстина, дать ему сражение, осадить Майнц и, взяв его, возобновить неудачно произведенное в прошлый раз вторжение во Францию. Эти две главных действующих армии должны были быть поддержаны значительными силами в пунктах промежуточных. Дюмурье, занятый в момент, когда следовало помышлять только об опасностях, угрожавших Франции, своими честолюбивыми и реакционными замыслами задумал восстановить во Франции королевскую власть 1791 г., вопреки желанию как Конвента, так и Европы. Дюмурье надеялся осуществить один в пользу разрушенной конституции и не имевшей за собой никакой партии королевской власти то, что не удалось сделать ни Буйе для старой монархии, ни Лафайету для конституционного трона в гораздо более благоприятное время.
Вместо того чтобы, как это следовало при данных обстоятельствах генералу, хотя бы и честолюбцу, оставаться нейтральным между обеими партиями, Дюмурье предпочел порвать с ними совершенно, чтобы приобрести над ними господство. Он полагал, что ему удастся составить партии во Франции; он предполагал проникнуть в Голландию при посредстве батавских республиканцев, настроенных оппозиционно по отношению к штатгальтерству и к английскому влиянию, освободить Бельгию от якобинцев, соединить эти две страны в одно независимое государство и, создав себе славу завоевателя, присвоить себе над ними политический протекторат. Чтобы запугать партии, ему необходимо было заручиться расположением войск, пойти с ними на столицу, разогнать Конвент, закрыть народные общества, возобновить действие Конституции 1791 г. и дать Франции короля.
План этот, совершенно невыполнимый посреди великого столкновения между Европой и революцией, кипучему и склонному к авантюрам Дюмурье казался совершенно легким. Вместо того, чтобы защищать границу от Майнца до Роэра, которой наиболее угрожало нападение, он бросился влево и вступил в Голландию во главе отряда из 20 000 человек. Быстрыми переходами думал он достигнуть центра Соединенных провинций, захватить их крепости с тылу и около Нимвегена соединиться с генералом Миранда, который должен был, по его расчету, к этому времени во главе своего 25-тысячного отряда овладеть Маастрихтом. Рядом с этими действиями особой 40-тысячной армии поручено было следить за австрийцами и охранять правое крыло экспедиционного отряда.
Дюмурье энергично повел свою голландскую экспедицию; он взял Бреду, Гертруденберг и готовился перейти Бис-Бош и овладеть Додрехтом. В это время, однако, правая армия потерпела на нижнем течении Мааса несколько самых серьезных поражений. Австрийцы начали наступать, перешли через Роэр, разбили при Ахене Миазинского, принудили Миранда снять блокаду с Маастрихта, совершенно без пользы им разрушенного, перешли через Маас и около Льежа обратили в полное бегство французскую армию, отступившую к Тирлемонту и Лувену. Дюмурье получил от Исполнительного комитета приказания как можно скорее выехать из Голландии и принять начальство над войсками, находившимися в Бельгии; он вынужден был повиноваться и отказаться от некоторой части своих наиболее сумасшедших, но в то же время и самых для него дорогих надежд.
Якобинцы при получении известий об этих поражениях стали еще более несговорчивыми. Не допуская возможности поражения без измены, в особенности после блестящих и неожиданных побед прошлой кампании, они считали, что поражения эти зависят от партийных расчетов. Они высказывали обвинения против жирондистов, министров и генералов, говоря, что все они стакнулись, чтобы предать республику ее врагам, и все желают ее гибели. К подозрениям примешалось соперничество: монтаньяры столько же заботились о защите угрожаемой территории, сколько стремились к приобретению исключительного влияния; начали они с жирондистов. Чтобы отделаться от них и имея в виду, что народ не мог согласиться на изгнание избранных им самим представителей, они прибегли к заговору и решили умертвить жирондистов в самом Конвенте, где они бывали в полном сборе; для выполнения этого плана была назначена ночь на 10 марта. Ввиду опасностей, угрожавших государству, заседания Конвента происходили без перерыва день и ночь. 9 марта в клубах якобинцев и кордельеров было решено запереть заставы, ударить в набат и двумя отрядами двинуться на Конвент и к министрам. Заговорщики двинулись в путь в назначенный час, но различного рода обстоятельства помешали им выполнить выработанный план. Жирондисты были предупреждены и на заседание не явились; городские секции не пристали к заговору, а Бернонвиль, военный министр, двинулся против заговорщиков во главе батальона брестских федералистов; все эти непредвиденные затруднения и осложнения, а также все время ливший дождь разогнали повстанцев. На другой день в Конвенте Верньо разоблачил комитет заговорщиков, задумавший эти убийства, потребовал, чтобы Исполнительный комитет собрал все сведения, касающиеся заговора 10 марта, пересмотрел списки членов политических клубов и арестовал членов комитета восстания. „Мы переходим, — воскликнул он, — от преступлений к амнистии и от амнистии к преступлениям. Большое число граждан дошло уже до того, что смешивает мятежные восстания с великим делом борьбы за свободу, в воззваниях разбойников видит вспышку энергетических душ и принимает разбой за меру общественной безопасности. На наших глазах произошло развитие этого странного взгляда на свободу, по которому нам говорят: вы свободны, но должны мыслить точно так, как мы, а не то мы вас предадим мести народа; вы свободны, но обязаны преклонять голову перед тем идолом, которому поклоняемся мы, или мы предадим вас мести народа; вы свободны, но спешите присоединиться к нам ради преследования людей, опасных для нас своей честностью и познаниями, или мы предадим вас мести народа! Граждане, приходится опасаться, чтобы революция, подобно Сатурну, не пожрала постепенно и последовательно своих собственных детей и не породила бы деспотизм со всеми его ужасами и несчастьями“. Эти пророческие слова произвели некоторое впечатление на Конвент, но меры, предложенные Верньо, не привели ни к чему.
Якобинцы были остановлены только на время неудачей их первого предприятия против жирондистов. Вскоре им прибавило смелости восстание в Вандее. Вандейская война была неизбежным последствием революции. Страна эта, прилегая к морю и Луаре и усеянная селами, поселками и хуторами, не обладала достаточными путями сообщения и вообще оставалась еще почти при прежнем феодальном устройстве. Городов в Вандее почти не было, средний класс населения был очень немногочислен, и новые идеи потому проникали в нее туго. Класс поселян не имел других понятий, кроме тех, что ему внушали священники, и не отделял своих интересов от интересов господ. Эти простые, сильные, религиозные и преданные старому порядку люди совершенно не понимали революции, так как она являлась результатом верования и потребностей, совершенно с ними ничего не имевших общего. Знать и священство, чувствуя свою силу и влияние, совершенно из Вандеи не эмигрировали; здесь в полной мере сохранялись понятия старого режима, здесь оставались люди, ему преданные, и поэтому Вандее суждено было стать центром партии монархического режима. Было ясно, что рано или поздно, а столкновение между Вандеей и Францией, так сильно различающимися и по верованиям, и по организации, должно произойти; фанатизм монархической власти и фанатизм главенства народа под противоположным влиянием, с одной стороны, духовенства, а с другой — революции, не могли не двинуться под сенью своих знамен друг на друга, одна ради восстановления старого режима, другие — для того, чтобы доставить торжество новому общественному укладу.
Уже несколько раз в Вандее вспыхивали то тут, то там местные восстания. В 1792 г. маркиз де ля Руари подготовил всеобщее восстание, не удавшееся только ввиду его ареста; все население было, однако, полно еще им, когда был объявлен набор в 300 000 человек. Набор этот послужил как бы сигналом к мятежу. Рекруты разбили жандармерию в Сен-Флоране и выбрали предводителями в различных пунктах каретника Катлино, морского офицера Шаретта и лесничего Стофле. Благодаря пособию деньгами и оружием, полученному из Англии, восстание быстро охватило всю Вандею; на звуки набата откликнулось 900 общин, и тогда к прежним вождям присоединились новые, из знати — Бошан, Лескюр, Ларошжакелен, д'Эльбе и Тальмон. Высланные против мятежников линейные войска и батальоны Национальной гвардии были разбиты. Генерал Марсо был опрокинут при Сен-Венсане отрядом под начальством Стофле; д'Эльбе и Боншан разбили генерала Говилье при Бопрео; Ларошжакелен разбил генерала Кетино при Обье и генерала Лигонье при Шоле.
Вандейцы, овладев Шатильоном, Брессюиром и Вийе, сочли, что ранее, чем действовать дальше, им необходимо организоваться. Они образовали три корпуса от 10 до 12 тысяч в каждом, по одному корпусу в каждом из трех военных округов Вандеи; первый корпус под начальством Боншана стал на берегах Луары и получил наименование Анжуйской армии, второй под начальством д'Эльбе занял центральную часть страны и получил название Большой армии, третий под начальством Шаретта расположился в Нижней Вандее и стал известен под названием Армии Болота. Для руководства военными действиями мятежники составили особый военный совет, а Катлино избрали генералиссимусом. Такого рода меры и такое разделение страны на округа облегчило набор мятежников и позволяло солдат то призывать под знамена, то отпускать снова по домам для полевых работ.
Известие о Вандейском восстании принудило Конвент принять еще более суровые, чем прежде, меры против духовенства и эмигрантов. Он поставил вне закона священников и дворян, принимающих участие в сборищах; он обезоружил всех принадлежащих к привилегированному сословию. Прежние эмигранты были лишены навсегда права возвратиться на родину, — в случае возвращения они подлежали смертной казни; имущества их были конфискованы. На дверях каждого дома должен был находиться список лиц, в нем живущих; революционное судилище, действия которого до этого времени удалось приостановить, приступило к своим ужасным обязанностям.
Тем временем приходили одно за другим известия о новых военных неудачах. Дюмурье, возвратившись в Бельгийскую армию, сосредоточил все свои силы, чтобы оказать сопротивление австрийскому принцу Кобургу. Войска его были обескуражены и терпели недостаток в продовольствии; Дюмурье написал Конвенту угрожающее письмо, направленное против разоблачавших его якобинцев. Некоторые мелочные успехи отчасти восстановили в армии ее прежнюю уверенность, и, пользуясь этим, Дюмурье рискнул дать генеральное сражение при Неервиндене; сражение было им проиграно. Бельгию пришлось эвакуировать, и Дюмурье, очутившись между австрийцами и якобинцами и будучи разбит одними и преследуем другими, для осуществления своих прежних планов прибег к преступному средству — измене. Он начал вести переговоры с полковником Макком и условился с австрийцами, что пойдет на Париж и восстановит там монархию, а они останутся на границе, получив в виде гарантий несколько крепостей. Надо полагать, что Дюмурье желал возвести на конституционный трон юного герцога Шартрского, впоследствии короля Луи Филиппа, приобретшего известность во время этой кампании. Принц Кобургский надеялся, со своей стороны, что раз контрреволюции удастся дойти до этого, то самою силою вещей ей придется идти еще дальше, и она полностью восстановит прежнюю монархию и возведет на французский престол сына Людовика XVI. Контрреволюция, совершенно подобно революции, не может останавливаться на пути, и ей необходимо израсходовать все свои силы. Якобинцы вскоре были поставлены в известность относительно проектов Дюмурье; потому ли, что он желал испытать свои войска, или потому, что желал напугать своих врагов, а может быть, и просто по своему легкомыслию, Дюмурье не слишком-то и скрывал свои планы. Чтобы совершенно убедиться в правильности полученных известий, Клуб якобинцев послал к Дюмурье в качестве посольства троих из своих членов: Проли, Перейру и Дюбюиссона. Принятые Дюмурье, они получили от него желаемые доказательства; Дюмурье оказался откровеннее, чем они ожидали. „Конвент, — сказал он, — представляет собой собрание семисот тридцати пяти тиранов. Покуда у меня есть хотя четыре дюйма железа, я не потерплю, чтобы он царствовал и при помощи созданного им Революционного трибунала проливал кровь. Республика, — прибавил он, — это пустое слово; я верил ей всего в продолжение трех дней: после битвы при Жемаппе я не перестаю раскаиваться во всех победах, одержанных мной ради такого неправого дела. Нет другого средства спасти родину, как восстановить Конституцию 1791 г. и вместе с ней королевскую власть“. „Как можете думать вы об этом, генерал? — сказал Дюбюиссон, — французы ненавидят монархию, и одно имя Людовика…“ „Да не все ли равно, будет ли называться король Людовиком, Филиппом или Яковом?“ — „Но какими же располагаете вы средствами?“ — „У меня есть армия… да, армия пойдет за мной, она из моего лагеря или какого-нибудь укрепленного места заявит, что желает видеть во Франции короля“. — „Ваш проект может скомпрометировать положение заключенных в Тампле“. — „Пусть Бурбоны, даже те, что находятся в Кобленце, будут перебиты все до единого, это не помешает Франции иметь короля; если же Париж подобное убийство присоединит к уже ранее совершенным и составляющим его позор, то я тотчас же двинусь против него“. Выказав так неосторожно свои намерения, Дюмурье принялся за выполнение своего несбыточного плана. Положение его было поистине затруднительно: правда, солдаты были весьма к нему привязаны, но не меньше привязанность их была и к отечеству. Надо было сдавать неприятелю укрепления, которых он не был полным хозяином, и все заставляло думать, что подчиненные ему генералы — некоторые из любви к отечеству, другие из честолюбия — по отношению к нему поступают не иначе, как он в свое время поступил по отношению к Лафайету. Первая произведенная им попытка не предвещала ничего хорошего. Утвердившись в Сент-Аманде, он захотел овладеть Лиллем, Конде и Валансьеном; предприятие это потерпело полную неудачу. Неудача эта была причиной его колебаний, и он не посмел взять на себя инициативу наступления.
Иначе повел себя Конвент; он действовал с энергией, смелостью, твердостью и в особенности уверенностью, которые должны были упрочить за ним победу. Когда знаешь, чего хочешь, и когда хочешь пламенно и сильно, то почти всегда достигаешь желаемого; вот чего недоставало Дюмурье, что остановило его решимость и поколебало его приверженцев. Как только Конвенту было доложено о намерениях Дюмурье, он потребовал, чтобы генерал явился дать объяснения; он отказался повиноваться, хотя еще и не поднял знамени восстания. Конвент тотчас послал четырех из своих членов — Камю, Кинетта, Ламарка и Банкаля и военного министра Бернонвилля с наказом доставить Дюмурье в Конвент, хотя бы для этого его пришлось арестовать посреди его армии. Дюмурье принял комиссаров в присутствии своего штаба; они вручили ему декрет Конвента; он прочел его и возвратил обратно, заявив, что положение армии не позволяет ему ее покинуть. Он выразил желание подать в отставку и обещал, когда все успокоится, сам потребовать над собой суда и отдать отчет в своих намерениях и поступках. Комиссары уговаривали его подчиниться и указывали на пример римских полководцев. „Мы всегда передергиваем цитаты и искажаем римскую историю, — сказал он, — извиняя наши теперешние преступления ссылками на тогдашние добродетели. Римляне не убили Тарквиния; римляне имели правильную и управляемую хорошими законами республику; у них не было ни Клуба якобинцев, ни Революционного трибунала. Мы переживаем время полной анархии; они желают получить мою голову, но я не хочу им ее отдать“. „Гражданин генерал, — перебил его Камю, — желаете ли повиноваться декрету Национального конвента и ехать в Париж?“ — „Во всяком случае, не сейчас!“ — „Прекрасно! В таком случае я отрешаю вас от вашей должности, я лишаю вас чина и приказываю арестовать вас!“ — „Всему есть границы!“ — воскликнул Дюмурье и приказал немецким гусарам арестовать посланцев Конвента; он передал их затем авсирийцам в качестве заложников.
После такого акта насилия раздумывать больше было нельзя. Дюмурье предпринял второе нападение на Конде, но опять без успеха; он хотел увлечь армию за собой в измену, но армия не пошла за ним. Солдаты еще долгое время оказывали предпочтение республике перед генералом; приверженность к революции не потеряла еще своего пыла, а гражданская власть своего значения. Дюмурье, объявив себя против Конвента, испытал ту же участь, что Лафайет, ставший противником Законодательного собрания, и Буйе, пошедший против Собрания учредительного. И не только Дюмурье, но даже генерал, соединивший в себе твердость Буйе с патриотизмом и популярностью Лафайета и с победами Дюмурье, в это время непременно потерпел бы неудачу. Революция в связи с вызванным ею движением неизбежно должна была быть сильнее партий, генералов и Европы. Дюмурье не оставалось ничего другого, как перейти к неприятелю; он перешел в австрийский лагерь вместе с герцогом Шартрским, полковником Тувено и двумя эскадронами французской конницы; остальная часть его армии направилась в Фамарский лагерь и соединилась там с войсками, бывшими под начальством Дампьера.
Конвент, узнав об аресте комиссаров, объявил свои заседания непрерывными, признал Дюмурье изменником отечеству, разрешил всякому гражданину безнаказанно убить его, оценил его голову, учредил пресловутый Комитет общественного спасения и изгнал из республики герцога Орлеанского и всех Бурбонов. Хотя в этом случае жирондисты нападали на Дюмурье не менее сильно, чем монтаньяры, их обвинили в сообществе с ним, и к прежним винам их, таким образом, прибавилась новая. Враги их со дня на день становились все более и более могущественными и особенно страшны они становились в минуты общественной опасности. Все время и во всех пунктах борьбы между двумя партиями они одерживали верх. Им удалось остановить преследования за сентябрьские убийства; они узаконили или по крайней мере допустили узурпацию власти Парижской коммуной; они добились сначала суда, а затем и казни Людовика XVI; по их проискам остались безнаказанными февральские грабежи и заговор 10 марта; они добились, вопреки жирондистам, учреждения революционного судилища; они, внушая своими действиями отвращение, принудили Ролана выйти из министерства; они восторжествовали над Дюмурье. Им оставалось отнять у жирондистов их последнее прибежище — Конвент: этого они начали стараться достичь 10 апреля и достигли 2 июня.
Робеспьер поименно преследовал Бриссо, Гаде, Верньо, Петиона и Жансонне в Конвенте; Марат обвинял их на народных собраниях. В качестве президента Клуба якобинцев он составил послание к департаментам, в котором призывал гром петиций и обвинений — против изменников и неверных выборных народа, желавших спасти короля, вотировавших за апелляцию к народу или за тюремное заключение. Правая и Равнина Конвента почувствовали, что настала необходимость им соединиться. Марат был предан суду Революционного трибунала. Эта новость повергла в волнение клубы, толпу и Парижскую коммуну. В виде ответа на это решение мэр Паш от имени главного городского совета и тридцати пяти секций потребовал у Конвента изгнания главнейших из жирондистов. Юный Буайе-Фонфред потребовал своего включения в число изгоняемых товарищей, а члены правой и Равнины поднялись с криком: „Всех, всех нас!“ Правда, петиция эта была затем признана клеветнической, но она являлась первой, извне направленной против Конвента, атакой, и она подготовила умы к падению Жиронды.
Обвинение, предъявленное Марату, далеко не устрашило якобинцев, сопровождавших его в трибунал. Марат был оправдан и с триумфом на руках внесен в Конвент. С этого момента входы в зал Конвента были заняты смелыми санкюлотами, а завсегдатаи Клуба якобинцев наводнили трибуны Конвента. Члены клубов и женщины, прозванные робеспьеровыми вязальщицами, постоянно прерывали ораторов правой и мешали прениям, а вне Конвента старались воспользоваться первым удобным случаем, чтобы покончить с жирондистами. Анрио, начальник секции санкюлотов, подстрекал к этому батальоны, предназначавшиеся к отправке в Вандею. Гаде, поняв тогда, что не время было ограничиваться одними жалобами и речами, и, поднявшись на кафедру, сказал: „Граждане, в то время, как добродетельные люди ограничиваются тем, что вздыхают над несчастьями отечества, заговорщики действуют, чтобы его погубить. Подобно Цезарю, они говорят: Пусть они разговаривают, а сами будем действовать! Необходимо действовать и вам! Зло в безнаказанности заговорщиков 10 марта, зло в анархии, зло в существовании парижских городских властей, жадных в одно время и до денег, и до господства. Граждане, еще есть время, и вы можете еще спасти республику и вашу поколебленную славу. Я предлагаю вам сместить городские власти и в 24 часа заменить муниципалитет собранием председателей секций, созвать как можно скорее в Бурже запасных членов Конвента и разослать декрет об этих мерах с особыми посланными по всем департаментам“. Такое предложение Гаде смутило было сначала Гору. Если бы были немедленно приняты предложенные им меры, то господство Коммуны прекратилось бы и все планы заговорщиков были бы разрушены; но, с другой стороны, подобные меры вызвали бы непременно еще более сильную борьбу партий, собрание в Бурже, весьма вероятно, распустило бы Конвент, центр, около которого вращалось все, был бы таким образом разрушен, и революция не имела бы достаточно сил для подавления внутренних раздоров и отражения внешних атак Европы, — этого испугалась умеренная партия Конвента. Страшась анархии, если не будет обуздана Парижская коммуна и контрреволюция, если народ будет слишком теснить, она желала поддержать равновесие между этими двумя крайними партиями Конвента. Из членов этой партии были составлены Комитеты общественной безопасности и общественного спасения; во главе ее стоял Барер, который, как все люди с правильным суждением, но слабым характером, был за умеренность, пока страх не сделал из него орудия жестокости и тирании. Вместо решительных мер, предложенных Гаде, он предложил выбрать чрезвычайную комиссию из двенадцати членов и поручить ей рассмотреть образ действия муниципалитета, постараться открыть виновников заговора против народного представительства и арестовать их. Эта средняя мера была принята Собранием; Коммуна, таким образом, осталась совершенно неприкосновенной — и она неизбежно должна была восторжествовать над Конвентом.
Комиссия двенадцати своим следствием встревожила членов Парижской коммуны; она открыла новый заговор, долженствовавший быть приведенным в исполнение 22 мая, арестовала несколько заговорщиков и между ними помощника прокурора Коммуны, Эбера, редактора „Папаши Дюшена“ (Père Duchêne), захваченного на заседании муниципалитета. Коммуна была сначала озадачена, но затем стала готовиться к борьбе. С того момента дело шло уже не о заговорах, а о восстаниях; главный городской совет, поощряемый монтаньярами, окружил себя агитаторами, действовавшими среди населения столицы; он распустил слухи, что Комиссия двенадцати намерена почистить Конвент и заменить трибунал, оправдавший Марата, судилищем контрреволюционным. Клубы якобинцев и кордельеров, а также городские секции объявили свои заседания непрерывными. 26 мая волнение населения было уже весьма сильно заметно, а 27-го оно достигло такой силы, что Коммуна могла начать наступательные действия. Она явилась в Конвент и потребовала освобождения Эбера и упразднения Комиссии двенадцати; ее сопровождали депутаты от секций, выражавшие те же пожелания, а зал Собрания был окружен значительной толпой. Секция Сите осмелилась потребовать даже, чтобы члены Комиссии двенадцати были преданы суду Революционного трибунала. Инар, председательствовавший в Конвенте, торжественным тоном заявил депутациям: „Слушайте хорошенько то, что я вам скажу. Объявляю вам от имени всей Франции, что, если когда-либо при помощи одного из тех мятежей, что так часто повторяются с 10 марта и о которых Парижская коммуна не предупреждает Конвент, будет совершено покушение на народное представительство, то Париж будет стерт с лица земли, вся Франция отомстит за такое покушение, и затем придется разыскивать, на котором берегу Сены стоял Париж“. Ответ этот вызвал невообразимый шум. „Я, со своей стороны, — воскликнул Дантон, — объявляю вам, что такая наглость начинает нас тяготить; мы будем вам противодействовать“. Далее, обратившись к правой, он прибавил: „Не может быть больше и речи о соглашении между Горой и трусами, старавшимися спасти деспота“.
В зале царило сильнейшее волнение; трибуны кричали против правой, монтаньяры произносили угрозы, приходившие извне депутации ежеминутно сменяли одна другую, и Конвент оказался окруженным несметной толпой. Кучка секционеров рабочих кварталов под предводительством Раффе разместилась у входов в Конвент с целью его защищать. Жирондисты сколько могли сопротивлялись депутациям и Горе. Осажденные извне, угрожаемые внутри, они воспользовались этим насилием, чтобы возбудить негодование толпы. Министр внутренних дел Гара отнял у них и это средство. Его призвали спросить, каково состояние Парижа, и он удостоверил, что Конвенту опасаться нечего. Мнение Гара, слывшего человеком беспристрастным, но на самом деле увлекавшегося идеями о примирении до совершения двусмысленных поступков, придало смелости монтаньярам. Инару пришлось покинуть председательское кресло; его заменил Эро де Сешель, и это было признаком победы монтаньяров. Новый председатель так отвечал депутациям, до сих пор сдерживавшимся Инаром: „Сила разума и сила народа одно и то же. Вы требуете освобождения одного из муниципальных чиновников и справедливости; представители народа исполнят вашу просьбу“. Было уже очень поздно; правая совершенно потеряла всякую бодрость духа, некоторые из ее членов уехали; петиционеры, взойдя на места представителей народа и смешавшись с монтаньярами, посреди шума и полного беспорядка подали вместе с ними голос за роспуск Комиссии двенадцати и освобождение заключенных. Декрет этот был утвержден посреди рукоплесканий трибун и толпы в половине первого ночи.
Для Жиронды, раз сила была не на ее стороне, было бы благоразумнее не возвращаться к этому принятому Конвентом решению. Если бы не другие причины, то решение это не имело бы другого последствия, кроме уничтожения Комиссии двенадцати. Раздражение во вражде между партиями, однако, дошло до такой степени, что ссора между ними должна была быть так или иначе ликвидирована, они должны были продолжать воевать, так как не могли терпеть друг друга; они должны были идти от поражения к победе, от победы к поражению, с каждым днем становясь все более яростными, и, наконец, наиболее сильная партия должна была восторжествовать над более слабой. На другой день после описанного нами заседания члены правой снова возобновили борьбу в Конвенте; они потребовали отмены вчерашнего декрета, как изданного незаконно, посреди шума и под влиянием насилия, и Комиссия двенадцати была восстановлена. „Вчера вы совершили, — сказал Дантон, — великое дело справедливости. Но имейте в виду, если комиссия сохранит ту тираническую власть, которой она облечена, если народные служители не будут восстановлены в своих должностях, если добрым гражданам придется бояться произвольных арестов, то мы, доказав уже, что превосходим наших врагов в благоразумии и мудрости, превзойдем их и в смелости, и в революционной мощи“. Дантон не желал завязывать бой, опасаясь в одинаковой степени триумфа как жирондистов, так и монтаньяров; поэтому он стремился сначала предупредить 31 мая, а затем смягчить его результаты; ему пришлось, однако, примкнуть к своим во время борьбы и молчать после победы.
Волнение, сначала после уничтожения Комиссии двенадцати несколько успокоившееся, стало снова угрожающим при известии об ее восстановлении. С трибун секционных собраний и народных обществ послышались брань, крики об угрожающей опасности, призыв к вооруженному восстанию. Эбер, выпущенный из тюрьмы, снова показался на заседаниях Парижской коммуны. Ему возложили на голову венок, который он переложил на бюст Брута; в Клубе якобинцев он призывал на голову жирондистов мщение. Робеспьер, Марат, Дантон, Шометт и Паш соединились, чтобы организовать новое движение. Восстание было организовано по образцу восстания 10 августа; 29-е было употреблено на то, чтобы подготовить к нему умы, а 30-го члены избирательной коллегии, комиссары клубов и депутаты от секций собрались в здании епархиального управления, провозгласили восстание, распустили Главный совет Парижской коммуны, затем составили его вновь, заставив тех же членов принести новую присягу; Анрио получил звание главнокомандующего над всеми вооруженными силами, и санкюлотам стали платить по 40 су за каждый день, проведенный под ружьем. Сделав такие распоряжения, 31-го рано утром ударили в набат, забили сбор, собрали войска и двинулись с ними в Конвент, который заседал последнее время в Тюильри.
Собрание заседало уже довольно долго, ибо члены его собрались при первых звуках набата. Собрание по очереди вызывало к себе министра внутренних дел, правителей департаментов и парижского мэра. Гара сообщил о волнениях в Париже, но, казалось, не ждал от них никаких печальных последствий. Люлье от имени департамента уверял Собрание, что восстание чисто моральное. Мэр Паш явился последним и совершенно лицемерно рассказал о действиях мятежников: он говорил, что приложил все усилия, чтобы поддержать порядок, и уверял, что стража у Конвента удвоена и что он запретил давать пушечный тревожный сигнал. Когда он это говорил, однако, вдали раздался этот самый пушечный выстрел. Удивление и тревога Собрания сделались крайними. Камбон призывал Конвент к единодушию; он требовал молчания трибун. „Единственное средство, — сказал он, — разрушить план недоброжелателей в таких экстраординарных обстоятельствах — это заставить уважать Национальный конвент“. — „А я требую, — сказал Тюрио, — чтобы тотчас же была распущена Комиссия двенадцати“. — „А я, — перебил его Тальен, — требую, чтобы меч закона поразил мятежников, находящихся в самой среде Конвента“. Жирондисты со своей стороны желают привлечь к ответу дерзкого Анрио, давшего пушечным выстрелом сигнал к тревоге, не получив на то разрешения Конвента. „Если произойдет битва, — сказал Верньо, — то, каков бы ни был ее исход, она послужит причиной гибели республики. Пусть все члены Конвента поклянутся, что умрут на своих местах“. Все собрание вставанием принимает это предложение. Дантон бежит на кафедру. „Распустите Комиссию двенадцати, — кричит он, — уже прогремел пушечный выстрел. Покажите себя истинными политическими законодателями и вместо того, чтобы осуждать парижское восстание, обратите его на пользу республики, исправив свои ошибки и распустив вашу комиссию“. Раздался ропот. „Я обращаюсь, — прибавил он, — к тем, кто обладает хотя бы какими-либо политическими способностями, а не к тупоумным людям, слушающимся исключительно своих страстей. Им говорю я: сообразите все величие цели, к которой вы стремитесь; ведь эта цель — спасение народа от его врагов, от аристократов, спасение его от его собственного гнева. Если кто-либо, решительно все равно, к какой бы партии он ни принадлежал, пожелает поддержать движение, ставшее после вашего справедливого поступка совершенно излишним, то таких людей уничтожит сам Париж. Я совершенно спокойно требую, вследствие стечения политических обстоятельств, безусловной отмены комиссии“. Комиссия подвергалась свирепым нападкам одной стороны Конвента и весьма слабо защищалась другой стороной; Барер и Комитет общественного спасения, сами ее создавшие, теперь стояли за упразднение, имея в виду поддержать мир и не оставить Собрание на произвол толпы. Умеренные монтаньяры полагали возможным удовольствоваться этой мерой, когда явились депутации. Принятые Конвентом члены департаментских советов и Коммуны и секционные комиссары потребовали не только упразднения Комиссии двенадцати, но и наказания всех ее членов и всех вождей жирондистов.
Тюильри оказался осажденным мятежниками, и присутствие их комиссаров в среде Конвента ободрило крайних монтаньяров, стремившихся к окончательному уничтожению жирондистов. Робеспьер, являвшийся шефом и оратором этих крайних, потребовал слова и сказал: „Граждане, не будем терять этого дня в бесплодных криках и ничего не значащих мероприятиях; этот день, по всей вероятности, будет последним днем борьбы патриотизма с тиранией. Пусть все верные представители народа соединятся, чтобы доставить ему истинное счастье!“ Он упирал, далее, на то, что Конвенту следует идти по пути, намеченному петиционерами, а не по предложенному Комитетом общественного спасения. Робеспьер настолько увлекся своими ораторскими рассуждениями против противников, что Верньо перебил его: „Да делайте же, наконец, из всего сказанного заключение!“ — „Я сделаю свое заключение, и оно будет против вас! Да, против вас, так как вы после революции 10 августа стремились отправить на эшафот тех, кто ее произвел! Против вас, ибо вы не переставали требовать разрушения Парижа!.. Против вас, так как вы желали спасти тирана! Против вас, ибо вы были в заговоре с Дюмурье и ожесточенно преследовали тех патриотов, голов которых он требовал! Против вас, ибо вы своим преступным мщением вызвали те крики негодования, которые теперь вы вменяете в преступление тем, кто является вашей жертвой! Так вот мое заключение — обвинительный декрет против всех, кто был сообщником Дюмурье, и против тех, на кого указывают петиционеры!“ Несмотря на всю силу этой выходки, партия Робеспьера не одержала победы. Восстание было направлено исключительно против Комиссии двенадцати; Комитет общественного спасения, предложивший ее упразднение, одержал поэтому победу над Парижской коммуной. Конвент принял декрет, предложенный Барером, и им упразднил Комиссию двенадцати и возложил на Комитет общественного спасения обязанность, для удовлетворения петиционеров, расследовать дело о всех тех заговорах, на которые они доносили. Толпа, окружавшая здание Конвента, узнав о принятом решении, разошлась с громкими выражениями одобрения.
Заговорщики, однако, не удовольствовались этой неполной победой: 30 мая они шли дальше, чем 29-го; 2 июня они пошли дальше, чем 31 мая. Восстание из морального, как они говорили, т. е. направленного против власти и правления вообще, теперь стало личным, т. е. направлялось против известных депутатов; оно ускользнуло из рук Дантона и Горы и попало в руки Робеспьера, Марата и Парижской коммуны. Вечером 31 мая уже один из якобинских депутатов заявил: „Дело сделано только наполовину, его надо закончить, не дав народу успокоиться“, Анрио предложил отдать в распоряжение клуба вооруженную силу. Рядом с Конвентом стал совершенно открыто действовать Комитет восстания. Весь день 1 июня был посвящен подготовке грандиозного движения. Коммуна написала городским секциям: „Граждане, будьте наготове, вас обязывают к этому угрожающие отечеству опасности“. Вечером Марат, главный создатель движения 2 июня, явился в ратушу, поднялся на башню и лично ударил в набат; далее, он пригласил Парижскую коммуну не расходиться, пока не будет издан обвинительный декрет против изменников и государственных людей. В Конвенте собралось некоторое количество депутатов, у них заговорщики потребовали декрета против опальных; это им, однако, не удалось; они не были еще достаточно сильны, чтобы принудить Конвент действовать по их указке.
Вся ночь прошла в приготовлениях; звонил набатный колокол, трещали барабаны, образовывались народные сборища. В воскресенье утром, к восьми часам, Анрио явился в Главный совет Коммуны и заявил своим сообщникам от имени восставшего народа, что народ не положит оружия, пока не будут арестованы депутаты-заговорщики. Затем он стал во главе громадных толпищ народа, собравшихся перед ратушей, и, сумев возбудить их, подал сигнал к отправлению. Было около десяти часов, когда мятежники пришли на площадь Карусель; Анрио разместил около Тюильрийского дворца наиболее надежные отряды, и вскоре Конвент оказался осажденным 80 тысячами народа; большинство собравшихся при этом положительно не знали, чего от них хотят, и были, пожалуй, скорее готовы защищать депутатов, чем нападать на них.
Большая часть опальных депутатов вовсе не явилась в Конвент. Только некоторые из них, смелые до самого конца, явились выдержать последнюю бурю. Как только заседание было открыто, на кафедру выступил Ланжюине; „Я требую слова ввиду призыва к оружию, раздающегося по всему Парижу“. Его прервали криками: „Долой! Он желает гражданской войны, он стремится к контрреволюции! Он клевещет на Париж! Он оскорбляет народ!“ Несмотря на угрозы, оскорбления и возгласы Горы и публики, Ланжюине разоблачает намерения Парижской коммуны и мятежников; мужество его растет по мере увеличения опасности. „Вы обвиняете нас, — говорит он, — в том, что мы клевещем на Париж! Париж чист, у Парижа доброе сердце, но Париж угнетен тиранами, жаждущими крови и господства!“ Слова эти вызвали невообразимый шум; многие из депутатов Горы бросаются к кафедре и силой стараются стащить с нее Ланжюине, но он противится насилию и твердо и непоколебимо продолжает: „Я требую упразднения всех революционных властей в Париже; я требую признания недействительным всего того, что они сделали за последние три дня; я требую, чтобы всякий, кто пожелает захватить себе незаконным путем власть, был объявлен стоящим вне закона и чтобы каждому гражданину было предоставлено устранять таких людей“. Не успел он кончить свои слова, как в зал ворвались петиционеры и потребовали ареста его и его товарищей. „Граждане, — сказали они в заключение, — народу надоело дожидаться своего счастья; еще на короткое время мы оставляем наше счастье в ваших руках, спасите его, или, мы объявляем вам это, мы сами озаботимся его спасением“.
Правая в ответ на это требует перехода к очередным делам, и Конвент с ней соглашается. Тотчас же петиционеры с угрожающим видом оставляют зал, а за ними следует и публика с трибун; слышится призыв к оружию, и на улице поднимается невообразимый шум. „Спасите народ, — говорит один из монтаньяров, — спасите ваших товарищей, декретировав их временное задержание“. — „Нет, нет!“ — отвечает не только правая, но и часть левой. — „Мы разделим их участь!“ прибавляет Ларевельер-Лепо. Комитет общественного спасения в исполнение поручения составить отчет, напуганный важностью и величиной опасности, предложил, как и 31 мая, меру видимого примирения, способную удовлетворить мятежников, не жертвуя совершенно обвиняемыми депутатами. „Комитет обращается, — сказал Барер, — к патриотизму и великодушию обвиненных сочленов: он предлагает им добровольно сложить свои полномочия, ибо это единственное средство прекратить раздоры, раздирающие публику, и возвратить ей мир“. Некоторые из депутатов соглашаются на эту меру. Инар слагает с себя свои полномочия; Лантена, Дюссо и Фоше следуют его примеру; но Ланжюине положительно отказывается быть с ними заодно. „Мне кажется, — говорит он, — что до сих пор я проявил некоторое мужество; не ждите же от меня добровольного отказа от моих прав“. Его грубо прерывают. „Когда древние приносили какую-нибудь жертву, — ответил он на оскорбления, — они предварительно украшали ее цветами и лентами: жрец закалывал жертву, но не оскорблял ее!“ Барбару выказал такую же твердость, как и Ланжюине. „Я поклялся, — сказал он, — умереть на своем посту и сдержу эту клятву“. Сами заговорщики, члены Горы, восстали против предложения Комитета. Марат утверждал, что для того, чтобы приносить жертву, надо быть чистыми, а Бийо-Варенн требовал суда над жирондистами, а не отставки их.
Пока шли эти дебаты, один из депутатов Горы, Лакруа, быстро вбежал в зал, бросился к кафедре и объявил, что его в дверях оскорбили, что ему не позволили выйти и что Конвент не свободен. Бо́льшая часть монтаньяров пришла в негодование против Анрио и его войска. Дантон заявляет, что следует жестоко отомстить за оскорбление народного величия. Барер предлагает Конвенту выйти к народу. „Депутаты! — говорит он, — позаботьтесь о своей свободе; прервем заседание и заставим опуститься перед нами штыки, которыми нам угрожают“. Весь Конвент подымается и, предшествуемый приставами и имея во главе президента с надетой в знак скорби шляпой, трогается в путь. У выхода на площадь Карусель Конвент находит Анрио, верхом на лошади и с обнаженной саблей в руках. „Чего требует народ? — спрашивает его президент, Эро де Сешель. — Конвент заботится исключительно о его счастье“. — „Эро, — отвечает ему Анрио, — народ восстал не для того, чтобы выслушивать фразы; он желает, чтобы ему выдали 24 виновных“. — „Возьмите всех нас!“ — кричат депутаты, окружающие президента. Анрио тогда, повернувшись к своим войскам, командует: „Канониры, к орудиям!“ Две пушки направляются на Конвент, он отступает, входит в сад и поочередно подходит к различным выходам, но все они оказываются закрытыми. Везде расставлены под ружьем солдаты. Марат ходит между их рядами и ободряет и возбуждает мятежников: „Не предавайтесь слабости и не покидайте ваших постов, пока вам не выдадут виновных“. Конвенту не остается ничего другого, как возвратиться в зал заседаний; он угнетен своей беспомощностью и совершенно упал духом, убедившись в тщетности своих усилий. Аресту депутатов, внесенных в список петиционеров, более никто не находит возможным противиться. Марат становится настоящим диктатором Собрания и властно решает судьбу его членов. „Дюссо, — говорит он, — старый пустомеля и неспособен руководить партией; Лантена слаб умом и не заслуживает, чтобы о нем думали; у Дюко есть несколько превратных идей, но он неспособен руководить контрреволюцией. Я требую исключения их из числа депутатов, подлежащих аресту, и замены их депутатом Валазе“ Имена Дюссо, Лантена и Дюко послушно были вычеркнуты из списка, а имя Валазе внесено в него. Таким образом, составленный окончательно список был утвержден Конвентом, хотя половина членов его в издании этого декрета не участвовала вовсе.
Вот имена этих выданных народу депутатов: жирондисты Жансонне, Гаде, Бриссо, Горса, Петион, Верньо, Салль, Барбару, Шамбон, Бюзо, Биротто, Лидон, Рабо, Ласурс, Ланжюине, Гранжнёв, Легарди, Лесаж, Луве, Валазе, министр иностранных дел Лебрен, министр финансов Клавьер и члены Комиссии двенадцати: Кервелеган, Гардиан, Рабо Сент-Этьен, Буало, Бертран, Виже, Моллево, Анри ла Ривьер, Гомэр и Бергуань. Конвент подверг их домашнему аресту и надзор поручил народу. С этого момента запрещение выходить из Конвента было снято, и толпища народа понемногу рассеялись; но с этой же минуты Конвент совершенно потерял свою свободу.
Так пала партия Жиронды, партия, блиставшая яркими талантами и возвышенными идеями, партия, делавшая честь нарождавшейся республике своим отвращением к крови, ненавистью к преступлениям и анархии и любовью к порядку, справедливости и свободе, партия, невыгодно, к сожалению, очутившаяся между средним и низшим классами, из которых последний она не желала допустить до самовластия и главенства. Осужденная на бездействие, эта партия должна была потерпеть поражение и могла только прославить его смелой борьбой и славной смертью. В эту минуту нетрудно было предвидеть верный ее конец; она была оттеснена отовсюду: из Клуба якобинцев — нашествием в него монтаньяров, из Парижской коммуны — удалением Петиона, из министерства — выходом в отставку Ролана и его коллег, из армии — изменой Дюмурье. Партии оставалось одно поле деятельности — Конвент; здесь она старалась укрепиться, здесь она вела борьбу и пала. Враги действовали против нее при помощи заговоров и восстаний. Заговоры заставили создать Комиссию двенадцати, которая на время дала как будто бы перевес Жиронде, но в конце концов только еще больше ожесточила ее противников. Они привели в движение народ и сначала отняли у жирондистов всю их власть, упразднив эту комиссию, а затем лишили их всякой политической жизни, арестовав вождей.
Никто не предугадал следствия этого печального события. Дантонисты полагали, что наступил конец вражде партий, а между тем начиналась гражданская война. Умеренная часть Комитета общественного спасения полагала, что Конвент снова приобретет прежнюю власть и значение, а он остался порабощенным. Коммуна надеялась, что 31 мая даст ей полную власть, а она перешла к Робеспьеру и к некоторым лицам, тесно с ним связанным, крайней демократии. Наконец, побежденные, т. е. враждебные, партии увеличились еще одной, и, как после 11 августа против конституционалистов была учреждена республика, так после 31 мая против умеренных республиканцев был выдвинут террор.
Глава VIII От 2 июня 1793 г. до апреля 1794 г.
Восстание департаментов против 31 мая; продолжающиеся неудачи на границах; успехи вандейцев. — Монтаньяры издают Конституцию 1793 г. и тотчас же отсрочивают ее введение, чтобы поддержать и усилить революционное правительство. — Всенародное ополчение; закон о подозрительных. — Победа монтаньяров внутри страны и на границах. — Казнь королевы, двадцати двух жирондистов и т. д. — Комитет общественного спасения, его могущество; его члены — Республиканский календарь — Победители 23 мая разделяются. — Ультрареволюционная партия Парижской коммуны, или эбертисты, отменяют католицизм и устанавливают поклонение Разуму; ее борьба с Комитетом общественного спасения, ее поражение. — Умеренная фракция Горы, или дантонисты, желают уничтожить революционную диктатуру и учредить законное правительство; ее падение. — Комитет общественного спасения один одерживает победу.
Можно было предугадать, что жирондисты не помирятся со своим поражением и 31 мая будет сигналом восстания департаментов против Горы и парижского городского управления. Им оставалось еще сделать эту последнюю попытку, и они сделали ее. Но и в этой решительной мере замечался тот же недостаток согласия, вследствие которого они уже потерпели поражение в Собрании. Сомнительно однако, чтобы жирондисты могли восторжествовать, даже сделавшись единодушными, и особенно чтобы они при победе могли спасти революцию. Как могли они добиться справедливыми законами того, чего добились монтаньяры насильственными мерами? Как могли они победить иностранных врагов без фанатизма, обуздать партии, не наводя ужаса, накормить толпу без максимума[37] и содержать армию без реквизиций? Если бы значение 31 мая было совсем противоположным, то и тогда неизбежно должно было произойти все, что позже случилось, т. е. замедление революционной деятельности, усиленные нападения Европы, вторичное вооружение всех партий, дни прериаля — без возможности обуздать толпу, дни вандемьера — без возможности противостоять роялистам, вторжение коалиции и, сообразно с политикой того времени, раздробление Франции. Республика не была тогда еще достаточно сильна, чтобы вынести столько нападений, как это ей удалось после реакции термидора.
Как бы то ни было, жирондисты, которым следовало или всем вместе оставаться в Париже, или вместе же идти бороться в провинцию, не сделали ничего подобного, и после 2 июня все умеренные члены этой партии оказались под арестом, а остальные бежали. В числе первых были Верньо, Жансонне, Дюко, Фонфред и др., в числе вторых Петион, Барбару, Гаде, Луве, Бюзо, Ланжюине. Они все отправились в Евре, в департамент Эры, где Бюзо имел влияние, а оттуда в Кан, в департамент Кальвадос. Этот город они сделали центром восстания. Бретань поспешила принять в нем участие. Мятежники под именем соединенного собрания департаментов в Кане собрали армию, назначили главнокомандующим генерала Вимпфена, арестовали монтаньяров, Ромма и Приёра, депутатов Марна, комиссаров Конвента, и решили двинуться на Париж. В это самое время молодая, прекрасная и смелая девушка Шарлотта Корде отправилась из Кана в Париж, чтобы наказать главного виновника 31 мая и 2 июня Марата. Она надеялась, пожертвовав собой, спасти республику. Но тирания держалась не на одном человеке, а на целой партии и на насильственном состоянии республики. Шарлотта Корде, исполнив свое великодушное, но и бесполезное намерение, умерла с невозмугимым спокойствием и скромным мужеством, удовлетворенная сознанием, что хорошо поступила{2}. Однако убитый Марат сделался для толпы еще большим предметом восхищения, чем был при жизни. О нем говорили на народных собраниях, его бюст был поставлен в залах заседаний политических обществ, и Конвент должен был согласиться почтить его погребением в Пантеоне.
В это время восстал Лион; Марсель и Бордо также взялись за оружие; более шестидесяти департаментов присоединились к восстанию. Это повело за собой вступление в борьбу всех партий, и во многих местах роялисты захватили руководство движением, поднятым жирондистами. В особенности старались роялисты овладеть восстанием в Лионе, чтобы сделать этот город центром своих действий на юге. Лион был сильно привязан к старому порядку вещей. Его ставили в зависимость от высших классов производство шелка и золотого и серебряного шитья, а также вообще торговля предметами роскоши. Лион рано или поздно должен был объявить себя врагом социальной перемены, нарушавшей старые отношения и унижавшей дворянство и духовенство, ибо она разоряла его фабрики. Уже в 1790 г. во время Учредительного собрания, при содействии принцев, эмигрировавших к туринскому двору, Лион пытался восстать. Эти попытки, руководимые дворянами и священниками, были подавлены, но дух города оставался все тем же. Здесь, как и везде после 10 августа, толпа хотела при помощи революции установить свое владычество. Шалье, фанатический подражатель Марата, был во главе якобинцев, санкюлотов и городского управления в Лионе. Его дерзость возросла после сентябрьских убийств и 21 января. Борьба, однако, между низшим, республиканским, классом и средним, роялистским, оставалась сначала нерешенной; низший класс властвовал в центральном городском управлении, роялисты в секциях. К концу мая распри усилились, и произошла стычка, выигранная секциями. Ратуша была осаждена и взята приступом. Шалье бежал, был схвачен и спустя некоторое время казнен. Горожане, не смея свергнуть с себя рабство Конвента, извинялись перед ним, говоря, что якобинцы и городские власти сами принудили их к борьбе. Конвент имел спасение единственно в смелости и, уступая, сам готовил свою гибель, но он не понял этого. Тут подоспели июньские события. Пришло известие о восстании в Кальвадосе, и ободренные лионцы не побоялись уже открыто поднять знамя мятежа. Они привели свой город в оборонительное положение; возвели укрепления, образовали армию в двадцать тысяч человек, приняли эмигрантов в войска, назначили начальниками над ними роялистов Преси и маркиза Вирьё и стали действовать совместно с королем сардинским.
Лионское восстание было тем опаснее для Конвента, что этот город, благодаря своему центральному положению, должен был дать сигнал к восстанию всего юга, а весь запад уже начинал волноваться. В Марселе известие о 31 мая подняло восстание сторонников Жиронды; Ребекки поспешно отправился туда. Городские секции были собраны; они поставили вне закона членов Революционного трибунала; десятитысячная армия должна была двинуться на Париж. Все эти меры были делом роялистов, которые, как всегда, ждали только случая, чтобы выступить вперед, и, прикинувшись сначала республиканцами, при первой возможности скинули маску и начали действовать открыто под знаменем своей партии. Они завладели влиянием в секциях, и движение пошло уже не в пользу жирондистов, а в пользу контрреволюции. Всегда во время мятежа одерживает верх над своими сообщниками та партия, чье мнение наиболее крайнее, а цель наиболее определенна. Видя оборот, который приняло восстание, Ребекки в отчаянии бросился к Марсельской гавани в море. Мятежники двинулись к Лиону; их примеру последовали Тулон, Ним, Монтабан и другие большие города Юга. Восстание в Кальвадосе с тех пор, как маркиз Пюизе во главе небольшой группы втерся в ряды жирондистов, приняло тот же роялистский характер. Города Бордо, Нант, Брест, Лориан отнеслись благосклонно к изгнанникам 2 июня; некоторые даже прямо объявили себя их сторонниками, но, удерживаемые партией якобинцев и необходимостью сражаться с роялистами на западе, они не могли оказать жирондистам серьезной поддержки.
Роялисты, во время всеобщего восстания департаментов, расширили свои предприятия. После первых побед вандейцы завладели Бресиюром, Аржантоном и Туаром. Сделавшись полными господами своей собственной страны, они намеревались занять ее границы и открыть себе дорогу как в революционную Францию, так и для сообщений с Англией. 6 июня Вандейская армия в сорок тысяч человек, под командой Катлино, Лескюра, Стофле и Ларошжакелена, двинулась в Сомюр и силой овладела им. Далее, она приготовилась к нападению и захвату Нанта, чтобы укрепить за собой обладание и оборону Вандеи и располагать течением Луары. Кателино во главе вандейских дружин отправился из Сомюра, оставив там гарнизон, взял Анжер, перешел через Луару, притворившись, что направляется к Туру и Ману, внезапно бросился к Нанту и напал на него с правого берега Луары в то время, как Шаретт должен был атаковать его с левого.
Все, казалось, соединялось против Конвента и должно было его задавить. Его войска были побеждены на севере и в Пиренеях; лионцы ему угрожали в центре, марсельцы на юге, жирондисты в одной части запада, вандейцы в другой, а двадцать тысяч пьемонтцев в это же время вступали в пределы Франции. Оборот военных действий в дурную сторону, после блестящих походов в Аргон и Бельгию, произошел вследствие несогласия Дюмурье с якобинцами, т. е. армии с правительством; еще гибельнее повлияла на него измена главнокомандующего. В войсках не было больше никакого единства в действиях, никакого рвения; не существовало больше и тени согласия между Конвентом, занятым своими спорами, и генералами, пришедшими в уныние. Остатки армии Дюмурье собрались в лагере при Фамаре под начальством Дампьера; они были, однако, вынуждены отступить, после неудачного сражения, под защиту крепости Бушен. Дампьер был убит. От Дюнкерка до Живе границе угрожали превосходящие неприятельские силы. Кюстин был поспешно отозван с берегов Мозеля в Северную армию, но и его присутствие не восстановило успеха. Валансьен, открывавший путь во Францию, был взят, Конде испытал ту же участь; армия, гонимая с позиции на позицию, отступила за Скарп, в окрестности Арраса, последний оплот отступления перед Парижем. Со своей стороны, Майнц, сильно теснимый голодом и неприятелем, потеряв надежду на помощь Мозельской армии, приведенной в бездействие, и отчаявшись продержаться дольше, сдался. В довершение сего английское правительство, видя, что неурожай разоряет Париж и департаменты, объявило после 31 мая и 2 июня все порты Франции блокированными и обнародовало постановление о захвате всех нейтральных судов, занятых доставкой туда жизненных припасов. Эта мера, совершенно новая в летописях истории и осуждающая целый народ на голод, привела три месяца спустя к закону о максимуме. Положение республики не могло быть худшим.
Конвент был до некоторой степени застигнут врасплох. Он был расстроен, так как только что вышел из борьбы, и правительство победителей еще не имело достаточно времени, чтобы укрепиться. После 2 июня, когда опасность в департаментах и на границе не была еще так сильна, Гора ограничилась рассылкой повсюду своих комиссаров и немедленно занялась составлением конституции, так долго ожидаемой и возбуждавшей такие большие надежды. Жирондисты хотели ее издать раньше 21 января, чтобы спасти Людовика XVI, заменив революционное правление законным; они вернулись к этому перед 31 мая, чтобы предотвратить свое собственное падение. Но монтаньяры двумя государственными переворотами — осуждением Людовика XVI и уничтожением Жиронды, — отвлекли внимание Собрания от обсуждения конституции. Теперь же, став господами положения, они поспешили привлечь к себе республиканцев изданием ее. Эро де Сешель был таким законодателем Горы, каким был Кондорсе для Жиронды. В несколько дней эта новая конституция была принята Конвентом и передана на утверждение первоначальных народных собраний. Легко себе представить, чем она должна была быть при царившем тогда убеждении о народном правлении. Учредительное собрание было сочтено за аристократов: ими установленный избирательный закон рассматривался как нарушение прав народа, так как он ограждал известными условиями пользование политическими правами; он не утверждал полного равенства, потому что депутаты и Коммуна были избираемы выборщиками, а не непосредственно народом; он ограничивал во многих случаях господство нации, не давая возможности части действительных граждан занимать высокие общественные должности и исключая пролетариев из числа действительных граждан; и, наконец, повсюду вводили тот или другой имущественный ценз, ограничивавший, таким образом, права каждого гражданина.
Избирательный закон 1793 г. устанавливал господство толпы; он не только считал народ источником власти, но и уполномочивал его отправлять ее. Безграничное господство толпы, частая смена должностных лиц, прямые выборы и всеобщая подача голосов, предварительные народные собрания, повторяющиеся в определенные сроки без особого созыва, и не только для выбора представителей, но и для контроля их действий; Национальное собрание, ежегодно возобновляемое и бывшее, по правде сказать, только комитетом предварительных народных собраний, — таковы были основы этой конституции. Так как она предоставляла все управление государством толпе и окончательно разрушала истинную власть, то являлась невозможной во всякое время, а тем более во время всеобщей войны. Партия монтаньяров, вместо крайнего народовластия, нуждалась в самой определенной диктатуре. Тотчас же по издании конституции[38] ее применение было приостановлено, и революционное правительство, еще более сильное, чем прежде, продержалось вплоть до заключения мира[39].
Монтаньяры узнали о всех угрожающих им опасностях во время обсуждения конституции и отсылки ее на рассмотрение первоначальными собраниями. Им предстояло внутри страны обуздать три или четыре партии, окончить всякого рода гражданские войны, загладить неудачи армии, отразить целую Европу — всего этого эти смелые люди не испугались. Представители сорока четырех тысяч общин собрались в Париже, чтобы принять конституцию. Допущенные в Собрание, они объявили о согласии народа и потребовали ареста всех подозрительных людей и созыва народного ополчения. „Прекрасно! — вскричал Дантон, — пойдем навстречу их желанию. Депутаты первоначальных собраний, явившись среди нас, берут на себя инициативу террора! Я требую, чтобы Конвент, проникнутый чувством своего достоинства, ибо он облечен в полной мере народной силой, декретом уполномочил комиссаров первоначальных собраний составить список наличного оружия, припасов, военных снарядов, издать воззвание к народу, возбудить его энергию и сделать набор в четыреста тысяч человек. О нашей конституции мы возвестим нашим врагам пушечными выстрелами. Настало время дать эту великую и последнюю клятву: мы обречем себя всех на смерть или уничтожим тиранов!“ Все граждане и депутаты, находившиеся в зале, тотчас же дали эту клятву.
Несколько дней спустя Барер, от имени Комитета общественного спасения, составленного из революционеров и ставшего центром правительственной деятельности Конвента, предложил еще более важные меры. „Свобода, — сказал он, — сделалась кредитором всех граждан: одни ей должны отдать свой труд, другие — свое состояние, одни должны ей служить советом, а другие — своими руками, все же без исключения обязаны жертвовать своей кровью. Все французы, какого бы ни было пола и возраста, должны быть призваны родиной для защиты свободы. Все физические и умственные способности, все государственные и промышленные средства принадлежат ей. Все металлы, все элементы — ее данники. Пусть каждый займет свое место в готовящемся национальном и военном движении: молодые люди будут сражаться, женатые — ковать оружие, перевозить обозы и пушки, приготовлять съестные припасы. Женщины будут шить одежду для солдат, делать палатки и нести на себе все труды в госпиталях для раненых. Дети будут щипать из старого белья корпию. Старики же, по примеру древних, велят себя вынести на общественные площади и станут разжигать мужество молодых воинов, проповедуя ненависть к королям и единство республики. Национальные здания будут обращены в казармы, общественные площади в мастерские, почва погребов послужит для приготовления селитры для пороха. Все верховые лошади будут взяты для кавалерии, все упряжные — для артиллерии. Охотничьи ружья, холодное оружие, также и пики найдут себе применение во внутренней воинской службе. Республика — это большой осажденный город, так пусть же Франция станет не чем иным, как обширным лагерем“.
Меры, предложенные Барером, были тотчас же приняты и декретированы. Все французы от восемнадцати до двадцатипятилетнего возраста призывались к оружию. Армия была пополнена набором рекрутов, и их кормили при помощи реквизиции съестных припасов. Республика вскоре явилась обладательницей четырнадцати армий — в миллион двести тысяч солдат. Франция, сделавшись лагерем и мастерской для республиканцев, в то же время стала темницей для всех мыслящих людей. Выступая против открытых врагов, правительство хотело обеспечить себя одновременно и от врагов внутренних; был издан страшный закон о „подозреваемых“. Иностранцев арестовывали из-за их происков; приверженцев конституционной монархии и умеренной республики также сажали в тюрьму, вплоть до заключения мира. Сначала это было только мерой предосторожности. После 10 августа тюрьмы наполняло духовенство и дворянство, а теперь, после 31 мая, наибольший контингент арестованных составляли среднее сословие, буржуазия и купечество. Для несения службы внутри страны была создана армия в шесть тысяч солдат и тысячу артиллеристов. Каждый неимущий гражданин получал в день сорок су, чтобы он мог присутствовать в собраниях по секциям. Выдавались письменные удостоверения в патриотизме, чтобы быть уверенными в образе мыслей тех, кто содействовал революционному движению. Все чиновники были отданы под надзор клубов, в каждой секции были устроены революционные комитеты; вот каким образом революционеры приготовились встретить внешнего и внутреннего врага.
Мятежники Кальвадоса были усмирены легко. При первой схватке в Верноне они ударились в бегство; напрасно Вимпфен прилагал все усилия собрать их снова. Средний класс, принявший на себя защиту жирондистов, выказывал мало пыла и действовал вяло. Когда конституция была принята другими департаментами, он ухватился за этот случай, чтобы объявить, что ошибся, думая, что идет против мятежного меньшинства. Отречение это произошло в Кане, бывшим центром восстания. Комиссары монтаньяров не осквернили эту первую победу казнями. Между тем генерал Карто во главе небольшого отряда выступил против армии мятежников на юге. Он два раза разбил их, преследовал вплоть до Марселя, вошел туда следом за ними, и Прованс был бы усмирен так же, как Кальвадос, если бы роялисты, укрывшиеся в Тулоне после своего поражения, не призвали на помощь англичан и не отдали в их руки этот ключ Франции. Адмирал Гуд вступил в Тулон от имени Людовика XVII, объявленного им королем, разоружил флот, призвал прибывших морем восемь тысяч испанцев, занял окружные крепости и принудил Карто, шедшего на Тулон, отступить к Марселю.
Несмотря на эти неудачи, Конвенту удалось все-таки ограничить восстание. Комиссары Горы заняли восставшие города: Робер Ленде — Кан, Тальен — Бордо, Баррас и Фрерон — Марсель. Оставалось не взятыми только два города — Тулон и Лион. Незачем было больше бояться единодушного нападения юга, запада и центра. Внутри страны враги только оборонялись. Келлерман, главнокомандующий Альпийской армией, осадил Лион. Три корпуса обложили этот город со всех сторон. Осаждающие при этом получали ежедневные подкрепления из старых солдат Альпийской армии, революционных батальонов и рекрутов. Лионцы защищались со всей храбростью отчаяния. Они рассчитывали сперва на прибытие мятежников с юга, но Карто отбросил их назад, и лионцы обратили свои последние надежды на Пьемонтскую армию, которая и предприняла в их пользу диверсию, но была разбита Келлерманом. Теснимые все сильнее, они принуждены были покинуть свои прежние позиции. В городе голод давал себя чувствовать, и смелость покинула жителей его. Роялистские вожди, видя полную бесполезность дальнейшего сопротивления, покинули город; революционная армия вступила в его стены и стала ждать там приказаний Конвента. Несколько месяцев спустя, наконец, и Тулон, защищаемый привыкшими к войне войсками и окруженный грозными укреплениями, вернулся под власть республиканцев. Батальоны Итальянской армии, подкрепленные войсками, освободившимися после взятия Лиона, стали сильно теснить этот город. После многократных атак и проявлений чудес храбрости и ловкости они завладели Тулоном. Взятием Тулона было завершено дело, начатое взятием Лиона.
Конвент всюду оказывался победителем. Вандейцам не удалось их предприятие против Нанта, и они потеряли там много убитых, в том числе и своего главнокомандующего Катлино. Это нападение на Нант послужило концом наступательного и вначале победоносного движения восставших вандейцев. Роялисты перешли через Луару обратно, покинули Сомюр и вернулись на свои прежние позиции. Силы их были все-таки значительны, и преследовавшие их республиканцы в самой Вандее были опять разбиты. Генерал Бирон, заменивший генерала Беррюйе, продолжал войну, действуя мелкими отрядами, с большими неудачами. Ввиду его умеренности и плохой системы действий он был заменен Канкло и Россиньолем, но и они не были счастливее его. Явилось два главнокомандующих, две армии и два центра военных действий: один — в Нанте, а другой — в Сомюре. Появилась усиленная борьба влияний, ни Канкло не мог сговориться с Россиньолем, ни комиссар умеренной фракции Горы Филиппо с комиссаром Комитета общественного спасения Бурботтом. Благодаря отсутствию согласия в мерах и единства в действиях попытка вторжения в Вандею не удалась совершенно так же, как и предыдущая. Комитет общественного спасения вскоре исправил указанное неудобство, вытекавшее из отсутствия в единстве руководительства, назначив одного главнокомандующего Лешеля и начав правильную войну в Вандее. При этой новой системе ведения войны и при содействии гарнизона Майнца, силой в семнадцать тысяч втянувшихся в войну человек, который, в силу договора при капитуляции, нельзя было употребить против коалиции, но можно было направить против внутренних врагов, — дела пошли иначе. Роялисты понесли четыре поражения подряд: два при Шатильоне и два при Шоле. Лескюр, Боншан, д'Эльбе были смертельно ранены; мятежники, совершенно разбитые в Верхней Вандее и боясь быть совершенно уничтоженными в Нижней, решили в числе восьмидесяти тысяч человек покинуть свою родину. Это бегство через Бретань, которую они надеялись взбунтовать, было для них гибельно. Отраженные от Гранвилля, рассеянные в беспорядке при Мане, они были уничтожены при Савене, и только остатки этой массы эмигрантов в числе нескольких тысяч человек вернулись в Вандею. Эти непоправимые для дела роялистов потери — рассеяние войск Шаретта, смерть Ларошжакелена — сделали республиканцев господами страны.
Комитет общественного спасения, думая, что враги его разбиты, но не усмирены, и чтобы помешать вторичному их восстанию, принял ужасную меру избиения. Генерал Тюрро окружил побежденную Вандею шестнадцатью укрепленными лагерями; двенадцать летучих отрядов, под названием адских колонн, изрезали страну во всех направлениях, действуя огнем и мечом. Были обысканы все леса, разогнаны все сборища, и ужас был внесен в эту несчастную страну жестокими опустошениями.
Иностранные армии были отброшены от границ Франции. Взяв Валансьен и Конде, осадив Мобеж и Ле-Кесней, неприятель, под начальством принца Йоркского, повернул к Касселю, Гондсхооту и Фюрну. Комитет общественного спасения, недовольный Кюстином, которого он считал жирондистом, заменил его генералом Ушаром. До этого времени победоносный, неприятель был разбит при Гондсхооте и должен был отступить. В войске вследствие смелых мер, принятых Комитетом общественного спасения, началась реакция. Ушар сам был отставлен от должности. Журдан принял командование над Северной армией, одержал значительную победу при Ваттиньи над принцем Кобургским, заставил снять осаду с Мобежа и предпринял на этой границе наступление. То же произошло и на других границах. Начался бессмертный поход 1793–1794 гг. Что сделал Журдан с Северной армией, то же совершили Гош и Пишегрю с Мозельской, а Келлерман с Альпийской. Неприятель был везде отражен и задержан в своем движении. Таким образом, после 31 мая произошло то же, что было после 10 августа: между генералами и вождями Собрания утвердилось согласие, не существовавшее прежде; революционное движение, несколько приостановившееся, опять усилилось, и опять на долгое время возобновились победы. Армии, как и партии, имели свои кризисы, и кризисы эти приводили их к неудачам или к успехам, в силу тех же самых законов.
В начале войны, в 1792 г., все генералы были конституционалистами, а министры — жирондистами; Рошамбо, Лафайет, Люкнер не могли действовать заодно с Дюмурье, Серваном, Клявьером и Роланом. В армии было мало рвения, и она была разбита. После десятого августа генералы-жирондисты — Дюмурье, Кюстин, Диллон и Келлерман заменили генералов-конституционалистов. Тогда появилось единство взглядов и действий и взаимное доверие между армией и правительством. Несчастье 10 августа увеличило энергию, поставив в необходимость победить; следствием этого был план Аргонского похода, победа при Вальми, Жемаппе, вторжение в Бельгию. Борьба между горой и Жирондой, между Дюмурье и якобинцами, привела к новым несогласиям между армией и правительством и подорвала доверие в войсках, которые вследствие этого терпели внезапные и многочисленные неудачи.
Затем произошла измена Дюмурье, совершенно аналогичная бегству Лафайета. После событий 31 мая, уничтоживших партию жирондистов и укрепивших власть Комитета общественного спасения, генералы Дюмурье, Кюстин, Ушар, Диллон были заменены генералами Журданом, Гошем, Пишегрю, Моро; революционный пыл был возбужден с новой силой ужасающими мерами Комитета, и поход 1792 г. был как бы возобновлением блестящих походов Аргонского и Бельгийского, а военные планы Карно были не хуже планов Дюмурье, а может быть, и превосходили их.
В продолжение этой войны Комитет общественного спасения совершил ужасные казни. Войска ограничивались убийствами на поле брани, но не то было с революционными партиями; они, ввиду сплетения особенно тяжелых условий, опасались после победы возобновления борьбы и старались предупредить всякие новые попытки с неумолимой жестокостью. Они возвели свою безопасность на степень права и всех нападающих стали считать во время борьбы врагами и заговорщиками после нее; ввиду этого они стали убивать их как при помощи военных действий, так и применением законов. Все эти побудительные причины руководили действиями Комитета общественного спасения; это была политика мести, террора и самосохранения. Вот те правила, которым монтаньяры следовали в отношении восставших городов: „Названия города „Лион“ не должно более существовать! — сказал Барер, — вы его назовете „городом освобожденных“ и на развалинах этого позорного города вы поставите памятник, который будет свидетельствовать о преступлении и о примерном наказании врагов свободы. Всего несколько слов для этого будет достаточно: Лион восстал против свободы, и Лиона больше не существует“. Чтобы осуществить на деле эту гнусную и ужасную угрозу, Комитет послал в этот несчастный город Колло д'Эрбуа, Фуше и Кутона. Они расстреляли его жителей картечью и разрушили его здания. Тулонские мятежники испытали подобную же судьбу от членов Конвента Барраса и Фрерона. В Кане, Марселе и Бордо казни были менее многочисленны и менее жестоки, так как они распределялись сообразно важности восстания, а мятежники этих городов не вели переговоров с иностранцами.
В центре государства диктаторское правительство уничтожило все наиболее благородное, все партии, с которыми оно было во вражде. Казни, совершенные им, были столько же последовательными, сколько и жестокими. Осуждение Марии-Антуанетты было направлено против Европы, двадцати двух — против жирондистов; мудрого Байи — против конституционалистов, и герцога Орлеанского — против членов Горы, желавших его возвышения. Несчастная вдова Людовика XVI была отправлена кровожадным Революционным трибуналом на смерть первой. Обвиняемые 2 июня последовали за ней; она погибла 16 октября, а депутаты-жирондисты 31-го. Их было двадцать один человек: Бриссо, Верньо, Жансонне, Фонфред, Дюко, Валазе, Ласурс, Силлери, Гардиан, Kappa, Дюперре, Дюпра, Фоше, Бове, Дюшатель, Менвьей, Лаказ, Буало, Легарди, Антибуль и Виже. Семьдесят три их товарища, протестовавших против их ареста, были также заключены в тюрьму, но монтаньяры не хотели заставить их разделить ту же участь. Во время судебных прений обвиняемые жирондисты выказали свое спокойное мужество. Верньо еще раз проявил свое красноречие, но совершенно втуне. Выслушав свой смертный приговор, Валазе закололся кинжалом, а Ласурс сказал судьям: „Я умираю в такую минуту, когда город потерял здравый смысл, а вы умрете, когда он опомнится“ Осужденные шли на эшафот со всем стоицизмом того времени. Они пели „Марсельезу“, применяя ее к своему положению:
Allons, enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé; Contre nous de la tyrannie Le couteau sanglant est levé!{3}Подобная же судьба ждала и всех других вождей этой партии: Салль, Гаде, Барбару были захвачены в пещерах Сент-Эмильона, около Бордо, и погибли на эшафоте. Петион и Бюзо, после непродолжительных скитаний, кончили самоубийством. Их трупы были найдены в поле, полуобглоданные волками. Рабо Сент-Этьен был выдан своим старым другом; мадам Ролан была также осуждена на смерть, причем вела себя совершенно как древняя римлянка. Ее муж, узнав о ее смерти, покинул свое убежище изгнанника, вышел на большую дорогу и покончил с собой. Кондорсе, поставленный вне закона после 2 июня, был схвачен в то время, когда скрывался от своих палачей, и избавился от смертной казни ядом. Луве, Кервелеган, Ланжюине, Анри ла Ривьер, Лесаж, Ларевельер-Лепо только одни пережили это время ужаса и крови в безопасных убежищах.
В это время составилось революционное правительство; оно было утверждено Конвентом 10 октября. После 31 мая власти, в сущности говоря, не существовало нигде, ни в министерстве, ни в городском управлении. Вполне естественно, что власть ввиду такого чрезвычайного положения и необходимости единства и быстроты действия должна была сосредоточиться в одних руках. Собрание имело центральную и наиболее обширную власть; диктатура должна была также перейти в его среду, а там она была захвачена господствующей партией или, вернее, несколькими отдельными ее членами. Комитет общественного спасения, созданный 6 апреля, по смыслу своего названия, для защиты революции чрезвычайными и неотложными мерами, давал уже готовый кадр для правительства. Образованный во время столкновения Горы с Жирондой, он 31 мая был составлен из нейтральных членов Конвента. При своем первом возобновлении он попал в руки крайних монтаньяров. Барер остался там, а Робеспьер был выбран его членом, и его партия стала там господствовать, благодаря Сен-Жюсту, Кутону, Колло д'Эрбуа и Бийо-Варенну. Робеспьер уничтожил влияние нескольких дантонистов, оставшихся еще в Комитете, как, например, Эро де Сешель и Робера Ленде, привлек на свою сторону Барера и стал всем руководить, приняв на себя наблюдение за общественным настроением и за полицией. Его товарищи распределили между собой все другие обязанности. Сен-Жюст наблюдал за партиями и доносил на них. Кутон предлагал сильные меры, требовавшие смягчения в форме; Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа руководили комиссарами в департаментах, Карно занимался войной, Камбон — финансами, Приёр, депутат Кот д'Ора, и Приёр, депутат Марны, и несколько других — внутренними и административными делами; Барер же был ежедневным оратором, готовым всегда восхвалять диктаторский комитет. Для помощи ему в подробностях революционного управления и в мерах второстепенной важности был создан Комитет общественной безопасности. Он был устроен в том же самом духе, как и первый, и состоял из двенадцати членов, избираемых на три месяца, но в действительности удерживавших должность за собой навсегда.
В руках этих людей была сосредоточена вся революционная власть. Предлагая учредить впредь до заключения миpa власть децемвиров, Сен-Жюст не скрывал ни побуждения, ни цели этой диктатуры. „Вам нечего больше щадить врагов нового порядка, — какой бы то ни было ценой, а свобода должна остаться победительницей. Нельзя устанавливать конституции при обстоятельствах, в которых ныне находится республика, она стала бы защитой всех покушений на свободу, потому что ей недоставало бы силы, необходимой для предотвращения их. Положение нынешнего правительства также очень затруднительно, вы слишком далеки от всех покушений; нужно, чтобы меч закона действовал везде быстро, и ваша рука была бы повсюду!“ Вот как создалось это страшное могущество, поглотившее сперва врагов Горы, потом Гору и Парижскую коммуну и кончившее тем, что поглотило само себя. Комитет действовал от имени Конвента, служившего ему орудием. Он сам назначал и увольнял генералов, министров, комиссаров, судей и присяжных; он уничтожал партии и брал на себя инициативу всех мер. Он распоряжался самовластно в департаментах; при помощи комиссаров, от него в зависимости находились армии и генералы; он распоряжался личной свободой каждого, благодаря закону о подозреваемых, и с помощью Революционного трибунала — существованием всех граждан, посредством реквизиций и таксы на хлеб — состоянием каждого. При посредстве порабощенного Конвента он, в случае нужды, постановлял обвинения против своих собственных членов. Диктатура опиралась на толпу, которая разглагольствовала в клубах и главенствовала в революционных комитетах, за что получала ежедневную плату и пищу при помощи „максимума“. Она держала сторону этого страшного режима, покровительствовавшего ее страстям, дававшего ей первое место в государстве и, казалось, действовавшего исключительно в ее интересах.
Новаторы, отделенные войной и собственными законами от всех других государств и других форм правления, желали еще больше подчеркнуть свое отличие. Они создали для неслыханной революции новое летосчисление, изменили деление года, названия месяцев и дней[40]. Они заменили христианский календарь республиканским, неделю — декадой и назначили днем отдыха не воскресенье, а каждый десятый день. Новое летосчисление было введено со 2 сентября 1792 г., дня основания республики. В году было двенадцать месяцев, в каждом месяце по тридцати дней[41]. Начинались они 22 сентября в следующем порядке: вандемьер, брюмер, фример — для осени; нивоз, плювиоз, вантоз — для зимы; жерминаль, флореаль и прериаль — для весны; мессидор, термидор и фрюктидор — для лета. В каждом месяце было три декады; в каждой декаде десять дней, и каждый день назывался по своему месту в декаде. Они назывались: примиди, дуоди, триди, квартиди, квинтиди, секстиди, септиди, котиди, нониди и декади. Пять полных дней были отнесены к концу года, довершая недостающие дни месяцев. Они назывались санкюлотидами и были посвящены: первый — празднованию Гения, второй — Труда, третий — Действий, четвертый — Вознаграждений, пятый — Общественного мнения. Конституция 1793 г. привела к республиканскому календарю, а этот последний — к отмене христианских обрядов. Как мы скоро увидим, Коммуна и Комитет общественного спасения предложили, в конце концов, каждый свою религию. Первая — поклонение Разуму, а второй — поклонение Верховному Существу. Но предварительно нам нужно дать отчет о междоусобной борьбе творцов катастрофы 31 мая.
Парижская коммуна и Гора совместно произвели переворот против Жиронды, но воспользовался им только один комитет. В продолжение протекших пяти месяцев Комитет, принявший все меры к обороне государства, стал, естественно, первой силой республики. Так как борьба считалась почти законченной, то Коммуна стала стремиться к преобладанию над комитетом, а Гора к тому, чтобы комитет не господствовал над ней. Партия Коммуны соединяла в себе самых крайних революционеров. Ее цели были противоположны целям Комитета общественного спасения. Она хотела заменить диктатуру Конвента самым крайним местным народным правлением, а религию — самым грубым неверием. Политическая анархия и религиозный атеизм — вот каковы были взгляды этой партии и средства, которыми она хотела утвердить свое преобладание. Революция явилась следствием различных систем, волновавших век, ее породивший. Во все время кризиса во Франции крайний католицизм олицетворял в себе непокорное духовенство; янсенизм воплотился в присягнувшем духовенстве; философский деизм — в поклонении Высшему Существу, установленном Комитетом общественного спасения; материализм друзей Гольбаха — в поклонении Разуму и Природе, установленном Коммуной. То же было и с политическими мнениями, начиная со сторонников старого королевского режима до поклонников самого крайнего деспотизма из партии Коммуны. Эта последняя потеряла в марте главную поддержку и своего настоящего вождя, в то время, как Комитет общественного спасения сохранил своего, — и это был Робеспьер. Муниципальной партией руководили люди, пользовавшиеся большой любовью низших классов: Шометт и его помощник Эрбер были ее политическими вождями; Ронсен, командовавший революционными войсками, ее генералом, атеист Анахарсис Клоотс — ее апостолом. Она опиралась в городских секциях на революционные комитеты, где находилось много темных личностей иностранного происхождения, подозреваемых в том, что они английские агенты, посланные, чтобы погубить республику, доведя ее до крайности анархии. Клуб кордельеров был составлен исключительно из сторонников Коммуны. Старые кордельеры Дантона, так властно помогавшие перевороту 10 августа и образовавшие городское управление того времени, перешли теперь в Конвент и правительство, а в клубе их заменили члены, которых они с презрением называли „патриотами третьего призыва“.
Партия Эбера, распространявшая газету „Папаша Дюшен“ (Père Duchêne), отличавшуюся неблагопристойностью языка и проявлением низких злых чувств, — она высмеивала осужденных даже своей партии, — делала громадные успехи. Она заставила епископа Парижского и его викариев, в присутствии Конвента, отречься от христианства, а Конвент — издать указ о замене католической религии поклонением Разуму. Церкви были закрыты или обращены в храмы Разума, и во всех городах назначались празднества, бывшие соблазнительными сценами атеизма Комитет общественного спасения был встревожен этой крайней революционной партией и решился ее остановить или уничтожить. Робеспьер вскоре напал на нее с трибуны собрания (15 фримера II года — 5 декабря 1793): „Граждане, представители народа, короли, соединившиеся против республики, ведут с нами войну с помощью армии и своих происков, но мы противопоставили их войскам более славные войска, их проискам — неусыпность и ужас национального правосудия. Они внимательно следят за возможностью связать нити своих тайных замыслов, разорванных рукой патриотизма. Они ловко умеют обратить орудие свободы против самой свободы. Эмиссары врагов Франции работают все время, чтобы низвергнуть республику посредством республиканства же и зажечь гражданскую войну посредством философии“. Далее он указал на связь между крайними революционерами Коммуны и внутренними врагами республики. „Вы должны, — сказал он Конвенту, — остановить крайности и безумства, совпадающие с планами иностранного заговора. Я требую, чтобы вы запретили местным властям (Парижской коммуне) служить нашим врагам необдуманными мерами, и чтобы никакая вооруженная сила не смела вмешиваться во все, относящееся к области религиозных убеждений“. Конвент, который незадолго перед тем рукоплескал отречениям от христианства но требованию Коммуны, теперь постановил, согласно требованию Робеспьера, что всякие насильственные меры против свободы совести воспрещаются.
Комитет общественного спасения был слишком силен, чтобы не восторжествовать над Коммуной. Но в то же время приходилось сопротивляться умеренной фракции Горы, требовавшей прекращения революционного правления и диктатуры комитетов. Революционное правительство было создано, чтобы укрощать партии, а диктатура, чтобы окончательно их победить. А так как ни обуздание, ни победа не казались теперь необходимыми Дантону и его партии, то они и старались возвратить законный порядок и независимость Конвента. Они хотели победить партию Коммуны, остановить действия Революционного трибунала, очистить тюрьмы, наполненные подозреваемыми, ограничить власть комитетов или распустить их совсем. Эти планы милосердия, человеколюбия и законного правления были составлены Дантоном, Филиппо, Камилем Демуленом, Фабром д'Эглантином, Лакруа, генералом Вестерманом и всеми друзьями Дантона. Они хотели прежде всего, чтобы республика удержала за собой поле сражения; но, победив, они желали водворения мира.
Эта партия, сделавшись умеренной, потеряла власть. Она вышла из участия в управлении или позволила партии Робеспьера исключить себя оттуда. К тому же поведение Дантона после 31 мая казалось подозрительным в глазах горячих патриотов. Он действовал вяло в этот день, а позже он порицал осуждение двадцати двух жирондистов. Его начали упрекать в беспорядочной жизни, в продажности, в переходе от одной партии к другой и несвоевременной умеренности. Чтобы предотвратить грозу, он уехал в Арси-сюр-Об, свою родину, и там, казалось, все забыл, отдыхая. Во время его отсутствия партия Эбера сделала громадные успехи, и друзья Дантона поспешно вызвали его обратно. Он вернулся в начале фримера (декабря). Филиппо тогда выразил протест против способа ведения войны в Вандее; генерал Вестерман, отличившийся в ней и только что смещенный Комитетом общественного спасения, поддержал Филиппо. Камиль Демулен издал первые выпуски своего „Старого кордельера“. Этот блестящий и горячий молодой человек следовал за всеми движениями революции, начиная с 14 июля до 31 мая, одобряя все ее крайности и жестокости. Его душа была нежная и кроткая, хотя он был вспыльчив, и его шутки носили часто жестокий характер. Он одобрял революционное правление, так как считал его неизбежным при основании республики. Он помогал гибели Жиронды, боясь несогласия в республике. Для нее он жертвовал своими сомнениями, потребностями сердца, справедливостью и человеколюбием. Он отдал все своей партии, думая отдать все республике; но теперь он не мог уже более ни молчать, ни одобрять. Все свое увлечение, с которым он служил революции, он употребил, правда, немного поздно, против тех, кто губил революцию, обагряя ее кровью. В своем журнале „Старый кордельер“ он говорил о свободе с увлекательным красноречием, а о людях — с колкой насмешкой. Но вскоре он восстановил против себя и фанатиков, и диктаторов, призывая правительство к умеренности, милосердию и справедливости.
Он представил поразительную картину современной тирании, говоря как будто бы о тирании давно прошедшей; он заимствовал свои примеры из Тацита. „В это время, — говорил он, — разговоры стали государственными преступлениями. Отсюда только один шаг, чтобы обратить в преступления простые взгляды, грусть, участие, вздохи, даже самое молчание. Кремуций Корд назвал Брута и Кассия последними римлянами, и это было сочтено за оскорбление величества или контрреволюционную попытку. Таким же преступлением было признано то, что у одного из потомков Кассия был портрет его прадеда, и то, что Мамерк Скавр написал трагедию, где нашли два стиха как будто бы двусмысленных, и то, что Торкват Силан тратил много денег, и то, что Помпоний дал убежище другу Сеяну в одной из своих вилл, и то, когда жаловались на несчастные времена, потому что это считалось обвинением правительства, и то, что мать консула Фузия Гемина оплакивала мрачную смерть своего сына!..
Надо было выказывать радость при кончине друга или родственника, если не хотел собственной гибели! В царствование Нерона многие родственники умерщвленных им ходили возносить благодарственные моления богам, а уж довольное-то лицо необходимо было иметь всякому; боялись, что самый страх будет поставлен в вину. Все возбуждало подозрения в тиране. Если гражданин обладает любовью народа, это — соперник императора, он может возбудить междоусобную войну и, следовательно, подозрителен. Если же кто избегает популярности и держится в углу, у своего очага, то эта уединенная жизнь обращает на себя внимание, — он подозрителен. Если вы богаты, то тут усматривают опасность, чтобы вы не развратили народ своей щедростью, — вы подозрительны. Если вы бедны, за вами следует особенно наблюдать, потому что нет более предприимчивого человека, чем тот, кто ничего не имеет, — вы снова подозрительны. Если вы обладаете мрачным, меланхолическим характером и небрежной наружностью, то это значит, что вас огорчает успешный ход общественных дел, — вы подозрительны. Если гражданин веселится и с аппетитом ест, то это оттого, что государь чувствует себя дурно, — он подозрителен. Если гражданин добродетелен, строгих правил, то он этим осуждает двор, а потому подозрителен. Всякий философ, оратор, поэт подозрителен, если он пользуется славой бо́льшей, чем правитель государства. Наконец, если кто добился репутации на войне, тот опасен вдвойне своим талантом; следует или отделаться от него, или удалить его от армии, ибо он подозрителен.
Естественные смерти знаменитого человека или просто должностного лица стали настолько редкими, что историки заносили их, как события особого интереса, на память веков. Смерть стольких невинных и почтенных граждан казалась меньшим бедствием, чем наглость и соблазнительное счастье его доносчиков и убийц. Чуть ли не каждый день доносчик, личность которого была священна и неприкосновенна, торжественно входил во дворец казненного и получал его богатое наследство. Все они украшали себя знаменитыми именами, называли себя Коттой, Сципионом, Регулом, Сервием Севером. Желая сделать свой дебют известным, некий Серен поднял обвинение в контрреволюции против своего старого отца, уже изгнанного; после этого он стал гордо называть себя Брутом. Каковы были обвинители, таковы и судьи: суд, задача которого охранять жизни и имущества, превратился в бойню, где все, что носило имя казни и конфискации, было не чем иным, как грабежом, убийством“.
Камиль Демулен не ограничивался нападками на революционное диктаторское управление; он требовал его уничтожения; он предлагал, как единственное средство окончить революцию и умиротворить все партии, учредить Комитет милосердия. Его журнал имел большое влияние на общественное мнение, поднимая в известной степени смелость и давая надежду. Со всех сторон только и слышалось: читали ли вы „Старый кордельер“. В то же время Фабр д'Эглантин, Лакруа и Бурдон из Уазы подбивали Конвент сбросить с себя иго комитета. Они старались соединить Гору с правой, чтобы восстановить свободу и полное значение Собрания.
Не рассчитывая сразу справиться со всемогущими комитетами, они старались уничтожить их постепенно; только этим путем и на самом деле можно было рассчитывать чего-нибудь добиться. Следовало добиться перемены в общественном мнении и тем ободрить Собрание, получив нравственную поддержку против революционной силы и противопоставя твердую власть Конвента влиянию и власти комитетов. Монтаньяры-дантонисты старались отдалить Робеспьера от прочих децемвиров; Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа и Сен-Жюст казались им бесконечно преданными системе террора; Барер держался ее по слабости, Кутон — из преданности к Робеспьеру. Дантонисты думали привлечь Робеспьера на свою сторону, благодаря его дружбе с Дантоном, любви к порядку, строгому образу жизни, публичному исповеданию добродетели и, наконец, благодаря его гордости. Он защищал семьдесят три арестованных депутата Жиронды против комитета якобинцев; он осмеливался напасть на Клоотса и Эбера, как на крайних революционеров, и заставил Конвент декретировать поклонение Верховному Существу. Робеспьер обладал самой громадной популярностью; он был как бы руководителем республики и диктатором общественного мнения; привлекая его на свою сторону, дантонисты надеялись прикончить с комитетами и Парижской коммуной, не повредив этим делу революции.
Дантон виделся с Робеспьером после возвращения из Арси-сюр-Об; казалось, они сговорились между собой, и Робеспьер даже защищал его от нападок якобинцев. Робеспьер читал и исправлял „Старого кордельера“, одобряя, по-видимому, этот журнал. В то же время он стал держаться умеренных взглядов, что взволновало всех, кто составлял революционное правительство или его поддерживал. Бийо-Варенн и Сен-Жюст открыто одобряли политику комитетов. Говоря о Робеспьере, Демулен выразился: „Он так много о себе думает, что носит голову на плечах с таким видом, будто это Святое причастие“. — „А я, — возразил Сен-Жюст, — заставлю его носить голову наподобие святого Дионисия“[42]. Колло д'Эрбуа, уезжавший по поручению Конвента, между тем вернулся в Париж. Он покровительствовал партии анархистов, и его возвращение придало ей снова утерянную было храбрость. Якобинцы вычеркнули Камиля Демулена из своих списков, а Барер от лица правительства напал на него в Конвенте. Он не пощадил и Робеспьера; его обвиняли в умеренности, и толпа на сходках роптала против него.
Влияние его, однако, было громадно, и ни одна партия не могла не только победить, но даже напасть на другую без его помощи; обеим партиям приходилось у Робеспьера заискивать. Пользуясь таким выгодным положением, Робеспьер держался между двумя партиями, не склоняясь окончательно ни к одной и стараясь победить их вождей одного за другим.
Теперь он решился пожертвовать Коммуной и анархистами, а комитеты — Горой и умеренными. Произошло соглашение; Робеспьер выдал Дантона, Демулена и их друзей членам Комитета, а эти, в свою очередь, выдали ему Эбера, Клоотса, Шометта, Ронсена и их близких. Покровительствуя партии умеренных, Робеспьер этим подготовил гибель анархистов и, таким образом, добился двух целей, удовлетворявших его гордости и желанию господствовать: он уничтожил опасную партию и оградил себя от соперничавшей с ним революционной знаменитости.
К этим партийным соображениям присоединилась еще одна забота об общественном спасении. Видя всюду всеобщее ожесточение против республики и далеко не окончательную ее победу, комитеты не считали своевременным мир ни с Европой, ни с внутренними мятежниками, а продолжать войну без диктатуры им казалось невозможным. К тому же они считали эбертистов партией непристойной, развращавшей народ и помогавшей водворением анархии иностранцам, а дантонистов партией, политическая бесцветность и безнравственная частная жизнь которой возбуждали разговоры и наводили тень на всю республику. Правительство устами Барера предложило собранию продолжение войны еще с большей настойчивостью, чем прежде, а Робеспьер несколькими днями позже потребовал поддержки революционного правительства. Перед этим в Клубе якобинцев он говорил против журнала „Старый кордельер“, поддерживаемого им прежде. Вот его подлинные слова:
„Извне нас окружают тираны, внутри приверженцы тирании составляют заговоры и будут этим заниматься до тех пор, пока не лишатся надежды на совершение этого преступления. Надо подавить внутренних и внешних врагов революции или погибнуть вместе с ней. При таком положении дел первой задачей нашей политики должно быть управление народом с помощью разума, а врагами народа — с помощью ужаса. Если двигательной пружиной народного правления в мирное время служит добродетель, то во время революции должны служить в одно и то же время и добродетель, и ужас, — добродетель, без которой страх пагубен, и ужас, без которого добродетель бессильна. Обуздайте врагов свободы страхом, и вы будете правы, ибо вы основатели республики. Революционное правление есть деспотизм свободы, направленный против тирании“.
В той же речи Робеспьер заявил, что обе партии, как умеренных, так и крайних революционеров, желают погубить республику. „Они идут — сказал он, — под разными знаменами и разными дорогами, но к одной и той же цели: эта цель — уничтожение народного правления, гибель Конвента и торжество тирании! Одна из этих партий толкает нас к слабости, другая к крайности“. Таким образом, Робеспьер подготовлял умы к осуждению обеих партий, и его речь, одобренная без прений, была разослана во все народные общества, ко всем властям и по всем войскам. После этих первых проявлений вражды Дантон, не прерывавший сношений с Робеспьером, потребовал у него свидания; оно произошло у Робеспьера, но оба были настроены холодно и недружелюбно. Дантон горячо жаловался, а Робеспьер держался осторожно и скрытно. „Я знаю, — говорил Дантон, — всю ненависть ко мне Комитета, но я не боюсь ее“. — „Вы ошибаетесь, — сказал Робеспьер, — против вас нет никаких дурных намерений, но лучше было бы вам объясниться“. — „Объясниться, объясниться, — возразил Дантон, — но для этого нужно доверие“, — и, видя омрачившееся при этих словах лицо Робеспьера, он прибавил: „Без сомнения, надо обуздать роялистов, но мы должны наносить только полезные для республики удары, а не смешивать невинных с виновными“. — „А кто сказал вам, — возразил с колкостью Робеспьер, — что кто-нибудь погиб безвинно?“ Дантон повернулся тогда к сопровождавшему его другу и сказал с горькой насмешкой: „Что ты на это скажешь? Никто не погиб безвинно?“ После этих слов они разошлись; ни о какой дружбе между ними не могло быть больше и речи. Несколько дней спустя Сен-Жюст взошел на трибуну и более чем когда-либо угрожал всем диссидентам, как умеренным, так и крайним. „Граждане, — говорил он, — вы сами пожелали республики; если теперь вы не примете все то, что ее составляет, она похоронит весь народ под своими развалинами. Республика требует уничтожения всего, что ей враждебно. Виноваты перед республикой те, кто сочувствует заключенным, кто не стремится к добродетелям и не хочет террора. Чего добиваются те, кто не считает добродетель необходимой для счастья (анархисты)? Чего хотят те, кто не желает террора против людей вредных (умеренные)? Чего хочет тот, кто рыщет по площадям и по другим публичным местам, чтобы дать себя заметить и заставить говорить о себе: видишь, вот идет такой-то (Дантон)? Все эти люди погибнут; погибнут все, гоняющиеся за успехом, принимающие растерянный вид и выдающие себя за патриотов, чтобы быть подкупленными иностранцами или получить место от правительства; погибнут люди снисходительные, желающие спасти преступников, погибнут друзья иностранцев, желающие принять строгость против защитников народа! Уже приняты все меры, чтобы завладеть виновными: они окружены со всех сторон. Возблагодарим гений французского народа за то, что свобода вышла торжествующей из величайшего покушения, когда-либо замышлявшегося против нее. Развитие этого обширного заговора, ужас, им внушаемый, и меры, вам против него предложенные, избавят республику и землю от всех заговорщиков!..“
Сен-Жюст принудил Конвент дать правительству обширную власть над заговорщиками Коммуны; Конвент декретировал господство справедливости и честности. Анархисты не сумели принять никаких мер к своей защите. Они закрыли покрывалом Декларацию прав человека в Клубе кордельеров и старались произвести мятеж, но это им не удалось ввиду отсутствия единодушия и энергии. Народ не двинулся на их защиту, и Комитет при посредстве своего главнокомандующего Анрио захватил Эбера, революционного генерала Ронсена, Анахарсиса Клоотса, Моморо, Венсана и других. Их предали суду Революционного трибунала в качестве иностранных агентов и заговорщиков, стремившихся установить в государстве власть тирана. Этим тираном должен быть Паш, в должности великого судьи. Смелость покинула вождей анархистов; после ареста они защищались и умерли большей частью без мужества. Комитет общественного спасения распустил революционную армию, уменьшил власть секционных комитетов и заставил Парижскую коммуну явиться в Конвент благодарить за арест и казнь заговорщиков, ее соучастников.
Настало время Дантону подумать о защите; гонение на Коммуну не предвещало ничего хорошего и для него. Ему советовали быть осторожным и принять свои меры, но ему не удалось уничтожить диктаторскую власть, подымая против нес общественное мнение и Конвент при помощи журналистов и своих друзей монтаньяров. Где было ему искать опоры? Конвент склонялся в его пользу, но он был порабощен революционной властью комитетов. Дантону же, не заручившемуся поддержкой ни правительства, ни Конвента, ни Коммуны, ни клубов, пришлось ждать своего осуждения, ничего не делая, чтобы его избегнуть.
Друзья умоляли его защищаться. „Я предпочитаю, — отвечал он, — быть гильотинированным, чем самому гильотинировать; к тому же собственную жизнь защищать не стоит, а человечество мне надоело“. — „Члены Конвента ищут твоей смерти!“ — „Если так… (в сильном гневе), если когда-нибудь… Если Бийо… если Робеспьер… Их будут проклинать как тиранов. Дом Робеспьера будет срыт до основания и на его месте поставят позорный столб в отомщение злодейства!.. Мои друзья скажут обо мне, что я был хорошим отцом, хорошим другом, хорошим гражданином, и они меня не забудут“. — „Ты можешь избегнуть…“ — „Я предпочитаю лучше быть гильотинированным, чем гильотинировать других!“ — „Тебе следует в таком случае уехать!“ — „Уехать… уехать… Да разве можно унести родину на подошве своей обуви“.
Дантону оставалось последнее средство: ему следовало возвысить свой голос, бывший таким знакомым и могучим, следовало обличить Робеспьера и Комитет и восстановить Конвент против их тирании. Его сильно побуждали к этому, но он знал, как трудно свергнуть раз установившуюся и сильную власть; он слишком хорошо знал покорность и страх Собрания, чтобы рассчитывать на действенность этого средства. Он ждал все время в надежде, что враги остановятся перед осуждением такого человека, как он. 10 жерминаля ему пришли сказать, что об его аресте поднят вопрос в Комитете общественного спасения, и еще раз убеждали его бежать. Он задумался на минуту, но потом сказал: „Они не посмеют“. Ночью его дом был окружен, его арестовали и отправили в Люксембургскую тюрьму вместе с Камилем Демуленом, Филиппо, Лакруа и Вестерманом. При входе он дружески приветствовал заключенных, теснившихся вокруг него. „Господа, — сказал он им, — я надеялся в непродолжительном времени выпустить вас отсюда, но вместо того сам попал к вам, и я не знаю теперь, чем все это кончится“. Час спустя он был переведен в секретную камеру, где незадолго перед тем содержался Эбер и куда вскоре затем был посажен Робеспьер. Там, предаваясь размышлениям и сожалениям, он сказал: „Как раз год тому назад я помог учреждению революционного судилища, но да простит мне Бог и люди за это, — я никогда не думал сделать его бичом человечества“.
Арест Дантона возбудил мрачное беспокойство и всеобщий ропот. На другой день, при открытии заседания в Конвенте, депутаты шепотом с ужасом спрашивали друг у друга, что вызвало это новое насилие над народными представителями. „Граждане, — сказал Лежандр, — четыре члена этого собрания сегодня ночью арестованы; я знаю, что Дантон был в их числе, но имена остальных мне неизвестны. Граждане, я объявляю, что считаю Дантона таким же невинным, как себя, и, однако, он в оковах. Вероятно, опасались, чтобы его ответы не уничтожили обвинений, взводимых на него; я требую поэтому, чтобы ранее заслушания доклада о происшедшем заключенные были вызваны сюда и выслушаны!“ Это предложение было принято благоприятно и ободрило на некоторое время Собрание. Несколько членов предложили голосовать его, но это хорошее настроение длилось недолго. Показался Робеспьер на трибуне. „Судя по давно уже небывалому волнению, царящему в этом собрании, волнению, вызванному только что заслушанными словами, — сказал он, — надо думать, что здесь дело идет о важных вещах, и в самом деле вопрос заключается в том, одержат ли сегодня несколько человек верх над отечеством. Мы увидим сегодня, сумеет ли Конвент разбить уже давно подгнивший идол, или он в своем падении уничтожит не только Конвент, но и французский народ“. Этих нескольких слов Робеспьера было достаточно, чтобы водворить тишину и повиновение в Собрании, сдержать друзей Дантона, а Лежандра заставить взять назад свое предложение. Тотчас после этого взошел в залу Сен-Жюст в сопровождении других членов Комитета. Он прочел длинный доклад об арестованных депутатах, в котором они обвинялись за свои политические воззрения, за публичную деятельность, за частную жизнь, даже за предполагаемые намерения; в заключение при помощи неправдоподобных, но тонких сближений арестованные выставлялись заговорщиками и слугами всех партий. Собрание выслушало доклад в полном молчании и постановило единогласно и даже среди аплодисментов считать Дантона и его друзей виновными. Каждый старался выиграть время у тирании и, выдавая ей голову близких, спасти тем свою собственную.
Обвиняемые были приведены перед Революционный трибунал; они появились перед ним с гордым и смелым видом и выказали в своих речах необыкновенную смелость и полное презрение к своим судьям. Дантон на обычный вопрос президента Дюма об имени, летах и местожительстве отвечал: „Я Дантон и довольно известен по революции; мне тридцать пять лет; моим жилищем скоро будет небытие, но мое имя будет жить в Пантеоне истории“. То презрительные, то резкие ответы Дантона, холодные и логические рассуждения Лакруа, суровость Филиппо и пылкость Демулена начали волновать народ. Но обвиняемые были поставлены „вне прений“, под предлогом недостаточного уважения подсудимых к суду, и их осудили, даже не выслушав. „Нами жертвуют честолюбию нескольких подлых разбойников, — сказал Дантон, — но недолго будут они наслаждаться плодами своей преступной победы. Я увлекаю за собой Робеспьера… Робеспьер последует за мной!“ Все обвиняемые были отведены в Консьержери, а оттуда на эшафот.
На казнь они шли с твердостью, обычной в то время. Призвано было много войска, и сопровождавший их конвой был многочислен. Толпа, обыкновенно шумная и выражающая свое одобрение, была молчалива. Камиль Демулен, сидя уже на роковой колеснице, все еще удивлялся своему осуждению и не мог его понять. „Вот, — сказал он, — награда, предназначенная первому апостолу свободы.“ Дантон держал себя гордо и обводил спокойным взором окружающих. На ступеньках эшафота он на минуту смягчился. „О моя дорогая жена, — вскричал он, — никогда я больше не увижу тебя…“ Потом, спохватившись, прибавил: „Дантон, мужайся!“ Так погибли поздние, но последние защитники человеколюбия и умеренности, последние, желавшие мира для одержавших верх в революции и милосердия для побежденных. После них ни один голос не раздавался против диктатуры террора; он наносил усиленные и безмолвные удары с одного конца Франции до другого. Жирондисты хотели предупредить этот насильственный режим, дантонисты — задержать его; все они погибли, а победителям чем больше приходилось убивать жертв, тем больше они насчитывали врагов. На этом кровавом пути можно остановиться, только дойдя до собственной гибели. Децемвиры, после окончательного уничтожения жирондистов, написали на своем знамени террор; после гибели эбертистов — справедливость и честность, ибо эбертисты — порочные бунтовщики; после гибели дантонистов провозглашено было господство террора и всех добродетелей, потому что дантонисты считались людьми снисходительными и безнравственными[43].
Глава IX От смерти Дантона, в апреле 1794 г., до 9 термидора (27 июля 1794 г.)
Усиление террора; его причина. — Системы демократов; Сен-Жюст. — Всемогущество Робеспьера. — Праздник Верховного Существа. — Кутон представляет закон 22 прериаля, преобразовывающий Революционный трибунал, смятение, дебаты и, наконец, подчинение Конвента. — Деятели комитетов разъединяются; одну партию составляют Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон; другую — Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа, Барер и члены Комитета общественной безопасности. — Поведение Робеспьера; он перестает ходить в Комитет и старается опираться исключительно на якобинцев и Парижскую коммуну. — 8 термидора; Робеспьер требует обновления состава комитетов, но не добивается этого. — Заседание 9 термидора; Сен-Жюст разоблачает действия комитетов; Тальен его прерывает; Бийо-Варенн жестоко нападает на Робеспьера; общее озлобление Конвента против триумвиров; арест их. — Коммуна восстает и освобождает заключенных. — Опасности, которым подвергается Конвент, и его мужество; он объявляет мятежников вне закона — Секции принимают сторону Конвента — Поражение и казнь Робеспьера и инсургентов.
Прошло четыре месяца со времени падения партии Дантона; за это время власть комитетов ничем не сдерживалась, и никто не помышлял даже ей противиться. Единственным средством правления сделалась смерть, и республике пришлось пережить период ежедневных систематических казней. Были придуманы особые заговоры, якобы на самом деле происходившие по тюрьмам, переполненным в силу закона о подозрительных, и темницы, при посредстве закона 22 прериаля, который можно было бы назвать законом обязательного осуждения, были быстро очищены; одновременно с изданием этого нового закона повсюду в департаментах комиссары Горы были заменены людьми, преданными Комитету общественного спасения, и с этих нор на западе стали действовать протеже Бийо-Варенна — Каррье, на юге протеже Кутона — Менсе, а на севере протеже Робеспьера — Жозеф Лебон. К прежде в Лионе и Тулоне примененному уже уничтожению целыми массами врагов демократической диктатуры при помощи расстреливания картечью теперь прибавились ужасы казней гильотиной в Аррасс, Париже и Оранже и массовое бросание в воду заключенных в Нанте.
Если бы этот пример заставил людей познать ту истину, что на благо человечества должна стать общепризнанной, а именно, что в революции все зависит от первого отказа и от первой борьбы! Чтобы реформа прошла спокойно, необходимо, чтобы ей не оказывали противодействия; иначе неизбежно возгорится гражданская война, и революция только сильнее распространится, ибо весь народ придет в движение на ее защиту. Раз общество потрясено в самых своих основаниях, победителями несомненно и неизбежно останутся те, кто смелее всех других, и вместо умеренных и мудрых преобразователей распоряжаются всегда преобразователи наиболее крайние и непреклонные. Рожденные борьбой, они только в ней ищут и поддержки: одной рукой они сражаются за свое господство, а другой основывают систему, чтобы это господство упрочить. Они убивают во имя своего спасения, во имя своих доктрин и для мотивирования этих убийств, которыми они защищают свою диктатуру, они выставляют все, что только есть на земле святого: добродетель, человечество, народное благо… Пока они не выдохнутся и не падут, все гибнет перед ними без всякого разбора, гибнут одинаково и противники, и приверженцы реформ; буря уносит и разбивает о революцию всю нацию. Посмотрите, что сталось в 1794 г. с людьми 1789 г.; они также погибли в общем крушении. Выход на поле битвы одной партии вызвал туда и все другие, и все они, как и первая, оказались в конце концов последовательно побежденными и уничтоженными: первыми погибли конституционалисты, за ними жирондисты, монтаньяры и, наконец, сами децемвиры. Кровопролитие при этом с каждым поражением становилось все сильнее, система тирании все более жестокой. Децемвиры только потому были самыми безжалостными, что они были последними.
Комитет общественного спасения ввиду угрожающего положения, занятого Европой, а также ввиду ненависти, питаемой к нему всеми побежденными партиями, полагал, что ослабление жестокостей поведет к его гибели; он стремился зараз и сдержать своих врагов, и от них отделаться. „Только мертвецы не возвращаются“, — говорил Барер. „Чем больше выпота у общественного организма, тем он становится здоровее“, — прибавлял Колло д'Эрбуа. Децемвиры, однако, никак не предполагали, что их дни сочтены, и стремились основать демократию, видя в ее установлениях гарантию для того времени, когда им можно будет отказаться от казней. Они с таким фанатизмом веровали в некоторые социальные теории, с каким известным религиозным воззрениям верили милленарии[44] Английской революции. Между ними и милленариями вообще можно найти много общего: одни во всем исходили от народа, как другие от Бога; одни желали самого полного политического равенства, как другие равенства в смысле Евангелия; одни стремились к царству добродетели, как другие к царству святых. Человеческая природа всегда и повсюду идет до крайних пределов и в религиозную эпоху производит христианских демократов, а в эпоху философскую — демократов политических.
Робеспьер и Сен-Жюст начертали план этой демократии и в своих речах выяснили главные ее основания. Они желали изменить нравы, дух и привычки Франции; они стремились создать из нее республику, наподобие древних. Они надеялись установить господство народа, создать должностных лиц, не обуянных гордостью, и граждан, не имеющих пороков, восстановить братские взаимные между гражданами отношения, поклонение добродетели, простоту обхождения, чистоту и строгость нравов. В речах всех докладчиков Комитета, а в особенности в речах Сен-Жюста и Робеспьера, так и пестрят сакраментальные слова этой секты: свобода и равенство в управлении республикой, нераздельность для ее формы, общественное спасение, как основание для ее защиты и сохранения, добродетель, как ее идеал, Верховное Существо, как предмет поклонения. Что же касается граждан, то символом веры для них должны были быть: братство в обыкновенных отношениях, честность в поведении, здравый смысл для руководства умственной жизнью, скромность для общественной деятельности, которую они должны были направлять исключительно к пользе государства, а не своей личной выгоде. Нельзя идти дальше в фанатизме. Изобретатели этой системы вовсе не смотрели на то, насколько она удобоприменяема; они считали ее справедливой и естественной, и этого было им довольно для того, чтобы, получив власть в свои руки, вводить ее насильственно. Из всех приведенных нами сакраментальных слов партии мы не найдем ни одного, на основании которого не были бы осуждены или целая партия, или по крайней мере отдельные лица. Роялистов и аристократов преследовали во имя свободы и равенства, жирондистов во имя нераздельности; Филиппо и Камиля Демулена вместе с другими столь же умеренными людьми — во имя общественного спасения; Шометта, Анахарсиса Клоотса, Эбера и всю анархистскую и атеистическую партию во имя Верховного Существа; Шабо, Базира, Фабра д'Эглантина во имя честности; Дантона во имя добродетели и скромности. В глазах фанатиков эти нравственные преступления столь же содействовали гибели осужденных, как и те заговоры, в которых их обвиняли.
Робеспьер был покровителем этой секты, но в Конвенте она имела еще более ярого защитника в лице Сен-Жюста, которого называли Апокалиптическим. Он имел правильные и крупные черты лица, выражение лица твердое и вместе с тем меланхолическое, взгляд пристальный и проницательный, волосы черные, гладкие и длинные. Манеры его были холодны, но душа чрезвычайно пламенна. Простой в своем образе жизни, строгий к себе, как и к другим, и склонный к нравоучениям, он без всяких колебаний стремился к осуществлению своей системы. Несмотря на то, что ему было всего 25 лет, он был самым решительным из децемвиров, ибо он был наиболее из них убежденным. Страстно преданный республике, он был неутомим в комитетах, смел во время посылок к войскам, где он проявлял пример мужества, разделяя походы и опасности наравне с солдатами. Как бы ни был он предан толпе, он никогда не льстил ей и вместо того, чтобы, подобно Эберу, принять ее костюм и язык, он стремился доставить ей довольство и внушить серьезное отношение к делу и достоинство. Его политическая деятельность делала его еще более опасным, чем его демократические верования. У него была масса смелости, хладнокровия, находчивости и твердости. Будучи мало склонным к милосердию и снисходительности, он облекал меры к общественному спасению в формулы и затем тотчас же приводил эти формулы в исполнение. Он, не задумываясь, требовал победы, казни, диктатуры, раз только признавал их необходимыми. В отличие от Робеспьера, он был истинным человеком дела. Робеспьер быстро понял всю ту пользу, что могла извлечь из него партия, и приложил все усилия, чтобы привлечь его на свою сторону; Сен-Жюста, со своей стороны, привлекали в Робеспьере репутация неподкупности, строгие нравы и общность или сходство воззрений.
Понятно, насколько ужасно было сообщество таких двух людей с их популярностью, при зависти их ко всем, неограниченном властолюбии одного и непреклонном характере и последовательности в действиях другого. К ним затем присоединился Кутон; он был лично предан Робеспьеру. Обладая весьма кротким выражением лица и имея парализованной нижнюю половину тела, он отличался не знающим пощады фанатизмом. Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон составили в Комитете тот триумвират, который стремился захватить всю власть исключительно в свои руки. Это честолюбие сначала отдалило от них остальных членов Комитета, а затем и погубило их. Вначале, однако, триумвират неограниченно управлял и Конвентом, и Комитетом. Для того, чтобы устрашить Конвент, докладчиком назначался Сен-Жюст; если надо было поймать Конвент врасплох, то на трибуну выступал Кутон. Робеспьер лично выступал тогда, когда в Собрании слышался какой-либо ропот или замечалась нерешительность, и одного слова его было достаточно, чтобы все замолчали и на всех напал ужас.
В продолжение первых двух месяцев после падения Коммуны и партии Дантона децемвиры, еще не разделенные, работали все вместе ради упрочения своего господства. Их комиссары охраняли порядок в департаментах, а войска республики были победителями по всем границам. Комитеты воспользовались этой минутой безопасности и согласия и пожелали положить начало новым обычаям и новым установлениям. Не надо забывать, что во время революции двигателями людей являются две склонности: преданность воззрениям и жажда власти. Члены Комитета сначала заботились о торжестве демократических идей, но в конце концов они боролись исключительно из-за обладания властью.
Бийо-Варенн изложил Конвенту теорию народного правительства и предложил ряд способов всегда держать в подчинении у нации армию. Робеспьер произнес речь о нравственных идеях и празднествах, соответствующих республике; по его предложению декадные праздники посвятили Верховному Существу, Истине, Справедливости, Скромности, Дружбе, Воздержанности, Искренности, Славе, Бессмертию, Несчастью и т. д., наконец, всем нравственным и республиканским добродетелям. Этим Робеспьер подготовил введение нового культа Высшего Существа[45]. Барер сделал доклад об уничтожении нищенства и о той помощи, которую республика обязана оказывать неимущим гражданам. По желанию демократов все эти доклады были обращены в декреты[46]. Речи Барера обыкновенно были направлены к тому, чтобы скрыть от Конвента ту подчиненность децемвирам, в которой он находился; он был чрезвычайно гибким орудием в руках Комитета, он не обладал ни жестокостью, ни фанатизмом, которые бы привлекали его к террору. Он был кроток нравом, вел безупречную жизнь и отличался весьма умеренным образом мыслей. Он был, однако, труслив и потому из конституционного роялиста он после 10 августа стал умеренным республиканцем, а после 31 мая восхвалителем и соучастником тирании децемвиров. Не имеющему достаточно сильной воли нечего думать быть действующим лицом революции. Ум сам по себе не непреклонен, — слишком легко приспособляется; он находит оправдание для всего, даже для действий, возбуждающих отвращение или ужас; в такое время, когда постоянно приходится быть готовым к смерти и когда следует действовать только до тех пор, пока не приходится поступаться своими убеждениями, ум никогда не умеет остановиться вовремя.
Робеспьер, считавшийся вдохновителем нравственной демократии, мало-помалу достиг к описываемому времени высшей степени могущества и не знал границ в своем влиянии. Он стал предметом лести всей без исключения партии: он стал великим человеком республики. Все говорили о его добродетели, его гении, его красноречии. Значение его сильно возросло еще из-за двух обстоятельств. 3 прериаля незначительный, но смелый человек по имени Адмира пожелал избавить Францию от Робеспьера и Колло д'Эрбуа. Весь день он тщетно прождал Робеспьера, а вечером решился поразить Колло. Он два раза выстрелил в него, но оба раза промахнулся. На следующий день к Робеспьеру явилась молодая девушка по имени Сесиль Рено и настоятельно требовала свидания с ним. Робеспьера не было дома; девушка настаивала, чтобы быть принятой, и в конце концов ее арестовали. При ней нашли небольшой пакет и два ножа. „Что за причина побудила вас прийти к Робеспьеру?“ — „Мне надо поговорить с ним о деле“. — „О каком деле?“ — „Это зависит от того, каким бы он оказался“. — „Знакомы вы с гражданином Робеспьером?“ — „Нет, я желала только с ним познакомиться, меня интересовало посмотреть, как выглядит тиран“. — „Для чего у вас два ножа?“ — „Ни для чего, у меня не было намерения причинить кому бы то ни было зло“. — „А что это за пакет?“ — „В нем смена белья; я предполагала надеть ее там, куда меня сведут“. — „Куда же вас сведут?“ — „В тюрьму, а оттуда на гильотину“. Несчастную девушку действительно отправили сначала в тюрьму, а затем на гильотину, и она увлекла в своей гибели все свое семейство[47].
Робеспьер после этого покушения получил выражения самой головокружительной лести. Клуб якобинцев и Конвент приписали его спасение заступничеству доброго гения республики и Верховного Существа, бытие которого было установлено декретом от 18 прериаля, по настоянию Робеспьера. Освящение нового культа было назначено повсеместно во Франции на 20 прериаля. 16-го Робеспьер единогласно был выбран председателем Конвента, чтобы именно ему исполнять роль первосвященника на этом празднестве. Он явился на празднество во главе Конвента, с лицом, сияющим от доверия и радости, что ему было, вообще говоря, мало свойственно. Шагов на пятнадцать впереди своих товарищей выступал Робеспьер, и всеобщее внимание было обращено именно на него, на то, как он шел в блестящем одеянии, с цветами и колосьями в руках. Все в этот день ждали для себя чего-нибудь: враги Робеспьера ждали узурпации власти, преследуемые партии — отныне более кроткого режима. Робеспьер обманул ожидания всех; он в качестве первосвященника приветствовал народ речью и закончил ее не обещанием лучшего будущего, а следующими неутешительными словами: „Граждане, предадимся сегодня чистой радости. Завтра нам предстоит снова борьба с пороками и тиранами“[48].
Два дня спустя, 22 прериаля, Кутон представил Конвенту проект нового закона. Революционный трибунал покорно осуждал всех, на кого ему указывали: он одинаково посылал на смерть роялистов, конституционалистов, жирондистов, монтаньяров. Но он действовал не так быстро, как то было желательно для людей, задавшихся систематическим истреблением противников, людей, поставивших своей целью во что бы то ни стало и как можно скорее отделаться от заключенных. По предложению Кутона следовало уничтожить еше немногие соблюдавшиеся формы судебного разбирательства. „Всякая медлительность, — сказал Кутон, — является преступлением, всякая снисходительная формальность составляет опасность для общества, казнь следует отсрочивать только до удостоверения личности врагов отечества“. Ранее обвиняемые имели защитников, теперь их отняли. Закон дает в защитники оклеветанным патриотам патриотов присяжных; для заговорщиков же никаких защитников не должно быть. Ранее каждого заключенного судили в отдельности, теперь их судили большими группами. Прежде даже в определении революционных преступлений была некоторая ясность, теперь признавались виновными все враги народа, а врагами народа считались все, кто стремился уничтожить свободу при помощи силы или хитрости. До сих пор в своих решениях присяжные должны были руководствоваться законами, теперь им предоставлялось слушаться только совести. Одного трибунала, Фукье-Тенвиля и небольшого количества присяжных стало недостаточно для жертв, число которых с изданием нового закона должно было сильно увеличиться; трибунал пришлось разделить на четыре отдела, число присяжных и судей было увеличено, а публичному обвинителю было назначено четыре помощника, его заменявших. Наконец, до сих пор народные депутаты могли быть преданы суду только по постановлению Конвента; теперь закон был составлен так, что это стало возможным по одному постановлению комитетов. Закон против подозрительных, как неизбежное следствие, дал закон 22 прериаля.
Конвент встретил окончание предложения Кутона ропотом боязни и удивления. „Если этот закон будет принят, — сказал Рюан, — то нам не останется ничего иного, как застрелиться. Я требую отсрочки“. Отсрочка была поддержана многими депутатами, но вот выходит на трибуну Робеспьер. „Уже давно, — сказал он, — Национальный конвент обсуждает и декретирует законы без всяких промедлений, ибо давно в нем исчезли раздоры партий. Я требую, чтобы, не обсуждая даже вопроса об отсрочке, Конвент начал прения по поводу предложения Кутона и вел их, если понадобится, хотя бы и до восьми часов вечера“. Прения были тотчас же открыты, и через тридцать пять минут закон был принят в двух чтениях. На следующий день, однако, некоторые депутаты, устрашенные новым законом еще более, чем самим Комитетом, попробовали возвратиться ко вчерашнему вопросу. Друзья Дантона, монтаньяры, видевшие опасность особенно в том постановлении, которым депутаты отдавались в полную власть децемвиров, предложили Конвенту озаботиться безопасностью его членов. Бурдон, депутат от Уазы, первым заговорил об этом; его поддержали. Мерлен ловким добавлением к закону восстановил прежнюю неприкосновенность депутатов; добавление это было принято Конвентом. За этим добавлением мало-помалу последовали другие возражения против вчерашнего декрета; смелость монтаньяров понемногу возросла, и прения стали очень бурными. Кутон напал прямо на монтаньяров. „Пусть, — отвечал на его нападки Бурдон, — члены Комитета знают, что если они патриоты, то и мы патриоты не меньше их. Пусть знают они, что я не стану в язвительном тоне отвечать на их упреки. Я уважаю и Кутона, и Комитет, но я не могу не уважать также и непоколебимую Гору, спасшую республику“. Робеспьер, удивленный непривычным сопротивлением, устремляется на кафедру. „Конвент, Гора, Комитет, — говорит он, — все это одно и то же. Всякий народный представитель, любящий чистосердечно свободу, всякий народный представитель, готовый умереть за отечество, является членом Горы. Допустить, чтобы несколько интриганов, более достойных презрения, чем другие, ибо они более их лицемерны, увлекли за собой часть Горы и сделались предводителями этой партии, это значило бы оскорбить отечество и нанести смертельный удар народу“. — „Мне и в голову не приходило сделаться предводителем партии“, — отвечал Бурдон. — „Это было бы, — продолжал Робеспьер, — крайней степенью позора, если бы некоторые из наших сотоварищей, вовлеченные в заблуждение клеветой, взведенной на нас и на цель наших трудов…“ — „Я требую, чтобы были приведены доказательства тому, что сказано, — перебил Робеспьера Бурдон, — только что достаточно ясно про меня было сказано, что я злодей“. — „Я вовсе не называл Бурдона. Горе тому, кто сам себя называет. Да, Гора чиста, Гора величественна, и интриганы принадлежат вовсе не к Горе“. — „Назовите их“. — „Я и назову их, но когда в этом встретится надобность“. Угрозы, высказанные Робеспьером, самый повелительный тон его речи, поддержка, которую он встретил в других децемвирах, страх, от одного к другому переходивший по всему собранию, — все заставило монтаньяров замолчать. Добавление Мерлена, как оскорбительное для Комитета общественного спасения, было отвергнуто, и закон был принят целиком в его первоначальном и не измененном виде. С этих пор начались массовые казни, и ежедневно на гильотину отсылалось в среднем по 50 заключенных. Этот террор над террором продолжался около двух месяцев.
Приближался, однако, конец этому режиму. Прериальские заседания положили предел согласию между членами комитетов. С некоторых пор между ними росло глухое недовольство. Они шли вместе, покуда им приходилось поневоле вместе сражаться против общих врагов, но лишь только они со своей привычкой к борьбе и жаждой к власти остались на арене одни, взаимные отношения их должны были измениться. Во-первых, мнения их были не вполне по всем вопросам одинаковые: демократическая партия разбилась на фракции вследствие падения прежней Парижской коммуны; Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа и главнейшие из членов Комитета общественной безопасности — Вадье, Амар, Вуллан — принадлежали к этой ниспровергнутой партии Коммуны и предпочитали культ Разума культу Верховного Существа. С другой стороны, большинство завидовало популярности Робеспьера и с опасением смотрело на все возрастающее его могущество. Робеспьер, в свою очередь, был раздражен тайным недоброжелательством и кознями своих сотоварищей по комитетам. Он составил план уничтожить наиболее предприимчивых членов Горы: Тальена, Бурдона, Лежандра, Фрерона, Ровера и других, а вместе с ними и своих соперников по комитетам.
Робеспьер располагал поразительной силой: высшие классы, отождествлявшие его личность с самой революцией, поддерживали в нем носителя своих доктрин и своих интересов. К его услугам была вся вооруженная сила Парижа, находившаяся под начальством Анрио. Он царствовал в Клубе якобинцев и составлял и очищал его совершенно по своему произволу. Все важные места были заняты его креатурами; он сам составил новый Революционный трибунал и новую Парижскую коммуну, заменив в должности генерального прокурора Шометта национальным агентом Пейаном, а в должности мэра Паша — Флерио. Какая была у него цель, когда он раздавал наиболее влиятельные должности людям совершенно новым и этим отделялся от комитетов? Стремился ли он и на самом деле к диктатуре? Хотел ли он только достичь своей демократической добродетели, погубив все, что еще осталось безнравственного среди Горы и мятежного среди комитетов? Все партии потеряли своих предводителей: Жиронда в лице двадцати двух, Коммуна в лице Эбера, Шометта и Ронсена, Гора в лице Дантона, Шабо, Лакруа, Камиля Демулена. Уничтожая предводителей, Робеспьер, однако, старательно покровительствовал массе. Он защищал 70 заключенных против изветов якобинцев и ненависти комитетов; он стал во главе нового состава Коммуны; он мог ждать сопротивления своим планам, каковы бы они ни были, исключительно только со стороны небольшого количества оставшихся монтаньяров и со стороны правительства Конвента. В последние дни своей карьеры он все свои усилия и направил именно против этих двух препятствий. Надо полагать, что он совершенно не отделял республику от своего над ней протектората и что и республику, и протекторат он думал основать и упрочить на развалинах всех партий.
Комитеты боролись с Робеспьером по-своему. Они тайно подготовляли его падение обвинением в тирании; они распускали слухи, что на установление культа Верховного Существа надо смотреть как на предвестие близкой узурпации власти; они указывали на ту высокомерную осанку, с которой он действовал в день 20 прериаля, и на то расстояние, на котором он держался в этот день даже от Национального конвента. Они называли его между собой не иначе, как Писистратом, и это имя переходило из уст в уста. Ничтожное для всякого другого времени обстоятельство позволило напасть на него косвенным образом. Старая женщина, по имени Екатерина Тео, в каком-то темном закоулке, посреди небольшого количества фанатических приверженцев занималась пророчествами; звали ее „Божьей Матерью“; она возвещала скорое пришествие мессии-восстановителя. Вместе с ней всегда находился прежний товарищ Робеспьера по Учредительному собранию, картезианец Жерль, имевший цивильный аттестат от самого Робеспьера. Комитеты, раскрыв тайны „Божьей Матери“ и ее предсказаний, заподозрили или, может быть, только сделали вид, что заподозрили, Робеспьера в том, что он пользуется этим средством для привлечения на свою сторону фанатиков и для того, чтобы подготовить умы к собственному возвышению. Они изменили имя этой женщины Тео в Теос, что по-гречески обозначает „Бог“, а в Мессии, пришествие которого она возвещала, они достаточно ловко указали Робеспьера. Старый Вадье от имени Комитета общественной безопасности должен был сделать Конвенту доклад об этой новой секте. Тщеславный и мелочный Вадье донес Конвенту на посвященных в новые таинства, осмеял новый культ, приплел к нему, хотя открыто и не называл, Робеспьера, и добился заключения фанатиков в тюрьму. Робеспьер пожелал спасти их. Поведение Комитета общественной безопасности его глубоко возмутило, и в Клубе якобинцев он отозвался о речи Вадье с презрением и гневом. Комитет общественной безопасности оказал новое противодействие Робеспьеру, отказавшись возбудить преследование против тех, на кого указывал Робеспьер. С этих пор он совершенно перестал являться в Комитет и весьма редко приходил на заседания Конвента. Зато он регулярно являлся в Клуб якобинцев и здесь, с клубной трибуны, он надеялся разбить своих врагов, как это ему удавалось делать до тех пор.
И вообще-то печальный, боязливый и недоверчивый, теперь он стал еще более мрачным и подозрительным. Он не выходил на улицу иначе как в сопровождении нескольких якобинцев, вооруженных палками; их называли его телохранителями. Вскоре он начал свои обвинения и доносы в Народном собрании. „Следует, — говорил он, — изгнать из Конвента всех развращенных людей“. Под развращенными людьми он подразумевал друзей Дантона. Робеспьер заставлял наблюдать за ними с самой мелочной тщательностью. Ежедневно следовавшие за ними по пятам шпионы сообщали ему обо всех их поступках, об их словах и о том, кого они посещали. Робеспьер в Клубе якобинцев нападал не только на одних дантонистов: он восстал на самый Комитет и для нападения на него выбрал день, когда в клубе председательствовал Барер. Барер вернулся домой с этого заседания совершенно в унынии. „Я совершенно изверился в людях“, — сказал он присяжному Виллату. — „Что побудило, — спросил этот Барера, — Робеспьера напасть на тебя?“ — „Робеспьер ненасытен, он расходится с нами, так как мы не можем удовлетворять всех его желаний. Пусть бы речь шла о Тюрио, Гюфруа, Ровере, Лекуантре, Панисе, Камбоне, Монестьере, о всей этой шайке дантонистов, — мы бы могли с ним прийти к соглашению; пусть даже он требует головы Тальена, Бурдона из Уазы, Лежандра, Фрерона — и это можно понять. Но согласиться на выдачу ему Дюваля, Одуена, Леонара Бурдона, Вадье, Вуллана… ну разве есть в этом хоть малейшая возможность?“ Нельзя было выдать членов Комитета общественной безопасности, ибо это значило бы погубить самих себя. Комитет общественного спасения поэтому решил быть твердым; он выжидал нападения, хотя и боялся его. Робеспьер был опасным противником отчасти в силу своего могущества, отчасти своей ненавистью и планами; ему приходилось первому начинать борьбу.
Как, однако, было приступить к ней? Робеспьер впервые был составителем заговора. До сих пор ему удавалось всегда пользоваться существующими народными движениями. Дантон, кордельеры и предместья 10 августа ниспровергли трон; Марат, Гора и Коммуна 31 мая поразили Жиронду; Бийо, Сен-Жюст и Комитеты совершили низвержение Коммуны и добились ослабления Горы. Ныне Робеспьер был совершенно один. Не имея возможности получить поддержки от правительства, ибо он шел против комитетов, он обратился к низшим классам населения и якобинцам. Главными заговорщиками были: Сен-Жюст и Кутон в Комитете, мэр Флерио и национальный агент Пейан в Коммуне, президент Дюма и вице-президент Кофиналь — в Революционном трибунале; наконец, не надо забывать о главнокомандующем войсками Анрио и об якобинцах. Решение было, как оказывается, уже принятым через три недели после прериального закона и за 25 дней до 9 термидора, т. е. 15 мессидора; именно этим числом помечено письмо Анрио к мэру, в котором он, между прочим, пишет: „Товарищ, ты будешь доволен мной и моим образом действий: люди, любящие отечество, легко могут прийти к соглашению, чтобы обратить все свои усилия на пользу общественного дела. Я желал раньше и желаю теперь, чтобы тайна действий была известна только нам двоим; тогда злодеи ничего о них не могли бы поведать. Поклон и братство“.
Сен-Жюст был в то время в командировке в Северной армии; Робеспьер поспешно вызвал его в Париж, а в ожидании его возвращения старался подготовить умы в Клубе якобинцев. На заседании 3 термидора он выразил жалобу на поведение комитетов и на преследование патриотов и поклялся защищать этих последних. „Нигде, — говорил он, — не должно оставаться и следа преступлений или преступных замыслов. Несколько злодеев бесчестят Конвент; но, конечно, он не позволит им угнетать себя“. Далее, Робеспьер предложил своим сотоварищам по клубу представить Национальному собранию свои размышления по этому поводу. Это было, таким образом, повторением 31 мая. 4 термидора Робеспьер принял депутацию от департамента Эны, явившуюся к нему с жалобой на действия правительства, в котором он не принимал участия уже более месяца. „Конвент, — ответил депутации Робеспьер, — в настоящем своем положении, зараженный продажностью и не будучи в состоянии от нее отделаться, не может более спасти республики; он погибнет вместе с ней. На очереди осуждение патриотов. Что касается меня, то я уже стою одной ногой в гробу; через несколько дней со мной будет покончено. Все остальное в руках Провидения“. Робеспьер был в это время немножко нездоров и нарочно преувеличивал свое уныние, свои опасения и опасности республики, чтобы воспламенить патриотов и связать свою судьбу с судьбой революции.
Тем временем вернулся из армии Сен-Жюст. Робеспьер познакомил его с положением дел. Он явился в Комитеты, но был принят членами их очень холодно; каждый раз, как он входил, они прекращали прения. Молчание членов комитетов, несколько случайно слышанных им слов, замешательство, а отчасти и ненависть, написанные на их лицах, показали Сен-Жюсту, что терять времени не приходится, и он торопил Робеспьера начинать действия. Его правилом было бить сразу и сильно. „Дерзайте, — говорил он, — вот весь секрет революции“. Сен-Жюст убеждал Робеспьера поразить врагов без предупреждения, но это было невозможно, ибо сила, которой он располагал, была не организованная, а революционная и опирающаяся на общественное мнение. Следовало действовать либо через Конвент, либо через Парижскую коммуну, надо было пустить в ход или законную власть правительства, или крайнее средство восстания. Таковы были обычаи, таков исключительно мог быть государственный переворот. Но даже и к восстанию можно было прибегнуть не раньше, как получив отказ от Конвента, иначе не было предлога для него. Робеспьер был, таким образом, принужден начать неприязненные действия выступлением в Конвенте. Он надеялся всего от него добиться своим влиянием, а если бы, паче чаяния, Конвент оказал сопротивление, то он рассчитывал, что народ, возбужденный Коммуной, восстанет 9 термидора против обвиняемых членов Горы и Комитета общественного спасения совершенно так, как 31 мая он восстал против Жиронды и Комиссии двенадцати. Всякий деятель почти всегда сообразуется в своих поступках с прошлым и на нем основывает свои надежды.
8 термидора рано утром Робеспьер явился в Конвент. Он всходит на трибуну и в тщательно приготовленной речи разоблачает действия комитетов. „Я предстал перед вами, — сказал он, — чтобы защитить вашу поруганную власть и нарушенную свободу. Мне придется защищать также и самого себя, но вас это не должно удивлять, ибо вы нисколько не походите на тех тиранов, с которыми вам приходится бороться. Ваши уши не полны криков оскорбленной невинности, и вы понимаете, что мое дело не совсем чуждо и для вас“. После этого вступления Робеспьер жалуется на клеветников; он нападает на тех, кто ведет республику к гибели либо своими излишествами, либо своей умеренностью, на тех, кто преследует мирных граждан, как это делают Комитеты, на тех, кто преследует истинных патриотов, т. е. монтаньяров. Он вполне соглашается с прежней деятельностью и с духом Конвента и связывает свою судьбу с его судьбой. Он прибавляет, что враги Конвента — и его враги. „Чем я сам по себе могу заслужить гонения? Очевидно, они входят в общий план заговора против Национального конвента. Разве вы не обратили внимания, что для того, чтобы отделить вас от народа, они опубликовали, что вы — диктаторы, царствующие при помощи террора, хотя и отвергаемые по общему молчаливому соглашению французов? Что касается до меня, то к какой, собственно говоря, партии я принадлежу? Конечно, к вам, и только к вам. Ведь вы, истинные представители народа и его принципов, составляете ту партию, которая с самого начала революции разрушала козни врагов ее и уничтожила стольких изменников, пользовавшихся доверием. Я предан этой партии, и против нее именно направлены все преступные замыслы… Вот уже по меньшей мере шесть недель, как я из-за невозможности делать добро или по крайней мере противодействовать злу совершенно прекратил исполнение своих обязанностей члена Комитета общественного спасения. Стал ли после этого более защищен патриотизм? Сделались ли партии менее смелыми? Стало ли отечество счастливее? Мое влияние всегда ограничивалось исключительно тем, что я защищал дело отечества перед представителями народа и перед трибуналом народного разума“. Сплетя, таким образом, тесно свою судьбу с судьбой Конвента, Робеспьер старается восстановить Конвент против Комитетов во имя идеи его независимости. „Представители народа, настало время вооружиться приличествующими вам гордостью и твердостью характера. Вы не для того здесь, чтобы вами управляли, а для того, чтобы направлять деятельность лиц, облеченных вашим доверием“.
Не ограничиваясь стремлением привлечь на свою сторону Конвент, указывая на необходимое восстановление его власти и на окончание его рабского подчинения комитетам, Робеспьер обращается также и ко всем умеренным людям, напоминая им, что именно ему они обязаны спасением 73-х и давая им надежду на восстановление порядка, справедливости и милосердия. Он говорит о том, что следует изменить разорительную и тяжелую финансовую систему, что следует смягчить революционное правление, направить его действия и наказать его агентов, превысивших свою власть. Наконец, он взывает к народу, говорит об его нуждах, об его могуществе и, перебрав все, основанное на интересах, надеждах и опасениях Конвента, что могло бы на него повлиять, прибавляет: „Скажем открыто, что существует заговор против общественной свободы, что силой своей он обязан преступному союзу, интригующему среди самого Конвента, что этот союз имеет соучастников в Комитете общественной безопасности, что враги республики противопоставили этот Комитет Комитету общественного спасения и создали, таким образом, два правительства, что и члены Комитета общественного спасения также входят в этот заговор, что цель такого союза погубить патриотов и отечество… Но какие же имеются средства против этого зла? Следует наказать изменников, обновив состав Комитета общественной безопасности, очистив его и подчинив Комитету общественного спасения, следует, далее, почистить и самый Комитет общественного спасения, следует создать единство правления под высшим главенством Конвента, уничтожить, таким образом, при помощи давления народной власти все партии и создать на их развалинах господство справедливости и свободы“.
Это объявление войны не было встречено в Конвенте ни аплодисментами, ни ропотом. В молчании Конвент выслушал Робеспьера, и молчание это продолжалось долгое время и после того, как он кончил говорить. Собрание было в нерешительности, все с беспокойством переглядывались. Наконец, депутат Версаля Лекуантр получил слово и потребовал, чтобы речь Робеспьера была опубликована во всеобщее сведение. Требование это послужило сигналом к волнению, спорам и сопротивлению. Бурдон, депутат Уазы, противится опубликованию речи, находя ее опасной; ему аплодировали. Барер, по всегдашней своей привычке служить и нашим, и вашим, поддерживает необходимость опубликования всех речей, а Кутон требует, чтобы речь Робеспьера в отпечатанном виде была разослана по всем общинам республики. Конвент, устрашенный имевшимся, по-видимому, согласием между враждебными партиями, декретирует и опубликование, и рассылку речи Робеспьера.
Члены обоих комитетов до этих пор хранили молчание, но теперь, увидев нерешительность большинства Конвента и поражение Горы, решили, что настало время и им сказать свое слово. Вадье первый нападает и на речь, и на самого Робеспьера. Камбон идет еще дальше. „Настало время, — вскричал он, — поведать миру настоящую истину: один человек парализовал до сих пор волю Конвента, и этот человек — Робеспьер“. — „Надо сорвать маску, — прибавил Бийо-Варенн, — на ком бы она ни находилась. Я предпочитаю, чтобы мой труп служил престолом для честолюбца, чем быть безмолвным сообщником его злодеяний“. Панис, Бентаболь, Шарлье, Тирион и Амар напали на Робеспьера в свою очередь. Фрерон предложил Конвенту свергнуть с себя иго Комитетов. „Время, — сказал он, — восстановить свободу мнений. Я предлагаю, чтобы Конвент отменил декрет, коим комитетам предоставлено право задерживать народных представителей. Кто из нас может свободно выражать свое мнение, зная, что его каждую минуту за это могут арестовать?“ Слова эти вызвали незначительные аплодисменты; но не настало еще время полного освобождения от посторонней зависимости Конвента; прикрываясь комитетами, следовало добиться свержения Робеспьера, а затем было бы уже нетрудно справиться и с ними. Ввиду этих соображений предложение Фрерона было отвергнуто. „Кто боится открыто высказывать свои мнения, — сказал Бийо-Варенн, пристально глядя на Фрерона, — тот недостоин звания народного представителя“. После этих инцидентов все внимание собрания было направлено опять на Робеспьера. Декрет о напечатании его речи был отменен, и Конвент передал речь для рассмотрения комитетов. Робеспьер, никак не ожидавший такого пламенного противодействия, воскликнул: „Как, я имею смелость изложить в Конвенте истины, необходимые, по моему мнению, для спасения отечества, а мою речь отсылают на рассмотрение тех самых членов, которых я обвиняю!“ Робеспьер вышел в этот день из Собрания несколько обескураженный, но все еще надеялся подействовать на казавшееся ему нерешительным Собрание убеждениями, а если это не удастся, то подчинить его при помощи заговорщиков из якобинцев и членов Парижской коммуны. Вечером он отправился в Клуб якобинцев и был принят там с энтузиазмом. Он прочитал ту самую речь, что днем осудил Конвент, и якобинцы покрыли ее рукоплесканиями. Он рассказал тогда клубу о всех нападках, предметом которых он стал; чтобы их возбудить еще больше, он добавил: „Я готов, если встретится в том надобность, выпить чашу Сократа“. — „Робеспьер, — вскричал в ответ один из депутатов, — я выпью ее с тобой!“ — „Враги Робеспьера, — раздалось тут отовсюду, — являются непременно врагами и отечества: пусть он назовет их, — и дни жизни их сочтены!“ В продолжение всей этой ночи Робеспьер подготовлял своих приверженцев к завтрашнему дню. Было решено, что заговорщики соберутся в Коммуне и в Клубе якобинцев и, готовые действовать смотря по обстоятельствам, будут там ожидать в то время, как Робеспьер и его друзья отправятся в Конвент.
Комитеты собрались со своей стороны и провели в совещании всю ночь. Посреди них появился Сен-Жюст. Товарищи попробовали отвлечь его от триумвирата; они поручили ему сделать доклад о случившемся накануне и представить им на рассмотрение. Вместо доклада он, однако, написал обвинительный акт против них самих и, не пожелав сообщить им его, покинул заседание, сказав: „Вы омрачили мое сердце; я открою его только перед Конвентом“. Комитеты возложили все свои надежды на мужество Собрания и единодушие партий. Монтаньяры ничего не забыли из мер, которыми можно было бы водворить это спасительное единодушие. Они обратились к наиболее влиятельным членам Правой и Равнины. Они заклинали Буасси д'Англа и Дюрана де Майяна, стоявших во главе их, соединиться с ними для совместных действий против Робеспьера. Сначала они колебались; два раза они отсылали от себя дантонистов, даже не выслушав их, — настолько велик был их страх перед могуществом Робеспьера и настолько сильна их злоба по отношению к Горе. Дантонисты в третий раз возобновили переговоры, и, наконец, и Правая, и Равнина согласились их поддержать. И с одной, и с другой стороны имелись, таким образом, заговоры. Все партии в Конвенте соединились против Робеспьера; все соучастники триумвиров были готовы высказаться и действовать против Конвента. При таком положении вещей открыто было заседание 9 термидора.
Члены Конвента собрались на это заседание раньше обыкновенного. К половине одиннадцатого они прогуливались уже по коридору, ободряя друг друга. Монтаньяр Бурдон, депутат Уазы, подходит к умеренному Дюрану де Майяну, жмет ему руку и говорит: „Какие славные люди члены Правой“. К разговаривающим подходят Тальен и Ровер и присоединяют свои приветствия к приветствиям Бурдона. В полдень они через дверь в зал видят, что Сен-Жюст всходит на трибуну. „Пора“, — сказал Тальен, и они пошли в зал. Робеспьер занимал место как раз против трибуны для ораторов, вероятно, с целью устрашать своих врагов взглядами. Сен-Жюст начинает. „Я не принадлежу, — говорит он, — ни к одной из партий, я буду бороться против них всех. Дело приняло такой оборот, что эта кафедра может обратиться в Тарпейскую скалу для всякого, кто взойдет на нее, чтобы сказать, что члены правительства уклонились с пути благоразумия и мудрости“. Тут Тальен яростно прерывает Сен-Жюста и кричит: „Нет возможности хорошему гражданину удержаться от слез над печальной судьбой общественного дела. Повсюду мы видим раздор. Вчера от правительства отделился один из его членов и выступил с его обвинениями. Сегодня то же самое делает другой. Мы снова видим возобновление взаимных нападок, отечеству грозят не только еще бо́льшие бедствия, но и падение прямо в бездну. Я требую, чтобы была совершенно снята завеса!“ — „Это необходимо, это необходимо!“ — раздалось тут со всех сторон.
Бийо-Варенн получает слово и говорит с места: „Вчера Клуб якобинцев был наполнен подставными людьми, подставными, ибо они не имели членских билетов; в такой компании вчера развивалось намерение задушить Национальный конвент; вчера я видел там людей, кричавших самые невозможные ругательства против людей, ничем революции не изменявших. Теперь здесь, среди Горы, я вижу одного из этих людей, угрожавших представителям нации, вот он…“ — „Арестовать, арестовать его!“ — раздались отовсюду крики. Приставы схватывают этого человека и отводят его в Комитет общественной безопасности. „Настала минута, когда следует высказать истину, — говорит Бийо-Варенн. — Собрание имело бы неправильное суждение о событиях и о своем положении, если бы оно не заметило, что находится между двумя опасностями быть задавленным. Погибель Конвента неизбежна, если он окажется слабым“. — „Нет, нет, Конвент не погибнет!“ — воскликнули в ответ единодушно все члены, поднявшись со своих мест. Они дают клятвы спасти республику; с мест для публики раздаются рукоплескания и крики: „Да здравствует Национальный конвент!“ Друг Робеспьера, Леба, просит слова, чтобы говорить в защиту триумвиров. Ему в нем отказывают, и Бийо-Варенн продолжает. Он предостерегает Конвент от угрожающих ему опасностей; он нападает на Робеспьера, перечисляет его сообщников, разоблачает его поведение и планы касательно диктатуры. Все взоры поворачиваются к Робеспьеру. Сначала и довольно долго он их выносит с полной твердостью, но, наконец, он не в силах больше вытерпеть и бросается на трибуну. Тотчас же раздался страшный шум, и Собрание криками „Долой тирана!“ не дало ему возможности говорить.
„Я только что просил, — сказал тогда Тальен, — сорвать завесу. С удовольствием теперь констатирую, что она сорвана совершенно; заговорщики обнаружены, они вскорости будут уничтожены, и свобода восторжествует. Я был вчера вечером в Клубе якобинцев, и то, что я там слышал, заставляло меня трепетать за отечество. Я видел, что составляется армия нового Кромвеля, и я заготовил кинжал, которым собирался пронзить ему сердце, если бы Конвент не нашел в себе силы издать против него обвинительный декрет“. При этих словах Тальен вынимает и размахивает кинжалом и требует от негодующего Конвента прежде всего ареста Анрио и непрерывности заседания Конвента; и на то, и на другое Конвент выражает свое согласие посреди криков „Да здравствует республика!“ По предложению Бийо-Варенна Конвент издает, далее, указ об аресте трех самых смелых сторонников Робеспьера: Дюма, Буланже и Дюфреза. По предложению Барера Конвент становится под вооруженную защиту городских секций, он же редактирует прокламацию, с которой Конвент должен был обратиться к народу. Предложения различных мер предосторожности следуют одни за другими. Вадье отвлекает на время внимание Конвента от грозящих ему опасностей, заговорив снова о деле Екатерины Тео. „Не будем отдаляться от настоящей цели нашей работы“, — говорит Тальен. — „Я сумею возвратить Конвент к настоящему вопросу“, — кричит Робеспьер. — „Займемся тираном“, — продолжает Тальен и снова с живостью нападает на Робеспьера.
Робеспьер уже несколько раз делал попытку говорить, несколько раз он подымался по ступенькам кафедры для ораторов и всякий раз должен был спускаться вниз из-за всеобщих криков „Долой тирана!“ и звонка, почти непрестанно приводимого в действие председателем. Робеспьер делает, наконец, еще одно последнее усилие и, воспользовавшись минутным затишьем, кричит: „В последний раз спрашиваю тебя, председатель убийц, дашь ты мне слово или нет?“ Турио продолжает звонить. Тогда Робеспьер, обведя взором трибуны, остающиеся безучастными, обращается к правой стороне. „Я прибегаю к вашей защите, — говорит он. — Вы чистые и добродетельные люди, вы должны дать мне возможность высказаться, в чем мне отказывают эти убийцы“. Но и отсюда он не получил ответа. Гробовое молчание не было нарушено ни одним словом. Только тогда Робеспьер окончательно потерял присутствие духа, возвратился на свое место и упал в кресло, совершенно разбитый от усталости и гнева. На губах у него пена, голос обрывается… „Несчастный, — говорит ему один из монтаньяров, — это тебя душит кровь Дантона“. Вносится требование об аресте Робеспьера; требование это встречает поддержку со всех сторон. Тогда подымается со своего места Робеспьер-младший. „Я виновен наравне с моим братом, — говорит он, — я разделяю его убеждения и желаю иметь общую с ним участь“. — „Я не хочу принимать на себя бесчестие этого указа, — говорит Леба, — я прошу, чтобы арестовали и меня“. Конвент единогласно постановляет арестовать обоих Робеспьеров, Кутона, Леба и Сен-Жюста. Этот последний долго оставался на трибуне, нисколько не меняясь в лице, затем он сошел вниз все такой же спокойный: всю продолжительную бурю ему удалось выдержать, не проявив никаких внешних признаков волнения. Триумвиры были выданы жандармам и уведены ими при общих радостных восклицаниях. Робеспьер, выходя, сказал: „Республика погибла: разбойники торжествуют“. Было пять с половиной часов. Заседание было прервано до семи часов.
Во время этой бурной борьбы сообщники триумвиров, как было условлено, собрались в Коммуне и Клубе якобинцев. Мэр Флерио, национальный агент Пейан и командующий войсками Анрио были в здании Коммуны уже с полудня. Они созвали при помощи барабана муниципальных чиновников и были в полной надежде, что Робеспьер останется в Конвенте победителем и что им поэтому не встретится надобности ни в общем совете для декретирования восстания, ни в секциях для его поддержания. Через несколько часов пришло из Конвента приказание мэру явиться в Конвент и отдать отчет о состоянии Парижа. „Поди скажи этим злодеям, — отвечал посланному Анрио, — что мы здесь рассуждаем, как бы почистить их. Не забудь, кроме того, передать Робеспьеру, чтобы он был тверд и никого не боялся“. Как только до Коммуны дошла весть об аресте триумвиров и о декрете против их сообщников, ударили в набат, закрыли заставы и решили созвать Генеральный совет и собрать секционеров. Артиллерия получила приказание явиться к Коммуне вместе со своими пушками, а революционным комитетам было предложено принять там же присягу на участие в восстании. Из Коммуны же было послано известие и в Клуб якобинцев, объявивших тотчас же свои заседания непрерывными. Депутаты от городской Коммуны были приняты якобинцами с бешеным восторгом. „Клуб заботится об отечестве, — было сказано им, — он поклялся лучше умереть, чем жить под властью преступлений“. Было выработано между Клубом и Коммуной соглашение, и между этими двумя центрами восстания были организованы частые сношения. Анрио с целью вовлечь в восстание народ проезжал во главе своего штаба по улицам и кричал: „К оружию!“ То тут, то там он говорил к народу речи и призывал всех встречных идти в Коммуну спасти отечество. На улице Сент-Оноре за таким делом он был замечен двумя членами Конвента. Именем закона они потребовали, чтобы несколько жандармов исполнили декрет об аресте: жандармы повиновались, и Анрио со связанными руками был доставлен в Комитет общественной безопасности.
Между тем ни с той, ни с другой стороны не был решен еще окончательно образ действий. Каждая сторона пользовалась доступными ей средствами власти: Конвент действовал при помощи декретов, Коммуна — при помощи восстания; для каждой стороны было совершенно ясно, что ждет ее в случае поражения, и это делало их обоих крайне деятельными и решительными. Долгое время успех был неопределенен: от полудня до пяти с половиной часов верх одерживал Конвент; он арестовал триумвиров, а несколько позже и Анрио стал его пленником. Конвент все время был в сборе, а Коммуна еще не успела сосредоточить свои силы; с шести до восьми больше шансов на успех было у Коммуны; казалось, дело Конвента проиграно. На это время Конвент разошелся, а Коммуна удвоила свои усилия и свою смелость.
Робеспьер между тем был перевезен в Люксембургскую тюрьму, его брат в Сен-Лазарскую, Сен-Жюст в Шотландскую, Кутон в Бурбскую, а Леба в Консьержери. Коммуна сначала отдала приказ тюремщикам не принимать этих арестантов, а затем послала отряды войск для их освобождения. Первым был освобожден Робеспьер; его с триумфом доставили в ратушу, Здесь его прибытие было встречено возгласами „Да здравствует Робеспьер, да погибнут изменники!“ Незадолго перед тем Кофиналь, во главе двухсот пушкарей, отправился освобождать Анрио, содержавшегося под стражей в Комитете общественной безопасности. Было семь часов. И Конвент снова собрался на заседание. Стража его состояла едва из ста человек. Кофиналь является, проникает в здание, занимает помещения комитетов и освобождает Анрио. Этот тотчас же идет на площадь Карусель, держит речь к артиллеристам и убеждает их направить орудия против Конвента.
Конвент в это время рассуждает как раз об угрожающих ему опасностях. До него только что одно за другим дошли известия об устрашающих успехах заговорщиков, о мятежных распоряжениях Коммуны, об освобождении триумвиров, о нахождении их в ратуше, о неистовствах якобинцев, о созыве революционных комитетов и секций. Собрание имело полное основание страшиться ежеминутного нападения; вдруг в зал вбегают испуганные, спасающиеся от преследования Кофиналя члены комитетов. Конвент узнает от них, что помещение комитетов занято мятежниками, а Анрио освобожден. Сильнейшее волнение овладевает Собранием при этом известии. Несколько мгновений спустя в зал поспешно входит Амар и сообщает, что артиллеристы под влиянием увещаний Анрио направили свои орудия на Конвент. „Граждане, — говорит тогда президент, надевая в знак скорби шляпу, — настало время умереть на нашем посту“. — „Мы все умрем здесь!“ — воскликнули в ответ все члены Конвента. Зрители, бывшие на отведенных для них трибунах, вышли из зала с криками: „К оружию, пойдем дать отпор злодеям!“ Конвент имел достаточно мужества в эту страшную минуту объявить Анрио вне закона.
К счастью для Конвента, Анрио не удалось убедить артиллеристов пойти дальше и стрелять. Его влияния было достаточно только на то, чтобы увлечь их за собой, и он во главе их явился к зданию ратуши. Отказ артиллеристов стрелять решил судьбу этого дня. Коммуна была близка к победе, но с этой минуты дела ее все ухудшались. Нападение открытой силой совершенно ей не удалось, пришлось прибегнуть к более медленным приемам восстания; инициатива в наступлении перешла к другой стороне, и вскоре уже не Коммуна нападала на Конвент в Тюильри, а Конвент двинулся на ратушу. Конвент объявил всю мятежную Коммуну и всех участвовавших в заговоре депутатов вне закона. Он послал комиссаров по секциям с целью заручиться их поддержкой, назначил депутата Барраса главнокомандующим над парижскими войсками и дал ему в помощники Фрерона, Ровера, Феро, обоих Бурдонов и Лежандра, людей весьма решительного характера. Он сделал, наконец, центром военных действий и управления ими Комитеты.
Между тем секции собрались по приглашению Коммуны к девяти часам в заседания. Большинство граждан, отправляясь на эти собрания, сильно беспокоилось, смутно зная о распрях между Конвентом и Коммуной и не зная, чьей стороны держаться. Комиссары восставших приглашали их присоединиться к Коммуне и послать свои батальоны к ратуше. Секции ограничились, однако, посылкой в Коммуну одних депутаций. Но вот среди них появились посланцы от Конвента; они сообщили им декреты и прокламации Конвента и сообщили, что имеется и главнокомандующий, и место сбора для вооруженных граждан. Все колебания секций при этих известиях мигом прекратились. Батальоны секций стали один за другим являться к Конвенту; они давали клятву защищать Конвент и проходили через зал его заседаний при всеобщих криках энтузиазма и вполне чистосердечных рукоплесканиях. „Каждая минута теперь дорога, — сказал Фрерон, — надо действовать. Баррас пошел за приказаниями к комитетам; сейчас мы двинемся на мятежников. Мы принудим их именем Конвента выдать изменников, а если они откажутся это исполнить, то мы сотрем в порошок и их, и все здание ратуши“. — „Идите не медля, — сказал президент, — надо, чтобы до наступления утра пали головы заговорщиков“. Несколько батальонов пехоты и несколько орудий было оставлено на защиту Конвента против возможного нападения, а остальные батальоны двумя колоннами двинулись на Коммуну. Было около полуночи.
Заговорщики оставались все время в заседании. Робеспьер, встреченный криками энтузиазма и обещаниями преданности и победы, был допущен в заседание и занял место между Пейаном и Флерио. Гревская площадь была полна народом, штыками, пиками и пушками. Для начала действий ждали только прибытия секций. Присутствие в ратуше депутатов от них, посылка к ним муниципальных комиссаров — все заставляло рассчитывать на их помощь; Анрио ручался за все. Заговорщики верили в несомненность победы: они избрали особую исполнительную комиссию, изготовили обращения к армиям и составляли списки; однако даже к половине первого ночи в ратушу не явилась ни одна секция, и из Коммуны не было отдано ни одного приказания. Триумвиры продолжали свое совещание с сообщниками, а народ, собравшийся на Гревской площади, стал приходить в смущение от такой медлительности и нерешительности. Глухо и на ушко сообщали слух о том, что секции высказались уже, что Коммуна объявлена вне закона, что войска Конвента приближаются. Мало-помалу дух собравшейся на Гревской площади массы упал настолько, что достаточно было незначительного толчка, чтобы рассеять ее. В это время в толпу пробрались эмиссары Конвента и закричали: „Да здравствует Конвент!“ Множество голосов подхватило этот крик. Тогда эмиссары прочли декрет, объявлявший Коммуну вне закона. Прослушав это постановление Конвента, все собравшиеся быстро разошлись во все стороны, и в несколько минут площадь совершенно опустела. Через несколько минут из ратуши вышел с саблей в руках Анрио, желая поддержать мужество находившихся на площади. „Возможно ли, — вскричал он, — каких-нибудь пять часов назад канониры спасли мне жизнь, а теперь эти злодеи меня покинули“. Он идет обратно в ратушу; тем временем подходят колонны войск Конвента, окружают ратушу, в молчании занимают все из нее выходы и затем разражаются общим криком: „Да здравствует Национальный конвент!“
Заговорщики, видя свою гибель, думают только о том, как бы им спастись от неприятельских ударов. Некий жандарм, по имени Меда, первым вошедший в зал, где заседали заговорщики, из пистолета выстрелил в Робеспьера и раздробил ему челюсть; Леба сам убил себя, а молодой Робеспьер выбросился из окна третьего этажа, но не убился до смерти; Кутон спрятался под стол, Сен-Жюст один спокойно ждал решения своей участи. Кофиналь обвиняет в трусости Анрио, выталкивает его через окно в помойную яму и убегает. Между тем приверженцы Конвента наполняют ратушу, проходят через опустевшие залы, захватывают заговорщиков и тащат их к зданию Конвента. Бурдон вбегает в зал с криком: „Победа, победа, заговорщики больше не существуют!“ — „Здесь, подле, — говорит председатель, — находится гнусный Робеспьер, его принесли на носилках: конечно, вам не может быть угодно, чтобы его внесли сюда?“ — „Нет, нет, — закричали все, — его следует отнести на площадь Революции!“ На некоторое время Робеспьер был помещен в Комитете общественной безопасности, а затем его перевезли в Консьержери. Тут, лежа на столе с окровавленным и обезображенным лицом, он стал предметом всеобщего любопытства, ругательств и проклятий; ему пришлось перенести тут не только разнообразнейшие унижения, но и убедиться воочию, как все партии одинаково радовались его падению и взводили на него обвинения во всех за последнее время совершенных преступлениях. Он выказал чрезвычайно много стойкости во время своей агонии. Из Консьержери Робеспьер предстал перед Революционным трибуналом; Трибунал, установивши личность Робеспьера и его сообщников, отправил всех их на эшафот. 10 термидора Робеспьер в пятом часу утра взошел на колесницу смерти и был помещен в ней между Кутоном и Анрио, также обезображенными, как и он сам. Голова его была обмотана окровавленным полотном, лицо было мертвенно бледно, глаза почти совершенно потухли. Вокруг колесницы теснилась огромная толпа, выказывавшая живейшую и совершенно несдержанную радость. В толпе поздравляли друг друга, обнимались и одновременно осыпали Робеспьера ругательствами, протискиваясь, чтобы лучше его рассмотреть. Жандармы указывали на него концами своих сабель. Что же касается до него, то толпа, казалось, внушала ему только жалость. Сен-Жюст обводил толпу спокойным взглядом; все остальные осужденные — их было 22 человека — казались упавшими духом. На эшафот Робеспьер вступил последним; когда упала его голова, раздались довольно долгое время не прекращавшиеся аплодисменты.
С Робеспьером настал конец периоду террора, хотя он среди своей партии вовсе не был самым ярым сторонником этой системы. Он искал, правда, господства, но, добившись его, желал умеренности, и террор, прекратившийся с его падением, все равно прекратился бы и при его полной победе. Падение его было неизбежно; он не располагал никакой организованной силой, многочисленные его приверженцы не были вовсе сплочены и дисциплинированы; его сила была исключительно в прямолинейности взглядов и терроре: он не смог, как Кромвель, врасплох захватить своих врагов, а потому искал, чем бы запугать их. Потерпев неудачу в терроре, он обратился к восстанию. Но Конвент в поддержке комитетов нашел средство укрепить и поддержать свое мужество, а мужество Конвента, в свою очередь, передалось городским секциям, и они объявили себя врагами мятежников. Напав на правительство, Робеспьер поднял против себя Конвент; действуя на Конвент, он ожесточил народ, и эта коалиция принесла ему гибель. 9 термидора Конвент не был, как 31 мая, разделенным на партии и нерешительным перед лицом сплоченной, смелой и многочисленной фракции. Все партии были соединены теперь поражением, несчастьем и всем в одинаковой мере постоянно грозившим осуждением; в борьбе они должны были действовать заодно. Таким образом, избежать поражения было совершенно не во власти Робеспьера. Не больше от него зависело и не порывать связи с комитетами. Он в своей деятельности достиг такого пункта, когда ему приходилось поневоле желать быть одному. Он был пожираем страстями, обманут в своих надеждах и в своем счастье, до тех нор бывшем все время для него благоприятным. Раз была объявлена война, — мир, спокойствие, разделение власти стали невозможными, совершенно подобно тому, как невозможны милосердие и справедливость, раз эшафоты уже возведены. Нет возможности тогда избежать падения, и к нему приводит то же самое, что ранее служило для возвышения: для человека казней и крови становится неизбежным погибнуть на эшафоте; здесь такое же верное место его гибели, каким для завоевателя является война.
Глава X С 9 термидора по 1 прериаля III года (20 мая 1795 г.); эпоха возвышения и поражения демократической партии
Конвент после падения Робеспьера. — Партия комитетов; партия термидора; их состав и их цель. — Упадок партии комитетов. — Обвинение Лебона и Каррье. — Состояние Парижа: якобинцы и предместья объявляют себя сторонниками прежних комитетов; золотая молодежь и городские секции стоят за партию термидора. — Обвинение Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа, Барера и Вадье — Движение, происшедшее в жерминале. — Высылка обвиненных и некоторых монтаньяров, державших их сторону. — Восстание 1 прериаля. — Поражение демократической партии; обезоружение предместий, низший класс исключен из участия в управлении, лишен Конституции 1793 г. и теряет свою материальную силу.
9 термидора было первым днем революции, когда пали те, кто вел активную борьбу и наступление. Уже это одно указывает на то, что восходящее революционное движение достигло своего предела. С этого дня должно было начаться движение в обратную сторону. Всеобщее восстание всех партий против одного человека должно было уничтожить гнет, давивший на них. Комитеты в лице Робеспьера потерпели поражение от самих себя, и децемвирное правительство потеряло тот престиж террора, который составлял его единственную силу. Комитеты освободили Конвент, а он, в свою очередь, мало-помалу освободил республику. Комитеты при этом полагали, что действуют исключительно ради поддержания революционного правления, а большинство их союзников имели целью покончить с диктатурой и восстановить независимость Конвента и законный порядок. Уже назавтра после 9 термидора победители стали раскалываться на две противоположные партии — партию комитетов и партию монтаньяров, которую отныне стали называть термидорианской партией.
Партия комитетов была лишена половины своих сил; она потеряла не только предводителя, но также и Коммуну, семьдесят два принимавших участие в мятеже члена которой были отправлены на эшафот и которая после своего двойного поражения, при Эбере и Робеспьере, более не смела сорганизоваться и далее не имела сколько-нибудь значительного влияния Однако в руках этой партии, в лице комитетов, продолжало быть сосредоточено управление делами. Все ее члены были приверженцами революционной системы: одни, как Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа, Барер, Вадье и Амар, видели единственно в ней свое собственное спасение, другие, как Карно, Камбон, два Приёра (депутаты Марны и Кот д'Ора) и еще некоторые, боялись контрреволюции и наказания для своих сотоварищей. В Конвенте партия считала на своей стороне всех, когда-либо посылавшихся комитетами с поручениями комиссаров, многих проявивших себя 9 термидора монтаньярами и остатки бывшей партии Робеспьера. Вне Конвента к ней примыкали якобинцы; она находила, кроме того, поддержку в низшем классе и в предместьях.
Партия термидора была составлена из большей части членов Конвента. К ней принадлежали: весь Центр Конвента, все, что еще осталось от Правой, и монтаньяры, отказавшиеся от прежних своих крайностей. Союз умеренных, Буасси д'Англа, Сьейес, Камбасарес, Шенье, Тибодо с дантонистами — Тальеном, Фрероном, Лежандром, Баррасом, Бурдоном (от Уазы), Ровером, Бентаболем, Дюмоном и обоими Мерленами, дал Конвенту несколько иной характер. Партия термидора после 9 термидора начала с того, что утвердила свое господство в Конвенте; затем она проникла в правительство, вытеснив из него прежних членов. Поддержанная общественным мнением, Конвентом и Комитетами, партия шла с этих пор открыто к намеченной цели; она подвергла преследованию главнейших из децемвиров и некоторых из их агентов. Но так как у них в Париже было немало приверженцев, то она искала поддержки у молодежи против якобинцев, а у секций — против предместий. Рядом с этим для еще большего увеличения числа своих членов партия провела в Конвент всех тех депутатов, которые были изгнаны из него Комитетом общественного спасения, т. е. сначала 73-х, протестовавших против 31 мая, а потом и тех из жирондистов, что оставались еще в живых в изгнании. Заволновались якобинцы, партия настояла на закрытии их клуба; попробовали произвести восстания предместья — их разоружили. Наконец, ниспровергнув революционное правительство, партия задумала создать другое и при помощи Конституции III года установить общественный уклад либеральный, вполне выполнимый на деле, правильный и постоянный, взамен того выходившего из ряду вон и переходного состояния, в котором Конвент находился с самого начала своей деятельности. Все это, однако, можно было совершить только постепенно.
Одержав совместно победу над общим врагом, обе партии не замедлили помериться силами между собой. В особенности сильное отвращение во всех возбуждал Революционный трибунал; 11 термидора действия его были приостановлены Конвентом, но в том же заседании по настоянию Бийо-Варенна возобновлены снова. Он подействовал на Конвент указанием на то, что нет других виновных, кроме сообщников Робеспьера, и что судей и присяжных следует удерживать в их должностях, так как большинство из них люди выдающейся нравственности. Проект декрета был составлен Барером на таких основаниях: триумвиры ничего не сделали для революционного правительства, — напротив того, они зачастую даже противились его мерам, ибо их единственная забота была наполнить правительство своими креатурами и вызвать его на действия лично для них полезные; в силу этих соображений Барер настаивал на усилении революционного правительства и требовал сохранения закона против подозреваемых, Революционного трибунала и даже именно прежнего его состава, не исключая и Фукье-Тенвилля. Произнесение Барером этого имени вызвало в Конвенте всеобщий ропот. Фрерон, выражая накопившееся негодование большинства, воскликнул: „Я требую, чтобы очистили, наконец, землю от этого чудовища. Пусть Фукье убирается в преисподнюю протрезвиться от опьянения пролитой им кровью“. Словам Фрерона аплодировал весь зал, и тотчас же был декретирован указ о предании Фукье суду. Барер не счел себя, однако, побежденным; он продолжал разговаривать с Конвентом тем повелительным тоном, которым всегда говорил Комитет и который всегда так сильно импонировал ему; с его стороны тут действовал расчет и привычка; всегда легко продолжать то, что уже имело успех.
Однако Бареру не приличествовал подобного рода повелительный и непреклонный тон, ибо он за свою политическую карьеру не раз менял свои убеждения, был по происхождению дворянином и до 10 августа принадлежал к партии роялистов-фельянов. „На каком основании, — сказал Мерлен, депутат Тионвиля, — этот бывший президент фельянов присваивает себе право предписывать нам законы?“ Зал разразился аплодисментами. Барер смешался, сошел с ораторской кафедры, и этот первый его неуспех послужил началом падения влияния комитетов в Конвенте. Революционный трибунал продолжал свое существование, но уже с другими членами и другой организацией. Закон 22 прериаля был уничтожен; в судопроизводство этого органа было теперь введено столько медлительности, покровительственных форм и умеренности, сколько прежде было в нем поспешности и бесчеловечности. Страшный прежде, трибунал перестал служить орудием против подозреваемых; этих последних еще некоторое время продержали в тюрьмах, но сильно смягчили тюремный режим и, наконец, всех их понемногу выпустили на свободу, следуя тому самому методу, который проповедовал Камиль Демулен, предлагая учредить свой Комитет милосердия.
13 термидора Конвент занялся созданием правительства. В Комитете общественного спасения была нехватка в большом количестве членов. Эро де Сешель почему-то вовсе не был никем заменен; Жанбон Сент-Андре и Приёр, депутат Марны, были посланы Конвентом с особой миссией; Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст только что погибли. На место всех этих членов были назначены: Тальен, Бреар, Эшассерьо, Трейяр, Тюрио и Лалуа, которые, вступив в состав Комитета, тотчас же ослабили влияние его прежних членов. Рядом с этими оба Комитета были реорганизованы; их поставили в более зависимое положение от Конвента и в более независимое друг от друга. Комитету общественного спасения было поручено ведение военных действий и дипломатических дел, а Комитет общественной безопасности стал во главе высшей полиции. Далее, желая не только ограничить революционную власть, но также успокоить ту всеобщую горячку, которая экзальтировала эту власть, и понемногу отстранить от участия в делах правления толпу, Конвент отменил ежедневные собрания по городским секциям и сохранил их всего раз в декаду, причем неимущим гражданам за участие их в заседаниях секции перестали выдавать ту плату в 40 су в день, что платили раньше.
После того, как эти первые меры были решены и 11 фрюктидора, т. е. месяц спустя после падения Робеспьера, выполнены на деле, версальский депутат Лекуантр выступил с обвинениями против Бийо, Колло и Барера, членов Комитета общественного спасения, и Вадье, Амара и Вуллана из Комитета общественной безопасности. Как раз накануне Тальен выступил в Конвенте против режима террора; его речь произвела известное благоприятное влияние, и, выбирая время для своего нападения, произведенным ею расположением умов воспользовался Лекуантр. Лекуантр представил против перечисленных нами членов комитетов 23 обвинительных пункта. Он им поставил в вину все те меры жестокости и тирании, в которых они обвиняли Робеспьера, и назвал их прямыми продолжателями этого последнего. Обвинение это внесло в Собрание беспокойство и подняло на ноги всех, кто поддерживал почему-либо Комитеты или кто не желал видеть в республике несогласий. „Если бы преступления, в которых нас обвиняет Лекуантр, были доказаны, — сказал Бийо-Варенн, — если бы они оказались настолько соответствующими действительности, насколько они воображаемы и нелепы, то тогда без всякого колебания всем нам надо было бы отрубить головы. Но я требую, чтобы Лекуантр документами и свидетельствами, заслуживающими доверия, доказал хоть один из фактов, в которых он нас обвиняет“. Бийо опроверг один за другим все пункты обвинения, предъявленного к ним Лекуантром; он бросил в лицо врагам упрек в том, что они подкупны, что они интриганы и желают принести его в жертву в память Дантона, этого гнусного заговорщика, надежду всех отцеубийственных партий. „Что надо, — продолжал он, — этим людям, называющим нас продолжателями Робеспьера? Знаете ли вы, граждане, чего они желают? Они желают умертвить свободу на могиле тирана“. Обвинения Лекуантра оказались преждевременными; Конвент почти единогласно признал их клеветническими. Обвиненные и их друзья шумно предавались несдержанному негодованию; будучи атакованы в первый раз, они еще сумели проявить остатки своего прежнего всемогущества; обвинителю почти не дали говорить, и никто его не поддержал; Бийо-Варенну и его приверженцам на этот раз победа далась совсем легко.
Через несколько дней после только что описанного заседания настало время частичного, на одну треть, обновления состава комитетов. Жребий указал, что выходить должны были из Комитета общественного спасения Барер, Карно и Робер Ленде, а из Комитета общественной безопасности — Вадье, Вуллан и Моисей Бай. Вместо них в Комитеты были введены члены партии термидора, и Колло д'Эрбуа и Бийо-Варенн, чувствуя себя теперь слишком слабыми и лишенными в других членах комитетов поддержки, подали в отставку. Еще одно обстоятельство в сильной степени способствовало падению их партии, восстановив против нее общественное мнение с небывалой силой: были преданы гласности преступления проконсулов Комитета Жозефа Лебона и Каррье. Оба они были посланы Комитетом, один в Аррас и Камбре, к границе, открытой для нападения врагов, а другой в Нант, последний пункт, около которого сосредоточилась Вандейская война. Свою миссию они исполнили так, что выделились между всеми комиссарами, вообще не отличавшимися умеренностью; оба они проявили неимоверную жестокость характера и удивительную причудливость в тирании — оба свойства, впрочем, всегда присущие людям, облеченным слишком большой властью. Лебон, не старый и слабохарактерный, был кроток от природы. Во время исполнения первого поручения он был человечен; за это он получил от Комитета нагоняй и был вторично послан в Аррас с наказом показать себя более революционным. Чтобы не отстать от неумолимой политики комитетов, он предался неслыханным излишествам: к казням он примешал разврат; он повсюду возил с собой гильотину, которую называл святой, и вел компанию исключительно с палачом, сажая его с собой за один стол. Каррье, имея в своем распоряжении еще большее количество жертв, чем Лебон, превзошел его в жестокости; он был желчен, фанатичен и по своей натуре любил кровь. Он воспользовался первым представившимся ему случаем, чтобы выполнить такие вещи, которые не могли появиться даже в воображении Марата. Посланный на окраину страны восстаний, он приговаривал к смерти все враждебное население — священников, женщин, детей, стариков, молодых девушек. Ему не хватало эшафотов, и он заменил Революционный трибунал шайкой убийц, названных им отрядом Марата, а гильотину — лодками с открывающимся дном, при помощи которых он массами топил свои жертвы в Луаре. После 9 термидора против всех этих злодеяний раздались крики ужаса и призыв к мести. Первым подвергся нападению Лебон, ибо он был более близким агентом Робеспьера; за ним настала очередь и Каррье, зависевшего от Комитета общественного спасения, чудовищную жестокость которого не одобрял даже и Робеспьер.
В парижских тюрьмах оказалось 94 жителя Нанта, все искренно преданные революции и с мужеством защищавшие родной город во время нападения на него вандейцев. Каррье переслал их в Париж как федералистов[49]. До 9 термидора их не посмели предать суду Революционного трибунала; теперь их предали суду, чтобы разоблачить действия Каррье. Процесс их, продолжавшийся более месяца, был обставлен особой торжественностью, принесшей несомненную пользу; общественное мнение имело и время, и случай высказаться с полной ясностью, и после оправдания подсудимых со всех сторон раздались требования суда над революционным комитетом Нанта и проконсулом Каррье. Лежандр возобновил обвинения Лекуантра против Бийо, Барера, Колло и Вадье; их великодушно защищали прежние товарищи — Карно, Приёр и Камбон, потребовавшие, чтобы им позволили разделить их участь. Обвинение Лежандра снова успеха не имело, и суду были преданы исключительно члены Нантского революционного трибунала; можно было, однако, заметить, что термидорская партия мало-помалу одерживает все бо́льшие успехи. На этот раз членам Комитета пришлось защищаться и оправдываться; Конвент устранил донос Лежандра прямым переходом к очередным делам, но вовсе не признал на этот раз обвинений против Комитета клеветническими, как это было сделано для обвинений Лекуантра.
Революционные демократы между тем все еще были достаточно сильны в Париже; правда, из-под их власти ускользнули Коммуна, Революционный трибунал, Конвент и Комитеты, но у них оставались еще якобинцы и предместья. Клуб якобинцев служил местом сосредоточения их партии, в особенности когда речь шла о самозащите. Каррье усердно посещал Клуб якобинцев и искал у него помощи; посещали клуб также и Бийо-Варенн и Колло д'Эрбуа; им, однако, менее грозили враги, и потому они были сдержаннее Каррье. Сотоварищи ставили им даже в упрек их молчание. „Лев спит, — отвечал Бийо-Варенн, — но пробуждение его будет ужасно“. После 10 термидора Клуб якобинцев был очищен и от имени возрожденных обществ, ввиду падения Робеспьера и конца тирании, принес Конвенту поздравления. Теперь, когда преследованию подверглись его вожди и когда масса якобинцев была арестована по департаментам, клуб от имени всех соединившихся обществ испустил крик отчаяния, который должен был разнестись по всем уголкам республики, крик горести угнетаемых патриотов, бросаемых в те тюрьмы, из которых выпускают аристократов.
Конвент не только не внял голосу якобинцев, но с целью положить конец их влиянию запретил им всякого рода коллективные петиции, а также филиации и образования сетей клубов с одним управляющим центром. Этим постановлением было положено начало полной дезорганизации знаменитой клубной федерации. Якобинцы, получив отпор от Конвента, стали действовать в Париже, где они еще удерживали за собой господство, подбивая народ к восстанию. Тогда и термидорская партия, в свою очередь, обратилась к народу, призывая на помощь секции. Одновременно с этим Фрерон через посредство своей газеты „Народный оратор“ призвал молодежь к оружию и сам стал во главе ее. Эта новая незаконная милиция получила название золотой молодежи Фрерона. Все составлявшие ее члены принадлежали к богатому и среднему классу; формой им служил особый костюм, получивший название костюма жертв. Вместо карманьолы якобинцев они носили сильно открытый фрак и низко вырезанные башмаки; волосы подбирали сзади в косички, а сбоку давали им висеть длинными прядями; вооружением им служили коротенькие палки с набалдашниками, налитыми свинцом. Часть этих молодых людей была по своим убеждениям роялистской, другая только следовала контрреволюционному увлечению минуты; секции шли отчасти за одной частью этой молодежи, отчасти за другой. Партия контрреволюционная действовала без определенных целей и, не преследуя никаких честолюбивых замыслов, принимала всегда сторону сильнейших и поддерживала их, раз их победа возвещала восстановление порядка, в котором все так сильно нуждались; партия роялистская действовала против Комитета вместе с партией термидора, совершенно подобно тому, как партия термидора в свое время шла рука об руку с прежними комитетами против Робеспьера; она выжидала благоприятного момента, чтобы начать действовать за свой собственный счет, и момент этот наступил после окончательного падения революционной партии. В том положении, в котором находились обе партии, обуреваемые и опасениями, и злобой, они преследовали друг друга до крайности и бросались друг на друга на улицах с криками „Да здравствует Конвент!“ или „Да здравствует Гора!“ „Золотая молодежь“ брала верх в Пале-Рояле, где ее поддерживали торговцы; якобинцы же имели успех в Тюильрийском саду, примыкавшем к их клубу.
Ссоры между двумя партиями становились с каждым днем все более жестокими, и Париж превратился в поле битвы, где успех той или другой партии зависел от силы оружия. Подобному состоянию беспорядка и военных действий следовало положить конец; партии были слишком обуяны страстями и злобой и не могли и думать о каком-либо соглашении; выход был исключительно в победе одной из них. Термидорцы имели больший успех, и победа клонилась на их сторону. На другой день после заседания народного общества, на котором Бийо произнес свои слова о пробуждении льва, в Париже произошло сильное волнение. Народ хотел взять приступом Клуб якобинцев. По улицам раздавались крики: „Обширный заговор якобинцев! Якобинцы вне закона!..“ Одновременно с этими тревожными событиями шел суд над Нантским революционным комитетом. Комитет оправдывался, указывая на то, что он исполнял только кровавые приказания Каррье. Это побудило Конвент назначить расследование поведения Каррье. Каррье была дана возможность оправдаться раньше, чем был отдан приказ об его аресте. Он оправдывал свои жестокости жестокостями вандейцев и опьяняющим неистовством гражданских войн. „Когда я действовал, — говорил он, — в воздухе, казалось, еще стояли звуки гражданских песнопений тех двадцати тысяч мучеников, которые посреди пыток повторяли: „Да здравствует республика!“ Чувство человечности совершенно притуплялось среди ужасных событий и, конечно, не могло возвысить своего голоса. Как поступили бы на моем месте те, кто теперь ополчается на меня? Я спас в Нанте республику; я все время жил исключительно для моего отечества и я сумею и умереть за него…“ Из пятисот принимавших участие в голосовании депутатов 498 вотировали за обвинение Каррье, а двое подали свои голоса за то же, но условно.
Якобинцы, видя, что их враги, начав с низших агентов, теперь добираются до самих представителей народа, сочли себя окончательно погибшими. Они сделали попытку поднять чернь не столько ради спасения Каррье, сколько ради того, чтобы поддержать все более и более угрожаемую всю свою партию. Они получили, однако, отпор от золотой молодежи и от секционеров, явившихся в их заседания с целью уничтожить Клуб якобинцев. Произошла довольно упорная схватка. Осаждающие камнями побили окна, выбили двери и после некоторого сопротивления со стороны якобинцев разогнали их клуб. Члены клуба принесли жалобу на насилие Конвенту. Конвент поручил Ребелю составить по этому поводу доклад. Доклад был неблагоприятен для якобинцев. „Где была создана тирания, — сказал он, — как не у якобинцев? Где она нашла себе помощников и поборников? — У якобинцев. Кто покрыл всю Францию трауром, вселил отчаяние в семейства, покрыл землю республики Бастилиями, сделал революционное правительство всем ненавистным, кто создал такие условия жизни, что никакой невольник не променял бы своих оков на свободную жизнь во Франции? Кто же, как не якобинцы? Кто сожалеет о том отвратительном режиме, при котором нам приходилось жить? — Все якобинцы. Если у вас в настоящую минуту не хватит смелости сказать, что вы против них, то у вас нет больше республики, нет ее, потому что она несовместима с якобинцами!..“ Конвент закрыл на время Клуб якобинцев, надеясь очистить и преобразовать его. Сразу закрыть клуб навсегда Конвент не решился. Якобинцы, несмотря на постановление Конвента, с оружием в руках собрались на месте своих заседаний; те самые приверженцы партии термидора, что уже раз осаждали их, снова произвели на них нападение. Они окружили клуб с криками „Да здравствует Конвент!“ и „Долой якобинцев!“ Якобинцы приготовились к защите; с криками „Да здравствует республика!“ они покинули свои места, овладели дверями и сделали вылазку. Сначала им удалось захватить нескольких пленных, но йогом, раздавленные численностью противников, они уступили и удалились. При этом им пришлось пройти через ряды победителей, которые, обезоружив их, затем осыпали оскорблениями, издевательствами и даже побоями. Описанное нами незаконное предприятие сопровождалось всеми теми излишествами, которыми отличается всегда партийная борьба.
На следующий день в клуб явились комиссары Конвента, закрыли его, наложили печати на списки и делопроизводство, и с этого момента якобинское общество перестало существовать. Эта народная корпорация наложила пятно на всю революцию, но в то же время именно благодаря ей было сделано столько, когда ради отражения нашествия всей Европы власть была передана в руки народа, и именно она дала республике энергию, необходимую для ее защиты; она сыграла свою роль и теперь могла только мешать установлению нового порядка вещей.
Положение дел совершенно изменилось. Существовала насущная необходимость заменить диктатуру свободой. Революция была спасена, надо было возвращением к основанному на законах режиму освятить ее принципы и достигнутые результаты. Такая чрезмерная и чрезвычайная власть, как конфедерация клубов, должна была найти свой конец в падении партии, ее поддерживавшей, а эта партия должна была окончить свое существование вместе с теми обстоятельствами, которые вызвали ее к жизни.
Каррье был судим Революционным трибуналом без перерывов и вместе с большинством своих сообщников был осужден. Еще до окончания суда над ним в Конвент были возвращены 73 депутата, исключенные из него за протест против 31 мая. Депутат от Дуэ, Мерлен, потребовал их возвращения от имени Комитета общественного спасения. Его доклад был встречен аплодисментами, и все 73 изгнанных депутата вскоре заняли свои места в Конвенте. Эти депутаты, в свою очередь, потребовали возвращения всех депутатов, объявленных вне закона, но в этом требовании они встретили серьезную оппозицию. Члены партии термидора и новых комитетов побоялись, как бы в этом прощении не было усмотрено осуждение вообще революции. Они боялись, сверх того, ввести новую партию в Конвент, и без того недостаточно единодушный; они видели в этих объявленных вне закона депутатах неумолимых врагов, которые могли бы произвести в отношении партии термидора такую же реакцию, какая была произведена ими самими против прежних комитетов. Предложение 73-х было поэтому с жаром отвергнуто, а Мерлен даже сказал по этому поводу: „Неужели вы желаете открыть двери Тампля?“ В Тампле содержался молодой сын Людовика XVI, а жирондисты ввиду последствий 31 мая смешивались в одно с роялистами. К тому же 31 мая все еще фигурировало рядом с 10 августа и 15 июля в ряду славных революционных дней. Движению назад оставалось сделать еще несколько шагов, чтобы возвратиться к этому времени. Республиканская контрреволюция смогла вернуться от 9 термидора 1795 г. к 3 октября 1793 г., т. е. ко дню ареста 73-х, но не к 2 июня 1793 г., дню ареста 22-х. После низвержения Робеспьера и комитетов ей надо было напасть на Марата и Гору, а для этого необходимо было при той правильности, с которой следовало контрреволюционное течение, еще несколько месяцев.
Партия термидора продолжала пока что уничтожение системы триумвиров. Был отменен декрет об изгнании священников и знати, — декрет, создавший во время террора два класса людей, безусловно осужденных законом за одну принадлежность к этим классам; был уничтожен так называемый максимум, и этим прекращением тирании в торговых делах партия весьма рассчитывала восстановить упавшее доверие. Вообще все усилия были приложены к тому, чтобы заменить деспотический гнет Комитета общественного спасения самой полной и великодушной свободой. Эпоха эта была ознаменована, кроме того, полной свободой и независимостью прессы, восстановлением христианского культа и отказом от имуществ, конфискованных у федералистов во время владычества комитетов. Это была полная реакция против революционного правительства; вскоре она коснулась Марата и Горы. После 9 термидора явилось желание противопоставить Робеспьеру какую-либо другую республиканскую знаменитость, и для этого был выбран Марат. Ему была воздана честь быть похороненным в Пантеоне, честь, присужденная еще при Робеспьере, но все время со дня на день откладывавшаяся. Как только это было исполнено, начались гонения на память этого чудовищного демагога. Бюсты его находились в Конвенте, в театрах, на площадях, в залах для общественных собраний. Золотая молодежь разбила бюст, находившийся в театре Фейдо. Это происшествие вызвало нападки Горы, но Конвент декретировал, что никакой гражданин не может быть почтен погребением в Пантеоне, и бюст его не может быть поставлен в зале Конвента ранее истечения десяти лет с его смерти. Бюст Марата был убран из зала Конвента; это вызвало большое брожение в предместьях, и потому секции, обычная опора Конвента, явились на помощь и продефилировали через зал заседаний. Против Дома Инвалидов помещался памятник, изображавший гору, на вершине которой стояла колоссальная статуя Геркулеса, попирающего гидру. Секция хлебного рынка потребовала уничтожения этой статуи. Левая Конвента попробовала протестовать против этого. „Этот гигант, — сказал один из членов ее, — представляет собой изображение силы народа“. — „Я вижу только гору, — отвечал ему другой, — а Гора ведь — это всегдашний протест против равенства“. Слова эти были покрыты аплодисментами; они так подействовали на Конвент, что он решил исполнить просьбу и уничтожить памятник победы и владычества одной из партий.
Только после этих событий совершилось возвращение изгнанных конституционалистов; незадолго перед тем был отменен декрет, ставивший их вне закона. Инар и Луве письменно просили Конвент восстановить их в их правах; просьбу их колебались исполнить, постоянно указывая на последствия 31 мая и мятеж в департаментах. „Я оскорбил бы Национальный конвент, — сказал Шенье, выступивший на их защиту, — если бы восстановил перед глазами его членов призрак федерализма, служивший главным обвинительным пунктом против ваших коллег. Говорят: они бежали, они спрятались. Так вот в чем их вина! Но насколько бы послужило к благу республики, если бы многие совершили такое преступление! Надо жалеть, что не нашлось достаточно глубоких пещер, чтобы сохранить на пользу отечества глубокомыслие Кондорсе и красноречие Верньо. Зачем 10 термидора гостеприимная земля не возвратила эту группу энергических людей и добродетельных республиканских патриотов? Бояться планов мести со стороны этих людей, раздраженных несчастьем! Да ведь в тех несчастьях, что им пришлось перенести, они научились только оплакивать людские заблуждения! Ни Кондорсе, ни Рабо Сент-Этьен, ни Верньо, ни Камиль Демулен не нуждаются в кровавых жертвоприношениях; не гекатомбами можно успокоить их тени!“ Левая отвергла предложение Шенье. „Приняв предложение, — сказал Бьентаболь, — мы разбудим все дремлющие страсти. Если мы осудим 31 мая, то мы вынесем обвинение 80 000 человек, в нем принимавшим участие“. — „Постараемся уберечься, — возразил ему Сьейес, — от смешения дела тирании с делом принципов. Когда в роковые дни 31 мая и 2 июня люди, найдя себе поддержку в подчиненной, но соперничавшей с нами власти, пришли к тому, что совершили величайшее из преступлений, то это было уже не делом патриотизма, а посягательством тирании; с этой эпохи Конвент все время оставался угнетенным, большинство было придавлено, а меньшинство предписывало свои законы. Настоящая сессия Конвента подразделяется на следующие три совершенно друг от друга отличные эпохи; до 31 мая угнетение Конвента народом; до 9 термидора угнетение народа Конвентом, тиранизированным в свою очередь; наконец, начиная с 9 термидора, наступает царство справедливости, ибо Конвент вступил во все свои права“. Сьейес требовал возвращения всех членов Конвента как залог восстановленного согласия в Собрании и спасения республики. Мерлен внес предложение от имени Комитета общественного спасения призвать этих изгнанных членов тотчас же. Предложение это было принято, и на свои прежние места возвратились Инар, Луве, Ланжюине, Кервелеган, Анри ла Ривьер, Ларевельер-Лепо, Лесаж, словом, все, кто из 22-х, подвергшихся опале, пережил 18-месячное изгнание; вот все, что осталось к этому времени от блестящей и несчастной Жиронды. Возвращенные депутаты примкнули в Конвенте к умеренной фракции, которая мало-помалу тут образовывалась из остатков различных партий. Вместе соединялись прежние враги, забывая свою вражду и свое соперничество в погоне за властью, так как теперь у них были одни намерения и одни интересы. Это было началом примирения между всеми теми, кто, в противоположность роялистам, желал республики, а в противоположность ярым революционерам — удобоприменяемой и основанной на законах конституции. Теперь были отменены все меры, когда-либо принимавшиеся против федералистов, и жирондисты стали во главе республиканской контрреволюции.
Между тем Конвент, увлеченный реакционерами, впал в своем стремлении к правосудию и желании все исправить и за все наказать в излишество. Было бы самым благоразумным, хотя и трудным, по уничтожении режима децемвиров провозгласить полное забвение всего прошлого и закрыть пучину революции, бросив в нее несколько искупительных жертв. Только полная безопасность вызывает успокоение, а единственно при успокоении возможна свобода. Следуя снова прежним путем, неизбежно под влиянием отвращения к совершенным преступлениям должны были проявиться страсти и злоба за испытанные страдания, такой образ действий только перемещал в другую сторону насилие. До сих пор буржуазию приносили в жертву толпе и купцов покупателям; теперь началось как раз обратное. Ажиотаж заступил место максимума, доносчики из среднего класса — доносчиков из классов низших. Все, кто принимал какое-либо участие в диктаторском правлении, подверглись преследованию с самым крайним ожесточением. Секции, служившие оплотом буржуазии, потребовали разоружения и наказания членов их революционных комитетов, составленных из санкюлотов. Против террористов, к которым с каждым днем причисляли все больше и больше людей, поднялся всеобщий крик мести. Департаменты слали доносы на всех бывших проконсулов, и этим вносилось отчаяние в партию, достаточно еще многочисленную, но уже лишенную власти и потому не опасную, ибо партии грозили нескончаемые и не знающие предела притеснения.
Боязнь изгнания и много других причин подготовили партию эту к восстанию. Во всей Франции был голод. Потребление продуктов труда, а следовательно, и применение его сильно во время революционной эпохи упали, ибо богатые классы находились в заточении, а классы бедные — в опеке; отмена максимума вызвала жестокий кризис, и им воспользовались купцы и фермеры, вознаграждая себя за ранее поневоле понесенные убытки высокими ценами на вырабатываемые и продаваемые ими продукты. К довершению затруднений ассигнации потеряли всякий кредит, и цена на них падала с каждым днем; выпущено же их было более чем на 8 миллиардов. Ассигнации спустились до цены в 15 раз низшей, чем их нормальная стоимость; привела к этому неверность их обеспечения (национальные имущества были сильно обеспечены революционными конфискациями), недостаток доверия буржуазии, купцов да и вообще всех граждан и слишком большая продолжительность революционного правления, на которое среднее сословие смотрело как на нечто переходное. Ассигнации принимались в платежи с большими затруднениями, а звонкую монету еще имевшие ее, по мере того, как на нее становился больший спрос и как бумажные деньги падали в своем курсе, выпускали все труднее и труднее. Народу не хватало съестных припасов, и он, имея даже ассигнации, не был в состоянии их себе приобрести; это не могло не повергнуть его в отчаяние; в своем положении он винил купцов, фермеров и вообще собственников и не мог без сожаления вспомнить, что при владычестве Комитета общественного спасения у него было в изобилии хлеба и он обладал в полной мере властью. Для снабжения провизией Парижа Конвент назначил особый Продовольственный комитет; комитету этому удалось, однако, да и то с большим трудом и громадными издержками, ввозить ежедневно всего по 15 000 мешков муки, едва достаточных для прокормления такого большого города. Народу приходилось простаивать целыми толпами иногда по 12 часов кряду перед дверями булочных в ожидании того фунта скверного качества хлеба, который полагался каждому обывателю, и он не мог не роптать и не жаловаться. Народная молва прозвала председателя комитета продовольствия Буасси д'Англа — Буасси-Фаминь, т. е. Буасси-Голод. Таково было состояние доведенной до отчаяния и фанатической толпы в то время, как шел суд над ее прежними вождями.
Через короткое время после возвращения в Конвент жирондистов, а именно 12 вентоза, Конвент декретировал арест Бийо-Варенна, Колло д'Эрбуа, Барера и Вадье. Суд над ними Конвента должен был начаться 3 жерминаля. 1-го числа того же месяца (20 марта 1795 г.), бывшего праздничным днем декады и днем секционных собраний, сторонники только что названных депутатов намеревались организовать восстание для воспрепятствования суда над ними; на их стороне были внешние секции предместий Сент-Антуан и Сент-Марсо. Отсюда заговорщики, отчасти как просители, отчасти как бунтовщики, отправились в Конвент, чтобы потребовать от него хлеба, Конституции 1793 г. и освобождения арестованных патриотов. Навстречу им попались несколько молодых людей; их бросили в бассейны Тюильрийского сада. Быстро, однако, разнеслась весть о том, что Конвенту угрожает опасность и что якобинцы желают освободить своих вождей; тотчас же явилась золотая молодежь в сопровождении 5000 граждан из внутренних секций с целью разогнать восставшие предместья и охранять Конвент. Конвент, в свою очередь, узнав об угрожающей ему опасности, восстановил по предложению Сьейеса действие прежнего охранительного закона под именем закона высшей полиции.
Восстание в пользу обвиненных не удалось, и 3 жерминаля они предстали перед Конвентом, преобразованным в судилище. Отсутствовал один Вадье. Образ действия и все поступки обвиняемых были разобраны с особой торжественностью: их обвиняли в тиранизировании народа и в угнетении Конвента. В доказательствах вины не было недостатка, но все же обвиняемые защищались с большим искусством. Обвинение в угнетении Конвента они перенесли на Робеспьера, угнетавшего будто бы и их самих; оправдание в принятых Комитетом и одобренных Конвентом мерах они видели во влиянии общего возбуждения того времени, в необходимости защищать республику и заботиться об общественном спасении. Их бывшие товарищи дали показания в их пользу и выразили желание разделить с ними одну участь. Остатки Горы также сильно поддерживали обвиняемых. Девять дней продолжался уже процесс, и каждое заседание Конвента было посвящено выслушиванию обвинений против них и их оправданий. Секции предместий все время находились в сильном возбуждении. С 1 жерминаля там не прекращались сходки; они особенно усилились к двенадцатому, и в этот день произошло новое восстание с целью приостановить ход процесса, который не удалось предотвратить при помощи неудавшегося первого восстания. Бунтовщики, на этот раз более многочисленные и более смелые, оттеснили стражу Конвента и ворвались в зал заседаний, неся на своих шляпах сделанные мелом надписи: хлеба, Конституцию 1793 г., освобождение патриотов. Большинство депутатов, составлявших остатки Горы, высказалось в пользу восставших; остальные, смущенные, посреди шума и беспорядка, внесенного вторжением толпы, ожидали, чтобы внутренние секции явились на освобождение Конвента. Никаких прений не происходило. Набатный колокол, отнятый у Парижской коммуны после ее поражения и повешенный на одной из башен Тюильри, где заседал Конвент, звонил тревогу; Комитет разослал барабанщиков с приказанием бить сбор. В короткое время собрались граждане ближайших секций, с оружием в руках двинулись на помощь Конвенту и во второй раз освободили его от мятежников. Конвент приговорил к ссылке обвиняемых, послуживших предлогом для восстания, и декретировал арест 17 членов Горы, которых вследствие того, что они показали себя расположенными в пользу восставших, он счел возможным рассматривать как их сообщников. Между арестованными находились: Камбон, Рюан, Леонар Бурдон, Тюрио, Шаль, Амар и Лекуантр, после возвращения жирондистов ставший опять монтаньяром. На следующий день и подлежащие ссылке, и вновь арестованные были отвезены в замок Гам.
День 12 жерминаля не принес никакого решения. Предместья были отражены, но не побеждены; для того же, чтобы окончательно погубить какую-либо партию, необходимо нанести ей окончательное поражение и лишить ее остатка сил и уверенности. После стольких вопросов, решенных против демократии, оставался еще один, но наиболее важный — вопрос о конституции. От того, какова она будет, зависело превосходство толпы или буржуазии. Защитники революционного правления стояли за демократическую Конституцию 1793 г., так как она давала им возможность снова забрать в свои руки утерянную власть. Противники их, в свою очередь, старались заменить ее конституцией, которая бы обусловила их владычество, и для этого желали несколько сконцентрировать правительство и отдать правление государством в руки среднего класса. В течение целого месяца противники готовились к борьбе на этом последнем поле битвы. Конституция 1793 г., как санкционированная народом, имела за себя чрезвычайно много: на нее нападать можно было только с величайшей осторожностью. Сначала было дано обещание применить ее безо всяких ограничений; затем была создана комиссия из 11 членов для выработки органических законов, которые бы позволили ее применить на деле; еще позже осмелились сделать некоторые против нее возражения, указывая на то, что она раздробляет власть и признает только Собрание, зависящее от народа даже в том, что касается выработки законов. Наконец, депутация от одной из секций пошла дальше и назвала Конституцию 1793 г. децемвиральной конституцией, продиктованной террором. Все приверженцы этой конституции, одновременно возмущенные и устрашенные, приготовили восстание, при помощи которого думали содействовать ее сохранению. Это было новое 31 мая, не менее ужасное, чем и первое, но оно, не встречая поддержки во всемогущей Коммуне, не будучи управляемо одним вождем и не имея перед собой устрашенного Конвента и покорных секций, не имело прежних результатов.
Мятежники, наученные опытом неудачных восстаний 1 и 12 жерминаля, на этот раз постарались не забыть ничего, что могло бы пополнить их недостаток в организации и неимении определенной цели. 1 прериаля (20 мая) они постановили именем восставшего для приобретения хлеба и восстановления своих прав народа роспуск революционного правления и введение в действие демократической Конституции 1793 г., отрешение от должности членов правительства и их арест, освобождение арестованных патриотов, созыв избирательных собраний на 25 прериаля, а Законодательного собрания, долженствующего заменить Национальный конвент, на 25 мессидора и, наконец, приостановление действия всякой власти, не исходящей прямо от народа. Они решили, далее, образовать новую Коммуну, которая бы служила им управляющим центром, овладеть заставами, телеграфом, сигнальной пушкой, набатным колоколом, барабанами и не прекращать свою деятельность до тех пор, пока всем французам не будут обеспечены средства к существованию, покой, счастье и свобода Они издали прокламации, приглашавшие канониров, жандармов и всех пехотных и конных солдат собраться под знамена народа, и затем двинулись против Конвента.
Конвент в это время как раз обсуждал меры, которыми можно было бы воспрепятствовать восстанию. Он не заметил приготовлений к большому восстанию из-за ежедневно происходивших ввиду раздачи хлеба и общего народного брожения сборищ и не принял никаких мер ни к его предупреждению, ни к его подавлению. Комитеты уведомили Конвент о восстании слишком поздно; Конвент тотчас же объявил свои заседания непрерывными, сделал Париж ответственным за безопасность представителей республики, закрыл все ворота Тюильри, объявил предводителей восставших вне закона, призвал всех граждан секций к оружию и поставил во главе их восемь из своих сочленов, между которыми были Лежандр, Анри ла Ривьер, Корвелеган и другие. Только что вновь выбранные начальники успели выйти из зала Собрания, как извне послышался страшный шум. Одни из ворот были выломаны восставшими, и трибуны наполнились женщинами, кричавшими „Хлеба и Конституцию 93 года!“ Конвент принял их с твердым самообладанием. „Вы своими криками, — сказал им президент Вернье, — нисколько не повлияете на наш образ действия; они не могут ускорить ни на минуту подвоз съестных припасов, а, наоборот, еще больше замедлят его“. Ужасающей силы шум покрыл голос президента и прервал прения. Был отдан приказ очистить трибуны от публики. Тем временем, однако, к внешним воротам пришли из предместий восставшие и, найдя их запертыми, сильно стучали по ним молотками и топорами. Вскоре им удалось выбить ворота, и мятежная толпа ворвалась в самый зал заседаний Конвента.
Зал заседаний превратился тогда в поле битвы. Ветераны и жандармы, которым была вверена охрана зала, призывают к оружию; депутат Оги с саблей в руках становится во главе их, и сначала ему удается отразить нападающих. Некоторых из них даже арестовывают. Однако мятежники, будучи значительно более многочисленными, чем защитники Конвента, через непродолжительное время возвращаются и снова наполняют зал заседаний. В зал вбегает депутат Феро, преследуемый мятежниками, произведшими несколько ружейных выстрелов в самом зале… Между прочим, несколько ружей направляются на Буасси д'Англа, который занял президентское кресло вместо Вернье. Феро бросается к президентской трибуне, чтобы закрыть Буасси своим телом; на него нападают с пиками и саблями, и он падает, тяжело раненый. Инсургенты тащат его в коридор и, принимая за Фрерона, отрубают ему голову и насаживают ее на пику.
Мятежники после этой битвы оказываются овладевшими залом. Большинство депутатов разбегается. В зале остается только несколько членов Горы и Буасси д'Англа, который с покрытой головой, спокойный и нечувствительный ни к оскорблениям, ни к угрозам, не перестает протестовать от имени Конвета против произведенного насилия. Ему подносят окровавленную голову Феро, и он с уважением преклоняется перед ней. Делаются попытки, приставив к груди пики, заставить его пустить на голоса предложения инсургентов, но он всякий раз отвечает на подобные попытки смелым отказом. Члены Горы тем временем овладевают местами около президиума и при рукоплесканиях народа декретируют все параграфы, содержавшиеся в манифесте восстания. Депутат Ромм становится их органом. Бурботта, Дюруа, Дюкенуа и депутата от Марны Приёра они выбирают в особую исполнительную комиссию, а депутата Субрани назначают главнокомандующим над всеми вооруженными силами. Таким образом, они открывают возможность восстановления своего господства. Они издают затем указ о возвращении своих задержанных товарищей, о смещении их врагов, о введении демократической конституции и о восстановлении в своих правах якобинцев. Но при существовавшем положении вещей недостаточно было временно занять зал Собраний, надо было победить секции; только с ними одними могло произойти истинное сражение.
Комиссары, посланные по секциям, быстро их собрали. Через короткий промежуток времени площадь Карусель и главные прилегающие к ней улицы были заняты батальонами ближайших кварталов Бют-де-Мулен, Лепелетье, Пик и Фонтен-Гренель. Все тогда мигом изменилось. Лежандр, Кервелеган и Оги во главе секционеров повели осаду мятежников. Сначала им было оказано некоторое сопротивление, но вскоре им удалось со штыками наперевес проникнуть в зал, где шли совещания заговорщиков, и Лежандр воскликнул: „Именем закона я приказываю удалиться всем вооруженным гражданам“. Мятежники некоторое время колебались, но вид вступающих в зал через все двери батальонов их устрашил, и они очистили зал с поспешностью, граничившей с паническим бегством. Конвент собрался снова в полном составе, выразил благодарность секциям и приступил к прениям. Все меры, декретированные во время перерыва заседания, были аннулированы, а 14 депутатов, к которым затем было присоединено еще 14, были арестованы за организацию восстания и поддержание его в своих речах. Случилось это в полночь, а к пяти часам утра арестованные были уже далеко от Парижа.
Несмотря на такое поражение, предместья не сочли себя окончательно побежденными, и на следующий день они снова двинулись сплошной массой, везя с собой пушки, против Конвента. Пришли, в свою очередь, на защиту Конвента и секции. Обе стороны приготовлялись к битве, пушки предместий были с площади Карусель направлены на здание Конвента; Конвент в это время прислал к инсургентам своих комиссаров. Завязались переговоры; Конвент принял одного из депутатов от предместий; он сначала потребовал того же, что требовали инсургенты накануне, прибавив: „Мы скорее умрем на том месте, которое теперь занимаем, чем откажемся от какого-нибудь из своих требований. Я лично не боюсь ничего; имя мое Сент-Лежье. Да здравствует республика, да здравствует Конвент, если он, как я полагаю, является последователем истинных принципов“. Конвент принял депутата совершенно дружелюбно и побратался с предместьями, ничего, однако, им не обещая положительного. Инсургенты, не имея ни Генерального совета Коммуны для того, чтобы направлять их действия, ни главнокомандующего вроде Анрио, который бы удержал их в сборе, пока при помощи соответственных декретов не будут удовлетворены их требования, не пошли дальше. Они удалились, получив от Конвента обещания заняться организацией продовольствования народа и издать возможно скорее органические законы в Конституции 1793 г. Этот день показал, что для успеха мало еще одной, хотя бы и большой, материальной силы и наличности цели, но что, кроме них, необходимы вожди и какая-нибудь власть, которая бы направляла и поддерживала восстание. В разбираемое время существовала только одна власть, власть Конвента: восторжествовала партия, имевшая его на своей стороне.
Шесть монтаньяров-демократов: Гужон, Бурботт, Ромм, Дюруа, Дюкенуа и Субрани были переданы особому военному суду. Они держались на суде с твердостью и выказывали фанатическую преданность своему делу, будучи в то же время почти все совершенно невинны в каких бы то ни было излишествах. Против них было только прериальское движение; во время борьбы партий и этого одного оказалось довольно, и они были осуждены на смерть. Выслушав приговор, они один за другим поразили себя одним и тем же ножом, передаваемым друг другу с криком „Да здравствует республика!“ Ромм, Гужон и Дюкенуа были счастливее других: им удалось убить себя сразу; трое остальных были выведены на эшафот уже умирающими, но все-таки со спокойными лицами.
Предместья, хотя и были отражены силой 1-го и убеждены доводами 2 прериаля, имели еще средства к восстанию. Окончательное поражение их было вызвано событием гораздо меньшей важности, чем предшествовавшие мятежи. Убийца Феро был открыт, судим и приговорен к смерти; 4-го, в день, назначенный для его казни, толпе мятежников удалось его освободить. Против этого нового посягательства раздался общий крик негодования, и Конвент приказал приступить к обезоруживанию предместий. Предместья были с этой целью окружены всеми центральными секциями. Сначала они приготовились к сопротивлению, но вскоре уступили, выдали некоторых из своих вождей, оружие и артиллерию. Демократическая партия постепенно лишилась своих руководителей, своих клубов, своей власти; у нее оставалась исключительно одна вооруженная сила, делавшая ее все еще грозной, и учреждения, при помощи которых она могла завоевать все потерянное значение. Последняя неудача совершенно удалила от государственного кормила низший класс: были уничтожены революционные комитеты, являвшиеся для него законодательными собраниями; обезоружены канониры, представлявшие сильное войско; наконец, была отменена Конституция 1793 г., составлявшая народный кодекс, и этой мерой окончательно был положен предел верховенству толпы.
Все время от 9 термидора до 1 прериаля с партией монтаньяров поступали точно так же, как с партией жирондистов в эпоху между 2 июня и 9 термидора. За это время было осуждено на смерть или арестовано 76 ее членов. Им пришлось на себе испытать ту участь, которую они уготовляли в свое время стольким другим. Когда господствуют и всем управляют страсти, партии не желают уметь входить друг с другом в соглашение и всегда стремятся к тому, чтобы одержать полную победу над партиями соперничающими. Как раньше жирондисты, так теперь монтаньяры восстали, чтобы снова захватить потерянную власть, и, как и тем, им пришлось погибнуть. Верньо, Бриссо, Гаде были осуждены Революционным трибуналом, а Бурботт, Дюруа, Субрани, Ромм, Гужон и Дюкенуа — военным судом. Как те, так и другие умерли с одинаковым мужеством; это показывает, что с известных точек зрения все партии сходны между собой, что всеми ими руководят одинаковые побуждения или желания, одна и та же необходимость. С этого времени вне Конвента руководство революцией перешло в руки среднего сословия, а в Конвенте стало проявляться такое же единодушие при главенстве жирондистов, какое существовало после 2 июня при главенстве монтаньяров.
ГЛАВА XI С 1 прериаля (20 мая 1795 г.) по 4 брюмера IV года (26 октября), дня прекращения деятельности Конвента
Походы 1793–1794 гг. — Отношение армии к известию о 9 термидора. — Завоевание Голландии, позиции на Рейне. — Базельский мир с Пруссией; мир с Испанией. — Высадка в Кибероне. — Реакция перестает исходить от Конвента и делается чисто роялистской. — Избиение революционеров на юге. — Директориальная Конституция III года. — Фрюктидорские декреты, требующие переизбрания двух третей Конвента. — Ожесточение роялистской партии городских секций. — Восстание ее. — День 13 вандемьера. — Выборы в Совете и Директории. — Конец Конвента, продолжительность его деятельности и ее характер.
Внешние успехи революции особенно помогли падению диктаторского правительства и партии якобинцев. Возрастающие победы республики, которым она помогла твердостью своих мероприятий и фанатизмом, сделали их владычество излишним. Комитет общественного спасения, давя своей сильной и грозной рукой на внутреннюю Францию, одновременно увеличил ее средства, устроил ее армию, выбрал генералов и достиг побед, окончательно обеспечивших торжество революции в Европе. Счастливое положение, достигнутое страной, не требовало больше чрезвычайных усилий, и дело Комитета было закончено; задача и смысл подобной диктатуры — спасение страны и достижение определенной цели, а раз эта цель достигнута, она неизбежно падает. Внутренние события мешали нам до сих пор описать действия войск, двигающей пружиной которых после 31 мая являлся Комитет общественного спасения и те результаты, к которым они привели.
Всеобщее ополчение, произведенное летом 1793 г., составило войско Горы. Вожди этой партии вскоре заменили в командовании им жирондистских генералов генералами монтаньярскими. Новыми командующими стали: Журдан, Пишегрю, Гош, Моро, Вестерман, Дюгомье, Марсо, Жубер, Клебер и другие. Карно, при самом своем вступлении в Комитет общественного спасения, занял пост военного министра и начальника штаба всех республиканских войск. Вместо отдельных корпусов, действовавших в разных местах, он пустил в дело большие массы войска и направил их всех к одной конечной цели. Он начал следовать методу больших войн и применил его в качестве комиссара Конвента с решительным успехом в битве при Ватиньи. Этой важной победой, которой он способствовал лично, соединенные войска генералов Клерфэ и принца Кобургского были отражены и прогнаны за Сембру, а осада с Мобежа снята. В продолжение всей зимы 1793–1794 гг. армии стояли лицом к лицу, ничего не предпринимая.
С началом кампании каждая из них задумала план вторжения. Австрийская армия напала на города, лежащие на Сомме, — Перон, Сен-Кентен, Аррас, — и угрожала Парижу; в это время французская армия вновь замыслила завоевание Бельгии. План Комитета общественного спасения выгодно отличался от неопределенного проекта союзников. Пишегрю, во главе пятидесятитысячной Северной армии, вторгнулся во Фландрию, опираясь сзади на море и Шельду. Вправо от него Моро с двадцатью тысячами человек двинулся на Менен и Куртре. Генерал Суам остался с тридцатью тысячами близ Лилля, чтобы поддержать правое крыло вторгнувшейся армии, а Журдан с Мозельской армией направился через Арлон и Динан для соединения с ней.
Австрийцы, атакованные во Фландрии и боясь обходного движения Журдана, тотчас же покинули свои позиции на Сомме. Клерфэ и герцог Йоркский были разбиты при Куртре и Гугледе армией Пишегрю, а принц Кобургский при Флерюсе — Журданом, только что взявшим Шарлеруа. Оба эти генерала, оказавшись победителями, быстро закончили завоевание Нидерландов. Англо-голландская армия отошла к Антверпену, оттуда к Бреда, а затем к Буа-ле-Дюку, все время испытывая непрерывные поражения. Она перешла через Вааль и удалилась в Голландию. Австрийцы напрасно старались прикрыть Брюссель и Маастрихт; армия Журдана преследовала их по пятам и в конце концов совершенно разбила. Эта же армия, после своего соединения с Северной, получившей наименование армии Самбры и Мааса, не оставила неприятеля за Роэром, как это сделал Дюмурье, но оттеснила его за Рейн. Журдан взял Кельн, Бонн и своим правым крылом вошел в соприкосновение с левым крылом Мозельской армии, подвигавшейся по Люксембургской области и занявшей вместе с Журданом Кобленц. Тогда началось общее концентрационное движение всех французских армий, подвигавшихся к рейнской границе. Во время поражений Вайсембургская линия была прорвана неприятелем. Комитет общественного спасения действовал и здесь, в Рейнской армии, вполне решительно. Комиссары Сен-Жюст и Леба передали командование над армией генералу Гошу, поставили лозунгом победу и террор, и в короткое время генералы герцог Брауншвейгский и Вурмзер были отброшены от Гагенау к Лаутерским линиям и, не будучи в силах там удержаться, перешли через Рейн около Филиппсбурга. Шпейер и Вормс были взяты обратно. Республиканские победоносные войска заняли Бельгию, часть Голландии, расположенную на левом берегу Мааса, и все прирейнские города, кроме Майнца и Мангейма, которые были тесно обложены.
Альпийская армия не сделала больших успехов в эту кампанию. Она пыталась овладеть Пьемонтом, но ей это не удалось. На границах с Испанией война началась в недобрый час; две пиренейские армии — Восточная и Западная, немногочисленные и не привыкшие к войне, были постоянно биты и отошли одна к Перпиньяну, другая — к Байонне. Комитет общественного спасения слишком поздно обратил свое внимание и направил свои усилия на этот пункт, так как он не был слишком опасным для него. Но как только в обе армии была введена принятая Комитетом организация и назначены другие генералы, дела приняли другой оборот. Дюгомье, после ряда успехов, прогнал испанцев с французской территории и через Каталонию ворвался на Пиренейский полуостров. Монсей произвел то же движение через Бастанскую долину и быстро взял Сан-Себастьян и Фонтараби. Союзники повсюду были побеждены и некоторые из них стали раскаиваться в своем опрометчивом вступлении в коалицию.
В это время дошла до армии весть о перевороте 9 термидора. Армия по духу была вполне республиканской и боялась, чтобы падение Робеспьера не увлекло за собой и народное правительство; поэтому она приняла эту весть не с тем горячим чувством удовлетворения, какое она возбудила внутри Франции. Но так как армии были подчинены гражданским властям, то ни в одной из них не произошло восстания. Попытки мятежа в войске происходили только с 14 июля по 31 мая, когда в нем находили убежище все побежденные партии, вожди которых при каждом кризисе имели за собой преимущество политического старшинства и высказывались с горячностью угнетенных. Напротив, при господстве Комитета общественного спасения самые знаменитые генералы не имели никакого политического значения и были подчинены ужасающей дисциплине партий. Даже действуя подчас против таких генералов, Конвенту было нетрудно держать войска в повиновении.
Через некоторое время наступательное движение в Голландию и на Пиренейский полуостров было возобновлено. Нападение на Соединенные провинции произошло в середине зимы и с различных пунктов под начальством Пишегрю, призвавшего всех батавских патриотов к свободе. Партия, враждебная штатгальтеру, увеличила победоносные успехи французской армии, и в одно время со взятием Лейдена в Амстердаме, Гааге и Утрехте вспыхнула революция. Штатгальтер скрылся в Англию, и собрание Генеральных штатов объявило верховную власть народа и учредило Батавскую республику, заключившую тесный союз с Францией, которой она уступила по Парижскому договору 16 мая 1795 г. голландскую Фландрию, Маастрихт и Ванлоо с окрестностями. Движение судов по Рейну, Шельде и Мозелю было сделано свободным для обеих наций. Богатая Голландия сильно помогла своими средствами Франции в деле продолжения войны с союзниками. Эта важная победа лишила Англию большой поддержки и заставила Пруссию, угрожаемую и на Рейне, и со стороны Голландии, заключить с Французской республикой в Базеле мир, к чему она склонялась уже и раньше ввиду своих неудач и положения дел в Польше. Мир с Испанией был также подписан в Базеле 16 июля; Испания решилась на заключение мира, ибо была устрашена успехами французов на ее территории. Фигьер и форт Роз были взяты, и Периньон двигался вперед по Каталонии, в то время как Монсей, овладев Вилла-Реалем, Бильбао и Витториа, направлялся против испанцев, отступавших к границам Старой Кастилии. Мадридский кабинет просил мира. Он признал Французскую Республику, возвратившую ему все завоеванное ею; взамен этого она получила часть Сан-Доминго, которая принадлежала Испании. Обе армии, действовавшие на Пиренеях, присоединились к Альпийской; благодаря этой помощи она вступила в Пьемонт и заняла Италию, где одна только Тоскана заключила мир с республикой 9 февраля 1795 г.
Эти отдельные мирные договоры и поражения союзных войск направили усилия Англии и эмиграции в другую сторону. Наступило время искать поддержки для контрреволюции внутри страны. В 1791 г., когда полное согласие царило во Франции, роялисты надеялись только на иностранные державы; теперь же внутренние разногласия и неудачи Европы не оставляли им других средств, кроме заговоров. Неудачные попытки, как известно, никогда не заставляют побежденные партии отчаиваться, — только победа изнуряет и утомляет, и тот, кто умеет ждать и продолжает питать надежды, рано или поздно вернет свое господство.
События прериаля и падение якобинской партии определили судьбу контрреволюции. В это время реакция, начатая умеренными республиканцами, сделалась совершенно роялистской. Сторонники монархии находились между собой еще в таком же несогласии, как и в промежуток времени от открытия Генеральных штатов до 10 августа. Внутри страны старые конституционалисты, опиравшиеся на городские секции и принадлежавшие к среднему богатому классу населения, понимали монархию иначе, чем монархисты-абсолютисты. Они все время испытывали чувство соперничества и видели разницу в интересах буржуазии и привилегированного класса. Сами монархисты-абсолютисты также расходились между собой во мнениях: партия, боровшаяся внутри государства, неприязненно относилась к партии, вступившей в ряды европейских армий. Кроме распрей между вандейцами и эмигрантами, были еще недоразумения эмигрантов между собой, — смотря по времени их выезда из Франции. Однако, так как всем этим роялистам разных оттенков не приходилось еще ссориться из-за того, кто именно достиг победы, то все они соединились, чтобы напасть сообща на Конвент. Эмигранты и духовенство, несколько месяцев тому назад возвратившиеся в большом количестве во Францию, пошли как будто заодно с секциями в надежде если не победить с помощью среднего класса, то все-таки восстановить свое собственное господство; они имели вождя и определенную цель, чего у секционеров совершенно не было.
Эта своеобразная новая реакция была сдерживаема некоторое время в Париже, где нейтральная и сильная власть Конвента одинаково хотела противодействовать насилиям и захвату власти обеим партиям. Уничтожая господство якобинцев, Конвент в то же время сдерживал мщение роялистов. Тогда-то большая часть золотой молодежи круто переменила свою тактику, и предводители секций стали готовить буржуазию к борьбе с Собранием, а союз журналистов заменил собой партию якобинцев. Лагарп, Рише де Серизи, Понселен, Тронсон дю Кудре, Маршена и другие стали орудиями этой новой партии и образовали литературный клуб. Деятельные отряды этой партии собирались в театре Фейдо, на Итальянском бульваре и в Пале-Рояле и охотились на якобинцев, распевая „Пробуждение народа“. В это время паролем преследования было слово „террорист“, и во имя его каждый „честный человек“ мог со спокойной совестью нападать на революционера. К террористам причислялся все больший класс людей, как бы в угоду страстям новых реакционеров, причесывавших волосы à la victimeu для афиширования своих намерений, выбравших с некоторых пор для себя форму штанов, серый фрак с отворотами и зеленым или черным воротником.
Но эта реакция была гораздо яростнее в департаментах, где никакая власть не могла предупредить резню. Там было только две партии — одна при Горе, господствовавшая, и другая, от Горы страдавшая. Средний между этими партиями класс был попеременно управляем то роялистами, то демократами. Последние, предугадывая, каким ужасным репрессиям они подвергнутся, если подпадут под другую власть, держались сколько могли, но неудача их партий в Париже повлекла за собой их гибель в департаментах. Тогда начались казни, вполне подобные казням, совершенным проконсулами Комитета общественного спасения. В особенности юг стал ареной массовых убийств и сведения личных счетов. Были образованы „Общество Иисуса“ и „Общество Солнца“[50], проникнутые роялистским духом: они занимались ужасающими репрессиями. В Лионе и в Марселе в тюрьмах были перерезаны все приверженцы предшествовавшего режима. Почти весь юг имел свое 2 сентября. В Лионе, после первых убийств революционеров, члены общества охотились за теми, кто не был еще взят в тюрьму, и при встрече с одним из них, безо всяких других форм, только сказав: „Вот идет матавон“ (так они их называли), они убивали его и тело бросали в Рону. В Тарасконе матавонов сбрасывали сверху башни, находившейся на вершине утеса на берегу Роны. Во время всех этих ужасов террора в противоположном направлении и этого общего поражения революционной партии Англия и эмигранты задумали смелое киберонскос предприятие.
Вандейцы были истощены часто повторявшимися неудачами, но они не были покорены совершенно. Однако их потери и распри между их главными вождями, Шареттом и Стофле, достаточно ослабили их; Шаретт согласился даже вступить в сношение с республикой, и между ним и Конвентом было заключено в Жюне нечто вроде перемирия. Маркиз де Пюизе, человек предприимчивый и легкомысленный и больше способный к интригам, чем к глубоким партийным соображениям, имел намерение заменить почти погаснувший мятеж в Вандее возмущением в Бретани. После предприятия Вимпфена, где Пюизе был одним из командиров отрядов, в Кальвадосе и Морбигане появились шайки шуанов, составленных из остатков партий, людей, отставленных от должности, авантюристов и смелых контрабандистов; они устраивали частые набеги, но не могли выдержать такого похода, как вандейцы. Пюизе, чтобы расширить деятельность шуанов, обратился к Англии; он подал ей надежду на всеобщее восстание Бретани, а потом и остальной Франции, если она согласится высадить свой отряд, ядро будущей армии, и пришлет военные снаряды и ружья.
Британское министерство, обманутое в своих надеждах союзниками, обрадовалось возможности в ожидании возбуждения мужества Европы создать новые опасности для республики. Оно согласилось довериться Пюизе и приготовило весной 1795 г. экспедицию, к которой присоединились и наиболее решительные из эмигрантов, много морских офицеров и все те, кому наскучило быть изгнанниками и переносить все горести скитальческой жизни; все они хотели в последний раз испытать свою судьбу. Английский флот высадил на полуострове Киберон полторы тысячи эмигрантов, шесть тысяч пленных республиканцев, записавшихся в солдаты, чтобы с помощью эмигрантов вернуться во Францию, 60 000 ружей и полное вооружение и обмундирование для сорокатысячной армии. На них вскоре напал генерал Гош. Ему удалось окружить неприятеля; бывшие в рядах республиканские пленные бросили англичан и эмигрантов, и экспедиционный отряд после горячего сопротивления был побежден. В войне не на живот, а на смерть между эмиграцией и республикой побежденных рассматривали как людей, поставленных вне закона, и беспощадно убивали. Победой над только что описанной экспедицией эмиграции была нанесена глубокая и непоправимая рана.
Надежды, покоившиеся на победах Европы, на успехе восстания и попытках эмигрантов, были разрушены; пришлось прибегнуть к помощи недовольных секций. Роялисты стали надеяться совершить контрреволюцию через посредство новой конституции, данной 22 августа 1795 г. Эта конституция была делом умеренной партии республиканцев, но так как она возвращала власть среднему классу, то вожди роялистов рассчитывали благодаря этому свободно попасть в Законодательный корпус и правительство.
Эта конституция была наименее несовершенной, наиболее либеральной и предусмотрительной из всех когда-либо введенных или только выработанных; она являлась результатом шестилетней революционной и законодательной опытности. В противоположность Учредительному собранию, по самому своему положению стремившемуся к ослаблению королевской власти и возбуждению восстания в народе, Конвент чувствовал необходимость организовать власть и успокоить народ. Все теперь, начиная с трона и кончая народом, обветшало, — следовало все перестроить по-новому и восстановить порядок, сохранив некоторую политическую деятельность для нации; ко всему этому стремилась новая конституция. Она мало разнилась от Конституции 1791 г. в вопросе о верховной власти и только в устройстве правительства отличалась от нее. Она возложила законодательную власть на два совета: Совет пятисот и Совет старейшин, а власть исполнительную — на Директорию из пяти членов. Она, чтобы ослабить народное движение и сделать выборы более продуманными, чем если бы они были непосредственными, восстановила двустепенную подачу голосов. Условия имущественного ценза, благоразумные и ограниченные, дававшие право участия в выборных соображениях первой и второй степени[51], возвратили политическое значение среднему классу; к нему приходилось поневоле обращаться после разрыва с толпой и отказа от Конституции 1793 г.
Чтобы предупредить деспотизм или порабощение одного Собрания, следовало установить власть, способную по мере надобности его или сдерживать, или защищать. Разделением Законодательного корпуса на два совета, одинаково избираемых и имеющих одинаковую длительность полномочий и различных только по функциям, достигалась двоякая цель: не запугать народа аристократическим учреждением и создать лучшую форму правления. Совет пятисот, члены которого должны были иметь не менее тридцати лет, один только мог предлагать и обсуждать законы, а Совет старейшин, в составе 250 членов, возрастом не моложе сорока лет, должен был принимать или отвергать их.
Чтобы избегнуть поспешности в законодательстве и чтобы в минуты народных волнений нельзя было силой вынудить согласия Совета старейшин, решение этого Совета могло состояться только после трех чтений, назначенных с промежутком по меньшей мере в пять дней между ними. „В случае крайности“ можно было обойтись без этой формальности, но самому Совету предстояло решать, существует ли такая крайность. Совет старейшин действовал иногда как законодательная власть, и в этом случае, не принимая по существу какой-нибудь меры, он употреблял формулу „Совет старейшин не может принять“, а иногда, как власть охранительная, и тогда он не входил в разбор желательности или нежелательности данной меры, а рассматривал только отношение ее к конституции и отрицательное решение формулировал: „Конституция отвергает то-то и то-то“. По этой конституции впервые было установлено возобновление состава Советов частичными выборами — половину состава каждые два года; этим предполагалось избежать наплыва законодателей, являющихся с неумеренным желанием нововведений и внезапного изменения духа Собрания.
Исполнительная власть была отделена от Советов и больше не воплощалась в Комитетах. С другой стороны, слишком еще в это время опасались монархии, чтобы установить должность президента республики. Конвент ограничился созданием Директории из пяти членов, выбираемых Советом старейшин по представлению Совета пятисот. Директора могли быть преданы Советами суду, но не могли быть ими отрешены от должности. Они обладали общей исполнительной, независимой властью, ибо за ними следили, чтобы они не употребляли эту власть во зло, а особенно за тем, чтобы слишком большая привычка к власти не повлекла за собой насильственного ее захвата. Директория заведовала вооруженной силой и финансами, назначением должностных лиц, ведением переговоров; но она не могла действовать сама по себе, а только через министров и генералов, за поведение которых она считалась ответственной. Каждый из директоров был председателем Директории в продолжение трех месяцев, и тогда он подписывал бумаги и располагал государственной печатью. Каждый год из состава Директории выходил один из ее членов. Как видно отсюда, права королевской власти 1791 г. были разделены между Советом старейшин, обладающим „veto“, и Директорией с исполнительной властью. Директория получила стражу и нечто вроде цивильного листа, и для жительства ей был отведен национальный дворец Люксембург. Совет старейшин, назначенный для регулировки законодательной власти, вместе с тем получил средства, чтобы подавлять поползновения Директории к захвату власти: он мог менять местопребывание Советов и правительства[52].
Предусмотрительность этой конституции была неоспорима: она предупреждала насилия народа, покушения на власть отдельных лиц и принимала предосторожности против всех опасностей, обнаружившихся во время кризисов революции. Очевидно, что если бы какая-нибудь конституция смогла получить устойчивость в это время, то скорее всего директориальная. Она обновляла власть, допускала свободу и предоставляла различным партиям возможность примирения, если бы каждая из них, без задней мысли, заняла свое настоящее место в государстве, не заботясь больше о своем исключительном господстве и довольствуясь общим законом для всех. Но эта конституция не была более долговечной, чем другие, так как она не могла установить законного порядка, ввиду противодействия партий. Каждая из них стремилась к захвату власти, чтобы управлять согласно своему плану и своим интересам; вместо владычества закона народ опять попадал под владычество силы и государственных переворотов. Когда партии не желают закончить революции (а те, кто господствуют, этого никогда не хотят), конституция, как бы ни была она хороша, никогда не сможет этого достигнуть.
Члены Комиссии одиннадцати, получившие перед днями прериаля мандат написать органические законы согласно Конституции 1793 г., а вместо того после этих дней составившие Конституцию III года, стояли во главе партии Конвента. Эта партия не была ни прежней Жирондой, ни прежней Горой. Нейтральная до 31 мая, порабощенная после 9 термидора, она только в это время овладела властью, так как двойное падение, жирондистов и монтаньяров, сделало ее сильной. К ней присоединились члены крайних партий, убедившиеся в необходимости слияния. Мерлен из Дуэ явился представителем части этой партии, уступившей обстоятельствам, Тибодо — оставшейся в бездействии, и Дону — мужественной части ее. Дону протестовал против всех государственных переворотов, начиная со времени открытия Собрания, одинаково против 21 января, как и против 31 мая, так как он хотел господства Конвента без насильственных мер партии. После 9 термидора он порицал ожесточение, с которым расправлялись с вождями революционного правительства, несмотря на то, что он сам, как один из 73-х, был его жертвой. По мере приближения к восстановлению законного порядка его влияние все усиливалось. Его просвещенная привязанность к революции, благородная независимость, умеренность взглядов и непреклонная твердость делали его одним из наиболее деятельных и влиятельных людей того времени. Он был главным творцом Конституции III года, и Конвент поручил ему вместе с несколькими своими членами защищать республику во время вандемьерского кризиса.
Реакция продолжала усиливаться; ей покровительствовали косвенно члены Правой, бывшие, с самого начала деятельности Собрания, только случайными республиканцами. Они не были расположены отражать нападения роялистов с той же энергией, как революционеров. В их числе находились Буасси д'Англа, Ланжюине, Анри ла Ривьер, Саладен, Обри и др.; все они составляли в Собрании ядро партии секций. Прежние ярые монтаньяры, как, например, Ровер, Бурдон из Уазы, увлеченные контрреволюционным движением, допускали продолжение реакции, без сомнения, для того, чтобы заключить мир с теми, на кого они раньше так жестоко нападали.
Но господствующая партия Конвента, уверенная в поддержке демократов, употребила все свои усилия, чтобы помешать торжеству роялистов. Она поняла, что спасение республики зависит от состава Советов: если члены Советов будут избраны средним сословием, которым руководят роялисты, то и деятельность их будет контрреволюционной. Было важно доверить защиту вновь установленного уклада людям, заинтересованным в этом. Чтобы предупредить ошибку Конституанты, члены которой были исключены из выборов в следующее Законодательное собрание, Конвент решил указом, что две трети его членов должны войти в состав Советов. Этим способом Конвент обеспечивал себе большинство в Советах, и, очевидно, от него зависели тогда выборы в Директорию; таким образом, он получал возможность утвердить в государстве конституцию и укрепить ее без каких-либо потрясений. Эти принудительные выборы двух третей Конвента были не совсем-то законны, но подобное постановление зато было разумно с политической точки зрения, и только такая мера смогла спасти Францию от господства демократов или контрреволюционеров. Конвент присвоил себе умеренную диктатуру двумя декретами 9-го и 13 фрюктидора (22 и 30 августа 1795 г.); первый из этих декретов установлял только что упомянутые обязательные выборы, а второй определял их способ. Но эти два исключительных декрета были представлены на утверждение первоначальных избирательных собраний в одно время с актом о конституции.
Роялистская партия была застигнута врасплох этими изданными в фрюктидоре декретами. Она надеялась попасть в правительство именно благодаря этим Советам, а в Советы — благодаря выборам и затем, овладев властью, произвести перемену режима. Эта партия ожесточилась против Конвента. Роялистский комитет в Париже, агентом которого был человек довольно темного происхождения, по фамилии Леметр, журналисты и предводители секций образовали союз. Им нетрудно было добиться поддержки в общественном мнении, так как они считали себя единственными выразителями его; они обвинили Конвент в желании навсегда удержать власть за собой и в покушении на верховное главенство народа. Главные сторонники обязательных выборов двух третей — Луве, Дану, Шенье — не были пощажены, и начались приготовления к обширному восстанию. Предместье Сен-Женмен, еще недавно пустевшее, населялось день за днем; эмигранты возвращались толпами, и заговорщики, не скрывая своих замыслов, носили мундиры шуанов.
Конвент, видя предстоящую грозу, стал искать поддержки в войске, бывшем тогда республиканским, и устроил лагерь под Парижем. Народ был устранен от власти, а буржуазией овладели роялисты. Тем временем, двадцатого фрюктидора, собрались первоначальные собрания для обсуждения конституционного акта и указов об обязательных выборах двух третей старого состава Конвента; все эти акты должны были быть приняты или отвергнуты. Секция Лепелетье (прежде Фий-Сен-Тома) стала центром движения. По ее предложению было решено, что власть всякого Учредительного собрания прекращается перед лицом собравшегося народа. Секция Лепелетье, руководимая Рише-Серизи, Лагарпом, Лакретелем-младшим, Вобланом и другими, занялась образованием мятежного правительства, под именем Центрального комитета. Комитет этот должен был сыграть в вандемьере ту роль по отношению к Конвенту, какую Комитет 10 августа сыграл по отношению к трону и Комитет 31 мая по отношению к жирондистам. Большинство секций приняло эту формулу, тотчас же аннулированную Конвентом; тогда, в свою очередь, секции не приняли указов Конвента. Таким образом, борьба стала совершенно откровенной в Париже; конституционный акт был отделен от указов о выборах; он был принят секциями, а указы отвергнуты.
1 вандемьера Конвент объявил о принятии декретов большинством первоначальных собраний Франции. Секции снова соединились для избрания выборщиков, а эти последние должны были уже избрать членов законодательных советов. Они решили 10 августа, что выборщики соберутся во Французском театре (он находился по ту сторону Сены); их должна была туда сопровождать вооруженная сила секций, поклявшихся защищать их до самой смерти. Действительно, 11 августа выборщики составили заседание под председательством герцога Нивернуа и под защитой нескольких отрядов егерей и гренадеров.
Конвент, предупрежденный об опасности, объявил свои заседания непрерывными, вызвал войска из Саблонского лагеря, расставил их вокруг здания и сосредоточил всю власть в Комитете из пяти членов; ему было поручено принять все меры общественной безопасности. Членами этого Комитета были выбраны: Коломбель, Баррас, Дону, Летурнер и Мерлен из Дуэ. Прошло уже время, когда революционеры были опасными, и Конвент освободил всех заключенных за прериальские события. Из революционеров, преследуемых раньше реакционерами в департаментах, в Париже был образован полк под именем Батальона патриотов 89 года, численностью около 1500–1800 человек. 11-го вечером Конвент приказал разогнать силой собрание выборщиков, но оно уже разошлось, отложив свое заседание до следующего дня.
В ночь с 11-го на 12-е декрет о роспуске собрания выборщиков и о вооружении Батальона патриотов 89 года возбудил в Париже большое волнение. Начали бить сбор, секция Лепелетье гремела против деспотизма Конвента, против возвращения террора и целый день 12 августа склоняла остальные секции к борьбе. Вечером не менее взволнованный Конвент решился взять в борьбе на себя инициативу, окружить восставшую секцию и, обезоружив восставших, покончить с кризисом. Исполнение этой задачи было поручено генералу Мену и депутату Лапорту. Главной квартирой секционеров был монастырь Фий-Сен-Тома; перед ним были расположены в боевом порядке около семисот или восьмисот человек. Они были окружены более превосходными силами с флангов, со стороны бульваров, и с фронта, со стороны улицы Вивьенн; но вместо того, чтобы их обезоружить, предводители экспедиции вступили с ними в переговоры. Было решено, что обе стороны разойдутся, но едва только войска Конвента ушли, как секционеры вернулись назад еще с бо́льшими силами. Для них это была настоящая победа, как всегда преувеличенная в Париже; она воодушевила их сторонников, увеличила их число и дала им смелость на следующий день напасть на Конвент.
Конвент о конце экспедиции и опасных последствиях ее узнал в 11 часов вечера. Тотчас же Мену был отрешен от должности, и начальство над вооруженной силой передано Баррасу, генералу 9 термидора. Баррас попросил у Комитета пяти дать ему в помощники одного молодого офицера, отличившегося при осаде Тулона и отставленного от службы реакционером Обри; Баррас знал этого офицера за человека умного и решительного, способного помочь республике в такую опасную минуту. Этот молодой человек был Бонапарт; он появился перед Комитетом, и ничто в нем не предсказывало его удивительной судьбы. Человек он был внепартийный и первый раз был вызван на сцену событий; в его манере держаться было что-то робкое и неуверенное, исчезнувшее, впрочем, далее, во время приготовлений к экспедиции и самой экспедиции. Он тотчас вывез поспешно пушки из Саблонского лагеря и расположил их и пять тысяч войска Конвента на всех тех местах, откуда можно было ждать нападения. 13 вандемьера, около полудня, здание Конвента имело вид крепости, которую можно было взять только приступом; оборонительная линия тянулась со стороны Тюильри, от Нового моста — до моста Людовика XV, а на противоположной стороне по всем маленьким улицам, ведущим к улице Сент-Оноре от улиц Роган, Эшелль, глухого переулка Дофена вплоть до площади Революции. Спереди Лувр, сад Инфанты, площать Карусель были заняты пушками, а сзади, на Пон-Турнан и площади Согласия, были расположены резервные орудия. В таком положении Конвент ждал мятежников.
Мятежники вскоре окружили Конвент с различных сторон; их было под ружьем около сорока тысяч человек; командовали ими генералы Даникан, Дюгу и бывший лейб-гвардеец Лафон. Тридцать две секции, составлявшие большинство, создали эту вооруженную силу; шестнадцать же остальных кварталов, преимущественно предместий, слили свои войска с Батальоном патриотов 89 года. Некоторые из них, как, например, секции Кенз-Вэн и Монтрей, присылали свою помощь Конвенту уже во время действия, другие, как, например, Попенкур, при всем своем желании не могли этого сделать; некоторые, как, например, квартал Нераздельности, остались нейтральными. В третьем часу генерал Карто, занимавший Новый мост с четырьмястами человек и двумя четырехфунтовыми пушками, был окружен несколькими колоннами мятежников, принудивших его отступить до Лувра. Эта удача придала смелости мятежникам, бывшим сильнее на всех пунктах. Генерал Даникан потребовал от Конвента удаления его войска и разоружения террористов. Парламентер, введенный в Собрание с завязанными глазами, возбудил сперва большое смятение своим требованием. Многие члены высказались за соглашение; по мнению Буасси д'Англа, следовало вступить в переговоры с Даниканом, Гамон предлагал издать постановление, которым граждане приглашались бы разойтись, и им за это было бы обещано разоружение Батальона патриотов 89 года. Это обращение к секциям возбудило сильный ропот. Шенье бросился на трибуну. „Я удивлен, — сказал он, — что у нас идут разговоры по поводу требований возмутившихся кварталов. Для Национального конвента не может быть никакой мировой сделки; остается только победа или смерть!“ Ланжюине хотел поддержать предложение Гамона, указывая на неминуемые бедствия гражданской войны; но Конвент не пожелал его слушать и по предложению Формана перешел к очередным делам. Еще некоторое время продолжались прения о военных мерах или мирных переговорах с секциями, но вдруг около половины пятого послышалась ружейная пальба, прервавшая всякие занятия Конвента. Было принесено семьсот ружей, и члены Конвента вооружились, составляя как бы резервный корпус.
Битва началась с улицы Сент-Оноре, где господствовали мятежники. Первые выстрелы были сделаны из дворца Ноайль, а затем убийственный огонь продолжался по всей этой линии. Спустя короткое время, на другом фланге две колонны, силой около четырех тысяч мятежников, под начальством графа Малеврье двинулись по набережной и атаковали Королевский мост. Битва сделалась всеобщей; но она не могла долго продолжаться, мост был слишком хорошо защищен, чтобы его можно было взять приступом. После часового сражения мятежники пушками Конвента и батальонами патриотов были отброшены от Сен-Роша и улицы Сент-Оноре. Колонна, занимавшая Королевский мост, выдержала спереди и с флангов, со стороны моста и набережных, три пушечных залпа, проредивших ее и принудивших к полному бегству. В семь часов войска Конвента, одержавшие победу на всех пунктах, перешли в наступление. В девять часов они выгнали мятежников из театра Республики и со всех позиций, занимаемых ими по соседству Пале-Рояля. Ночью они хотели устроить баррикады, и, чтобы помешать их работам, вдоль улицы Закона (Ришелье) дано было несколько пушечных выстрелов. На другой день, 14-го, войска Конвента обезоружили кварталы Лепелетье и восстановили порядок во всех остальных.
Собрание, боровшееся только для своей защиты, показало благоразумную умеренность. Тринадцатого вандемьера было десятым августа роялистов против республики, с той разницей, что Конвент сопротивлялся буржуазии с большим успехом, чем королевская власть предместьям. Тогдашнее положение Франции много помогло победе Конвента. Все желали в это время республики без революционного правительства, умеренного режима без контрреволюции. Конвент, исполняя свою задачу общего умиротворителя, одинаково высказался как против исключительного господства побежденного им в прериале низшего класса, так и против реакционного господства буржуазии, отраженной им в вандемьере. Он один казался способным удовлетворить этому двойному желанию и прекратить между партиями войну, продолжавшуюся во время постепенного перехода власти от народа к буржуазии. Это положение дел наравне с личными опасностями Конвента давало ему смелость и успех в победе. Секции не могли застать его врасплох, а тем более взять приступом.
После событий вандемьера Конвент занялся составлением Советов и Директории. Свободные выборы одной трети прошли в реакционном духе. Несколько членов Конвента, во главе с Тальеном, предложили уничтожить эти выборы трети и задержать введение конституционного правления. Тибодо с большой смелостью и красноречием помешал исполнению этого замысла. Партия Конвента вполне разделяла его мнение. Она отвергла излишний произвол и выразила нетерпение выйти из переходного состояния, длившегося уже три года. Конвент преобразовал себя в избирательное Национальное собрание, чтобы пополнить из своей среды две остальные трети. Он тотчас же образовал советы: Совет старейшин из двухсот пятидесяти членов, имевших по новому закону более сорока лет от роду, и Совет пятисот из всех остальных. Советы имели местом собрания Тюильри. Теперь надо было образовать правительство.
Вандемьерское нападение было еще слишком свежо, и республиканская партия, опасаясь контрреволюции, решила избрать директорами только членов Конвента и притом из подававших голос за смерть короля. Несколько членов, наиболее влиятельных, в числе которых был Дону, оспаривали это мнение, так как оно ограничивало выборы и сохраняло за правительством диктаторский и революционный характер, но оно одержало верх. Из Конвента были выбраны: Ларевельер-Лепо, пользовавшийся общим доверием, благодаря своей смелости 31 мая, а также своей честности и умеренности; Сьейес, обладавший наибольшей популярностью того времени, Рёбель, имевший редкие административные способности; Летурнер, один из членов Комиссии пяти, образованной во время последнего кризиса, и Баррас, возвысившийся благодаря своим удачам в вандемьере и термидоре. Сьейес, не желавший участвовать в законодательной Комиссии одиннадцати, не захотел войти и в члены Директории; неизвестно, было ли это следствием расчета или непреодолимой неприязни к Рёбелю. Он был заменен Карно, — единственным членом старого комитета, пощаженным вследствие своей политической чистоты и серьезного участия в победах республики. Четвертого брюмера Конвент издал закон об амнистии, чем хотел вернуться к законному правлению, переименовал площадь Революции в площадь Согласия и объявил свои заседания законченными.
Деятельность Конвента длилась три года, с 21 сентября 1792 г. до 26 октября 1795 г. (4 брюмера IV года). Он следовал разным направлениям. Первые шесть месяцев своего существования Конвент был вовлечен в борьбу между партией законности, или Жиронды, и партией революции — Горы. Последняя одержала верх 31 мая 1793 г. и главенствовала вплоть до девятого термидора II года (26 июля 1794 г.). Конвент подчинялся в это время правлению Комитета общественного спасения, уничтожившего сперва своих прежних союзников, членов Коммуны и Горы, и, наконец, погибшего вследствие своих собственных неурядиц. В промежуток времени с девятого термидора до брюмера IV года Конвент одержал победу над партией революционеров и роялистов и постарался, вопреки тем и другим, восстановить умеренную республику.
В продолжение этого долгого и ужасного времени насильственность положения изменила революцию в войну и превратила Собрание в поле сражения. Каждая партия хотела победой утвердить свое господство и упрочить его своей системой. Партия жирондистов пыталась сделать это и погибла; то же случилось с партией монтаньяров, Парижской коммуной и партией Робеспьера. Они умели побеждать, но не умели упрочить своего положения. Отличительным качеством такой бури является ниспровержение всякого, старающегося утвердиться. Тут все временно — и люди, и господство, и партии, и системы, потому что возможна и действительна только одна война. Партии Конвента понадобился целый год, со времени возвращения его к власти, чтобы перейти от революции к законности, и он достиг этого только двумя победами в прериале и вандемьере. Таким образом, Конвент вернулся к точке своего отправления и выполнил свою настоящую миссию, — отстояв республику, упрочить ее положение. Затем Конвент исчез со всемирной сцены, вызвав удивление и ужас. Его революционная власть кончилась с момента наступления законного порядка.
Исполнительная директория Глава XII С начала действий Директории, 27 октября 1795 г., до государственного переворота 18 фрюктидора V года (4 сентября 1797 г.)
Обзор революции. — Характеристика ее вторичного реорганизационного периода; переход от общественной жизни к частной. — Пять директоров, их работы внутри страны. — Умиротворение Вандеи. — Заговор Бабефа; последнее поражение народной партии. — План похода против Австрии; завоевание Италии генералом Бонапартом; договор в Кампоформио. — Французская Республика признана со всеми ее приобретениями и с окружающими ее Батавской, Ломбардской и Лигурийской республиками, продолжившими ее систему в Европе. — Роялистские выборы V года; они изменяют положение республики. — Новая борьба между контрреволюционной партией, преобладающей в советах, клубе Клиши и в салонах, и партией Конвента, утвердившейся в Директории, в клубе Сальм и в войске. — Государственный переворот 8 фрюктидора; партия вандемьера еще раз разбита.
Французская революция, уничтожая старый порядок управления и разрушая до основания старое общество, имела двоякую вполне определенную цель; введение свободных учреждений и более совершенного социального уклада. Все те шесть лет, которые мы рассмотрели, прошли в стараниях утвердить господство одного из классов, составлявших французскую нацию. Привилегированные классы мечтали утвердить свое господство, противопоставив его двору и буржуазии, с помощью сохранения сословий и Генеральных штатов; буржуазия жаждала установить свой порядок вещей, направленный против толпы, знати и духовенства, учреждением Конституции 1791 г., а толпа старалась захватить власть для себя против всех и вся — Конституцией 1793 г. Ни одно из этих правительств не могло укрепиться, будучи слишком односторонним. Но во время этих попыток каждый класс, временно преобладавший, уничтожал в сословиях вышестоящих все, что было в них нетерпимого и препятствовавшего развитию нового французского общества, установленного на началах равенства прав и наибольшей справедливости.
Когда Директория заступила место Конвента, борьба классов совсем утихла. Верхний слой каждого из них образовал партию, все еще боровшуюся за форму правления, но большинство нации, глубоко потрясенное в промежуток времени между 1789 г. и 1795 г., желало только успокоения и утверждения нового порядка вещей. К этому времени окончилось одно великое движение и появилось совсем новое. Революция после предыдущих волнений, громадного труда и полного разрушения, ознаменовавших ее первые годы, занялась гражданским устройством и внутренним успокоением.
Этот второй период замечателен каким-то охлаждением к свободе. Не будучи в состоянии завладеть ею исключительно и на продолжительное время, партии пришли в уныние и бросились из общественной жизни в частную. Этот второй период можно разделить на две эпохи — он был либерален в первое время господства Директории и при начале Консульства и имел правительственный и военный оттенок при конце Консульства и во время империи. Революция с каждым днем становилась все более материальной; создав вначале народ фанатиков, она потом сделала из него народ работников и, наконец, народ солдат.
Много иллюзий погибло: столько было прожито многоразличных состояний, так живо их переживали и в такое малое количество лет, что все понятия перемешались и все верования поколебались. Господство среднего класса, а затем и толпы прошло подобно быстрой фантасмагории. Франция 14 июля была далеко позади со всеми ее глубокими убеждениями, с высокой нравственностью и Собранием, облеченным полновластием во имя разума и в интересах свободы, народным самоуправлением, буржуазной стражей, ее одушевленной блестящей внешностью, со всем этим взаимно связанным любовью к закону и независимости. Далека была и сумрачная, бурная Франция 10 августа, когда только один класс составлял и правительство и общество, и внес сюда свой язык, свои манеры, костюм, тревогу своих опасений, искренность своих мнений, недоверчивость и свой собственный строй. В это время общественная жизнь совершенно ясно заменила собой жизнь частную; республика имела вид то народного собрания, то лагеря; богатые были подчинены бедным, и демократические верования стояли рядом с мрачным и суровым управлением народа. В каждую из этих эпох преобладало увлечение какой-нибудь одной идеей, — сначала свободой и конституционной монархией, затем — равенством, братством и республикой. При учреждении Директории больше не верили ничему, во время великого потопа партий все погибло: и благородные увлечения буржуазии, и страстные надежды народа.
Все вышли ослабленными и разбитыми из этой бешеной бури, и каждый, вспоминая с ужасом о политической жизни, кидался невоздержанно в удовольствия и связи так долго пренебрегаемой частной жизни. Балы, празднества, беспутное мотовство, наряды вошли в бо́льшую моду, чем прежде; это был поворот к привычкам старого порядка. Господство санкюлотов привело к господству богатых, клубы — к возрождению салонов. Этот первый признак возвращения новой цивилизации не мог не быть крайне беспорядочным. Нравы Директории были продуктом старого порядка, возродившегося еще раз перед окончательным устройством отношений и собственных нравов нового общества. На этой переходной ступени роскошь породила труд, ажиотаж смешался с торговлей, салоны повели к сближению партий, переносивших одна другую только в частной жизни; наконец, цивилизация восстановила свободу.
Положение республики к началу учреждения Директории было неутешительно. Не существовало никаких элементов порядка и администрации. В государственной казне не было денег; часто нельзя было вовремя отправить курьеров из-за недостатка незначительной суммы, необходимой для их отправления. Внутри страны царила анархия и стесненное положение: бумажные деньги, выпущенные в обращение в слишком большом количестве, а потому лишившиеся кредита, разрушили всякое доверие к себе и к торговле; голод продолжался; каждый отказывался продавать съестные припасы, так как это значило бы их отдавать даром, арсеналы были истощены или пусты. За границей армии не имели ни повозок, ни лошадей, ни провианта; солдаты были не одеты, и генералы часто не получали своей месячной прибавки в 8 франков звонкой монетой к жалованью, выплачиваемому им ассигнациями; прибавка эта была столь же незначительна, сколь необходима. Войска, недовольные лишениями, теряли всякую дисциплину, и это вызывало поражения и заставило их снова перейти в оборонительное положение.
Этот кризис обнаружился после падения Комитета общественного спасения; он предупреждал недостатки как в армии, так и внутри страны при помощи определенных поборов и обязательной таксы на хлеб, или так называемого максимума. Никто не осмеливался противиться этой финансовой системе, делавшей богатых и купцов данниками солдат и толпы; и в это время съестные припасы не скрывались. Но затем с прекращением насильственных мер и отчуждений голод стал опять давать себя чувствовать; армия, как и народ, стала испытывать нищету, еще более увеличившуюся благодаря реакции против максимума. Политико-экономическая система Конвента заключалась в расходовании громадного капитала, представляемого ассигнациями. Это Собрание было богатым правительством, разорившимся, защищая революцию. Громадная часть французской территории, состоявшая из государственных имуществ, имуществ высшего духовенства, монашества и эмигрировавшего дворянства, была продана, полученные деньги пошли на содержание мало работавшего народа и на внешнюю защиту республики при помощи армий. Больше 8 миллиардов ассигнациями было пущено в обращение до 9 термидора, и, начиная с этого времени, к предыдущей чрезмерной сумме было прибавлено еще тридцать миллиардов. Дальше такую систему продолжать было нельзя: следовало вернуться к труду и восстановить обращение звонкой монеты.
Люди, на которых пала обязанность помочь такой дезорганизации, большей частью ничем особенным не выдавались, но они занялись делом с горячностью, мужеством и здравым смыслом. „Когда директора, — говорит Бейе{4}, — вошли в Люксембургский дворец, он оказался пуст. Они уселись в одной из комнат, вокруг маленького хромоногого стола, одна из ножек которого сгнила от ветхости, на него положили они тетрадку почтовой бумаги и поставили склянку с чернилами, захваченную ими, к счастью, из предосторожности из Комитета общественного спасения. Сидели они на четырех соломенных стульях, а в камине подле них тлело несколько поленьев, взятых в долг у сторожа Дюпона. Кто бы мог думать, что в такой обстановке члены нового правительства, рассмотрев все трудности, я скажу даже больше — весь ужас своего положения, постановили, что они не отступят перед препятствиями и либо сами погибнут, либо вытащат Францию из пропасти, куда она свалилась. Они тотчас на листе почтовой бумаги составили акт, на котором осмелились объявить о начале своих действий, акт, сообщенный затем законодательным палатам“.
Директора распределили между собой работу. Они соображались при этом с теми мотивами, которые заставили партию Конвента их выбрать. Рёбель, одаренный чрезвычайно деятельным характером, законник, сведущий в администрации и дипломатии, получил в свое заведование юстицию, финансы и внешние сношения. Скоро он сделался, благодаря своей ловкости и властному характеру, главой гражданской власти Директории. У Барраса не было никаких специальных знаний. Ума он был посредственного и недалекого и отличался прирожденной леностью. В момент опасности он был годен по своей решительности к смелым поступкам, вроде тех, что были им совершены в термидоре и вандемьере. Но в обыкновенное время он способен был единственно к наблюдению за партиями, так как знал их интриги, как никто иной; поэтому он получил заведование полицией. Эта должность тем более подходила ему, что он был человек гибкий, вкрадчивый, не привязанный ни к одной из партий, и хотя образом действия он был близок к революционерам, но в то же время по своему рождению он был аристократом. Ему было поручено представительство Директории, и он учредил в Люксембурге нечто вроде республиканского регентства. Честный и умеренный Ларевельер-Лепо, выбранный в директора Собранием по единодушному указанию общественного мнения из-за своей кротости, соединенной с мужеством и искренней привязанностью к республике и законным мерам, получил в свое заведование моральную часть управления — воспитание, науки, искусства и торговлю. Летурнер, бывший артиллерийский офицер, член Комитета общественного спасения в последнее время существования Конвента, был назначен управлять военным делом. Но с того времени, когда был выбран Карно, после отказа Сьейеса, он взял на себя ведение военных операций, а товарищу своему, Летурнеру, отдал морскую часть и колонии. Большие способности Карно и его решительный характер дали ему перевес в этой партии. Летурнер сблизился с ним, а Ларевельер-Лепо с Рёбелем, между тем как Баррас остался нейтральным. Директора занялись с редким единодушием восстановлением государственного порядка и благосостояния.
Директора пошли открыто по дороге, начертанной им конституцией. Установив власть в центре республики, они организовали ее в департаментах и установили, насколько смогли, единство цели между отдельными управлениями и своим собственным. Поставленные между двумя исключающими друг друга и недовольными партиями — прериальской и вандемьерской, они старались решительным поведением подчинить их порядку вещей, составляющему середину между их крайними притязаниями. Они старались восстановить высокий дух первых годов революции. „Вы, — писали они своим агентам, — вы, которых мы призываем разделить наши труды, должны вместе с нами привести в действие республиканскую конституцию; вашей первой добродетелью, вашим первым чувством должна быть та твердо выраженная воля, та патриотическая вера, которая создала уже раз своих счастливых энтузиастов и производила чудеса. Все будет сделано, если, благодаря вашим заботам, эта искренняя любовь к свободе, осветившая зарю революции, вновь воодушевит сердца всех французов. Развевающиеся на всех домах цвета свободы, написанный на всех дверях республиканский девиз представят, без сомнения, замечательное зрелище. Стремитесь к большему, приблизьте день, когда святое имя республики будет добровольно и навсегда запечатлено во всех сердцах!“
В скором времени твердое и разумное поведение нового правительства восстановило доверие и вернуло довольство. Продажа съестных припасов была обеспечена, и в конце месяца Директория сняла с себя обязанность снабжать ими Париж, ибо доставка припасов в достаточном количестве совершалась сама собой. Беспредельная активность, созданная революцией, начала находить применение в промышленности и земледелии. Часть населения покинула клубы и общественные площади для мастерских и полей. Тогда в полной мере обнаружилось благодеяние революции, уничтожившей корпорации, раздробившей собственность, отменившей привилегии и увеличившей средства цивилизации; все это должно было быстро распространить истинное благосостояние во Франции. Директория покровительствовала этому стремлению к труду полезными учреждениями. Она восстановила промышленность и выставки, усовершенствовала систему образования, установленную Конвентом. Национальный институт, первоначальные, центральные и нормальные школы образовали совокупность республиканских учреждений. Директор Ларевельер-Лепо, занятый моральной стороной правительственной деятельности, захотел установить под именем теофилантропии деистическое богослужение, то же самое, что в форме праздника в честь Верховного Существа безуспешно старался провести Комитет общественного спасения. Он создал для этого храм, песнопения, известные формулы и нечто вроде литургии. Подобное верование, однако, будучи совершенно индивидуальным, не могло надолго сделаться общественным. Над теофилантропами насмехались, так как их богослужения оскорбляли как верования христиан, так и неверие республиканцев. Преследуемое насмешками, это верование исчезло вскоре как богослужение и сохранилось только как известное мнение. Остались деисты, но не было больше теофилантропов.
Директория, теснимая нуждой в деньгах и бедственным положением финансов, прибегла к не совсем обыкновенным средствам. Она продала или заложила наиболее драгоценные вещи государственной кладовой, чтобы удовлетворить настоятельным нуждам. Оставались еще национальные имения, но они плохо продавались, и притом только на ассигнации. Директория предложила принудительный заем, и он был утвержден Советами. Он был остатком революционных мер относительно богатых, но, принятая ощупью и приведенная в исполнение без силы, эта мера не удалась. Тогда Директория попыталась восстановить ценность бумажных денег; она предложила выпуск — по курсу тридцать за один — территориальных векселей для выкупа ассигнаций и для замены монеты. Территориальные векселя были декретированы Советами на сумму двух миллиардов четырехсот миллионов. Преимущество их было в том, что их тотчас же по предъявлении меняли на национальные имущества, служившие им обеспечением. Эти векселя помогли продать имения, и, таким образом, революционное значение ассигнаций второго периода было закончено. Векселя эти дали Директории временный источник дохода, но потом потеряли свою ценность и незаметно привели к банкротству, послужившему переходом от бумажных денег к звонкой монете.
Военное положение республики было не блестяще; под конец деятельности Конвента победы прекратились, двусмысленное положение и слабость центральной власти, а также недостаток средств ослабили дисциплину в войсках; генералы к тому же, прославив свое командование победами и не будучи побуждаемы энергичным правительством, были склонны к неповиновению, Конвент поручил Пишегрю и Журдану, одному во главе Рейнской армии, а другому с армией Самбра и Мааса, окружить Майнц и взять его, заняв, таким образом, всю рейнскую линию. Пишегрю совершенно не выполнил этой задачи; облеченный полным доверием республики и пользуясь большой военной славой, он вмешался в контрреволюционный заговор принца Конде, но не сошелся с ним. Пишегрю предлагал эмигрировавшему принцу вторгнуться во Францию с его войсками через Швейцарию или Рейн, обещая ему свое бездействие, — единственное, что зависело от него. Но принц требовал, чтобы Пишегрю предварительно поднял в своей армии, бывшей в то время совсем республиканской, белое роялистское знамя. Эта заминка повредила, без сомнения, планам контрреволюционеров, приготовлявших вандемьерский заговор. Но Пишегрю, желая так или иначе подслужиться новым союзникам во вред своей родине, позволил разбить себя при Гейдельберге, подвергнув опасности армию Журдана, очистил Мангейм, снял со значительными потерями осаду с Майнца и ослабил этим всю рейнскую границу.
Директория застала Рейн открытым со стороны Майнца; одновременно с этим вспыхнула Вандейская война; берегам океана и Голландии угрожала высадка со стороны Англии, и, наконец, Итальянская армия, терпящая во всем недостаток, еле держалась под начальством Шерера и Келлермана. Карно придумал новый план кампании, по которому войска республики должны были сами двинуться в самое сердце неприятельских государств. Бонапарт, назначенный после дней вандемьера командующим внутренними войсками, был поставлен во главе Итальянской армии; Журдан сначала сохранил командование армией Самбра и Мааса, но затем был переведен в Рейнскую армию на место Пишегрю. Последний, так как Директория заподозрила измену, но не была в ней твердо уверена, был назначен посланником в Швецию; он отказался от этого назначения и удалился на свою родину, Арбуа. Три большие армии, под начальством Бонапарта, Журдана и Моро, должны были напасть на австрийскую монархию со стороны Германии и Италии, соединиться при выходе из Тироля и эшелонами двинуться на Вену. Генералы приготовились исполнить это обширное предприятие, успех которого давал республике возможность завладеть центром коалиции на континенте.
Директория дала генералу Гошу начальство над обороной берегов океана и поручила окончить Вандейскую войну. Гош изменил систему войны, применявшуюся его предшественниками. Вандея уже склонялась к покорности. Ее первоначальные победы не привели к торжеству самого дела; поражения и нужда подвергли ее опустошениям и пожарам. Мятежники, впавшие в полное уныние после поражения при Савене, потери главных вождей и лучших солдат и разрушительной системы адских колонн, только и думали, как бы жить в мире с республикой. Война держалась исключительно волей нескольких предводителей вроде Шаретта, Стофле и др. Гош понял, что сначала надо уступками отдалить от них массу, а затем и вовсе их уничтожить; он ловко отделил дело роялистов от дела религиозного и противопоставил священников военачальникам, выказав много снисходительности к католическому богослужению. Он отправил вовнутрь страны четыре сильные колонны, отнял у жителей скот и не отдавал до тех пор, пока не получил взамен от них оружие; он не давал никакого отдыха вооруженным отрядам, разбил Шаретта во многих стычках, преследовал его по пятам и, наконец, захватил его в плен. Стофле хотел поднять на своей земле вандейское знамя, но был выдан республиканцам. Эти два вождя, видевшие начало восстания, присутствовали и при конце его. Оба они мужественно погибли, Стофле в Анжеро, а Шаретт в Нанте, выказав характер и способности, достойные более широкой арены.
Гош восстановил спокойствие также и в Бретани. Морбиган был переполнен многочисленными отрядами шуанов, составлявших грозную ассоциацию, главным вождем которой был Жорж Кадудаль; не сражаясь открыто, они все-таки господствовали над всей страной. Гош направил против них все свои силы и всю свою деятельность, и скоро он их отчасти рассеял, а отчасти изнурил постоянными преследованиями и стычками. Бо́льшая часть их предводителей бросила оружие и бежала в Англию. Директория, узнав об этих счастливых умиротворениях, известила о них 28 мессидора (июнь 1796 г.) оба Совета особым посланием, указывая на то, что гражданская война совершенно окончена.
Таким образом прошла зима IV года. Но Директория должна была подвергнуться нападкам обеих партий, владычеству которых мешало ее существование — партии демократов и роялистов. Первые составляли непоколебимую и предприимчивую секту. 9 термидора был для них днем печали и воспоминанием об истинном притеснении; они всегда жаждали установить, несмотря на непреодолимые законы природы, всеобщее равенство и, вопреки условиям состояния старых, больших государств, демократическую свободу. Эта партия была настолько разбита, что не могла больше господствовать. 9 термидора она была изгнана из правительства, 2 прериаля она лишилась своего влияния на общество; таким образом, она потеряла и власть, и способность управлять мятежами. Но, расстроенная и изгнанная, она все-таки не исчезла окончательно; после неудачных попыток роялистов в вандемьере она настолько возвысилась, насколько те пали.
Демократы восстановили в Пантеоне свой клуб, существование которого Директория терпела некоторое время; их вождем был Гракх Бабеф, называвший сам себя народным трибуном. Это был человек смелый, с экзальтированным воображением, с чрезвычайным демократическим фанатизмом и обладавший громадным влиянием на свою партию. Он приготовлял общество в своем журнале к царству всеобщего счастья. Общество Пантеона увеличивалось со дня на день, а потому становилось опасным для Директории, старавшейся вначале только обуздать его. Но вскоре его заседания стали продолжаться до глубокой ночи; демократы туда являлись вооруженными и замышляли напасть на Директорию и Советы. Тогда Директория решила бороться с ними открыто: 8 вантоза IV года (февраль 1796 г.) она закрыла общество Пантеона и 9-го известила об этом Законодательный корпус особым посланием.
Демократы, лишенные места своих собраний, принялись за дело другим способом: они привлекли на свою сторону полицейский легион, составленный большей частью из бывших революционеров, и в согласии с ним решили уничтожить Конституцию III года Директория, осведомленная об этом новом маневре, распустила полицейский легион, предварительно обезоружив его другими отрядами, в верности которых была убеждена. Заговорщики, пойманные вторично врасплох, остановились на плане нападения и восстания: они образовали повстанческий Комитет общественного спасения, имевший через второстепенных агентов сношения с чернью двенадцати парижских общин. Членами этого главного комитета были: глава заговора, Бабеф, и такие бывшие члены Конвента, как Вадье, Амар, Шудьё, Рикор, депутат Друэ, бывшие генералы децемвирного комитета Россиньоль, Парэн, Фион, Лами. Множество отрешенных от должности офицеров-патриотов из департаментов, скрывшихся в Париж, и бывших членов якобинской партии, составляли армию этого заговора. Вожди их часто собирались в месте, ими называемом храмом Разума; они там пели жалобные песни на смерть Робеспьера и оплакивали рабство народа. Они завели сношения с войсками, стоящими в Гренельском лагере, облюбовали там одного капитана, по фамилии Гризель, считая его своим, и все приготовили к нападению.
Они хотели установить всеобщее счастье, для чего надо было приступить к разделу имущества, доставить преобладание правительству настоящих, чистых абсолютных демократов, создать Конвент из шестидесяти восьми монтаньяров, оставшихся после преследования их во время реакции термидора, и дать им в помощники по одному демократу на департамент; наконец, они решили отправиться из различных кварталов, ими между собой распределенных, в одно и то же время против Директории и против Советов. В ночь восстания они должны были прибить повсюду два объявления, — первое из них содержало такие слова: „Конституция 1793 года, свобода, равенство, всеобщее счастье“, а другое: „Те, кто насильно захватили верховную власть, должны быть осуждены на смерть свободными людьми“ Заговорщики были готовы, воззвания отпечатаны, день назначен, но они были преданы Гризелем, как это обыкновенно случается в заговорах[53].
21 флореаля (май), накануне назначенного для нападения дня, заговорщики были схвачены на их тайном собрании. У Бабефа нашли весь план и документы, касающиеся заговора. Директория предупредила Советы об этом особым посланием, а народу объявила особой прокламацией. Эта странная, с такой яркой окраской фанатизма, попытка представляла собой только повторение прериальского восстания, но без его средств и надежды на успех, и потому возбудила глубокий ужас. Воображение все еще было напугано свежим воспоминанием господства якобинцев. Бабеф, как смелый заговорщик, предложил мир Директории, несмотря на то, что был ее пленником.
„Считали бы вы, граждане директора, — писал он им, — унизительным для себя вести переговоры со мной, как власть с властью? Вы видели, какого множества людей, меня окружающих, я пользуюсь доверием; вы видели, что моя партия не уступает вашей; вы видели, какие глубокие разветвления она имеет, и я убежден, что при виде всего этого вы дрожали“.
Он оканчивал словами: „Я вижу только один благоразумный выход: объявите, что не было никакого серьезного заговора. Пять человек, показав себя великими и великодушными, могут теперь спасти родину. Я ручаюсь, что патриоты защитят вас своими телами; они ненавидят вовсе не вас, а только ваши непопулярные поступки. За себя лично я даю вам столь же обширное ручательство, как моя постоянная откровенность“. Директория, вместо такого примирения, обнародовала письмо Бабефа и предала заговорщиков Верховному суду в Вандомс.
Их сторонники сделали еще одну попытку. В ночь на 13 фрюктидора (август) около 11 часов они двинулись в числе шестисот или семисот человек, вооруженных саблями и пистолетами, против Директории, но нашли ее защищенной ее гвардией. Тогда они отправились в Гренельский лагерь, надеясь благодаря связям, завязанным ими раньше, привлечь его на свою сторону. Весь лагерь спал, когда к нему подошли заговорщики. На крик часовых: „Кто идет?“ они отвечали: „Да здравствует республика! Да здравствует Конституция 1793 года!“ Часовые подняли тревогу в лагере. Заговорщики, надеясь на присутствие батальона из Горда, на самом деле переменившего место, направились к палатке капитана Мало; тот приказал трубить сигнал к подъему и велел своим полуодетым драгунам сесть на лошадей. Заговорщики, изумленные этим приемом, слабо оборонялись, были изрублены драгунами и бежали, побросав много убитых и пленных на поле сражения. Эта неудачная экспедиция была почти последней попыткой партии; при каждом поражении она теряла свою силу и получила тайное убеждение, что ее господство прошло. Гренельское предприятие было для нее крайне пагубным; кроме своих потерь в этой стычке, она еще лишилась значительного количества своих членов вследствие приговоров военных комиссий, бывших для нее тем же, чем были революционные трибуналы для ее врагов. Комиссия Гренельского лагеря присудила, в пять приемов, тридцать одного заговорщика к смерти, тридцать к вечной ссылке и двадцать к заключению.
Несколько времени спустя Вандомский верховный суд занялся разбором дела Бабефа и его сторонников, в числе которых были: Амар, Вадье и Дарте, бывший секретарь Жозефа Лебона. Ни один из них не противоречил друг другу; они говорили как люди, не боявшиеся ни признать свою цель, ни умереть за свое дело. В начале и в конце всякого заседания они пели „Марсельезу“. Этот старинный гимн победы, их уверенная осанка поражали умы удивлением и делали их еще опаснее. Их жены последовали за ними в трибуналы. Бабеф, окончив свою защиту, повернулся к ним и сказал: „Следуйте за своими мужьями до Голгофы, вам не приходится краснеть за то, за что они присуждены к казни“. Верховный суд приговорил Бабефа и Дарте к смерти; услышав этот приговор, оба они закололись кинжалами. Бабеф был последним вождем бывшей партии Парижской коммуны и Комитета общественного спасения, до 9 термидора разделенной, а после соединившейся в одно целое. С каждым днем эта партия уменьшалась. С этого времени начинается ее расстройство и одиночество. Во время реакции она все-таки составляла еще значительную массу, при Бабефе она образовала маленькое товарищество; теперь же остались только отдельные демократы, а партия была уничтожена.
В промежуток времени между гренельским предприятием и осуждением Бабефа роялисты также составили свой заговор. Планы демократов произвели в общественном мнении движение, противоположное виденному нами после вандемьера, и контрреволюционеры стали смелее в свою очередь. Тайные вожди этой партии надеялись найти поддержку в войсках Гренельского лагеря, не примкнувших к заговору Бабефа. Нетерпеливая и неловкая партия эта, не имея возможности подчинить себе массу народных кварталов, как это было в вандемьере, или членов Советов, как это было немного раньше 18 фрюктидора, выдвинула в дело трех людей, без влияния и имени: аббата Бротье, бывшего советника парламента Лавилёрнуа и авантюриста, по фамилии Дюнан. Лица эти, недолго думая, обратились к эскадронному командиру Мало, чтобы с его помощью захватить Гренельский лагерь и затем восстановить старый государственный порядок. Мало их выдал Директории, а Директория предала их гражданскому суду, так как не могла, несмотря на свое желание, назначить над ними суд военный. Судьи их же партии, выбранные под влиянием вандемьера, отнеслись очень снисходительно к заговорщикам, и им было назначено всего-навсего непродолжительное тюремное заключение. К этому времени опять возобновилась борьба между всеми властями, выбранными секциями, и Директорией, опиравшейся на армию. Всякий черпал свою силу и своих судей из своей партии, и в результате, когда избирательная власть подчинилась контрреволюции, Директория постаралась ввести в управление государством армию, видя в ней свою поддержку; это повлекло за собой важные неудобства.
Директория была не только победительницей обеих восставших партий, но также и Европы. Новая кампания была начата в счастливый час. Бонапарт, прибыв в Ниццу, ознаменовал свое принятие командования над Итальянской армией одним из самых смелых вторжений. Незадолго перед этим эта армия была разбита у подножия Альп; она была лишена всего, и ее численность едва достигала тридцати тысяч человек, но зато она была одарена большим мужеством и патриотизмом. Бонапарт, гениально воспользовавшись всем этим, начал свою деятельность, которая затем возбуждала удивление всего мира в продолжение двадцати лет. Он покинул лагерь и отправился в Савойскую долину, чтобы ворваться в Италию между Апеннинами и Альпами. Против него было девяносто тысяч союзников, центром которых командовал Аржанто, левым флангом Колли, а правым Больё. Вся эта громадная армия была рассеяна в несколько дней чудесами гения и смелости. При Монтенотто Бонапарт опрокинул центр врагов и вторгся в Пьемонт; при Миллезимо он окончательно отделил Сардинскую армию от Австрийской, из которых одна бросилась защищать Турин, другая Милан, столицы их владений. Перед тем как преследовать австрийцев, республиканский генерал бросился налево, чтобы покончить с Сардинской армией; при Мондови судьба Пьемонта была решена, и устрашенный туринский двор поспешил покориться. В Кераско было заключено перемирие, вскоре за ним последовал мир между республикой и королем сардинским, уступившим Савойю и графство Ниццское и Тендское, подписанный в Париже 18 мая 1796 г. Занятие Алессандрии, открывавшее доступ в Ломбардию; срытие крепостей Сузы и Лабрюнет, стоявших на заднем фронте Франции, уступка графства Ниццского и Савойи и возможность совместных действий с другой Альпийской армией, под начальством Келлермана, — все это было результатом пятнадцатидневного похода и шести побед.
Война с Пьемонтом кончилась. Бонапарт двинулся против Австрийской армии, не давая ей отдыха. Он перешел через По в Пьячен и через Адду в Лоди. Эта последняя победа открыла ему ворота Милана и позволила овладеть всей Ломбардией. Генерал Больё был отброшен республиканской армией, окружившей Мантую и появившейся затем на горах Австрийской империи, в Тирольские ущелья, генерал Вурмзер заменил тогда Больё, и новая армия соединилась с остатками побежденной. Вурмзер двинулся освободить Мантую и перенести театр военных действий опять в Италию, но он был раздавлен Бонапартом, подобно своим предшественникам. Для этого Бонапарту пришлось на время снять осаду с Мантуи, но, победив своего нового врага, он опять ее возобновил с еще большей твердостью и занял свои позиции в Тироле. План вторжения был исполнен с большой стройностью и полным успехом. В то время, как Итальянская армия угрожала Австрии со стороны Тироля, Маасская и Рейнская двигались к ней со стороны Германии. Моро, опираясь левым крылом на Журдана, правым был близок к соединению с Бонапартом. Эти две армии перешли Рейн при Нойвиде и Страсбурге и приближались фронтом, развернутым на протяжении шестидесяти миль, тесня неприятеля, отступавшего перед ним, но в то же время старавшегося остановить движение и прорвать их линию. Обе армии были уже близки к цели своего предприятия, — Моро вошел в Ульм, затем в Страсбург, перешел Лех, и его авангард уже дошел до ущелий Тироля; но в это время Журдан, бывший с ним не в ладах, выступил за линию и, будучи разбит эрцгерцогом Карлом, начал полное отступление. Моро, не защищаемый больше на своем левом фланге, был принужден следовать за Журданом и тут-то он выполнил свое знаменитое отступление. Ошибка Журдана была громадна; она помешала выполнению обширного плана кампании и дала отсрочку австрийской монархии.
Венский кабинет, уже потерявший Бельгию в войне против революции и слишком хорошо сознававший важность сохранения за собой Италии, защищал ее с крайним упорством. Вурмзер после нового поражения принужден был с остатками своей армии броситься в Мантую. Генерал Альвинци, во главе пятнадцати тысяч венгров, еще раз хотел попытать счастья, но это ему удалось не лучше, чем Больё и Вурмзеру. Новые победы прибавились к чудесам, уже совершенным Итальянской армией, и обеспечили полное покорение Италии. Мантуя сдалась, и республиканские войска, овладев Италией, двинулись через горы по направлению к Вене. Бонапарт имел перед собой принца Карла, единственную надежду Австрии. Он быстро преодолел ущелья Тироля и вышел из гор в Германии. В это время обе армии, Рейнская — под начальством Моро, Маасская под начальством Гоша, с успехом возобновили план предыдущего похода; устрашенному венскому кабинету пришлось заключить перемирие в Леобене. Он истощил все свои силы, испытал всех своих генералов, тогда как Французская Республика осталась во всей своей победоносной мощи.
Итальянская армия довершила в Европе дело Французской революции. Этот удивительный поход был следствием сочетания гениального полководца с подобной ему армией. Бонапарт имел под своим начальством генералов, способных самим быть командующими и брать на себя выполнение целого движения или битвы, и армию, состоящую из граждан с развитым умом, высокой душой и рвением к великим делам. Она была страшно предана делу революции, увеличившей пределы ее родины, сохранившей независимость войска, несмотря на дисциплину, и давшей возможность каждому солдату стать генералом. Чего бы не мог совершить гениальный вождь с подобными людьми? Позже, вспоминая свои первые годы, он сожалел, что сосредоточил в себе одном всю свободу и всю умственную деятельность, сделав армию слишком механической и подчинив генералов только своим приказаниям. Бонапарт начинал собой третью эпоху революционных войн. Кампания 1792 г. была ведена по старой системе, разбросанными отрядами, действовавшими поодиночке и не оставляя общей линии действия. Комитет общественного спасения соединил воедино отряды и заставил их действовать планомерно, а не применяясь к условиям минуты, ускорил их движения и направил к одной общей цели. Бонапарт делал перед каждым сражением то, что Комитет перед всей кампанией. Он направлял все свои силы к одной решительной цели и побеждал многочисленных врагов только благодаря быстроте своих нападений. Он решительно управлял армиями, руководил их движениями даже вне поля своего зрения и всегда имел их под рукой в нужном месте, чтобы занять позицию или выиграть сражение. Его дипломатия была так же превосходна, как и его военное искусство.
Почти все итальянские правительства принадлежали к коалиции, но народ склонялся больше к республике. Бонапарт оперся на народ; не имея возможности завоевать Пьемонт, он его ослабил; преобразовал Миланскую область, до сих пор находившуюся в подчинении у Австрии, в Цизальпинскую Республику; обессилил контрибуцией Тоскану и мелких принцев Пармы и Модены, не захватывая их владения. Папа, подписавший перемирие при первой победе Бонапарта над Больё и не побоявшийся его нарушить при появлении Вурмзера, купил мир уступкой Романьи, Болоньи и Феррары, присоединенных к Цизальпинской Республике. Генуя потеряла свою прежнюю аристократическую организацию и была преобразована в Лигурийскую Республику, единую и нераздельную, венецианская аристократия благоволила к коалиции и, подняв восстание в тылу французской армии, потеряла свою самостоятельность. Венеция третейским судом была присуждена Австрии взамен Милана. Австрия, по предварительным условиям, уступила Бельгию, присоединенную к Франции, и признала Цизальпинскую Республику. Все союзные державы сложили оружие, и даже сама Англия предложила вести мирные переговоры. Мирная и свободная внутри Франция достигла и извне своих естественных границ и окружила себя возродившимися республиками, которые, как Голландия, Ломбардия или Лигурия, защищали ее границы и распространяли ее систему в Европе. Коалиция была совсем не расположена снова напасть на революцию, все правительства которой оказывались победителями, — и анархия после 10 августа, и диктатура после 31 мая, и законная власть при Директории, — и которая (революция) подвигалась при каждом нападении на нее все дальше по европейской территории. В 1792 г. она дошла только до Бельгии; в 1794 г. она вошла в Голландию и дошла до Рейна; в 1796 г. победила Италию и задела Германию. Если бы она продолжала таким образом двигаться, то коалиции пришлось бы опасаться, как бы она не пошла в своих победах еще дальше. Все это заставляло склоняться к всеобщему миру.
Но положение Директории сильно изменилось после выборов V года (май 1797 г.). Эти выборы, проведя законным образом роялистскую партию в Законодательное собрание и правительство, вновь поставили вопрос, уже раз решенный в вандемьере. До сих пор Директория и Советы жили в добром согласии; составленные из партии Конвента и соединенные общими интересами и необходимостью устроить республику, расшатанную различными партиями, они вносили в свои сношения большое миролюбие, а в свои меры много согласия. Советы принимали различные требования Директории, за некоторыми мелкими изменениями, и одобряли ее финансовые и административные проекты и ее поведение относительно заговоров, войны и Европы. Меньшинство, враждебное Конвенту, образовало оппозицию в Советах; осторожно борясь с политикой Директории, оно ожидало усиления от вновь избранной трети депутатов. Во главе этой партии стояли: Барбе-Марбуа, Пасторе, Воблан, Дюма, Порталис, Симеон, Барбье, Тронсон дю Кудре, Дюпон из Немура, — по большей части все это были члены Правой бывшего Законодательного собрания, а кое-кто были и настоящими роялистами. Скоро положение их перестало быть двусмысленным, и благодаря выборам V года они получили подкрепление, и политика их стала более агрессивной.
Роялисты образовали грозный и деятельный союз, имеющий своих вождей, агентов, свои избирательные списки, свои журналы. Они устранили республиканцев от выборов, привлекли к себе всегда идущую за более деятельной партией толпу и на время подняли народное знамя. Они не хотели признавать даже патриотов первой эпохи революции и избирали только решительных контрреволюционеров или сомнительных конституционалистов. Таким образом, республиканская партия оказалась только в правительстве, а партия роялистов захватила власть в избирательных собраниях и Советах.
1 прериаля V года (20 мая) оба Совета были организованы. Дух, их воодушевляющий, они обнаружили с самого первого шага. Пишегрю, отправленный роялистами на новое поле сражений контрреволюции, был восторженно избран президентом Совета пятисот; Барбе-Марбуа с такой же услужливостью был выбран в президенты Совета старейшин. Законодательный корпус занялся выбором одного директора, взамен Летурнера, члена Директории, выходящего по жребию 30 флореаля. Новый выбор пал на Бартелеми, занимавшего пост посланника в Швеции. В качестве человека умеренного и сторонника мира, он равно нравился и Советам, и Европе; но он не мог быть вследствие отсутствия из Франции во все время революции особенно пригодным к управлению республикой.
За этими первыми враждебными действиями против Директории и партии Конвента последовали более действенные нападения; началось беспощадное преследование как администрации, так и политики Директории. Она, в свою очередь, делала, что могла, с помощью законного правительства при еще революционном положении. Ее упрекали в продолжении войны и в расстройстве финансов. Большинство Законодательного корпуса искусно пользовалось общественными потребностями: оно поддерживало неограниченную свободу печати, дававшую журналам возможность нападать на Директорию и тем подготовлять переход к другому господствующему устройству, также поддерживало оно и мир, ведший к разоружению республики, и, наконец, государственную экономию.
Эти требования имели свою полезную и национальную сторону. Утомленная Франция, чтобы довершить восстановление общества, испытывала необходимость во всех этих вещах. Поэтому некоторые требования роялистов разделялись ею, но только по иным причинам. С бо́льшим несколько беспокойством встретила она меры, принятые Советами относительно священников и эмигрантов. Все жаждали умиротворения, но никто не хотел, чтобы вернулись победителями побежденные революцией. Советы занялись поспешно законами об амнистии духовенства и эмигрантов.
Они совершенно справедливо отменили изгнание или заключение в тюрьму священников по религиозным делам или за отсутствие патриотизма; но они захотели восстановить прежние прерогативы католического богослужения, вновь разрешить употребление колоколов и освободить священников от обязательной для всех должностных лиц присяги. Молодой лионский депутат, Камиль Журдан, красноречивый, мужественный и исповедующий с большой смелостью свои религиозные убеждения, считался в Совете пятисот главным панегиристом духовенства. Произнесенная им по этому поводу речь возбудила громадное изумление и ожесточенные протесты. Все время проявлялся энтузиазм исключительно патриотический, и все были удивлены, увидя другой энтузиазм — религиозный. Предыдущий век и революция совершенно отучили от него и даже мешали его пониманию. Наступило время, когда партия старого режима не стала больше бояться проводить свои верования и свой язык рядом с верованием и языком новаторской партии, до сих пор исключительно господствовавшей. В результате, как и все неожиданное, речь Камиля Журдана произвела неприятное впечатление, и его стали называть Журдан-трезвон и Журдан-колокол. Однако попытка покровителей духовенства не удалась, и Совет пятисот не посмел ни допустить употребление колоколов, ни сделать священников независимыми. После некоторых колебаний умеренная партия присоединилась к партии Директории, и гражданская присяга духовенства была удержана в законодательстве, при криках „Да здравствует республика!“
Однако враждебные действия против Директории не прекращались, особенно в Совете пятисот, как более горячем и нетерпеливом, чем Совет старейшин. Все это очень ободрило партию роялистов внутри страны. Снова возобновились репрессии контрреволюционеров против патриотов и покупателей национальных имений. Эмигранты и мятежное духовенство возвращались толпами и, не скрывая своего отвращения к революции, придумывали планы низвержения ее. Власти Директории угрожали в центре, не признавали в департаментах, и она стала совсем бессильной.
Но необходимость защиты, беспокойство всех людей, преданных Директории и особенно революции, возбудило и ободрило правительство. Наступательный образ действий Совета заставил заподозрить его привязанность к республике, он лишился поддержки тех, кто вначале стоял на его стороне. Конституционалисты 1791 г. и партия Конвента соединились вместе. Сальмский клуб, основанный под покровительством этой партии, являлся как бы протестом против клуба Клиши, давно уже служившего местом сборищ для наиболее влиятельных членов Советов. Директория, прибегая к общественному мнению, не забывала также и своей главной поддержки — войска; она перевела в Париж многие полки из армии Самбры и Мааса, бывшей под начальством Гоша Окружность в шесть мириаметров (двенадцать лье), которую войска не могли переступить без посягательства на конституцию, была перейдена; Советы указали Директории на это нарушение; но та выказала подозрительное неведение и дала совершенно неудовлетворительные объяснения.
Обе партии наблюдали друг за другом, — одна господствовала в Директории, Сальмском клубе и в армии, другая — в Советах, клубе Клиши и в салонах роялистов. Толпа пока оставалась зрительницей. Каждая из двух партий была расположена действовать против другой революционным путем. Средняя между этими двумя партия, партия конституционная и умиротворяющая, старалась предотвратить эту борьбу и установить согласие, что было совершенно немыслимо. Карно был во главе этой последней партии; несколько членов Совета молодых, руководимые Тибодо, и довольно большое число членов Совета старейшин помогали его планам умеренности. Карно, бывший в это время во главе Директории, составлял вместе с Бартелеми, на обязанности которого лежали сношения с Законодательным корпусом, меньшинство в правительстве. Чрезвычайно строгий в своем поведении и слишком непреклонный в своих мнениях, Карно не мог сойтись ни с Баррасом, ни с властным Ребелем. К этому несходству характеров присоединялось еще различие во взглядах и образе действия; Баррас и Рёбель, поддерживаемые Ларевельер-Лепо, были не прочь от устройства государственного переворота против Советов, в то время как Карно хотел точно следовать закону. Этот великий гражданин отлично видел, какой образ правления в различные моменты революции пригоден к данным обстоятельствам; раз составленное мнение становилось для него законом, и он всячески стремился к его проведению в жизнь. При Комитете общественного спасения он постоянно думал о диктатуре; при Директории — о законном правительстве. Не признавая никаких тонкостей, он, наконец, оказался в двусмысленном положении; он хотел мира во время войны и законности — при государственном перевороте.
Советы, немного устрашенные приготовлениями Директории, казалось, согласны были на примирение ценой отставки некоторых министров, не пользующихся их особым доверием. Эти министры были: министр юстиции — Мерлен из Дуэ; иностранных дел — Делакруа; финансов — Рамель. И, наоборот, они хотели удержать в министерствах — военном — Петье, внутренних дел — Бенесека, и полиции — Кошона де Лапарана. Не имея в руках директориальной власти, Законодательный корпус хотел быть уверенным в своих министрах. Рёбель, Ларевельер-Лепо и Баррас не только не уступили этому желанию, вводящему врага в среду правительства, но тотчас же отрешили покровительствуемых советом министров от должности и сохранили других. Бенесек был заменен Франсуа из Нефшато, Петье — Гошем, а вскоре затем и Шерером, Кошон де Лапаран — Ленуар-Ларошем, а этот последний, как оказавшийся нерешительным, затем был заменен Сотеном. Талейран также получил место в этом министерстве. Он был вычеркнут из списка эмигрантов со времени окончания заседаний Конвента, как революционер 1791 г., а глубокая проницательность, ставившая его всегда в партию, имевшую больше шансов на победу, сделала его в это время республиканцем и приверженцем Директории. Он получил портфель Делакруа и своими советами и смелостью много способствовал событиям фрюктидора.
Гражданская война становилась все более и более неизбежной; Директория вовсе не желала мира, отсрочивающего как ее падение, так и падение республики только до выборов VI года. Под ее влиянием были из армии присланы угрожающие Советам адреса. Бонапарт следил беспокойным взором за подготовлявшимися в Париже событиями. Будучи тесно связан с Карно и находясь в непосредственной с ним переписке, он все-таки прислал своего адъютанта Лавалетта собрать сведения о несогласиях в правительстве и об окружающих его интригах и заговорах. Бонапарт обещал Директории в случае действительной опасности поддержку своей армии. Он прислал в Париж Ожеро с адресами от своих войск. „Берегитесь, роялисты, — писали солдаты, — от Эча до Сены только один шаг. Берегитесь! Ваши беззакония сочтены и возмездие за них — на концах наших штыков!“ — „Мы с негодованием наблюдали, — писал Главный штаб, — за интригами роялистов, угрожающими свободе. Мы поклялись прахом героев, умерших за родину, вести беспощадную войну против королевской власти и ее приверженцев. Таковы наши чувства, таковы ваши, таковы чувства всех патриотов. Пусть только роялисты покажутся — и они не останутся живыми!“ Советы протестовали, но безуспешно, против такого вмешательства в политику армии. Генерал Ришпанс, командующий пришедшими из армии Самбры и Мааса полками, расположил их в Версале, Медоне и Венсене.
Советы были нападающей стороной в прериале; но затем успех их дела мог быть отложен до VI года, когда они его могли достигнуть без риска и борьбы, и, начиная с термидора (июль 1797 г.), они держались исключительно оборонительной тактики. Подготовляясь к борьбе, они, чтобы освободиться от Сальмского клуба, закрыли все конституционные кружки и увеличили также власть Комиссии инспекторов (зала собрания), сделавшейся правительством Законодательного корпуса и в числе членов которой находились заговорщики-роялисты Вийо и Пишегрю. Охрана Совета, подчиненная прежде Директории, зависела теперь непосредственно от инспекторов зала. Наконец, 17 фрюктидора Законодательный корпус позаботился приобрести себе помощь вандемьерской милиции и декретировал, по предложению Пишегрю, формирование Национальной гвардии. На следующий день, 18-го, эту меру должны были привести в исполнение, а затем Советы решили издать приказание об удалении войск. Принимая во внимание такое положение дела, станет вполне понятным, что великая борьба революции со старым порядком должна была еще раз решиться той или другой победой. Пылкий генерал Вийо хотел, чтобы Советы первые начали борьбу и издали указ об обвинении трех директоров, Барраса, Рёбеля и Ларевельера-Лепо, а других двух директоров призвали в Законодательный корпус; если правительство откажет в послушании, Вийо настаивал забить тревогу и поднять жителей секции против Директории; Пишегрю при этом должен был взять на себя командование этим законным восстанием, и все перечисленные меры должны были быть приняты быстро, смело и вполне открыто. Говорят, что Пишегрю колебался; мнение людей нерешительных перевесило, и Советы последовали по медленному пути законных приготовлений.
Не так действовала Директория. Баррас, Рёбель и Ларевельер-Лепо решили немедленно напасть на Карно, Бартелеми и большинство Советов. Утро 18-го было назначено для выполнения государственного переворота. Ночью войска, расположенные вокруг Парижа, вошли под начальством Ожеро в город. План директориального триумвирата был: занять Тюильри до начала заседания Законодательного корпуса, чтобы избегнуть насильственного изгнания его оттуда, созвать Советы где-нибудь по соседству с Люксембургом, предварительно арестовав их главных вождей, и начатый силой государственный переворот завершить законодательной мерой. Триумвират не сомневался в согласии на подобные действия со стороны меньшинства Советов и к тому же рассчитывал на одобрение толпы. В час ночи войска прибыли к городской Коммуне, расположились по набережной, по мостам на Елисейских полях, и вскоре двенадцать тысяч человек и сорок пушек окружали Тюильри. В четыре часа утра раздался пушечный выстрел, и генерал Ожеро появился у решетки Пон-Турнана.
Стража Законодательного корпуса была вся под ружьем. Инспектора зала, еще с вечера предупрежденные о готовящемся движении, отправились в Национальный дворец (Тюильри) для защиты входа в него. Рамель, командир стражи Законодательного корпуса, был предан Советам; он расположил своих восемьсот гренадеров по различным аллеям сада, защищаемого еще решетками. Но такими незначительными и ненадежными силами Пишегрю, Вийо и Рамель не могли оказать никакого сопротивления Директории. Ожеро даже не понадобилось силой проложить себе дорогу через Пон-Турнан; подойдя к гренадерам, он спросил их: „Республиканцы ли вы?“ Гренадеры в ответ, опустивши оружие, закричали: „Да здравствует Ожеро! Да здравствует Директория!“ и присоединились к нападающим. Ожеро прошел через весь сад, проник в зал Совета и арестовал Пишегрю, Вийо, Рамеля и всех инспекторов зала и отправил их в Тампль. Члены Советов, поспешно созванные инспекторами, толпами подходили к месту своих заседаний, но частью были арестованы, частью удалены войсками. Ожеро объявил им, что Директория, вынужденная к тому необходимостью защищать республику против заседающих среди них заговорщиков, назначила местом заседания Советов Одеон и Медицинскую школу. Большинство присутствовавших депутатов восстали против военного насилия и узурпирования Директорией) власти, но были принуждены покориться.
В шесть часов утра все было закончено. Парижане, пробудившись, нашли войска под ружьем, на стенах были вывешены объявления, где говорилось об открытии ужасающего заговора. Народ приглашался к доверию. Директория приказала напечатать письмо генерала Моро, доносящего ей во всех подробностях о сношениях своего предшественника Пишегрю с эмиграцией, и еще другое письмо принца Конде к члену Совета старейшин Эмбер-Коломе. Народ оставался глубоко спокойным. Будучи простым зрителем событий дня, совершившихся без участия партий, при помощи одной только армии, народ не выказал ни одобрения, ни сожаления.
Директории было необходимо узаконить и в особенности закончить это свое чрезвычайное дело. Едва только члены Совета пятисот и Совета старейшин собрались в Одене и Медицинской школе и оказались в достаточном для законности решений количестве, они объявили свои заседания непрерывными. Особым посланием Директория известила их о мотивах, вызвавших все ее меры. „Граждане законодатели, — говорила Директория, — если бы Директория опоздала хотя бы на один день, республика была бы предана в руки врагов. Место ваших заседаний было также и местом сборища заговорщиков; там они еще вчера распределяли билеты на выдачу оружия; оттуда они вели этой ночью сношения со своими сообщниками и оттуда же, наконец, или, по крайней мере, из окрестностей они стараются созвать тайные и мятежные сходки, которые еще и в эту минуту полиции приходится разгонять. Если бы их оставили вместе с врагами родины в вертепе заговорщиков, это значило бы не думать об общественной безопасности и о безопасности верных присяге депутатов“. Совет пятисот назначил комиссию, составленную из Сьейеса, Пулен-Гранпре, Вийо, Шазаля и Булэ (из департамента Мерты), и возложил на нее обязанность представить ему закон общественного спасения. Этот закон был, без сомнения, прежней мерой остракизма; только в этот второй период революции и Директории ссылка заменила собой эшафот.
Из Совета пятисот к ссылке приговорены были: Обри, Ж. Ж. Эме, Байар, Блен, Буасси д'Англа, Борн, Бурдон (из Уазы), Кадруа, Кушери, Делае, Деларю, Думер, Дюмолар, Дюплантье, Жибер Демольер, Анри ла Ривьер, Эмбер-Коломе, Камиль Журдан, Журдан (из департамента Буш-дю Рон), Галль, Лакаррьер, Лемаршан-Гомикур, Лемерс, Мерсан, Мадье, Майяр, Ноайль, Андре, Мак-Картен, Пави, Пасторе, Пишегрю, Полиссар, Прэр-Муто, Катремер-де-Кенси, Саладен, Симеон, Вовилье, Вьено-Воблан, Вилларе-Жуаёз и Вийо. Из Совета старейшин: Барбе-Марбуа, Дюма, Ферро-Вайян, Лафон-Ладеба, Ломон, Мюрер, Мюринэ, Паради, Порталис, Ровер и Тронсон дю Кудре и из Директории: Карно и Бартелеми. Кроме того, были присуждены к изгнанию: аббат Бротье, Лавильернуа, Дюнан, бывший министр полиции Кошон, бывший чиновник полиции Доссонвилль, генералы: Миранда и Морган, журналист Сюар, бывший член Конвента Майль и капитан Рамель. Некоторым осужденным удалось избегнуть действия декрета об изгнании; Карно был в их числе. Большинство осужденных было отвезено в Кайенну, но многие не покинули острова Ре.
Директория широко распространила этот акт остракизма. Изгнанию были подвергнуты издатели тридцати пяти газет. Директория хотела поразить сразу всех врагов республики — в Советах, в прессе, в выборных собраниях, департаментах, — словом, повсюду там, куда они сумели проникнуть. Были признаны недействительными результаты выборов в сорока восьми департаментах, отменены законы, благоприятные для священников и эмигрантов, и вскоре исчезновение всех тех, кто после девятого темидора господствовал в департаментах, привело к восстановлению власти побежденной республиканской партии. Государственный переворот восемнадцатого фрюктидора не был чисто верхушечным, как это было с вандемьерской победой — он покончил со всей роялистской партией, которая предыдущим поражением была всего лишь ослаблена. Но, снова заменив законное правительство диктатурой, он сделал необходимой другую революцию, о которой вскоре и стали поговаривать.
Можно сказать, что 18 фрюктидора V года Директория должна была восторжествовать над контрреволюцией, взяв верх над Советами, или Советы восторжествовать над республикой, свергнув Директорию. Раз так поставить вопрос — остается только решить: 1) могла ли Директория победить без помощи государственного переворота, 2) не злоупотребила ли она своей победой?
Правительство не имело права распускать Собрание. Тотчас после революции, имеющей целью установление одного высшего права, нельзя было отдать второстепенной власти контроль над народным господством и подчинить в некоторых случаях Законодательный корпус Директории. За отсутствием этой уступки практической политики, какое еще средство оставалось Директории для изгнания врага из самого сердца государства? Не будучи более в состоянии защищать революцию силой закона, у нее не было другого средства, кроме диктатуры, но, прибегнув к ней, она нарушила правила справедливости, бывшие до тех пор условиями ее существования, и, спасая дело революции, она погубила самое себя.
Что же касается победы, то Директория запятнала ее жестокостью. Ссылка, мера одинаково гнусная, как и незаконная, была распространена на слишком большое количество жертв; мелкие человеческие страсти примешались к защите государственного дела. И Директория не проявила той умеренности в произволе, которая единственно извиняет государственные перевороты. Ей бы следовало, для достижения своей цели, изгнать только главных заговорщиков; но так редко случается, чтобы партия не злоупотребила диктатурой; имея силу в руках, она обыкновенно считает всякую снисходительность опасной. Поражение 18 фрюктидора было для роялистской партии по счету четвертым, — два были понесены ею при отнятии у нее власти 14 июля и 11 августа, другие два, когда она старалась вернуть власть — 13 вандемьера и 18 фрюктидора. Это повторение бессильных попыток и продолжительных неудач в достаточной мере способствовало покорности роялистов во время Консульства и империи.
Глава XIII От 18 фрюктидора V года (4 сентября 1797 г.) по 18 брюмера VIII года (9 ноября 1799 г.)
Директория возвращается, благодаря 18 фрюктидора, к революционному, немного смягченному правительству. — Всеобщий мир со всей Европой, за исключением Англии. — Возвращение Бонапарта в Париж; Египетский поход. — Демократические выборы VI года, Директория их уничтожает 22 флореаля. — Вторая коалиция: Россия, Австрия и Англия нападают на республику со стороны Италии, Швейцарии и Голландии; повсеместные поражения. — Демократические выборы VII года; 30 прериаля Советы берут верх и реорганизуют прежнюю Директорию. — Две партии в составе новой Директории и Советов; партия умеренных республиканцев во главе со Сьейесом, Роже-Дюко (Совет старейшин); партия крайних республиканцев, под предводительством Мулена, Гойе (Совет пятисот и общество Манежа) — Различные планы их. — Победа Массена в Швейцарии и Брюна в Голландии. — Бонапарт возвращается из Египта и входит в соглашение со Сьейесом и его партией. — Дни 18 и 19 брюмера. — Конец директориального режима.
Главным последствием 18 фрюктидора было возвращение революционного правительства, немного, впрочем, смягченного. Оба бывших привилегированных класса были вновь выброшены из общества; мятежное духовенство подверглось вторичному изгнанию. Шуаны и прежние бежавшие роялисты, господствовавшие в департаментах, уступили поле битвы старым республиканцам; все входившие в состав военной свиты Бурбонов высшие правительственные чиновники, члены парламентов, кавалеры орденов Св. Духа, Св. Людовика, мальтийские рыцари, одним словом, все, протестовавшие против уничтожения дворянства и сохранившие свои титулы, должны были покинуть республику. Бывшие дворяне и все возведенные в дворянство не могли получать право гражданства ранее семи лет, когда они докажут на опыте в некотором роде свою способность быть французами. Таким образом, победившая партия, желая достигнуть господства, вернула диктатуру со всеми ее достойными осуждения насилиями.
В это время Директория достигла наивысшего своего могущества; некоторое время у нее не было ни одного врага вполне наготове. Освободившись от внутреннего противодействия, она заключила Кампоформийским договором континентальный мир с Австрией и вела в том же направлении переговоры с империей на Раштаттском конгрессе. Кампоформийский договор был более выгоден для венского кабинета, чем предварительные условия в Леобене. Ему было заплачено за потерю бельгийско-ломбардских владений частью венецианских провинций; эта древняя республика была разделена: Франция сохранила за собой Иллирийские острова и отдала Австрии город Венецию, истрийские провинции и Далмацию. Директория этим разделением допустила громадную ошибку и даже совершила настоящее преступление. Можно из фанатической привязанности к известной системе желать освободить ту или другую нацию, но никогда нельзя ее отдавать во власть кого-либо. Распределяя произвольно между различными государствами территорию маленького государства, Директория тем подала дурной пример торговли народами, и пример этот нашел многочисленных последователей. К тому же господство Австрии, благодаря безрассудной уступке Венеции, должно было рано или поздно распространиться на всю Италию.
Коалиция 1792–1793 гг. распалась, — воюющей державой оставалась одна Англия; лондонский кабинет, нападавший на Францию, надеясь ее тем ослабить, вовсе не был расположен уступить ей Бельгию, Люксембург, левый берег Рейна, Порантрюи, Ниццу, Савойю и протекторат над Генуей, Миланом и Голландией. Однако ему надо было успокоить свою внутреннюю оппозицию и подготовить новые способы нападения; он стал вести мирные переговоры и послал лорда Мальмесбери в качестве полномочного министра сперва в Париж, потом в Лилль. Но предложения Питта были совсем неискренни, и Директория не позволила провести себя дипломатическими хитростями. Переговоры были два раза прерываемы, и война между двумя государствами продолжалась. Одновременно с переговорами в Лилле Англия приготовляла в России Тройственный союз, или вторую коалицию.
Директория, со своей стороны, без денег, без внутренней партийной поддержки, не имея другой опоры, кроме армии, и другого блеска, кроме возможного при продолжении ее побед, была не в состоянии согласиться на всеобщий мир. Она и так увеличила недовольство собой установлением некоторых налогов и уменьшением государственного долга до одной консолидированной трети; только эта треть уплачивалась звонкой монетой, что совершенно разоряло богатых. Война нужна была для поддержки Директории. Опасно было распускать по домам громадное количество солдат. Не говоря уже о том, что Директория лишилась бы таким образом своей силы и предоставила бы Францию во власть Европы, ей пришлось бы совершить дело, проходящее без потрясений только во времена чрезвычайного спокойствия и развития благосостояния и труда. Такое положение Директории побуждало ее ко вторжению в Швейцарию и к экспедиции в Египет.
В это время Бонапарт вернулся в Париж; как победитель Италии и умиротворитель континента, он был встречен партией Директории с вынужденным восторгом, а народом с восторгом совершенно искренним. Ему оказали такие почести, каких не получал ни один генерал республики. В Люксембурге воздвигли „алтарь отечества“, и победитель Италии, отправляясь на празднества, героем которых он был, проходил под навесом из знамен, отнятых у итальянцев. Баррас, президент Директории, приветствовал его и, поздравив с победами, побуждал „увенчать такую прекрасную жизнь победой, которая удовлетворила бы оскорбленное достоинство великой нации“. В этой речи был намек на завоевание Англии. Все, казалось, было готово для высадки, на деле же имелось в виду вторжение в Египет.
Подобное предприятие удовлетворяло как Директорию, так и Бонапарта. Независимое поведение этого генерала в Италии, его честолюбие, прорывавшееся внезапно сквозь искусственную простоту, делали его присутствие крайне опасным; он боялся, в свою очередь, испортить бездействием высокое мнение, составленное уже о нем; люди всегда требуют многого от тех, кого сами признали великими, и заставляют их постоянно эту славу поддерживать. Таким образом, в то время, когда Директория видела в Египетской экспедиции возможность удалить внушающего опасения генерала, а также надежду напасть на Англию через Индию, — Бонапарт видел в ней гигантский замысел, подвиг по своему вкусу и новое средство удивить мир. Бонапарт тронулся в путь из Тулона тридцатого флореаля V года (19 мая 1798 г.) с флотом численностью в 450 судов и частью Итальянской армии; подплыв к Мальте, он овладел ею, а отсюда повернул к Египту.
Директория, решившаяся, чтобы добраться до Англии, нарушить нейтралитет Оттоманской Порты, уже нарушила его в Швейцарии, с целью изгнания с ее территории эмигрантов. Французские политические убеждения проникли уже в Женеву и в кантон Во, но политика Швейцарского союза, находившаяся под влиянием бернской аристократии, была им совершенно враждебна. Швейцарцы, выказавшие себя сторонниками Французской Республики, были изгнаны из всех кантонов. Берн стал главным местом собрания французских эмигрантов, и там составлялись всякие заговоры против революции. Директория жаловалась на это, но не получила никакого удовлетворения. Жители Во, поставленные прежними договорами под покровительство Франции, призвали ее на помощь против тирании Берна. Этот призыв, личные обиды, желание распространить республиканско-директориальную систему больше, чем желание завладеть небольшой бернской казной, в чем ее неосновательно упрекали, послужили поводом к вторжению в Швейцарию. Переговоры ни к чему не привели, и началась война. Швейцарцы защищались с большой смелостью и упорством, надеясь тем возродить времена своих предков, но в конце концов были побеждены. Женева была присоединена к Франции, и Швейцария переменила свое старинное государственное устройство на Конституцию III года. С этого времени здесь стали действовать две партии: одна, стоявшая за Францию и революцию, другая — за контрреволюцию и Австрию, Швейцария перестала быть общей преградой и стала большой дорогой в Европу.
За этой революцией последовала такая же в Риме. Во время мятежа в Риме был убит генерал Дюфо; в наказание за это преступление, которому папское правительство нисколько не противодействовало, Рим был обращен в республику. Все это усиливало систему Директории и давало ей перевес над Европой; она видела себя во главе республик; Гельветической, Батавской, Лигурийской, Цизальпинской и Римской, устроенных все по одному и тому же образцу. Но в то время, как Директория распространяла свое влияние вне страны, внутренние партии во Франции снова стали угрожать ей.
Выборы, произведенные во флореале VI года (май 1798 г.), не были благоприятны для Директории; они были произведены совсем в другом духе, чем выборы V года. Начиная с 18 фрюктидора, удаление врагов революции возвратило все влияние крайней республиканской партии, вновь устроившей под именем конституционных кружков свои клубы. Эта партия главенствовала в избирательных собраниях, которым предстояло выбрать, вопреки обыкновению, четыреста тридцать семь депутатов: двести девяносто восемь в Совет пятисот и сто тридцать девять в Совет старейшин. При приближении выборов Директория много агитировала против анархистов, но так как ее воззвания не могли предупредить демократических избраний, то она — в силу временного закона, которым Советы после восемнадцатого фрюктидора дали ей право обсуждать действия избирательных собраний, решила этих выборов не признавать, для того она пригласила посланием Законодательный корпус назначить комиссию из пяти человек. Двадцать второго флореаля большая часть выборов была признана недействительными. Партия Директории этим поразила крайних республиканцев точно так, как девять месяцев назад она поразила роялистов.
Директория хотела поддержать политическое равновесие, характеризовавшее ее первые два года. Но теперь ее положение сильно изменилось. Со времени последнего государственного переворота она не могла больше оставаться беспартийным правительством, потому что перестала быть конституционным. Своим желанием остаться изолированной она возбудила всеобщее неудовольствие; однако, она существовала еще, таким образом, до выборов VII года. Директория проявляла много деятельности, но слишком узкой и суетливой. Мерлен (из Дуэ) и Трейяр, заменившие Карно и Бартелеми, оба были политическими адвокатами. Рёбель, обладая в высшей мере решительностью государственного человека, не имел нужных широких взглядов. Ларевельер-Лепо слишком много, для главы правительства, занимался сектой теофилантропов. Что касается Барраса, он по-прежнему вел распущенную жизнь и нес на себе представительство Директории: его дворец был местом сборища игроков, веселых женщин и всевозможных аферистов. Управление директоров страдало от их личных характеров, но особенно от их положения, к затруднениям которого скоро пришлось еще прибавить войну со всей Европой.
В то время, как полномочные послы республики вели с империей переговоры о мире в Раштатте, начала свои действия вторая коалиция. Кампоформийский договор был для Австрии только прекращением военных действий на время. Англии не составило никакого труда вовлечь ее в новую коалицию; большинство европейских держав, исключая Пруссию и Испанию, приняли в ней участие. Денежная помощь английского кабинета и приманка вторжения на запад заставили Россию примкнуть к коалиции; Порта и Варварские государства примкнули к ней ввиду вторжения французов в Египет; империя, чтобы возвратить себе левый берег Рейна, а мелкие итальянские князья — чтобы уничтожить только что возникшие республики. Пока в Раштатте обсуждали договор с империей об уступке левого берега Рейна, плавании судов по этой реке и о срытии некоторых крепостей на правом берегу, — русские вторглись в Германию, и Австрийская армия двинулась в поход. Французские уполномоченные, захваченные врасплох, получили приказ выехать в 24 часа; они тотчас же повиновались и отправились в дорогу, получив предварительно охранные грамоты для беспрепятственного проезда через неприятельскую линию. На некотором расстоянии от Раштатта их остановили австрийские гусары и, уверившись в их фамилиях и звании, убили их. Бонье и Робержо были убиты до смерти, Жак де Бри был брошен смертельно раненым. Это неслыханное нарушение международного права, это предумышленное убийство трех людей, облеченных священным званием послов, возбудило всеобщий ужас. Законодательный корпус объявил войну, мотивируя ее негодованием к правительствам, на которые падало это неслыханное преступление.
Враждебные действия начались сразу же и в Италии, и на Рейне. Директория, предупрежденная о движении русских войск и подозревая намерения Австрии, провела через Советы закон о рекрутском наборе. Военная конскрипция доставила в распоряжение республики двести тысяч молодежи. Этот закон, имевший неисчислимые последствия, явился результатом более правильного порядка вещей. Всеобщее ополчение было революционной службой отечеству, — рекрутский набор стал ему службой законной.
Наиболее нетерпеливые державы, составляющие авангард коалиции, тотчас же открыли военные действия. Неаполитанский король двинулся на Рим, а сардинский выставил войска, угрожая Лигурийской Республике. Они не были, однако, в силах выдержать напор французских войск, были без труда побеждены и лишены своих владений. Генерал Шампьоне занял Неаполь после кровавой победы. Лаццарони защищались внутри города в продолжение трех дней; в конце концов они пали, и была провозглашена Партенопейская Республика. Генерал Жубер занял Турин; вся Италия оказалась в руках французов; началась новая кампания.
Коалиция превосходила республику наличными силами и резервами; она напала на Францию с трех сторон: в Италии, Швейцарии и Голландии. Сильная Австрийская армия проникла в Мантуанскую область, два раза разбила Шерера при Адидже и вскоре соединилась с причудливым и до того времени непобедимым Суворовым. Шерер был заменен генералом Моро; он действовал более энергично и продолжал отступление к Генуе, чтобы охранять линию Апеннин и соединиться с Неаполитанской армией, бывшей под начальством Макдональда, разбитого при Требии. Австрийцы и русские тогда перенесли свои главные силы в Швейцарию. Несколько русских корпусов соединились с герцогом Карлом, разбившим Журдана на верхнем Рейне и намеревавшимся вторгнуться в пределы Гельветической Республики. В то же время герцог Йоркский высадился в Голландии с сорока тысячами англичан и русских. Мелкие республики, находившиеся под покровительством Франции, были заняты, и, благодаря нескольким новым победам, союзники могли вторгнуться в самый центр революции.
Во время этих военных поражений и неудовольствий партий прошли выборы флореаля VII года (май 1799 г.), они были вполне республиканскими, как и выборы предыдущего года. Но Директория не чувствовала себя теперь достаточно сильной, чтобы противостоять общественным бедствиям и нападкам партий. Очередной выход Ребеля, которого заменил Сьейес, заставил Директорию потерять единственного человека, способного справиться с бурей, и ввел в ее среду ярого противника этого скомпрометированного и расслабленного правительства. Умеренные и крайние республиканцы соединились вместе, чтобы потребовать отчета от директоров относительно внутреннего и внешнего положения республики. Совет объявил свои заседания непрерывными. Баррас покинул своих товарищей. Ярость Советов была направлена только против Трейяра, Мерлена и Ларевельера-Лепо, составляющих опору прежней Директории. Они отрешили от должности Трейяра, на основании того, что не прошло еще года, как требовала конституция, между участием его в Законодательном корпусе и выборами в Директорию. Бывший министр юстиции Гойе был тотчас же избран на его место.
Ораторы Советов страшно напали тогда на Мерлена и Ларевельера-Лепо; отставить их они не имели законного повода и потому приложили все усилия, чтобы принудить их самих подать в отставку. Ввиду этих угроз директора послали в Совет оправдательные письма и предложили им мир. 30 прериаля республиканец Бертран (из Кальвадоса) взошел на трибуну и, рассмотрев предложения директоров, воскликнул: „Вы предлагаете союз, а я вам советую подумать, можете ли вы сами долее оставаться в ваших должностях? Если вы по-настоящему любите республику, вы не будете колебаться в своем решении. Вы не в состоянии делать добро; вы никогда не получите доверия ни своих товарищей, ни народа, ни представителей его, а без него вы не сможете заставить исполнять законы. В Директории благодаря конституции, как я знаю, уже существует большинство, пользующееся доверием народа и национального правительства. Чего еще ждете вы, чтобы ввести единодушие намерений и принципов между двумя основными властями республики? Вы не обладаете доверием даже тех подлых льстецов, которые вырыли вам политическую могилу! Кончайте вашу карьеру делом самоотвержения, и его оценят все добрые сердца республиканцев“.
Мерлен и Ларевельер-Лепо, лишенные поддержки правительства благодаря выходу Рёбеля, отставке Трейяра и измене Барраса, понуждаемые требованием Советов и патриотическими соображениями, уступили обстоятельствам и отказались от директориальной власти. Эта одержанная соединенными усилиями республиканцев и умеренных победа послужила на пользу и тем, и другим. Первые провели в Директории генерала Мулена, вторые — Роже-Дюко. День 30 прериаля (18 июня), расстроивший прежнее правительство III года, дал, таким образом, Советам возможность отомстить Директории за 18 фрюктидора и 22 флореаля. При этом обе основные власти в государстве нарушили, каждая в свою очередь, конституцию: Директория — посягнув на неприкосновенность Законодательного собрания, а оно, со своей стороны, изгнав некоторых членов Директории. Образ правления, которым недовольны были все партии, вполне понятно, не мог иметь продолжительного существования.
После успехов 30 прериаля Сьейес работал над разрушением остатков правительства III года, чтобы восстановить законный порядок на других основаниях. Это был человек своенравный и большой систематик, и он обладал верным взглядом на положение дел. Он вошел в революцию в страшную эпоху, с намерением укрепить ее прочным государственным устройством. Он способствовал великим переменам 1789 г. своим предложением 17 июня преобразовать Генеральные штаты в Национальное собрание и своим планом внутреннего устройства, заменившим провинции департаментами; весь промежуточный период он прожил пассивно и не вмешиваясь в политические дела. Он ожидал, чтобы время национальной обороны вновь уступило место созидательной работе. Во время Директории он был назначен посланником в Берлин, и ему приписывали нейтральную поддержку Пруссии. После своего возвращения он согласился принять должность директора, от чего ранее долго отказывался; принял он ее потому, что Рёбель вышел из состава правительства, и потому, что считал партии достаточно утомленными, чтобы предпринять окончательное умиротворение и установление свободы. С этим намерением он опирался в Директории на Роже-Дюко, в Законодательном собрании на Совет старейшин, вне правительства на массу умеренных людей и на средний класс; прежде этот класс желал, как нечто новое, законности, а теперь, тоже как чего-то нового, отдыха. Эта партия искала твердого, уверенного правительства, не имевшего ни прошлого, ни врагов, могущего удовлетворить всяким убеждениям и всем интересам. Все, что было совершено с 14 июля по 9 термидора народом, сообща с частью правительства, совершалось, начиная с 13 вандемьера, солдатами, и поэтому Сьейесу необходим был генерал: он обратил свои взоры на Жубера, и он был поставлен во главе Альпийской армии, дабы победами и освобождением Италии он приобрел большее политическое значение.
Между тем Конституция III года еще поддерживалась двумя директорами, Гойе и Муленом, Советом пятисот и вне правительства партией Манежа. Крайние республиканцы собирались в клубе в той самой зале, где заседало первое из Законодательных собраний. Новый клуб, образованный перед 18 фрюктидора из остатков Сальмского, существовавшего при начале Директории, из Пантеона, работавшего и славного общества якобинцев, проповедовал с жаром мнения республиканские, но вовсе не демократические, принадлежавшие низшему классу. Каждая из двух партий имела своих членов в министерстве, обновленном в одно время с Директорией. Министром юстиции был Камбасарес, внутренних дел — Кинетт; Рейнар во время министерского междуцарствия перед назначением Талейрана временно исполнял должность министра иностранных дел; министром финансов был Робер Ленде; морским — Бурдон (из Ватри), военным — Бернадотт; министром полиции был Бургиньон (из Нанта), вскоре замещенный Фуше. На этот раз Баррас занял нейтральное положение между двумя сторонами Законодательного корпуса, Директорией и министерством. Видя, что дело клонится к более значительному перевороту, чем переворот 30 прериаля, он, как бывший дворянин, думал, что погибель республики повлечет за собой возвращение Бурбонов, и вел переговоры с претендентом, Людовиком XVIII. При этом, по-видимому, ведя переговоры о восстановлении монархии через своего агента Давида Монье, он не забывал и самого себя. Баррас не держался никаких убеждений, а всегда становился на сторону партии, имеющей наибольшие шансы успеха. Будучи монтаньяром-демократом 31 мая, монтаньяром-реакционером 9 термидора, революционным директором и противником роялистов 18 фрюктидора, крайним республиканским директором и противником своих прежних товарищей 30 прериаля, — ныне он стал директором-роялистом — противником правительства III года.
Партия, оробевшая после 28 фрюктидора и заключения континентального мира, вновь приободрилась. Военные успехи новой коалиции, жестокий закон о принудительном займе и насильственный закон о заложниках, заставлявший каждое эмигрировавшее семейство дать гарантию правительству, — принудили роялистов на юге и западе взяться за оружие. Они появлялись шайками, становящимися день ото дня все более опасными, и начали мелкую, но опустошительную войну шуанов. Они ждали прихода русских и надеялись на близкую реставрацию монархии. Наступил момент, удобный для новых исканий всех партий. Каждая из них желала получить наследство после находящейся на последнем издыхании конституции; повторялось то, что уже можно было видеть при конце заседаний Конвента. Во Франции все имеют какое-то политическое чутье и при помощи его угадывают приближение смерти правительства, и все партии приходят за добычей.
К счастью для республики, война приняла другой оборот на двух границах — на верхнем и нижнем Рейне. Союзники, завладев Италией, захотели вторгнуться во Францию через Швейцарию и Голландию, но генералы Массена и Брюн остановили их до сих пор победоносное движение. Массена двинулся против Корсакова и Суворова. В двенадцать дней искусными комбинациями и рядом побед, переходя по очереди от Констанца до Цюриха и обратно, он отразил все усилия русских, принудил их к отступлению и расстроил коалицию. Брюн разбил также герцога Йоркского в Голландии, заставил его вернуться на суда и отказаться от своей попытки вторжения. Одна Итальянская армия была менее счастлива. Она потеряла своего генерала Жубера, убитого в сражении при Нови, где он имел дело с австрийцами и русскими. Но эта граница, удаленная от центра движения, осталась незанятой неприятелем, несмотря на поражение при Нови, и Шампьоне искусно защищал ее. Вскоре ее должны были перейти республиканские войска; они при каждом возобновлении войны испытывали поражения, а затем быстро обретали свое превосходство и начинали побеждать. Европа, давая своими частыми нападениями только больше упражнений для военных сил, делала их с каждым разом все более способными не только к отражению, но и к нападению.
Внутри государства, однако, ничего не изменилось. Распри, неудовольствие и раздражение остались все те же. Только борьба между умеренными и крайними республиканцами выразилась еще яснее. Сьейес продолжал действовать против этих последних сообразно своим ранее выработанным планам. Он восстал против якобинцев на Марсовом поле в годовщину 10 августа. Люсьен Бонапарт, имевший благодаря своему характеру, своим способностям и военному значению победителя Италии и Египта большое влияние в Совете пятисот, изобразил в этом собрании ужасающую картину террора и сказал, что Франции угрожает возвращение его. Почти в то же время Сьейес отставил от должности Бернадотта, а Фуше закрыл, с его согласия, собрания в Манеже. Толпа, от одного призрака прошлого пришедшая в ужас, стала на сторону умеренных, и крайние республиканцы, желавшие объявить „Отечество в опасности“, как при конце Законодательного собрания, не смогли этого выполнить. Сьейес тем временем, потеряв Жубера, искал генерала, способного понять его планы и защищать республику, не делаясь ее притеснителем. Гош уже больше года как умер; Моро заставил себя подозревать своим двусмысленным поведением относительно Директории перед 18 фрюктидора — внезапным доносом на своего старинного друга Пишегрю, измену которого он скрывал в продолжение целого года. Массена не годился в политические генералы, Бернадотт и Журдан принадлежали к партии Манежа, Сьейес не находил никого и откладывал свой план государственного переворота за неимением годного к тому человека.
Бонапарт узнал на Востоке от своего брата Люсьена и нескольких других друзей о положении дел во Франции и об упадке директориального правительства. Поход его был выполнен блестяще, и он овладел верхним и нижним Египтом. Разбив мамелюков и совершенно уничтожив их господство, он двинулся в Сирию; неудача при осаде Сен-Жан д'Акра заставила его, однако, вернуться к месту своих первых побед. Здесь, разбив Оттоманскую армию при Абукире, месте, бывшем роковым год назад для французского флота, он решил покинуть эту страну изгнания и славы, чтобы обратить новый кризис во Франции к своему возвышению. Он оставил главнокомандующим Восточной армии генерала Клебера и, не замеченный кишевшими там английскими кораблями, переплыл на фрегате Средиземное море. Он высадился во Фрежюсе 17 вандемьера VII года (9 октября 1799 г.), через девятнадцать дней после победы при Бергене, одержанной Брюном над англо-русской армией герцога Йоркского, и четырнадцать дней спустя после Цюрихской победы, одержанной Массена над австрийцами и русскими, бывшими под начальством Корсакова и Суворова. Он проехал всю Францию от Средиземного моря до Парижа как триумфатор. Его почти баснословный поход заставлял удивляться и давал пищу воображению, прибавляя ему славы, уже и так значительной благодаря его победам в Италии. Эти два похода поставили его выше всех других генералов республики. Отдаленность места его военных действий дала ему возможность начать свою карьеру в полной независимости и при обладании крупной властью. Победоносный генерал, полномочный и властный посредник, творец республик, он ловко обходился со всевозможными интересами и умеренно со всеми убеждениями. Издали подготовляя свои честолюбивые замыслы, он не придерживался никакой определенной партии; чтобы возвыситься с их согласия, искусно управлял ими всеми. О захвате власти он стал мечтать еще со времени своих итальянских побед. 18 фрюктидора, если бы Директория была побеждена Советами, он предполагал двинуть свою армию против этих последних и захватить протекторат над республикой. После 18 фрюктидора, видя, что Директория еще сильна, а бездействие в Европе слишком для него опасно, он согласился на Египетскую экспедицию, чтобы не быть забытым. При вести о поражении Директории 30 апреля он поспешно явился на место событий.
Его приезд возбудил восторг умеренной части нации; он получал всеобщие поздравления, и все партии, дорожа им, старались привлечь его на свою сторону. Генералы, директора, депутаты, даже республиканцы Манежа являлись к нему и зондировали почву. Ему задавали праздники и обеды; он держался на них с достоинством, но просто, без излишнего заискивания и больше как наблюдатель; в нем была какая-то снисходительная вольность в обращении и невольная привычка властвовать. Несмотря на недостаток отзывчивости и искренности, он всегда имел самоуверенный вид, и, внимательно наблюдая его, можно было подметить заботу о заговоре. Не высказывая этого, он заставлял догадываться, ибо для того, чтобы дело было сделано, оно не должно быть неожиданным. Бонапарт не мог опереться на республиканцев Манежа, не желавших ни государственного переворота, ни диктатуры; а Сьейес вполне правильно боялся, что он для его конституционных планов слишком честолюбив. Ввиду этого Сьейес колебался вести с ним переговоры. Но потом, под влиянием общих друзей, он согласился на свидание с Бонапартом и сошелся с ним. 15 брюмера ими был выработан план нападения на Конституцию III года. Сьейес взял на себя обязанность приготовить к этому Советы через комиссии инспекторов, имевших к нему безграничное доверие. Бонапарт должен был привлечь на свою сторону генералов и различные части войск, находившихся в Париже и выражавших по отношению к нему много восторженности и преданности. Было решено созвать чрезвычайное собрание наиболее умеренных членов Советов, указать Совету старейшин на общественную опасность, потребовать от них, представив им ясно неизбежность восстановления якобинства, перемещения Законодательного корпуса в Сен-Клу и назначения генерала Бонапарта, как единственного человека, способного спасти родину, начальником военных сил; затем заговорщики полагали возможным достигнуть при помощи новой военной власти дезорганизации Директории и немедленного роспуска Законодательного корпуса. Дело было назначено на утро 18 брюмера (9 ноября).
В продолжение трех дней, с 15 до 18 брюмера, тайна была сохранена безусловно. Баррас, Мулен и Гойе, составлявшие большинство Директории, где Гойе был к тому же еще и президентом, могли бы предупредить заговорщиков, как это было 18 фрюктидора, и помешать государственному перевороту, но они полагали, что у Сьейеса и Бонапарта существуют более или менее отдаленные намерения и надежды, а не вот-вот приводимый в исполнение план. 18-го утром члены Совета старейшин были необычайным образом через инспекторов созваны на заседание; они отправились в Тюильри около семи часов утра и открыли заседание под председательством Лемерсье. Корне, Лебрен и Фарж, трое наиболее влиятельных в Совете заговорщиков, представили ужасающую картину общественного положения: они уверяли, что якобинцы, желая восстановить революционное правительство, возвращаются толпами в Париж изо всех департаментов: они указывали, что террор вновь опустошит республику, если у Совета не окажется достаточно мужества и разума предотвратить его возвращение. Другой заговорщик, Ренье из Мерты, потребовал от потрясенных членов Совета старейшин, чтобы во имя права, доверенного им конституцией, они перенесли заседание Законодательного корпуса в Сен-Клу и чтобы Бонапарту, уже назначенному начальником 17-й военной дивизии, было поручено выполнить это перенесение. Был ли весь Совет сообщником этого плана или был действительно поражен страхом после такого поспешного созыва заседания и таких ужасных речей, но только он согласился на все требования заговорщиков.
Бонапарт с нетерпением ждал в своем доме на улице Шантерен результатов этих прений; он был окружен генералами, начальником стражи Директории Лефевром и несколькими полками кавалерии, которым он должен был делать смотр. Декрет Совета старейшин, состоявшийся в 8 часов, был ему принесен в восемь с половиной часов особым посланным от правительства Он принял поздравления от всех составлявших свиту; офицеры обнажили свои шпаги в знак верности. Он стал во главе их и направился в Тюильри; он появился за решеткой Совета старейшин, дал присягу на верность и назначил своим помощником начальника директориальной гвардии Лефевра.
Однако это было только началом успехов. Бонапарт стал главой вооруженной силы, но исполнительная власть Директории и законодательная Советов еще существовали. В борьбе, которая должна была неукоснительно разыграться, Бонапарт не мог быть уверенным, что великая и до сих пор победоносная сила революции не победит его. Сьейес и Роже-Дюко отправились в Тюильри и подали в отставку. Баррас, Мулен и Гойе, предупрежденные, в свою очередь, о происшедшем, хотели захватить власть, полагаясь на свою гвардию, но она, получив от Бонапарта извещение о декрете Совета старейшин, отказалась им повиноваться. Растерявшийся Баррас подал в отставку и уехал в свое имение Гро-Буа. Директория была фактически разрушена, и одним противником в борьбе стало меньше. Совет пятисот и Бонапарт одни остались лицом к лицу.
Декрет Совета старейшин и прокламация Бонапарта были расклеены по всему Парижу. В этом большом городе было заметно волнение, всегда сопровождающее всякое чрезвычайное событие. Республиканцы, и не без основания, серьезно тревожились за свободу. Но когда они выражали опасения относительно замыслов Бонапарта, видя в нем Цезаря или Кромвеля, им отвечали следующими словами самого генерала: „Это дурные, истрепанные роли, недостойные даже просто умного человека, а не то что благонамеренного. Самая мысль о покушении на представительное правительство святотатственна в наш век просвещения и свободы. Только безумец с легким сердцем мог пожертвовать делом республики для роялизма, предварительно поддержав ее с некоторой даже славой и с некоторыми опасностями“. Однако же, значение, придаваемое Бонапартом себе самому в прокламациях, было дурным предзнаменованием. Он упрекал Директорию в дурном положении Франции тоном совершенно необычайным. „Что вы сделали, — говорил он, — с Францией, оставленной мной в таком блестящем положении? Я вам оставил мир, а нашел войну! Я вам оставил победы, а нашел поражения; я вам оставил итальянские миллионы, а нашел везде грабительские законы и нищету. Что вы сделали со ста тысячами французов, которых я знал, со всеми моими сподвижниками славы? Они мертвы… Такое положение дел не может длиться, — раньше чем через три года оно приведет нас к деспотизму“. В первый раз в продолжение десяти лет один человек все относил только к одному себе и требовал отчета от республики, как если бы она была его собственностью. Нельзя удержаться от изумления, видя, что новый пришелец революции один завладевает наследством, так трудолюбиво приобретенным целым народом.
19 брюмера члены Совета отправились в Сен-Клу; Сьейес и Роже-Дюко сопровождали Бонапарта на это новое поле сражения; они ехали в Сен-Клу с намерением поддержать планы заговорщиков. Сьейес, зная тактику революционеров, хотел, чтобы быть уверенным в результатах, арестовать на время предводителей крайней партии и допустить в Совет только умеренных его членов. Но Бонапарт не согласился на это. Он не принадлежал ни к какой партии; действуя и побеждая до сих пор только благодаря войску, он думал увлечь законодательные советы, как увлекал солдат, повелительным словом. Для собрания Совета старейшин была отведена галерея Марса, для Совета пятисот — оранжерея. Значительная военная сила окружала место заседания Законодательного корпуса, подобно тому как толпа 2 июня окружала Конвент. Республиканцы сходились группами в садах, ожидая начала заседаний; они кипели благородным негодованием против военного насилия, которым им угрожали, и сговаривались о том, как ему противодействовать. Молодой генерал в сопровождении нескольких гренадеров ходил по двору и по залам и, преждевременно выказывая свой характер, говорил, как бы чувствуя себя двадцатым королем известной династии: „Я не желаю больше заговоров, — с этим надо покончить, я их категорически не желаю“. Около двух часов дня Советы собрались в залы заседания при звуках музыки, игравшей „Марсельезу“.
Как только заседание открылось, один из заговорщиков, Эмиль Годен, взошел на кафедру Совета пятисот. Он предложил поблагодарить Совет старейшин за меры, им принятые, и предложить ему выяснить средства, необходимые для спасения республики. Это предложение было знаком к ужасающему беспорядку; со всех сторон зала раздались крики против Годена. Республиканские депутаты осадили трибуну и стол президиума, за которым сидел Люсьен Бонапарт. Заговорщики: Кабанис, Буле из Мерты, Шазаль, Годен и другие на своих местах побледнели. После долгого волнения, во время которого никто не мог заставить себя выслушать, водворилась на мгновение тишина, и Дельбре предложил возобновить присягу Конституции III года. Ни один голос не поднялся против этого предложения, приобретшего особую важность в подобных обстоятельствах; присяга была принесена единодушно и восторженно, и это очень смутило заговорщиков.
Бонапарт, извещенный о происшедшем в Совете пятисот и видевший крайнюю опасность быть отставленным от должности и потерпеть поражение, явился в Совет старейшин. Его ждала гибель, если бы этот последний, сочувствовавший заговору, был увлечен порывом Совета пятисот. „Представители народа, — сказал он, — вы находитесь в необыкновенном положении, вы стоите на вулкане. Вчера, когда вы меня вызвали для сообщения декрета о перемещении заседаний и поручили мне выполнить его, я был спокоен. Я тотчас же собрал своих товарищей, и мы бросились к вам на помощь. И что же? Сегодня меня осыпают клеветами, говорят о Цезаре, о Кромвеле, о военном правительстве! Если бы я захотел угнетать свободу моей родины, я не исполнил бы данных вами приказаний, мне не к чему было бы принимать власть из ваших рук. Клянусь вам, представители народа, у отечества нет более усердного защитника, чем я, и на вас одних покоится его спасение. Правительство больше не существует, четыре директора подали в отставку, пятый (Мулен) для своей безопасности находится под надзором. Совет пятисот распался на партии, остался только Совет старейшин. Он должен принять меры, он должен говорить; я нахожусь здесь, чтобы исполнять его повеления. Спасем свободу, спасем равенство!“ Тогда поднялся член республиканской партии Ленгле и сказал: „Генерал, мы рукоплещем всему, что вы сказали; поклянитесь вместе с нами в повиновении Конституции III года, как единственно способной поддержать республику“. Если бы это предложение было принято здесь, как в Совете пятисот, то все было бы потеряно для Бонапарта. Оно изумило собрание, и Бонапарт был на мгновение сбит с позиции. Но он быстро овладел собой. „У вас нет больше, — сказал он, — Конституции III года, вы ее нарушили и 18 фрюктидора, и 22 флореаля, и, наконец, 30 прериаля. Конституция? На нее ссылаются все партии и все нарушают ее; она не может спасти вас, так как ее никто больше не уважает; конституция нарушена, — нужен другой договор, нужны новые гарантии“. Совет рукоплескал сделанным ему Бонапартом упрекам и поднялся в знак одобрения. Бонапарт, обманутый таким легким успехом своих действий в Совете старейшин, думал, что одним своим присутствием успокоит бурный Совет пятисот. Он туда отправился во главе нескольких гренадеров, оставил их у двери собрания, но внутри зала, и один вышел вперед с непокрытой головой. При появлении солдат весь Совет поднялся внезапным движением. Законодатели, думая, что появление их служит сигналом военного насилия, воскликнули: „Долой диктатора! Объявить его вне закона!“ Множество членов бросаются навстречу Бонапарту, и республиканец Бигоне схватывает его за руки. „Что делаете вы, — говорит он ему, — дерзкий! Удалитесь; вы нарушаете святость законов“. Бонапарт побледнел, задрожал и отступил, сопровождаемый гренадерами.
Удаление Бонапарта не прекратило смятения и волнения Совета. Все его члены говорили разом, все предлагали меры общественного спасения и обороны. Люсьена Бонапарта осыпают упреками; он робко оправдывает своего брата. После долгих усилий ему удается взойти на трибуну, чтобы пригласить Совет судить его брата с меньшей строгостью. Он уверяет, что у него не было никакого враждебного свободе плана; он вспоминает об его заслугах. Ему со всех сторон отвечали возгласами: „Он потерял сейчас всю их ценность! Долой диктатора! Долой тиранов!“ Смятение становится ужасающим более чем когда-либо, и со всех сторон раздаются требования объявить генерала Бонапарта вне закона. „Как, — говорит Люсьен, — вы хотите, чтобы я сам объявил вне закона своего брата?“ — „Да, да, вне закона! Вот участь тиранов!“ И среди смятения было сделано и пущено на голоса предложение — объявить заседания Совета непрерывными, тотчас перенести заседания обратно в Париж, заставить войска, собранные в Сен-Клу, войти в состав стражи Законодательного корпуса, а командование над ними вручить генералу Бернадотту. Люсьен, ошеломленный всеми этими предложениями и объявлением брата вне закона, которое он считал принятым вместе с другими, сошел с председательской трибуны на свое место и сказал в сильном волнении: „Так как я не могу заставить себя выслушать в этом зале, я с глубоким чувством оскорбленного достоинства слагаю знаки народной магистратуры“. При этих словах он снял свою тогу, свой плащ и шарф.
Бонапарту, по выходе из Совета пятисот, нужно было некоторое усилие, чтобы оправиться от своего смущения. Малоподготовленный к народным сценам, он был сильно потрясен. Офицеры окружили его, и Сьейес, более привыкший к революции, посоветовал, не теряя времени, употребить военную силу. Генерал Лефевр тотчас же отдал приказ вывести Люсьена из Собрания. Отряд вошел в зал заседаний, направился к креслу, занимаемому Люсьеном, взял его в свои ряды и вернулся с ним к войскам. Как только Люсьен вышел из Собрания, он сел на лошадь, присоединился к своему брату и, хотя и сложивший свое законное звание, он все-таки обратился к войскам как президент. По соглашению с Бонапартом он сказал, что на генерала в Совете пятисот были подняты кинжалы, а затем воскликнул: „Граждане солдаты, президент Совета пятисот вам объявляет, что громадное большинство этого Совета находится сейчас под страхом нескольких представителей, вооруженных кинжалами, осаждающих трибуну, угрожающих смертью своим товарищам и принимающих самые ужасные решения!.. Генерал, солдаты, граждане, вы признайте французскими законодателями только тех, кто соберется вокруг меня. Что касается других, кто останется в Оранжерее, то пусть их силой изгонят оттуда. Эти разбойники перестали быть представителями народа и стали представителями кинжала!“ После этой яростной провокации, которой Люсьен натравливал войска против того Собрания, званием президента которого он прикрывался, произнес речь Бонапарт. „Солдаты, — сказал он, — я вас водил к победам, могу я теперь рассчитывать на вас?“ — „Да, да! Да здравствует генерал!“ — „Солдаты, можно было надеяться, что Совет пятисот спасет родину, а вместо того он предается междоусобным разногласиям; агитаторы ищут случая поднять его против меня! Солдаты, могу я рассчитывать на вас?“ — „Да, да! Да здравствует Бонапарт!“ — „Тогда я накажу их!“ И Бонапарт отдал нескольким высшим из окружающих его офицеров приказание очистить зал Совета пятисот.
Совет, с момента ухода Люсьена, был жертвой крайнего душевного беспокойства и величайшей нерешительности. Некоторые из членов предлагали выйти толпой и идти в Париж искать защиты среди народа. Другие хотели, чтобы национальное представительство не покидало своего поста и отнеслось бы презрительно к оскорблениям силой. Между тем толпа гренадеров вошла в зал, и командующий офицер объявил Совету приказание разойтись. Депутат Прюдон напомнил офицеру и солдатам об уважении к выборным народа; генерал Журдан представил им всю громадность подобного преступления. Некоторое время отряд оставался в нерешительности, но вот входит сомкнутой колонной подкрепление. Генерал Леклерк восклицает: „Именем генерала Бонапарта Законодательный корпус распущен; пусть верные граждане удалятся. Гренадеры, вперед…“ Подымаются со всех скамеек крики негодования, но их заглушают звуки барабанов. Гренадеры подвигаются вперед во всю ширину Оранжереи, медленно и выставив вперед штыки. Таким образом они гонят перед собой законодателей, восклицающих еще при выходе: „Да здравствует республика!“ В пять с половиной часов 19 брюмера VIII года (10 ноября 1799 г.) народное представительство перестало существовать.
Вот как произошло это нарушение закона, этот государственный переворот против правительства Собраний. Началось господство силы. 18 брюмера было 31 мая армии против представительства, и оно было направлено не против одной партии, но вообще против всей народной власти. Справедливость требует, однако, отделять 18 брюмера от его последствий. Тогда еще можно было думать, что армия только помощница революции, как это было уже 13 вандемьера и 18 фрюктидора, и что эта необходимая перемена не обратится в пользу одного только человека, — человека, скоро превратившего Францию в военную силу и заставившего весь мир, до сих пор волнуемый столь великим нравственным потрясением, прислушаться только к движению своих армий и всякому проявлению своей воли.
Консульство Глава XIV С 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) до 2 декабря 1804 г.
Надежды различных партий после 18 брюмера. — Временное правительство. — Конституция Сьейеса; она искажается в консульской Конституции VIII года. — Образование правительства; миролюбивые планы Бонапарта. — Итальянский поход: победа при Маренго. — Всеобщий мир; мир с континентальными державами — в силу Люневильского договора, с Англией — в силу договора Амьенского. — Слияние партий; внутреннее благосостояние Франции. — Честолюбие первого консула: он вновь восстановляет в 1801 г. при посредстве соглашения с папой государственное духовенство, он создает учреждением Почетного легиона военный орден и установлением пожизненного консульства дополняет этот порядок вещей. — Возобновление военных действий против Англии. — Заговор Жоржа Кадудаля и Пишегрю. — Война и заговоры роялистов служат предлогом к установлению империи. — Наполеон Бонапарт провозглашен наследственным императором и помазан папой 2 декабря 1804 г. в соборе Парижской Богоматери. — Постепенное отступление от революции. — Успехи абсолютной власти во время четырехлетнего Консульства.
18 брюмера приобрело громадную популярность; никто не видел в этом событии возвышения одной личности на счет народных Советов; никто тут не замечал, что оно было концом движения 14 июля, начавшего собой самобытное национальное существование. 18 брюмера рассматривали только как нечто обнадеживающее и восстановляющее. Хотя нация и чувствовала себя усталой и малоспособной защищать власть, пользование которой стало ей в тягость и которая с тех пор, как перешла в руки толпы, сделалась даже предметом насмешливого остроумия, однако она не верила в возможность возврата деспотизма и не видела никого, способного захватить исключительно в свои руки власть. Все ощущали потребность видеть восстановление общества искусной рукой, и Бонапарт оказался подходящим для этого в качестве великого человека и победоносного генерала.
Вот почему все, исключая директориальных республиканцев, высказались в пользу 18 брюмера. Нарушение законов и государственные перевороты против собраний были так часты во все продолжение революции, что о них судили не по законности их, а по достигнутым результатам. Все, начиная с партии Сьейеса и кончая роялистами 1788 г., радовались 18 брюмера и рассчитывали на будущие политические выгоды от этого переворота. Умеренные республиканцы надеялись, что свобода окончательно утвердится; роялисты, ошибочно сравнивая эту эпоху революции с 1660 г. Английской революции, баюкали себя надеждой, что Бонапарт возьмет на себя роль Монка и восстановит монархию Бурбонов. Малообразованная и желавшая только покоя масса рассчитывала на возвращение под могущественным протекторатом законного порядка; опальные классы и честолюбцы ожидали от Бонапарта или амнистии, или возвышения. В продолжение трех месяцев после 18 брюмера благожелательное отношение и ожидание всего хорошего было всеобщим. Было выбрано временное правительство из трех консулов: Бонапарта, Сьейеса и Роже-Дюко, а также две законодательные комиссии для выработки конституции и окончательного общественного уклада.
Консулы и обе комиссии начали свои действия 21 брюмера; это временное правительство отменило закон о заложниках и насильственном займе и позволило вернуться изгнанным после 18 фрюктидора священникам; оно освободило из тюрем и выслало из пределов республики эмигрантов, выброшенных бурей на берег близ Кале и четыре года пленниками во Франции ожидавших суровую кару, налагаемую за участие в военных действиях эмигрантов. Все эти меры были очень благосклонно приняты. Общественное мнение было зато весьма возбуждено чрезвычайными гонениями на крайних республиканцев. Простым приказом консулов, по докладу министра полиции Фуше, тридцать семь из них были приговорены к ссылке в Гвиану и двадцать один отданы под надзор полиции в департамент Нижней Шаранты. Люди, пораженные правительством, не были особенно любимы, но общественное мнение возмущалось против такой произвольной меры. Консулам пришлось отказаться от их решения, и они заменили ссылку простым надзором полиции, а затем уничтожили и его.
Возник, наконец, и разрыв между самими творцами 18 брюмера; он не произвел, однако, большого шума, так как происходил в среде законодательных комиссий. Причиной этого разлада была новая конституция. Сьейес и Бонапарт относительно нее не могли прийти к соглашению: один желал создать государственное устройство Франции, а другой — только полновластно управлять ею.
Проект Конституции Сьейеса, искаженный в консульской Конституции VIII года, достоин ознакомления с ним, хотя бы ввиду его курьезности{5}. Сьейес выделял Франции три уровня: общину, провинцию, или департаменты, и государство. Каждый из них имел свои административные и судебные власти, распределенные в иерархическом порядке: в общине — городское управление и мировой суд, в департаменте — народные префектуры и апелляционный суд, в государстве — центральное правительство и кассационный суд. Для назначения на различные должности в общине, департаментах или государствах имелось три списка известных лиц, т. е. людей, являвшихся кандидатами, выставленными народом.
Исполнительная власть сосредотачивалась в лице Великого электора (proclamateur-électeur), неответственного и бессменного чиновника, представителя нации во внешних сношениях, уполномоченного образовать правительство в форме государственного совещательного Совета и ответственного министерства. Великий электор выбирал по спискам кандидатов судей, как в мировой, так и в кассационный суд, и администрацию, начиная с мэров и кончая министрами. Но он лично не имел никакой власти: власть принадлежала министерству, а руководил ею Государственный совет.
Законодательная власть отдалилась здесь от до сих пор принятой формы; она перестала воплощаться в ведущем прения собрании, а получила некоторый судебный характер. Законодательное собрание не вырабатывало само законы, но утверждало или отвергало законодательные проекты, внесенные Государственным советом от имени правительства или Трибунатом от имени народа; принятый Собранием законопроект становился законом. Сьейес намеревался, как кажется, предотвратить возможность насильственного захвата власти различными партиями и, отдав верховную власть народу, в ней самой найти для нее границы: этим намерением объясняется вся сложность придуманного им политического механизма. Первоначальные собрания, состоящие из одной десятой части всего населения, составляли общинный список кандидатов. Избирательные коллегии, выбранные этими же собраниями, составляли, в свою очередь, из общинного списка список департаментских кандидатов и из него выбирали национальных кандидатов. Во всем, что касалось правительства, существовал взаимный контроль. Великий электор назначал чиновников из кандидатов, представляемых народом, и народ мог отставлять чиновников, исключая из своего списка кандидатов, а списки эти должны были быть возобновляемы: общинный каждые два года, департаментский — через каждые пять лет, а национальный через каждые десять лет. Великий электор не вмешивался совсем в назначение трибунов и членов Законодательного собрания. Эти учреждения были чисто демократическими.
Однако, чтобы установить противовес в среде самой законодательной власти, Сьейес разделил законодательную инициативу и разработку законов, принадлежавшие Трибунату, от утверждения их, составлявшего прерогативу Законодательного собрания. Кроме этого различия прав, Законодательный корпус и Трибунат различались и по способу избрания. Трибунат состоял из ста членов национального списка, получивших наибольшее число голосов, а в Законодательный корпус члены назначались из этого списка по выбору избирательных собраний. Трибуны, деятельность которых должна была быть более живой, шумной и более народной, выбирались пожизненно и крайне медленным процессом для того, чтобы они не были избраны во время раздражения страстей, как это случалось до сих пор с большинством собраний, с целями, враждебными существующему порядку. Такой опасности не могло быть в другом Законодательном собрании, призванном к спокойному и беспристрастному рассмотрению законов; его члены избирались быстрым путем и на время.
Наконец, как дополнение ко всем другим властям, существовал охранительный корпус, не имевший ни законодательной, ни исполнительной власти; его назначением было только способствовать правильному функционированию государственного механизма. Таким учреждением был конституционный суд присяжных, или Охранительный сенат. Он должен был быть для политических законов тем самым, чем кассационный суд для гражданских. Трибунат или Государственный совет апеллировали к нему, если постановление Законодательного корпуса не сообразовывалось с конституцией. Кроме того, Сенату давалась власть при помощи „права поглощения“ включать в свою среду слишком честолюбивого главу правительства или слишком популярного трибуна, а, будучи сенатором, невозможно было занять никакую другую должность. Таким образом, Сенат вдвойне следил за безопасностью республики, поддерживая основные законы и охраняя свободу от людского честолюбия.
Что ни думать об этой конституции, слишком, быть может, хорошо придуманной, чтобы быть удобоисполнимой, нельзя отрицать, что она свидетельствует о необыкновенной силе ума и содержит весьма остроумные комбинации. Сьейес мало, однако, брал в расчет человеческие страсти: он видел в людях слишком разумные существа и послушные орудия. Ему хотелось с помощью искусных ухищрений избежать заблуждений всех человеческих конституций и закрыть всякий доступ деспотизму, с какой стороны он бы ни шел. Я плохо верю в действенность конституции в такие времена, когда страсти партий мешают уважать законы и когда стремление к господству берет верх над духом свободы. Но если бы какая-нибудь конституция смогла бы подойти к своему времени, то ко Франции VIII года только Конституция Сьейеса.
После десятилетнего опыта, обнаружившего стремление к исключительному господству; после насильственного перехода от конституционалистов 1789 г. к жирондистам, от жирондистов к монтаньярам, от монтаньяров к реакционерам, от реакционеров к Директории, от Директории к Советам, а от них к военной силе, — только с помощью Конституции Сьейеса можно было добиться покоя в общественной жизни. Все устали от прежних уже обветшавших конституций. Сьейес же предлагал новую; никто дольше не желал господства исключительных людей, а эта конституция с ее системой препятствовала внезапному появлению контрреволюционеров, как это было при первых шагах Директории, или пламенных демократов, как это случилось в конце ее правления. Это была конституция людей умеренных, казавшаяся пригодной для заключения революции и основания господства народа. Но единственно потому, что это была конституция умеренных и что партии не обладали больше достаточным жаром, чтобы добиться господства, должен был найтись человек более сильный, чем побежденные партии и умеренные законодатели, который отказался бы от признания этой конституции или, приняв ее, исказил бы весь ее смысл. Так и случилось.
Бонапарт присутствовал на совещаниях Конституционного комитета; он ухватился своим инстинктом властолюбия в мыслях Сьейеса за все то, что могло послужить его планам, и отбросил все остальное. Сьейес ему предназначал должность Великого электора с шестью миллионами дохода, охраной в три тысячи человек, дворцом в Версале для жительства и всем внешним представительством республики. Действительная власть, однако, принадлежала двум консулам — одному военному, другому гражданскому, о которых Сьейес не думал в III году, но которых он принял в VIII году республики, применяясь, без сомнения, к понятиям времени. Звание Великого электора далеко не удовлетворяло Бонапарта. „Как можете вы вообразить, — говорил он, — чтобы талантливый и мало-мальски уважающий себя человек согласился принять роль откармливаемой на несколько миллионов свиньи?“ С этой минуты об этом больше не было разговоров: Роже-Дюко и большинство членов комитета приняли сторону Бонапарта, и Сьейес, избегавший всегда споров, не сумел или не захотел защитить свои идеи. Он видел, что законы, люди и вся Франция отданы на произвол того, возвышению кого он сам способствовал.
24 декабря 1799 г. (нивоз VIII года), сорок пять дней спустя после 18 брюмера, была обнародована Конституция Vin года, составленная из остатков Конституции Сьейеса и превратившаяся постепенно в конституцию рабства. Правительственная власть была отдана в руки первого консула; ему было дано два помощника с совещательным голосом. Сенат, первоначально избранный консулами, сам выбирал из кандидатского национального списка членов Трибуната и Законодательного корпуса. Правительство одно имело право законодательной инициативы. Таким образом, по видоизмененной конституции больше не существовало курий, выбиравших кандидатов в различные списки, трибунов и членов Законодательного собрания; исчезли трибуны независимые и защищающие по собственному побуждению дело народа перед Законодательным собранием, вышедшим непосредственно из среды нации и только перед ней ответственным, исчезла, наконец, сама нация, обладавшая политическими правами. Место всего этого заняли: всемогущий консул, распоряжавшийся войском и гражданской властью, генерал и диктатор, Государственный совет, служивший авангардом для насильственного захвата власти, и, наконец, Сенат из восьмидесяти членов, единственная функция которого была лишать власти народ и выбирать бессильных и безмолвных членов Законодательного корпуса. Жизнь перешла от нации к правительству. Конституция Сьейеса служила предлогом к установлению нового политического порядка. Надо заметить, что до VIII года для всех конституций первоначальным источником служил „Общественный договор“ (Contrat social) Руссо, а с тех пор до 1814 г. — Конституция Сьейеса.
Новое правительство сорганизовалось очень быстро. Бонапарт стал первым консулом и взял себе в помощники в качестве второго и третьего консулов: большого знатока законов и бывшего члена Равнины в Конвенте Камбасареса и бывшего помощника канцлера Мопу — Лебрена. Через них он рассчитывал действовать и на революционеров, и на умеренных роялистов. С этой же целью бывший аристократ Талейран и бывший монтаньяр Фуше были назначены — первый министром иностранных дел, второй — министром юстиции. Сьейесу противно было пользоваться услугами Фуше, но Бонапарт настоял на своем. „Мы образуем, — говорил он, — новую эпоху; из прошлого нам следует помнить только хорошее и забыть все дурное“. Он мало придавал значения, под каким знаменем ранее стояли те или иные люди, лишь бы теперь они перешли под его знамя и увлекали за собой туда же своих прежних товарищей — роялистов или революционеров.
Оба новых консула вместе с консулами прежними назначили, не дожидаясь избирательных списков, шестьдесят сенаторов; сенаторы назначили сто трибунов и триста членов Законодательного совета; творцы 18 брюмера разделили между собой государственные должности, как добычу после победы. Однако, справедливо будет заметить, что либеральная умеренная партия преобладала в этом разделе и что, пока она сохраняла свое влияние, Бонапарт управлял кротко и в республиканском и восстановительном духе. Конституция VIII года, предложенная на утверждение народа, была принята тремя миллионами одиннадцатью тысячами семью голосами. Конституция 1793 г. была принята 1 801 818 голосами, а Конституция III года 1 057 390. Новый закон удовлетворил умеренную массу населения, менее дорожившую своими гарантиями, чем своим спокойствием, тогда как уложение 1793 г. нашло себе сторонников только в низших классах, а Конституция III года была одинаково отвергнута как демократами, так и роялистами. Конституция 1791 г. одна приобрела в свое время всеобщее одобрение и, не будучи отдана на всеобщее голосование, она была принята почти всей Францией.
Первый консул, чтобы удовлетворить желанию народа, обратился к Англии с предложением мира, но она не согласилась. Он благоразумно хотел казаться умеренным и в то же время придать своему правительству перед ведением переговоров новыми победами особый блеск. Было решено продолжать войну, и консулы издали прокламацию, замечательную тем, что в ней они обращались к новым чувствам нации. До сих пор призывали к оружию для защиты свободы, — теперь это стали делать во имя чести. „Французы! Вы желаете мира. Еще с большим жаром желает его ваше правительство: его самые горячие желания, все его действия направлены к этому. Английское министерство отвергает все попытки к миру; английское министерство открыло тайну своей ужасной политики. Растерзать Францию, уничтожить ее флот и ее гавани, стереть ее самое с карты Европы или унизить ее до степени второстепенной державы, поддержать раздоры между нациями на континенте, чтобы овладеть торговлей их всех и обогащаться на счет их разорения, — вот ради каких ужасных успехов Англия расточает свое золото, сыплет обещаниями, умножает свои интриги. От вас зависит предписать ей мир, — для этого нужны деньги, оружие и солдаты; пусть все поторопятся внести свою лепту на защиту родины! Пусть восстанут все молодые граждане! Теперь им придется вооружиться не ради интересов фракций или тиранов, а для защиты самого дорогого — чести Франции и святых интересов человечества!“
Голландия и Швейцария во время предшествовавшего похода были обеспечены от вторжения. Первый консул собрал все силы республики на Рейне и на Альпах. Он отдал командование Рейнской армией Моро, а сам отправился в Италию. Он уехал 16 флореаля VIII года (6 мая 1800 г.) для этого блестящего похода, продолжавшегося всего сорок дней. Ему было важно не удаляться надолго от Парижа при начале своей власти и особенно не оставлять войну нерешенной. У фельдмаршала Меласа было сто тридцать тысяч людей под ружьем, — он занимал всю Италию. Республиканская армия, выступившая против него, не превышала сорока тысяч человек. Мелас оставил товарища, фельдмаршала Отта, с тридцатью тысячами человек под Генуей, а сам двинулся против корпуса генерала Сюше. Он вошел в Ниццу и намеревался перейти через Вар, чтобы вторгнуться в Прованс. Тогда Бонапарт перешел через Большой Сен-Бернар во главе сорокатысячной армии, спустился в Италию сзади Меласа, вступил 16 прериаля (5 июня) в Милан и тем поставил австрийцев между собой и Сюше. Мелас, операционная линия которого оказалась прорванной, поспешно вернулся в Ниццу, а оттуда в Турин; он расположил свою главную квартиру в Алессандрии и решился дать сражение, чтобы восстановить свои сообщения при помощи битвы. 9 июня при Монтебелло республиканский авангард одержал первую блестящую победу, главная честь которой принадлежала генералу Ланну. Судьба Италии была решена 14 июня (25 прериаля) на равнине Маренго: австрийцы были разбиты наголову. Не имея возможности силой очистить себе переход через Бормиду, они оказались окруженными армией Сюше и первого консула. 15-го они получили право уйти за Мантую, сдав французам все укрепления Пьемонта, Ломбардии и легатств; таким образом, победа при Маренго дала Франции обладание всей Италией.
Восемнадцать дней спустя Бонапарт вернулся в Париж. Его встретили горячими выражениями восторга, возбужденного такой поразительной деятельностью и такими решительными победами. Восторг был всеобщим, — была устроена иллюминация, и толпа отправилась в Тюильри, чтобы увидать консула. Надежда на будущий мир увеличивала всеобщую радость. Первый консул присутствовал 25 мессидора на празднике годовщины 14 июля. Когда офицеры представили ему знамена, отнятые у неприятеля, он им сказал: „Скажите по возвращении в лагерь солдатам, что ко времени 1 вандемьера, когда мы будем праздновать годовщину республики, французский народ ожидает или обнародования мира, или, если неприятель противопоставит этому непреодолимые препятствия, новых знамен — плодов новых побед!!!“ Мира, однако, пришлось ждать еще довольно долго.
В промежуток времени между победой при Маренго и всеобщим умиротворением первый консул занялся успокоением народа и уменьшением числа недовольных, возвращая в государство вытесненные партии. Он выказал много снисходительности по отношению к партиям, отрекшимся от своих убеждений, и благосклонно относился к вождям, отказавшимся от своих партий. Так как в это время личные интересы выступили на первый план и наблюдалось полное ослабление партий, ему было нетрудно выполнить эту задачу. Изгнанники 18 фрюктидора были уже все возвращены, исключая нескольких заговорщиков-роялистов вроде Пишегрю, Вийо и других; Бонапарт дал сейчас же назначения тем из изгнанников, которые, как Порталис, Симеон, Барбе-Марбуа, выказали себя более врагами Конвента, чем контрреволюционерами. Он привлек на свою сторону также и оппозиционеров другого рода. Последние вожди Вандеи, знаменитый Бернье, священник в Сен-Ло, в Анжере, участвовавший в восстании от начала до конца, Шатильон, д'Отишан и Сюзанне договором 27 января 1800 г. заключили мир с правительством. Бонапарт обратился также к вождям бретонских банд: Жоржу Кадудалю, Фротте, Ляпревелье и Бурмону. Только двое последних согласились подчиниться. Фротте был захвачен врасплох и расстрелян, а Кадудаль, разбитый при Гроншане генералом Брюно, принужден был сдаться. Война на западе была совершенно закончена.
Однако шуаны, искавшие убежища в Англии и не видевшие надежды ни в чем, кроме смерти того, кто сосредоточил в себе все могущество революции, замыслили его убийство. Некоторые из них, высадившись на берег Франции, тайно отправились в Париж. Но так как до первого консула добраться было нелегко, то они остановились на ужасном замысле. 3 нивоза, в 8 часов вечера, Бонапарт должен был отправиться в оперу но улице Сен-Никез. Заговорщики поставили посреди этой улицы на тележку бочку пороха и ею загородили проезд, а один из них, Сен-Режан, должен был, когда он получит сигнал о приближении первого консула, подложить под нее огонь. В назначенный час Бонапарт выехал из Тюильри и проехал по улице Сен-Никез; его кучер оказался достаточно ловким и быстро проехал между тележкой и стеной. Фитиль был уже зажжен, и едва только карета достигла конца улицы, как адская машина взорвалась и покрыла весь квартал Сен-Никез развалинами, а карету встряхнуло так, что в ней разбились стекла.
Полиция была застигнута врасплох, несмотря на то, что ею руководил Фуше; он приписал этот заговор демократам, к которым первый консул питал бо́льшую антипатию, чем к шуанам. Многие из них были заключены в тюрьму, а сто тридцать человек простым сенатским постановлением, испрошенным и утвержденным, в одну ночь сосланы. Наконец, были открыты настоящие творцы заговора, и некоторые из них были осуждены на смерть. Первый консул создал для этого случая специальный военный суд. Конституциональная партия отошла от него еще дальше и приступила к самой энергичной, но бесполезной оппозиции. Ланжюине и Грегуар, смело противодействовавшие крайним партиям в Конвенте, Гара, Ламбрехт, Ленуар-Ларош, Кабанис и др. воевали в Сенате против неправильной ссылки ста тридцати демократов; трибуны: Инар, Дону, Шенье, Бенжамен, Констан, Бейе, Шазаль и др. восстали против специальных судов. Блистательный мир, однако, заставил забыть об этом злоупотреблении властью.
Австрийцы, побежденные при Маренго первым консулом и разбитые Моро при Гогенлиндене, принуждены были сложить оружие. Восьмого января 1801 г. республика, венский кабинет и Германская империя заключили Люневильский договор. Австрия подтвердила все условия Кампоформийского договора и уступила, сверх того, Тоскану пармской инфанте. Империя признала независимость республик: Батавской, Гельветической, Лигурийской и Цизальпинской. Мир вскоре стал всеобщим; достигнут он был Флорентийским договором (18 февраля 1801 г.) с королем неаполитанским, уступившим остров Эльба и княжество Пиомбино, Мадридским договором (29 сентября 1801 г.) с Португалией, Парижским договором (8 октября 1801 г.) с императором русским и предварительными мирными условиями (9 октября 1801 г.) с Оттоманской Портой. Весь континент, положив оружие, принудил и Англию к временному миру. Питт, Дундас и лорд Гренвиль, поддерживавшие эту кровавую борьбу против Франции, вышли из министерства в тот момент, когда уже невозможно было следовать их системе. Английская оппозиция заменила их, и 25 марта 1802 г. Амьенский договор закончил собой всеобщее умиротворение. Англия согласилась признать все континентальные приобретения Французской Республики, признала существование всех второстепенных республик и возвратила Франции ее колонии.
В продолжение морской войны с Англией французский флот был почти совсем уничтожен. Триста сорок кораблей были или взяты в плен, или истреблены, и большая часть колоний попала в руки англичан. Самая важная из них, Сан-Доминго, сбросив с себя иго белых, продолжила ту американскую революцию, которая, начавшись в английских колониях, должна была окончиться в испанских и превратить колонии Нового Света в независимые государства. Негры Сан-Доминго продолжали отстаивать свое освобождение от метрополии, свою независимость, завоеванную ими у колонистов и защищаемую против англичан. Во главе их стоял один из их среды, знаменитый Туссен-Лувертюр. Франция должна была бы признать эту революцию, и так уже дорого стоившую человечеству. Власть метрополии не могла быть восстановлена в Сан-Доминго, и следовало только снова завязать торговые сношения с этой бывшей колонией и оставить за собой единственные действительные выгоды, какие Америка теперь могла доставлять Европе. Вместо этой осторожной политики Бонапарт попытался вновь покорить остров посредством новой экспедиции. Сорок тысяч человек было отправлено в эту злосчастную авантюру. Негры вначале были не в состоянии сопротивляться подобной армии, но потом, после первых побед, армия стала, вследствие непривычного климата, болеть, и новые восстания упрочили независимость колонии. Франция испытала двойную потерю — армии и выгодных торговых сношений.
Бонапарт, главной целью которого до сих пор было слияние партий, обратил тогда все свое внимание на внутреннее благосостояние республики и на организацию власти. Бывшие привилегированные классы, дворянство и духовенство, опять возвратились в государство, не образуя больше отдельных сословий. Непокорному духовенству было разрешено, под условием присяги на повиновение, исполнять богослужение и получать от правительства содержание. Эмигрантам была дарована амнистия, и вне Франции оставались только неизменно преданные фамилии Бурбонов и правам претендента. Дело умиротворения было закончено. Бонапарт, зная, что лучшее средство господствовать над нацией — это увеличить ее благосостояние, поощрял развитие промышленности и покровительствовал так надолго прерванной внешней торговле. К своим политическим мотивам он присоединял и более возвышенные взгляды, — он связывал свою славу с благоденствием Франции; он объехал департаменты и искусно организовал в них администрацию, заставил прорыть каналы и устроить порты, сооружал мосты, исправлял дороги, воздвигал памятники и умножал пути сообщения. Он особенно старался стать покровителем и законодателем частных интересов. Кодексы, гражданский, уголовный и торговый, составленные по его поручению в это время или несколько позже, докончили в этом отношении дело революции и определили внутреннее существование нации почти сообразно с ее действительным положением. Несмотря на политический деспотизм, Франция в продолжение всего господства Наполеона имела гражданское законодательство более совершенное, чем во всех европейских обществах, которые, при абсолютном правительстве, сохраняли большей частью средневековый социальный уклад. Всеобщий мир, всеобщая терпимость, возвращение законного порядка и создание новой административной системы изменили в короткое время вид республики. Цивилизация развивалась поразительным образом, и в этом отношении Консульство составило еще более блестящий период истории Франции, чем Директория от своих первых шагов до 18 фрюктидора.
После Амьенского мира Бонапарт приступил к обоснованию своего будущего могущества. Вот что он пишет в „Мемуарах, изданных от его имени“{6}: „Взгляды Наполеона были определены заранее, но, чтобы осуществить их, нужна была помощь времени и обстоятельств. Организация Консульства нисколько не противоречила им; она приучила к единству — это был только первый шаг. Совершив это, Наполеон отнесся довольно равнодушно к формам и названиям различных государственных учреждений. Он был чужд революции… Мудростью его было идти в уровень с днем, не уклоняясь от направления на определенную точку, на своего рода Полярную звезду, которой Наполеон будет руководствоваться, чтобы привести революцию к желаемому им концу“.
Бонапарт в начале 1802 г. начал осуществлять сразу три великих проекта, ведших к одной и той же цели; он хотел установить богослужение и внести политическую организацию в духовенство, существование которого пока было только религиозным; учреждением Почетного легиона создать постоянный военный орден в армии и сделать свою собственную власть вначале пожизненной, а потом и наследственной. Бонапарт поселился в Тюильри и мало-помалу возобновил все обычаи старой монархии. Он уже начал заботиться о том, чтобы установить между собой и народом промежуточные учреждения. С некоторого времени он вел переговоры с папой Пием VII по церковным делам. Знаменитый конкордат, создавший девять архиепископств, 41 епископство с капитулами, восстановивший церковь в государстве и отдавший ее под внешнюю власть папы, был подписан в Париже 15 июля 1801 г., а в Риме 15 августа 1801 г.
Бонапарт уничтожил свободу печати, создал специальные суды и в проявлениях своей власти удалялся все больше и больше от принципов революции. Он понял, что, прежде чем идти дальше, нужно было совершенно порвать с либеральной партией 18 брюмера. В вантозе X года (март 1802 г.) наиболее энергичные трибуны были простым сенатским постановлением отставлены от должностей. Состав Трибуната был сведен к 80 членам; подобную же очистку испытал и Законодательный корпус. Около месяца спустя, 15 жерминаля (6 апреля 1802 г.) Бонапарт, не опасаясь более оппозиции, отдал конкордат на утверждение приготовленных таким путем к повиновению Собраний. Они приняли его значительным большинством голосов. Воскресенье и четыре главных религиозных праздника были восстановлены, и с этого времени правительство перестало следовать системе счета по декадам. Это было первое отступление от республиканского календаря. Бонапарт надеялся привлечь этим на свою сторону партию духовенства, вообще более склонную к пассивному повиновению, и, таким образом, отнять духовенство у роялистской оппозиции и поддержку папы у коалиции.
Введение конкордата было отпраздновано с большим торжеством в соборе Парижской Богоматери. Сенат, Законодательный корпус, Трибунат и высшие сановники присутствовали при этой новой церемонии. Первый консул приехал туда в экипаже старого двора со всей обстановкой и этикетом старой монархии; залпами артиллерии было встречено это возвращение к старым традициям и этот первый шаг к высшей власти. Торжественная литургия была отслужена кардиналом — легатом Капрара, и к народу была обращена прокламация, написанная языком, ставшим с давних пор необычным: „Пример веков и рассудок предписывали обратиться к верховному главе церкви, чтобы сблизить мнения и примирить сердца. Первосвященник, по своей мудрости и в интересах церкви, утвердил предложения, продиктованные выгодой государства“. Вечером была иллюминация и музыка в садах Тюильри. Военные неохотно явились на эту религиозную церемонию и громко выражали свое неодобрение. По возвращении во дворец Бонапарт ввиду этого спросил генерала Дельмаса: „Как вы нашли эту церемонию?“ — „Это была красивая капуцинада, — отвечал Дельмас, — недоставало только миллиона людей, убитых ради уничтожения того, что вы теперь восстановляете“.
Месяц спустя, 25 флореаля X года (15 мая 1802 г.) Бонапарт велел представить проект закона относительно учреждения ордена Почетного легиона. Этот легион должен был состоять из пятнадцати когорт пожизненных кавалеров, расположенных в иерархическом порядке, с общей центральной организацией и общими доходами. Первый консул был шефом легиона. Каждая когорта состояла из семи высших офицеров, двадцати командиров, тридцати офицеров и 350 легионеров. Целью Бонапарта было положить начало новому дворянству; он обратился к далеко не угаснувшему чувству неравенства. При обсуждении этого проекта в Государственном совете Бонапарт не побоялся выказать свои аристократические намерения. Государственный советник Берлие, высказывая порицание такому учреждению, как противному духу республики, сказал: „Знаки отличия суть не больше, как побрякушки монархии“{7}. — „Я сомневаюсь, — отвечал первый консул, — чтобы мне могли показать республику, древнейшую или современную, в которой не было бы отличий. Их называют побрякушками! Ну так что же! С помощью этих побрякушек водят людей! Я бы не сказал этого на народной трибуне, но в совете мудрых государственных людей должно говорить все откровенно. Я не думаю, чтобы французский народ любил свободу и равенство; французы совсем не изменились за десять лет революции, у них есть только одно чувство — чести! Надо дать удовлетворение этому чувству; народу нужны отличия. Посмотрите, как народ преклоняется перед орденами иностранцев, удивляется им и не прочь сам носить такие же, хотя и называет их презрительно плевками (crachats)… Все было уничтожено, теперь нужно все создать заново. У нас есть правительство, есть власть, но что представляет собой остальная нация? Отдельные песчинки. Среди нас находятся бывшие привилегированные классы, организованные общностью своих принципов и интересов, знающие, чего они хотят. Я могу перечислить наших врагов. А мы рассеяны, не имеем системы, связи, точек соприкосновения. Пока я здесь, я отвечаю за республику, но надо думать и о будущем. Думаете ли вы, что республика окончательно утверждена? Если вы так думаете, вы сильно ошибаетесь. Мы сможем устроить все это, но мы еще ничего не сделали, да и не сделаем, если не бросим на почву Франции несколько глыб гранита!“ Бонапарт возвещал, таким образом, правительственную систему, противоположную той, какую революция предполагала установить и какую требовало новое общество.
Однако, несмотря на послушание Государственного совета, несмотря на очистку, произведенную над Трибунатом и Законодательным корпусом, все эти три собрания горячо боролись против закона, восстановлявшего неравенство. Закон о Почетном легионе собрал за себя в Государственном совете только четырнадцать голосов против десяти, в Трибунате — тридцать восемь против пятидесяти шести, а в Законодательном корпусе — сто шестьдесят шесть против ста десяти. Общественное мнение приняло этот новый рыцарский орден не более благосклонно; первые пожалованные этим орденом не казались очень этим польщенными и приняли его несколько насмешливо, но Бонапарт продолжал свое политическое шествие, не беспокоясь о неудовольствиях, не могущих более вызвать открытого сопротивления.
Он хотел обеспечить свою власть восстановлением привилегий и укрепить привилегии продолжительностью своей власти. По предложению Шабо д'Алье Трибунат выразил желание, чтобы первому консулу, генералу Бонапарту, было дано блистательное доказательство благодарности нации. Сообразно с этим желанием 6 марта 1802 г. сенатским постановлением Бонапарт был избран консулом еще на десять лет.
Но продолжительность консульства не удовлетворяла более Бонапарта, и два месяца спустя — 2 августа 1802 г. — Сенат сообразно решению Трибуната и Законодательного собрания и с согласия народа, опрошенного посредством всеобщей подачи голосов, декретировал следующее:
1) Французский народ назначает, а Сенат провозглашает Наполеона Бонапарта первым консулом на всю жизнь.
2) Статуя мира, держащая в одной руке победный лавр, а в другой декрет Сената, будет свидетельствовать перед потомством о благодарности нации.
3) Сенат принесет первому консулу выражение доверия, любви и удивления французского народа.
Этот переворот был завершен приспособлением простым сенатским постановлением положения о временном консульстве к консульству пожизненному. „Сенаторы, — сказал Корне, представляя им новый закон, — надо навсегда закрыть Гракхам доступ на общественную площадь. Мнение граждан о политических законах, которым они подчиняются, выражается всеобщим благосостоянием; обеспечение прав общества ставит на практике догмат господства народа в Сенате, являющийся как бы связью для нации. Вот единственная социальная доктрина“. Сенат принял это новое социальное учение, овладел верховной властью и хранил ее до поры до времени, чтобы затем передать Бонапарту.
Конституция 16 термидора X года (4 августа 1802 г.) отстраняла народ от управления государством. Общественные и административные должности стали так же несменяемы, как и правительство. Избиратели стали пожизненными; первый консул мог увеличить число их; Сенат имел право изменять учреждения, приостанавливать действие суда присяжных, объявлять департаменты вне действия конституции, отменять приговоры судов, распускать Законодательный корпус и Трибунат. Государственный совет был усилен; Трибунат, уже ослабленный исключением части своих членов, казался все еще опасным, и его численность была сведена всего к пятидесяти членам. Таковы были в продолжение двух лет успехи привилегий и абсолютной власти. К концу 1802 г. все находилось в руках пожизненного консула, имевшего преданную партию в духовенстве, военный орден в Почетном легионе, административную корпорацию в Государственном совете, машину для декретов в Законодательном собрании и машину для конституции в Сенате. Не смея еще совершенно уничтожить Трибунат, откуда время от времени раздавалось свободное слово и высказывались противоречия, Бонапарт лишил его наиболее смелых и красноречивых членов и этим сделал все государственные учреждения полным эхо своей воли.
Эта внутренняя политика расширения власти сопровождалась и внешним увеличением территории. 26 августа Бонапарт присоединил к Французской Республике остров Эльба, а 11 сентября 1802 г. — Пьемонт. Девятого октября он занял Парму и Пьяченцу, престол которых был за смертью герцога свободен; 21 октября, наконец, тридцатитысячная французская армия вошла в Швейцарию, чтобы поддержать возбудивший беспорядки новый федеративный акт, определявший конституцию каждого кантона. Это послужило Англии, и так уже неохотно подписавшей мир, поводом разорвать его. Британский кабинет испытывал необходимость только во временном прекращении военных действий; тотчас же после Амьенского договора Англия стала подготовлять третью коалицию, — так же, как она это делала после Кампоформийского договора и во время Раштаттского конгресса. Интересы и положение Англии уже сами по себе должны были повести к разрыву, ускоренному присоединением государств, сделанных Бонапартом, и тем влиянием, какое он имел на соседние, признанные в силу последних договоров вполне независимыми республики. Бонапарт, в свою очередь, только и мечтавший о военной славе, желавший возвеличить Францию завоеваниями и закончить свое собственное возвышение новыми победами, не мог себя осудить на покой, ему нужна была война, так как он не желал свободы.
Оба кабинета обменивались некоторое время крайне резкими дипломатическими нотами. Лорд Витворт, английский посланник, кончил тем, что покинул Париж 25 флореаля XI года (15 мая 1803 г.). Мир был окончательно нарушен; с той и с другой стороны стали готовиться к войне. 26 мая французские войска заняли курфюршество Ганноверское. Германская империя, близкая к концу, нисколько этому не препятствовала. С начатием военных действий ободрилась и партия шуанов-эмигрантов, ничего не предпринимавшая после адской машины и континентального мира. Случай казался ей благоприятным, и она составила в Лондоне, с согласия британского кабинета, заговор; во главе его стояли Пишегрю и Жорж Кадудаль. Заговорщики тайно высадились на берег Франции и так же тайно отправились в Париж. Они завели сношения с генералом Моро, завлеченным в роялистскую партию женой. Но в тот момент, когда заговорщики готовились выполнить свой замысел, большая часть из них была арестована полицией, открывшей их заговор и следившей за ними. Кадудаль был казнен, Пишегрю сам повесился в тюрьме, а Моро был осужден на двухлетнее заточение, замененное потом изгнанием.
Этот заговор, открытый в середине февраля 1804 г., сделал еще дороже для народа личность первого консула; ему были присланы адреса от всех государственных учреждений и от всех департаментов республики. Около того же времени он поразил одну высокопоставленную жертву. 15 марта эскадрон кавалерии захватил герцога Энгиенского, жившего в замке Эттенхейм, в Великом Герцогстве Баденском, в нескольких милях от Рейна. Первый консул думал, вследствие заявлений полиции, что этот принц принимал участие в последнем заговоре. Герцог Энгиенский был поспешно привезен в Венсен, через несколько часов осужден военным судом и расстрелян во рву замка. Это возмутительное убийство было делом не политики узурпации, а насилия и гнева. 18 брюмера роялисты могли еще думать, что первый консул готовится к роли Монка, но за следующие четыре года он отнял у них эту надежду. Ему не было никакой необходимости ни разрывать с ними таким кровавым способом, ни успокаивать, как тогда говорили, якобинцев, уже более не существовавших. Люди, оставшиеся преданными республике, стали гораздо больше бояться деспотизма, чем контрреволюции. Все дает повод думать, что Бонапарт, мало ценивший и человеческую жизнь, и права людей, и уже привыкший к политике вспыльчивости, счел принца в числе заговорщиков и решил ужасным примером покончить с заговорами как с единственной существовавшей для его личности и власти в эту эпоху опасностью.
Война с Великобританией и заговор Кадудаля и Пишегрю послужили для Бонапарта ступенями, чтоб перейти от Консульства к империи. 6 жерминаля XII года (27 марта 1804 г.) Сенат, получив сообщение о заговоре, послал депутацию к первому консулу. Президент Франсуа из Нефшато высказался таким образом: „Гражданин первый консул, вы основали новую эру, но вы должны еще увековечить ее: блеск ничто, если он непродолжителен. Мы не сомневаемся, что эта великая мысль занимает и вас, так как ваш творческий гений охватывает все и ничего не забывает; не медлите больше, вас понуждают, с одной стороны, время, события, заговорщики, честолюбцы, а с другой стороны — то беспокойство, что волнует всех французов. Вы можете остановить время, господствовать над событиями, обезоружить честолюбцев, успокоить всю Францию: все это — даровав ей учреждения, способные утвердить ваше здание и продолжить для детей то, что вы сделали для их отцов. Гражданин первый консул, будьте вполне уверены, что Сенат говорит теперь от лица всех граждан“.
Бонапарт ответил Сенату из Сен-Клу 5 флореаля XII года (25 апреля 1804 г.): „Ваши слова не перестают занимать мои мысли; они составляют предмет моих постоянных размышлений. Вы считаете наследственность верховной власти необходимой для ограждения народа от заговоров наших врагов и от волнений, вызываемых соперничающими честолюбиями. Многие из наших учреждений кажутся вам в то же время требующими усовершенствования; для безвозвратного утверждения общественного равенства и свободы вам кажется необходимым дать нации и правительству двойную гарантию. По мере того, как я останавливал свое внимание на этих важных предметах, я чувствовал все более и более, что в этих столь чрезвычайных и новых обстоятельствах мне необходимы для окончательного установления моих взглядов советы вашей мудрости и опытности. Я приглашаю вас объяснить мне вполне вашу мысль“. Сенат ответил, в свою очередь, 14 флореаля (4 мая): „Сенат считает нужным в интересах французского народа доверить управление республикой Наполеону Бонапарту как наследственному императору“. Эта заранее приготовленная сцена послужила прелюдией к установлению империи.
Трибун Кюре открыл прения в Трибунате условленной речью; он выдвигал те же мотивы, что и сенаторы. Предложение его было принято с полной готовностью. Один Карно имел смелость бороться против империи. „Я далек, — сказал он, — от желания уменьшить похвалы, воздаваемые первому консулу, но как бы велики ни были услуги, оказанные гражданином своей родине, есть границы национальной благодарности, поставленные как честью, так и разумом. Если этот гражданин восстановил общественную свободу, если он спас свое отечество, то можно ли награждать его на счет этой самой свободы? И не значило ли бы уничтожить его собственное дело, сделав страну личным его состоянием? С той минуты, как французскому народу предложили высказаться по вопросу о пожизненном консульстве, каждый мог легко заметить здесь заднюю мысль; и действительно, целый ряд монархических учреждений следовал один за другим. Сегодня, наконец, раскрылся окончательный смысл этих предварительных мер: мы созваны сюда высказаться относительно формального восстановления монархического правления и для того, чтобы облечь первого консула в наследственный императорский сан. Для того ли показали человеку свободу, чтобы он никогда не мог воспользоваться ею? Нет, я не могу считать это благо, предпочитаемое всякому другому, без которого все остальное ничто, за простую иллюзию! Мое сердце подсказывает мне, что свобода возможна, что ее режим более легок и прочен, чем всякое самовластное правительство. Я подал в свое время голос против пожизненного консульства, — также и теперь я подаю его против восстановления монархии; я полагаю, что в качестве трибуна не могу поступить иначе!“
Карно остался, однако, в одиночестве; все его товарищи восстали против мнения единственно оставшегося свободным человека. Любопытно видеть в прениях той эпохи удивительную перемену, происшедшую не только в идеях, но и в языке. Революция подвинулась назад вплоть до политических взглядов старого порядка: оставалось то же воодушевление, тот же фанатизм, но это было воодушевление лести и фанатизм рабства. Французы бросились в империю так же, как они бросались в революцию. Тогда они все относили к освобождению народов и говорили о веке разума, теперь же шла речь только о величии одного человека и о веке Бонапарта; вскоре они начали сражаться для создания новых королей, как прежде для образования республик.
Трибунат, Законодательный корпус и Сенат подали голос за империю, и она была провозглашена в Сен-Клу 28 флореаля XII года (18 мая 1804 г.). В тот же день сенатским постановлением Конституция была изменена и приспособлена к новому порядку вещей. Империя требовала соответствующую обстановку; ей дали французских принцев, высших сановников, маршалов, камергеров и пажей. Всякая гласность была уничтожена. Свобода печати была уже подчинена цензуре, оставалась только трибуна, но и она сделалась молчаливой. Заседания Трибуната стали происходить по отделениям и сделались тайными, как и заседания Государственного совета. Считая с этого дня, в продолжение десяти лет Францией управляли при закрытых дверях. Иосиф и Людовик Бонапарт были признаны французскими принцами, Бертье, Мюрат, Монсе, Журдан, Массена, Ожеро, Бернадотт, Сульт, Брюн, Ланн, Мортье, Ней, Даву, Бессьер, Келлерман, Лефевр, Периньон, Серюрье были назначены маршалами империи. Департаменты писали адреса, духовенство сравнивало Наполеона с новым Моисеем, новым Матафией, новым Киром. Оно видело в его возвышении перст Божий и говорило, что все обязаны ему повиновением как владыке всех, а его министрам как посланным его, ибо такова воля Провидения. Папа Пий VIII приехал в Париж, чтобы лично помазать миром главу новой династии. Коронование происходило в воскресенье 2 декабря в соборе Парижской Богоматери.
Это торжество было заранее подготовлено, и весь церемониал его был установлен сообразно прежним обычаям. Император прибыл в собор вместе с императрицей Жозефиной в карете, украшенной короной и запряженной восемью белыми лошадями; его сопровождала гвардия. Папа, кардиналы, архиепископы, епископы и члены всех высших государственных учреждений ждали его в соборе, великолепно разукрашенном для этой чрезвычайной церемонии. При входе Наполеона приветствовали речью; затем, облеченный в императорскую мантию, с короной на голове и скипетром в руке, он взошел на трон, возвышавшийся в глубине собора.
Великий раздаватель милостыни[54], один из кардиналов и епископ подошли к нему и повели его к подножию алтаря для помазания. Папа трижды помазал ему голову и руки и произнес следующую речь: „Всемогущий Бог, поставивший Газаила на царство в Сирии и Иуя на царство в Израиле, объявив им свою волю через пророка Илию, Всемогущий Бог, изливший святое помазание на царство на главы Саула и Давида через пророка Самуила, излей моими руками сокровище твоих милостей и твоих благословений на раба твоего Наполеона, которого мы, недостойные, помазуем во имя Твое сегодня на царство“.
Папа торжественно отвел Наполеона к его трону, и после того, как тот принес на Евангелии присягу, установленную новой конституцией, герольдмейстер провозгласил громким голосом: „Преславный и преавгустейший император французов коронован и возведен на престол. Да здравствует император!“ Вся церковь огласилась тотчас же тем же кликом; раздался залп артиллерии, и папа запел „Te Deum“. Празднества продолжались несколько дней; но эти праздники на заказ, эти празднества абсолютной власти не дышали больше той живой, искренней, единодушной народной радостью, какой было отмечено первое празднование 14 июля; как ни опустилась нация, она не приветствовала, однако, деспотизма с тем же ликованием, с каким она встречала первые шаги свободы.
Консульство было последним периодом существования республики. Революция начинала воплощаться в одном человеке. В первое время консульского правления Бонапарт привлек к себе изгнанные сословия, призвав их обратно; он нашел народ еще взволнованным всеми страстями и вернул его к спокойствию работой, к благосостоянию — восстановлением порядка; наконец, он принудил Европу, побежденную в третий раз, признать его возвышение. До Амьенского мира Бонапарт дал республике победу, согласие и благоденствие, не пожертвовав свободой. Он мог бы тогда, если бы захотел, сделаться представителем того великого века, принципом которого было освящение достаточного равенства, разумной свободы и развития цивилизации. Нация попала в руки того, кто мог стать или великим человеком, или деспотом; от него зависело сохранить завоеванную народом свободу или поработить ее. Он предпочел осуществление своих личных планов, он предпочел себя одного целому человечеству. Воспитанный в палатке, явившийся поздно на сцену революции, он понял только ее материальную и выгодную сторону; он не верил ни в порожденные ею нравственные потребности, ни в верования, ее волновавшие; рано или поздно они должны были вновь появиться и погубить его. Он видел в революции только уже близкое к концу восстание, утомленный народ, отдавшийся его милости, и корону, лежащую на земле: ее-то и следовало поднять.
Империя Глава XV От учреждения империи в 1804 г. до 1814 г.
Характер империи. — Обращение республик, созданных Директорией, в королевства. — Третья коалиция; взятие Вены; победы при Ульме и Аустерлице; Пресбургский мир; учреждение двух королевств — Баварского и Вюртембергского. — Рейнский союз. — Жозеф Наполеон становится королем Неаполя, а Людовик Наполеон — Голландии. — Четвертая коалиция; сражение при Иене; взятие Берлина; победы при Эйлау и Фридланде; Тильзитский мир; Прусская монархия уменьшена наполовину, в противодействие ей учреждены два королевства — Саксонское и Вестфальское. — Вестфальское королевство достается Жерому Наполеону. — Мало-помалу создается великая империя с ее второстепенными королевствами, Швейцарской конфедерацией и другими громадными зависимыми владениями; устраивается она наподобие империи Карла Великого. — Континентальная блокада, Наполеон пользуется для укрощения Англии прекращением торговли так точно, как для укрощения континента он пользовался оружием. — Вторжение в Португалию и Испанию; Жозеф Наполеон — испанский король; на неаполитанском троне его замещает Мюрат. — Новый ряд событий: национальное восстание на Пиренейском полуострове; религиозная борьба папы; торговая оппозиция Голландии. — Пятая коалиция. — Победа при Ваграме; Венский мир; брак Наполеона с эрцгерцогиней Марией-Луизой. — Неудача первой попытки сопротивления; папа низложен, Голландия присоединена к Французской империи, а испанская война приобретает все больший размах — Россия отказывается от континентальной системы; поход 1812 г; взятие Москвы; бедственное отступление. — Реакция против власти Наполеона; кампания 1813 г.; полное поражение. — Коалиция всей Европы, утомление Франции, изумительная кампания 1814 г. — Союзники вступают в Париж; отречение Наполеона от престола в Фонтенбло, характер Наполеона; его место во Французской революции. — Заключение.
С момента учреждения империи правительство стало абсолютным, а общество мало-помалу перестроилось в аристократическом духе. Великое движение общественной реорганизации, начавшееся 9 термидора, шло все более быстрым темпом. Конвент отменил сословия; Директория одержала верх над партиями; Консульство привлекло к себе людей; империя покорила их отличиями и привилегиями. Этот второй период был прямой противоположностью первого. Во время первого правительство Комитетов, составленное из людей, переизбираемых каждые три месяца, без стражи, без жалованья, без внешнего представительства жило на несколько франков в день и работало по 18 часов в сутки за простыми ореховыми столами; во время второго мы имеем правительство империи со всей сложной административной машиной, с камергерами, дворянством, преторианской стражей, наследственностью, громадным цивильным листом и ослепительным блеском. Национальная деятельность целиком перенесена была на труд и войну. Все материальные интересы, все честолюбивые стремления собрались в иерархическом порядке под властью одного начальника, который сначала пожертвовал свободой ради установления самодержавия, а затем уничтожил равенство в пользу знати.
Директория устроила все соседние государства в виде республик; Наполеон пожелал их переделать по образцу империи. Начал он с Италии; Государственная консульта Цизальпинской Республики решила восстановить наследственную монархию в пользу Наполеона. В Париж для сообщения этого постановления прибыл президент ее г-н Мельзи. 26 вантоза XIII года (17 марта 1805 г.) он был принят в Тюильри в торжественной обстановке. Наполеон восседал на троне, окруженный двором и всем блеском верховной власти, который он так любил. Мельзи от имени своих сограждан предложил ему корону. „Государь, — сказал он в заключение своей речи, — соблаговолите снизойти к просьбе собрания, представителем которого являюсь я. Будучи выразителем чувств, наполняющих души всех итальянских граждан, оно приносит вам чистосердечный привет. Оно с радостью сообщит им, что, приняв выражения этих чувств, вы удвоили силу тех уз, которые являются стимулами охранения, защиты и заботы о благоденствии итальянской нации. Государь, вы пожелали, чтобы существовала Итальянская Республика, и она существовала; пожелайте, чтобы была счастлива итальянская монархия, и это также исполнится!“
Император лично отправился вступить во владение Итальянским королевством; 26 мая 1805 г. он был коронован в Милане Лонгобардской железной короной. Вице-королем он провозгласил своего приемного сына, принца Евгения Богарне, а сам отправился в Геную, которая также отказалась от самостоятельности; 4 июня Генуэзская область была присоединена к империи и разделена на три департамента — Генуи, Апеннин и Монтенотте. Такому же монархическому перевороту подверглась и маленькая республика Лукка. По просьбе ее гонфалоньера она была отдана в удел принцу и принцессе Пиомбине — сестре Наполеона. Наполеон вернулся из своего царственного путешествия в отечество и столицу через Альпы; вскоре затем он отправился в Булонский лагерь, где подготовлялась морская экспедиция в Англию.
Проект этой экспедиции, подымавшийся уже Директорией после Кампоформийского мира, а первым консулом после мира Люневильского, внова всплыл наружу после нового разрыва с Англией, и теперь исполнение его преследовалось с большой настойчивостью. В начале 1805 г. в Булони, Этапле, Амблетезе и Кале была вооружена флотилия из 2000 мелких судов с 16 000 моряков и собрана десантная армия из 160 000 человек, 9000 лошадей и многочисленной артиллерии. Император своим присутствием ускорил приготовления к отправке, когда до него дошли сведения, что Англия, чтобы предотвратить угрожающую ей высадку, убедила Австрию снова нарушить мир с Францией и что началась мобилизация всех ее военных сил. Армия из 90 000 человек под начальством эрцгерцога Фердинанда и генерала Макка перешла через Инн, заняла Мюнхен и изгнала оттуда союзника Франции курфюрста баварского. Другая армия в 30 000 человек под начальством эрцгерцога Иоанна заняла Тироль, а третья из 100 000 под начальством эрцгерцога Карла двинулась к Адидже. Две русских армии, сверх того, были готовы явиться на помощь австрийцам. Питт приложил большие усилия, чтобы организовать эту коалицию. Создание Итальянского королевства, присоединение к Французской империи Генуи и Пьемонта, явное влияние французского императора на дела Голландии и Швейцарии снова подняли Европу, Европа столь же опасалась теперь честолюбия Наполеона, сколько прежде революционных принципов. Союзный договор между английским министерством и русским кабинетом был подписан 11 апреля 1805 г., а 9 августа к нему примкнула и Австрия.
Наполеон покинул Булонь, спешно выехал в Париж, явился 23 сентября в Сенат, провел постановление о наборе в 80 000 рекрутов и снова на следующий же день уехал, чтобы быстро начать поход. Первого октября он перешел Рейн, а 9-го вошел в Баварию во главе шестидесятитысячной армии. Массена тем временем задержал принца Карла в Италии, и император повел Германскую кампанию беглым шагом. В несколько дней он оказался за Дунаем, вступил в Мюнхен, одержал победу при Вертингене, а при Ульме заставил генерала Макка положить оружие. Эта капитуляция совершенно расстроила Австрийскую армию. Наполеон одерживал победы одна за другой, занял 13 ноября Вену и затем двинулся в Моравию навстречу русским, с которыми соединились и остатки разбитых австрийских войск.
Французская армия встретилась с русской 2 декабря 1805 г. под Аустерлицем. Численность неприятельской армии была в 95 000, а французской в 80 000 человек. Артиллерия была значительна и с той, и с другой стороны. Сражение началось с восходом солнца. Сразу были двинуты массы войск; русская пехота не устояла против бешеного натиска французов и против действий их военачальника. Прежде всего было отрезано левое крыло русской армии; русская гвардия попыталась восстановить с ним сообщение, но была раздавлена. Центр испытал ту же участь; к часу дня эта удивительная кампания была закончена самой решительной победой французов. С победой этой на другой день император поздравил свою армию особой прокламацией. „Солдаты, — говорилось в ней, — я доволен вами; вы покрыли ваши орлы бессмертной славой. Менее чем в четыре дня вами была рассеяна стотысячная армия, находившаяся под начальством императоров российского и австрийского; кто избежал ваших мечей, утонул в озерах. Результатами этого навеки памятного дня явились: 40 знамен, штандарты императорской русской гвардии, сто двадцать пушек, двадцать генералов и более 30 000 пленных вообще. Вашему натиску не могла противостоять пехота, о которой столько говорили и которая была в большем, чем вы, числе. Очевидно, и в будущем вам не страшны никакие противники. В два месяца третья коалиция побеждена и рассеяна“. С Австрией было заключено перемирие, а русские, боясь окончательно быть раздавленными, выговорили себе право в определенный срок уйти из пределов Австрии.
За победами при Ульме и Аустерлице последовал мир, подписанный 26 декабря в Пресбурге. Австрийский дом, уже потерявший раньше свои внешние владения в Бельгии и около Милана, теперь был уязвлен в самой Германии. Он принужден был уступить Итальянскому королевству Венецию, Истрийские провинции, Далмацию и Венецианские острова на Адриатическом море, а Баварии и Вюртембергу, возведенным на степень королевств, графство Тироль, город Аугсбург, Эйхштедское княжество, часть территории Пассау и все владения, ему принадлежавшие, в Швабии, Брейсгау и Ортенау; Великое Герцогство Баденское также кое-чем при этом поживилось. Пресбургский договор довершил падение Австрии, начатое Кампоформийским договором и продолженное договором Люневильским. Император, возвратясь в Париж в блеске такой славы, сделался предметом всеобщих и восторженных обожаний; от народного энтузиазма у него закружилась голова, и он опьянел от своего счастья. Государственные учреждения соперничали друг с другом в выражении повиновения, преданности и лести. Наполеон получил титул Великого, и Сенат особым декретом постановил воздвигнуть ему памятник.
Вследствие всего этого Наполеон еще более укрепился в преследовании раз выбранной системы. Победа при Маренго и Люневильский трактат санкционировали консульство; Аустерлицкая победа и Пресбургский мир освятили империю. Исчезли последние признаки революции. 1 января 1806 г. республиканский календарь после четырнадцатилетнего существования был окончательно заменен григорианским. Пантеон был возвращен религии, а вскоре прекратил свое существование и Трибунат. Всего более, однако, старался император о распространении своего владычества на континенте. Король неаполитанский Фердинанд во время последней войны нарушил ранее заключенный с Францией мирный договор; за это его владения подверглись набегу, и 30 марта королем обеих Сицилий был провозглашен Жозеф Бонапарт. Немногим позже, 5 июня 1806 г., была превращена в королевство Голландия, и на ее престол был возведен другой брат Наполеона, Людовик. После этого не осталось ни одной из республик, созданных Конвентом или Директорией. Наполеон, назначая второстепенных королей, восстановил военно-иерархический режим и титулы Средних веков. Далмация, Истрия, Фриуль, Кадор, Беллун, Конельяно, Тревизия, Фельтр, Бассано, Виченца, Падуя и Ровиго были им объявлены герцогствами и великими ленами империи. Маршалу Бертье было пожаловано Княжество Невшательское, министру Талейрану — Княжество Беневентское, князю Боргезе с женой — Княжество Гвастальское, Мюрату — Великие Герцогства Бергское и Клевское. Уничтожить Швейцарскую Республику Наполеон не осмелился, но он провозгласил себя ее медиатором (посредником), он докончил, наконец, организацию своей военной империи, поставив в зависимость от себя большую часть древней Великой Германии. 12 июля 1806 г. произошло соединение четырнадцати государей Южной и Западной Германии в Рейнский союз, признавший Наполеона своим покровителем. 1 августа они объявили Ратисбонскому сейму о своем выходе из Германского союза; Германская империя перестала существовать, и Франц II особой прокламацией отказался от титула императора; 15 декабря особым договором, подписанным в Вене, Пруссия уступила Аншпах, Клеве и Невшатель взамен курфюршества Ганноверского.
Наполеон собрал в своих руках, таким образом, весь запад Европы. Будучи неограниченным, как император и король, властелином Франции и Италии, он был почти таковым же в Испании, так как мадридский двор вполне подчинялся его воле, в Неаполе и Голландии, где царствовали послушные ему братья, и в Швейцарии в силу акта о посредничестве; в Германии он пользовался влиянием в королевствах Баварском и Вюртембергском и в Рейнском союзе и употреблял его против Австрии и Пруссии. После Амьенского мира поддержанием свободы он мог бы стать протектором Франции и руководителем Европы. Но, погнавшись за славой и видя ее в борьбе, а жизнь в победах, он осудил себя, таким образом, на продолжительную борьбу, которая должна была кончиться или полным ему подчинением всего континента, или его собственным падением.
Победоносное шествие Наполеона вызвало к жизни четвертую коалицию. Пруссия, остававшаяся со времени Базельского договора нейтральной, была в течение последней кампании очень близка к тому, чтобы присоединиться к австро-русской коалиции. Ее удержала от этого только та быстрота, с которой были одержаны императором победы; теперь, устрашенная быстрым ростом империи и уверенная в прекрасном состоянии своих войск, она соединилась с Россией с целью изгнать французов из Германии. Берлинский кабинет под угрозой войны потребовал, чтобы французские войска отступили за Рейн. В то же время на севере Германии он старался создать новую силу в противовес Рейнскому союзу. Император французский, пользуясь своим счастьем, расцветом своего могущества и согласием нации, совершенно не счел нужным подчиняться ультиматуму Пруссии и двинул против нее войска.
Кампания открылась в первых числах октября. Наполеон подавил коалицию по своему обыкновению быстротой и силой натиска. 15 октября он одержал при Йене решительную победу и уничтожил ею военную прусскую монархию; 16-го положили оружие при Эрфурте 14 000 пруссаков; 25-го французская армия вступила в Берлин, а конец 1806 г. был употреблен на взятие прусских крепостей и на движение в Польшу против русской армии. Польская кампания была более медленна, чем прусская, но настолько же блестяща. В третий раз Россия мерилась силами с Францией. Побежденная уже при Цюрихе и Аустерлице, она потерпела новые поражения при Эйлау и Фридланде. После этих приснопамятных дней император Александр вступил с Наполеоном в переговоры и заключил в Тильзите 21 июня 1807 г. перемирие, а 7 июля и окончательный мир.
Тильзитский мир еще более распространил французское господство на континенте. Пруссия была уменьшена наполовину. На юге Германии Наполеон создал два королевства — Баварское и Вюртембергское, как противовес Австрии; далее, на севере в противовес Пруссии были образованы королевства Саксонское и Вестфальское. Саксонское королевство, образованное из бывшего курфюршества того же имени и прусской Польши, преобразованной в Великое Герцогство Варшавское, было отдано саксонскому королю, а Вестфальское, составленное из Гессен-Кассельских владений, Брауншвейга, Фульды, Мюнстера и большей части Ганновера, досталось Жерому Наполеону. Император Александр, согласившийся на все эти перемены, очистил, в свою очередь, Молдавию и Валахию. Россия, однако, оставалась все еще единственной, хотя и побежденной, но не тронутой территориально державой. Наполеон следовал все более и более примеру Карла Великого; в день коронования он приказал нести перед собой корону, меч и скипетр этого франкского короля. Папа переехал Альпы, чтобы освятить образование его династии, и затем стал перестраивать свои владения по образу империи этого завоевателя. Революция желала восстановить свободу древних, Наполеон восстановил военную иерархию Средних веков. Революция создала граждан, Наполеон — вассалов; она превратила Европу в ряд республик, он переделал их в лены. Будучи повсюду победителем, обладая большой силой и выступив на поле деятельности после потрясений, перевернувших и утомивших мир, Наполеон мог на время устроить его сообразно своим фантазиям. Великая империя возвысилась внутри Франции со своей административной системой, заменившей правительство законодательных собраний своими специальными судами, лицеями, в которых военное обучение заняло место обучения республиканского, применявшегося в центральных школах, со своей наследственной знатью, в 1808 г. окончательно закрепившей вновь неравенство между классами населения, со своей гражданской дисциплиной, сделавшей всю Францию послушной всякому приказанию, отданному императором, как будто она была армией, а вне ее со своими второстепенными королевствами, союзными государствами, ленами и одним верховным главой. Наполеон, не встречая нигде сопротивления, мог в некотором роде перебегать с одного конца континента в другой и везде отдавать свои приказания.
Все внимание императора было направлено в эту эпоху на Англию, единственную державу, которой удалось избегнуть его нападений. Исполнился уже год со времени смерти Питта, но английский кабинет с настойчивостью и жаром продолжал следовать по отношению к Франции его предначертаниям. Потерпев неудачу с третьей и четвертой коалициями, он не думал положить оружия. Война шла не на живот, а на смерть. Великобритания объявила Францию в состоянии блокады и дала возможность императору принять против нее самой подобную же меру и пресечь ее сообщения с континентальными государствами. Континентальная блокада, начавшаяся в 1807 г., составила второй период системы, проводимой Бонапартом. Чтобы достичь всеобщего и никем не оспариваемого первенства, он применял оружие против континента и прекращение торговых сношений против Англии. Но, запрещая всякого рода сношения континентальных государств с Великобританией, он создал для себя новые затруднения, озлобление частных интересов и торговые бедствия, вызванные блокадой, присоединились к враждебным чувствам, возбужденным его деспотизмом, и к ненависти государств, вызванной его победоносным владычеством.
Между тем все державы, казалось, соединились друг с другом ради одной и той же цели. Англия была в опале для всей континентальной Европы вплоть до установления всеобщего мира. Против нее были в северных морях Россия и Дания, а в Средиземном море и океане — Франция, Испания и Голландия. Это был момент наибольшего развития господства Французской империи. Всю свою деятельность и весь свой гений Наполеон теперь направил на создание морских средств, с помощью которых явилась бы возможность составить полный противовес Англии, вооружившей более ста линейных кораблей и бесчисленное количество военных судов меньшего размера. Он стал устраивать гавани, укреплять морские берега и вообще подготовлять все, что дало бы возможность через несколько лет сразиться с успехом на новой арене. Ранее, однако, наступления этого момента он считал нужным обезопасить себя со стороны испанского полуострова и решил, чтобы иметь там политику более твердую и более ему близкую, водворить на испанский престол свою династию. Португальская экспедиция 1807 г. и Испанский поход 1808 г. составили и для Наполеона, и для Европы начало нового цикла событий.
С некоторых пор Португалия являлась, в сущности говоря, английской колонией. Император, с согласия мадридских Бурбонов, решил при помощи договора, заключенного в Фонтенбло 27 октября 1807 г., что Брагансский дом перестал царствовать. Французская армия под предводительством Жюно вступила в Португалию. Принц-регент Иоанн VI бежал в Бразилию, и французы 30 ноября 1807 г. заняли Лиссабон. Эта Португальская экспедиция была только преддверием к вторжению в Испанию. Испанская королевская фамилия находилась в периоде полной анархии: фаворит Годой был проклинаем народом, а Фердинанд, принц Астурийский, составлял заговоры против владычества любимца его отца. Хотя, конечно, императору нечего было особенно опасаться подобного правительства, но все же на него произвело неблагоприятное впечатление вооружение, предпринятое Годоем во время Прусской кампании. Вероятно, уже тогда у него явилось решение посадить на испанский престол одного из своих братьев; он полагал, что нетрудно будет победить разделенную раздорами династию и умирающую монархию и добиться согласия народа, призвав его к цивилизации. Под предлогом проектирующейся морской войны и блокады Наполеон ввел свои войска на испанский полуостров, занял ими прибрежные пункты и часть их расположил в окрестностях Мадрида. Затем королевскому дому было предложено, по примеру дома португальского, проехаться в Мексику. Народ, однако, воспротивился этому отъезду; жизнь Годоя, бывшего единственным предметом народной ненависти, подвергалась большой опасности; принц Астурийский был провозглашен королем под именем Фердинанда VII. Император воспользовался этой дворцовой революцией и произвел свою собственную. Французы заняли Мадрид, а сам он явился в Байонну и призвал туда испанский королевский дом. Фердинанд VII возвратил корону своему отцу, а от него ее отняли в пользу Наполеона, который с разрешения верховной хунты, Кастильского совета и Мадридской городской думы передал ее своему брату Жозефу. Фердинанд был перевезен в замок Балансе, а Карл VI поселился в Компьене. На неаполитанский престол вместо Жозефа Наполеон призвал своего шурина Мюрата, герцога Бергского.
С этого времени начинается первая оппозиция против господства императора и против континентальной системы. Реакция сразу обнаружилась в трех до сих пор бывших вполне императору преданных странах и повела к образованию пятой коалиции. Римский двор был недоволен; Испания была оскорблена в своей национальной гордости возведением на престол короля иностранного происхождения, а в своих привычках — уничтожением монастырей, инквизиции и звания фандов; Голландия, со своей стороны, много потеряла в торговле вследствие континентальной блокады, а Австрия с нетерпением ждала конца своего униженного второстепенного положения и слишком сильно чувствовала свои потери. Папа находился в холодных отношениях с Францией уже с 1805 г.; он надеялся, что, в уплату за его услужливость при помазании Наполеона на царство, этот последний вернет Церковной области те земли, что Директория присоединила к Цизальпинской Республике. Будучи обманут в своих ожиданиях, он вступил в ряды европейской оппозиции и в 1807 и 1808 гг. Церковная область стала местом сборища английских эмиссаров. После довольно резко выраженных и невыполненных требований император приказал генералу Миоллису занять Рим; папа ответил угрозой отлучения от церкви; Наполеон тогда отнял у него Анкону, Урбино, Масерату и Камерино и включил их в состав Итальянского королевства. Папский легат оставил Париж 3 апреля 1808 г.; это было началом религиозной борьбы за светские интересы с главой церкви, которого или не следовало приглашать во Францию, или не надо было ограблять в Италии. Война на Пиренейском полуострове была еще серьезнее. Испанцы на провинциальной хунте, собравшейся в Севилье 27 мая 1808 г., признали королем Фердинанда VII и взялись за оружие во всех не занятых французскими войсками провинциях. 16 июня в Опорто поднялись также и португальцы. Вначале оба эти восстания имели самый счастливый ход и в короткое время оказали быстрые успехи. Генерал Дюпон был принужден положить оружие при Байлене, в провинции Кордова, и этот первый неуспех французских войск возбудил энтузиазм и надежды испанцев. Жозефу Наполеону пришлось покинуть Мадрид, где был провозглашен Фердинанд VII; одновременно и генералу Жюно, не имевшему достаточно войск, чтобы удержаться в Португалии, пришлось искать соглашения и по договору, заключенному в Синтре, удалиться со всеми военными почестями. Португалия была тотчас же занята двадцатипятитысячным отрядом англичан под начальством генерала Веллингтона. Одновременно с тем, что папа объявил себя против Наполеона, одновременно с занятием части континента англичанами и входом испанцев в Мадрид, и шведский король показал себя неприязненно настроенным против императорской европейской лиги, а Австрия стала делать значительные вооружения и приготовляться к новой борьбе.
К счастью для Наполеона, Россия осталась верна союзу с Францией и принятым в Тильзите обязательствам. Император Александр находился в эту эпоху в периоде энтузиазма и расположения по отношению к этому могущественному и удивительнейшему из смертных. Наполеон, ввиду необходимости сосредоточить все свои силы на Пиренейском полуострове, пожелал предварительно убедиться в верности ему севера и добился свидания с Александром в Эрфурте 27 сентября 1808 г. Два повелителя, один севера, другой запада, гарантировали друг другу покой и повиновение Европы: Наполеон двинулся в Испанию, а Александр взял на себя Швецию. Личное присутствие императора быстро переменило счастье войны в Испании; он привел с собой 80 000 старых, испытанных солдат, вызванных из Германии. Ряд побед подчинил его власти большую часть испанских провинций. Он вошел в Мадрид и явился жителям полуострова не как победитель, а как освободитель. „Я уничтожил, — сказал он им, — тот инквизиционной трибунал, против которого протестовало и само время, и вся Европа. Священники должны управлять совестью, но не должны обладать никакой внешней юридической властью над гражданами. Я уничтожил феодальное право; всякий теперь может свободно открывать гостиницы, пекарни, мельницы, всякий может заниматься рыбной ловлей и другими морскими промыслами и вообще выбирать себе занятия по своему желанию. Вашему земледелию вредили гораздо больше эгоизм, богатство и благосостояние небольшой кучки людей, чем летние засухи. Как существует только единый Бог, так и в государстве должно существовать только единое правосудие. Всякого рода частные юрисдикции были насильственны и противны правам народа; я уничтожил и их… Теперь слишком сильно распалены все страсти, и настоящее поколение может иметь обо мне то или иное мнение, но ваши дети, несомненно, станут благословлять меня как преобразователя; они поместят день, в который я появился между вами, в число дней наиболее чтимых, и с этого дня начнется благосостояние Испании…“
Такова и на самом деле была роль Наполеона в Испании; она не могла быть возвращена к благосостоянию иначе, как возвращением к цивилизации. Нет возможности установить вдруг независимость, и если мы имеем дело со страной невежественной, отсталой, бедной, покрытой монастырями и управляемой монахами, то в ней ранее введения политической свободы надо ввести изменение общественного уклада. Наполеон являлся притеснителем цивилизованных наций, но для Пиренейского полуострова он был настоящим преобразователем. Однако, обе партии, и гражданской свободы, и религиозного рабства, т. е. партия кортесов и партия монахов, будучи совершенно противоположными по преследуемым ими целям, соединились для общей взаимной защиты. Одна из партий стояла во главе высшего и среднего класса, другая во главе черни; обе они друг перед другом старались воспламенить испанцев чувством религиозного фанатизма. Вот, например, отрывки из катехизиса, по которому учило духовенство:
„Скажи мне, дитя мое, кто ты? — Благодарение Богу, я испанец. — Кто враг нашего счастья? — Французский император. — Сколько он имеет естеств? — Два: человеческое и дьявольское. — Сколько ты знаешь французских императоров? — Одного в действительности, но в трех лицах. — Как ты их называешь? — Наполеон, Мюрат и Мануэль Годой. — Который из этих трех наиболее зол? — Все три одинаково. — От кого происходит Наполеон? — От греха. — А Мюрат? — От Наполеона. — А Годой? — От блуда первых двух. — Какая главная отличительная черта первого? — Гордость и деспотизм. — А второго? — Хищность и жестокость. — А третьего? — Алчность, предательство и невежество. — Кто такие французы? — Прежние христиане, ставшие еретиками. — Грешно ли убить француза? — Нет, отец мой, убийством одной из этих собак-еретиков приобретаешь Небесное Царство. — Какого наказания заслуживает испанец, не исполняющий своих обязанностей? — Смерти и названия изменника. Кто освободит нас от наших врагов? — Взаимное доверие и оружие“.
Наполеон ввязался в предприятие слишком обширное и опасное и притом такое, в котором была бессильна его система вести военные действия. Победу здесь давало не поражение армии и занятие столицы, а занятие всей территории страны и, что еще труднее, подчинение умов. Однако Наполеон был близок к усмирению этого народа своей непреодолимой деятельностью и своим не знающим колебаний упорством, когда образование пятой коалиции заставило его уехать в Германию.
Австрия воспользовалась отсутствием императора и его войск, отправленных в Испанию. Она напрягла все свои силы, собрала под ружье 550 тысяч человек, считая в том числе ландвер, и весной 1809 г. начала кампанию. Поднялся Тироль; король Жером был изгнан вестфальцами из своей столицы; Италия колебалась, а Пруссия ожидала первого поражения Наполеона, чтобы взяться за оружие; император был, однако, еще наверху своего могущества и счастья. Он уехал из Мадрида и в начале февраля приказал членам Рейнского союза держать свои войска наготове. 12 апреля он выехал из Парижа, перешел через Рейн, углубился в Германию, выиграл сражения при Экмюле и Эсслинге, 13 мая во второй раз занял Вену и через четыре месяца кампании сражением при Ваграме разрушил новую коалицию. Покуда он преследовал австрийские войска, англичане высадились на остров Вальхерн и подошли к Антверпену; достаточно было, однако, одной Национальной гвардии, чтобы помешать успеху их экспедиции. Мир, заключенный в Вене 14 октября 1809 г., отнял еще несколько провинций у Австрии и заставил ее примкнуть к континентальной системе.
Этот период был замечателен новым характером борьбы. Она начала собой реакцию Европы против Французской империи и была отмечена разнообразными союзами между династиями, народами, духовенством и торговлей. Все недовольные интересы делали в этом периоде попытки сопротивления, но на первый раз эти попытки не увенчались успехом. Наполеон после нарушения Амьенского мира вступил на путь, в конце которого он должен был прийти к полному порабощению всей Европы или к вражде с ней. Увлеченный своим характером и своим положением, он создал против народов необыкновенно выгодную для власти административную систему, против Европы — в значительной мере облегчившую ему выполнение завоевательных замыслов систему второстепенных монархий и великих ленов, наконец, против Англии — блокаду, остановившую и ее, и всего континента торговлю. Ничто не мешало ему в исполнении его обширных, но безумных проектов. Вступила в сношения с Англией Португалия, — он ее занял войсками. Испанский королевский дом своими ссорами и нерешительностью не давал уверенности в безопасности тыла империи; он, чтобы подчинить полуостров более отважной и более постоянной политике, принудил его отказаться от престола. Вступил в сношения с неприятелем папа, — у него отняли часть церковных владений; стал он грозить отлучением от церкви, французские войска заняли Рим; привел он свою угрозу в исполнение, издав особую буллу, и за это в 1809 г. был совершенно лишен всякой светской власти и отвезен, как преступник, в Савону. Наконец, после Ваграмской победы и Венского мира Голландия ввиду своих торговых сношений сделалась складочным местом для английских товаров, и император прогнал с ее трона своего брата Людовика и 1 июля 1810 г. включил это королевство в состав своей империи. Наполеон никогда не отступал ни перед каким насилием и не желал переносить не только противоречий, но даже и колебаний. Все в одинаковой мере должны были ему покоряться, союзники и враги, глава церкви и короли, братья и иностранцы. Однако все, кто участвовал в последнем против Наполеона союзе, хотя и были побеждены, но ждали только случая для того, чтобы подняться вторично.
Между тем после заключения Венского мира Наполеону удалось еще более увеличить протяжение и могущество империи. Швеция, только что перенесшая внутреннюю революцию и король которой Густав VI только что вынужден отказаться от престола, приняла континентальную систему. Генеральными штатами наследным шведским принцем был выбран Бернадотт, князь Понте-Корво, и король Карл XIII усыновил его. Блокада теперь соблюдалась всей Европой, а империя, увеличенная римскими владениями, Иллирийскими провинциями, Вале, Голландией и Ганзейскими городами, имела 130 департаментов и простиралась от Гамбурга и Данцига до Триеста и Корфу. Наполеон, до сих пор следовавший безрассудной, но непреклонной политике, теперь уклонился со своего пути вторичным браком. Чтобы иметь наследника престола империи, он развелся с Жозефиной и 1 апреля 1810 г. женился на Марии-Луизе, эрцгерцогине австрийской. Это была несомненная ошибка. Он оставил свое положение и свою роль монарха-революционера, своим возвышением обязанного только исключительно самому себе и действовавшего в Европе по отношению к прежним владетельным домам точно так, как республика действовала по отношению к прежним правительствам; он бросил, говорим мы, эту роль и встал в ложное положение по отношению к Австрии, которую надо было после Ваграмской победы либо совершенно раздавить, либо после брака с эрцгерцогиней восстановить в полной степени до прежней силы и значения. Прочные союзы всегда имеют своим основанием исключительно действительные интересы. Наполеон же не сумел отнять у венского кабинета ни желания, ни возможности снова вступить с ним в борьбу. Этот брак, наконец, изменил характер его империи и еще более удалил его от народных интересов; он стал разыскивать древние роды, чтобы украсить ими свой двор, и сделал все, что было в его власти, для того, чтобы смешать вместе прежнюю и новую знать, как он смешивал династии. Аустерлиц освятил империю разночинцев; после Ваграма было положено основание империи знати. 20 марта 1811 г. у Наполеона родился сын, получивший титул римского короля; рождение наследника, казалось, укрепило власть Наполеона, обеспечив престол за его потомством.
Испанская война с энергией велась в течение 1811 и 1812 гг. Территория полуострова защищалась на каждой пяди, и ее приходилось отвоевывать шаг за шагом, беря города приступом. Сюше, Сульт, Мортье, Ней и Себастьян заняли несколько провинций. Испанская хунта не могла удержаться в Севилье и заперлась в Кадиксе, тотчас же осажденном французскими войсками. Новая Португальская экспедиция далеко не была так счастлива, как прежняя. Руководивший ею Массена сначала принудил Веллингтона к отступлению и занял Опорто и Оливенцу; но английский генерал засел в траншеи на очень сильной позиции около Торрес-Ведрас; Массена не мог его оттуда выбить, и ему пришлось очистить страну.
Пока на Пиренейском полуострове продолжалась война, хотя и с известного рода преимуществами для Франции, но без решительного успеха, на севере подготовлялась новая кампания. Россия наблюдала, как империя Наполеона все ближе и ближе к ней пододвигается. Замкнутая в своих границах, она оставалась и без влияния на ход событий, и без приобретений и несла сильные убытки от блокады, не получая выгод от войны. Русское правительство к тому же нетерпеливо переносило первенство Французской империи, ибо оно само к нему медленно, но неизменно стремилось, еще начиная с царствования Петра I. В конце 1810 г. Россия значительно увеличила численность своих войск, возобновила торговые сношения с Великобританией, и все указывало на близость разрыва. Весь 1811 г. прошел в переговорах, которые не привели, однако, ни к чему, и все это время обе стороны деятельно готовились к войне. Император, главные войска которого тогда находились под Кадиксом и который рассчитывал на помощь против России запада и севера, с горячностью принялся за приготовления к предприятию, которое должно было покорить единственную державу, совершенно еще им не затронутую до сих пор, и ввести его победоносные орды в Москву. Он добился содействия со стороны Пруссии и Австрии, из которых первая по договору, заключенному 24 февраля 1812 г., обязалась выставить вспомогательный корпус в 20 000 человек, а вторая, по договору 14 марта, подобный же корпус, но численностью в 30 ООО. В самой Франции были мобилизованы все силы, какими она только могла располагать. Особым сенатским постановлением вся Национальная гвардия была разделена на три призыва для несения службы внутри государства; кроме того, 100 когорт первого призыва, численностью около ста тыс. человек, были назначены в действующую армию. 9 марта Наполеон выехал из Парижа, отправляясь в эту грандиозную экспедицию. На несколько месяцев он со всем своим двором обосновался в Дрездене, и сюда являлись, преклоняясь перед его могуществом, император австрийский, король прусский и различные немецкие владетельные князья. 22 июня была объявлена война России.
Наполеон в этой кампании руководился теми же принципами, которые до сих пор неизменно всюду доставляли ему успех. Все войны, которые только он до сих пор вел, он заканчивал быстрым поражением неприятеля, занятием вражеской столицы и миром, по которому всегда у неприятеля отнималась часть принадлежащей ему территории. Он проектировал умалить Россию созданием Польского королевства, как он умалил уже Австрию созданием после Аустерлица королевств Баварского и Вюртембергского и Пруссию после Йены образованием королевств Саксонского и Вестфальского. С этой целью он при помощи трактата, заключенного с Австрией 14 марта, выговорил обмен Галиции на Иллирийские провинции. Восстановление Польского королевства было возвещено на Варшавском сейме, но еще не в окончательной форме, и Наполеон, верный своей привычке кончать все одной кампанией, ринулся в глубь России вместо того, чтобы, как того требовала осторожность, окончательно организовать против России из Польши защитную преграду. Численность его армии была около 500 000 человек. 24 июня Наполеон перешел через Неман, затем занял Вильну и Витебск, разбил русских при Острове, Полоцке, Могилеве, Смоленске и Москве-реке и, наконец, 14 сентября вошел в Москву.
Русское правительство видело средства защиты не только в своих войсках, но и в громадных расстояниях своей территории и климатических условиях страны. По мере того, как его разбитые французами войска отступали, они сжигали все попадающиеся по дороге города, опустошали села и, таким образом, подготовляли для Наполеона громадные затруднения на случай его поражения или отступления. Совершенно в соответствии с таким образом обороны генерал-губернатор Ростопчин сжег Москву, как ранее были сожжены Смоленск, Дорогобуж, Вязьма, Гжатск, Можайск и множество других городов, сел и местечек. Императору следовало бы понять, что эта война не может окончиться, как всякая другая; однако, будучи победителем и заняв столицу неприятеля, он возымел надежду на заключение мира, и русские ее весьма искусно в нем поддерживали. Приближалась зима, а Наполеон затянул свое пребывание в Москве до шести недель. Он не предпринимал дальнейших движений ввиду лживых переговоров с русскими и решился на отступление только 19 октября. Отступление было бедственно, и им началось крушение империи. Наполеон не мог быть побежден человеческой рукой; никакой генерал не мог восторжествовать над таким гениальным полководцем, и никакая армия не могла разбить несравненную французскую армию. Поворот счастья для него оказался на самом краю Европы, во льдах… Вот где должно было закончиться его победоносное шествие. В конце этой кампании среди русских пустынь и снегов он растерял свою старую армию и погубил обаяние своего счастья не через поражения, а вследствие холода и голода.
Отступление до реки Березины шло с некоторым подобием порядка, а далее оно превратилось в беспорядочное бегство. После перехода этой реки Наполеон, до той поры следовавший с армией, сел на сани и поспешил в Париж, где во время его отсутствия был образован заговор. Генерал Мале вздумал низвергнуть этого могучего колосса. Его предприятие было слишком смело; основано оно было на ложном слухе о смерти Наполеона, и потому для успеха надо было обмануть слишком многих. Кроме того, империя была еще совершенно крепка в своих основаниях, и не заговор, а медленное и всеобщее отступничество могло одно ее низвергнуть. Заговор Мале не удался, и он вместе со всеми, кого ему удалось увлечь за собой, был казнен. Император по своем возвращении нашел народ удивленным таким непривычным поражением. Государственные органы, однако, показывали все еще полное повиновение. Наполеон прибыл в Париж 18 декабря, добился нового рекрутского набора в триста тыс. человек, возбудил всеобщие пожертвования и, благодаря своей удивительной деятельности, в короткое время создал новую армию и 15 апреля 1813 г. начал новую кампанию.
Однако со времени отступления из Москвы для Наполеона произошел новый оборот событий. С 1812 г. началось падение империи. Усталость от его господства сказывалась повсюду. Все, с согласия которых он возвысился, теперь восстали против него. Священство втихомолку действовало против него со времени разрыва его с папой, которого он отправил в так называемое пленение. Восемь государственных тюрем было официально открыто для диссидентов подобного рода. Даже народная масса была утомлена завоеваниями не менее, чем раньше заговорами. Она ждала от Наполеона внимания к частным интересам, развития торговли, уважения личности, а на деле оказалась подавленной рекрутскими наборами, податями, блокадой, превотальными судами» и косвенными налогами, являвшимися неизбежными последствиями его завоевательной системы. Противниками его теперь стали не только те немногие, кто сохранил верность принципам революции и кого он называл идеологами, но также и все те, кто, не имея определенных убеждений, хотел воспользоваться материальными выгодами более развитой цивилизации. Вне Франции народы стонали под военным игом, а униженные династии, понятно, только и думали о том, как бы снова подняться. Весь свет чувствовал себя не по себе, и первая неудача должна была обязательно вызвать общее восстание. «Я торжествовал, — говорит сам Наполеон по поводу предыдущих кампаний, — среди постоянно возрождающихся опасностей. Мне постоянно надо было столько же ловкости, сколько и силы… Если бы я не одержал победы при Аустерлице, мне пришлось бы возиться со всей Пруссией, если бы я не был победителем при Иене, то Австрия и Испания, несомненно, восстали бы против меня у меня в тылу; если бы я, наконец, не одержал победы при Ваграме, — а победа эта далеко не была решительной, — я должен был бы опасаться, чтобы Россия меня не оставила, а Пруссия не поднялась против меня, и это в то время, как англичане уже стояли под Антверпеном…» Вот каково было положение Наполеона. Чем дальше шел он вперед по выбранному пути, тем более необходимы были для него решительные победы. И как только он был разбит, его друг за другом постепенно бросили и короли, которых он покорил, и короли, которых он создал, и союзники, земли которых он умножил, и государства, которые он непосредственно присоединил к своей империи, и столь много льстившие ему раньше сенаторы, и даже его компаньоны по оружию. Поле сражения, в 1812 г. находившееся под Москвой, в 1813 г. было перенесено к Дрездену, а в 1814 г. в окрестности Парижа, — вот насколько быстро совершался этот поворот счастья.
Первым отступил от Наполеона берлинский кабинет. 1 марта 1813 г. он соединился с Россией и Англией, и они образовали шестую коалицию, к которой затем присоединилась и Швеция. Тем временем император, относительно которого союзники полагали, что он сражен последним бедствием, начал новую кампанию рядом побед. Коалиция была поражена сражением при Люцене, выигранным Наполеоном 2 мая с армией, сплошь составленной из рекрутов, взятием Дрездена, победой при Бауцене и перенесением поля боя на Эльбу. Австрия с 1810 г. находилась совершенно на мирном положении; теперь, снова вооружась, она замышляла завязать сношения с другими союзниками и предложила себя в посредники между императором и другими державами, составившими коалицию. Предложение Австрии было принято. 4 июня в Плесвице было заключено перемирие, и в Праге собрался для выработки мирных условий конгресс. Не было, однако, никакой возможности столковаться; Наполеон не хотел согласиться на уменьшение своей власти, а Европа не желала признавать себя ему подчиненной. Входившие в коалицию державы совместно с Австрией потребовали, чтобы империя была ограничена, хотя и оставляли ей Голландию и Италию. Переговоры были прерваны, не приведя ни к какому результату. Австрия вступила в коалицию, и снова возобновилась та война, которая одна могла окончательно разрешить этот спор.
У императора была армия всего в 280 000 человек против 520 000 солдат союзников. Он составил план отбросить неприятеля за Эльбу и, по своему обыкновению, расстроил эту новую коалицию быстротой и силой своего натиска. Сначала победа была на его стороне. Он разбил соединенные союзные войска под Дрезденом; но поражения его генералов расстроили все его планы. Макдональд был разбит в Силезии, Ней около Берлина, а Вандам при Кульме. Не смогши сдержать неприятеля, готового окружить его со всех сторон, Наполеон принужден был дать еще одно большое сражение. Этот момент выбрали государи, входившие в Рейнский союз, чтобы бросить Наполеона. Между двумя неприятельскими армиями произошло кровавое столкновение у Лейпцига, и во время самой битвы саксонцы и вюртембержцы перешли на сторону неприятеля. Эта измена и сила коалиционных войск, которые к тому же научились вести войну, сосредоточивая с большим искусством массы в одном пункте, принудили Наполеона после сражения, продолжавшегося три дня, начать отступление. Армия в большом расстройстве двинулась к Рейну, где ей пытались преградить путь также изменившие к этому времени Наполеону баварцы. Наполеон, однако, раздавил их около Ганау, и 30 октября 1813 г. французская армия отступила на территорию Французской империи. Конец этой кампании был не менее плачевен, чем предыдущей. Как и в 1789, 1791 гг., Франция оказалась под угрозой вторжения извне, но у нее не было теперь больше прежнего энтузиазма в защите независимости, и человек, который лишил ее прав и завел ее в этот кризис, оказался совершенно не в состоянии ее защитить и поддержать. Рано или поздно всегда приходится искупить порабощение народа.
Наполеон вернулся в Париж 9 ноября 1813 г. Он добился от Сената постановления о наборе в 300 000 человек и с большим жаром занялся приготовлениями к новой кампании. Он созвал Законодательный корпус, желая и его содействия для дела общей защиты; он сообщил ему документы, относившиеся до веденных в Праге переговоров, и потребовал от него нового и последнего усилия, чтобы достичь мира, которого так страстно желала вся Франция. Законодательный корпус, до того времени совершенно немой и послушный Наполеону, нашел момент удобным для того, чтобы оказать Наполеону сопротивление.
Наполеон был подавлен общей усталостью и помимо своего желания оказался под нажимом роялистской партии, которая тайно не переставала действовать с тех пор, как упадок империи снова возбудил в ней надежды. Комиссия, состоявшая из Лене, Ренуара, Галлуа, Фложерга и Мен де Бирана, представила доклад, совершенно неблагоприятный для действий, совершенных правительством, возвысила свой голос против продолжения войны и потребовала восстановления свободы. Это пожелание, совершенно естественное в другое время, в такой момент могло только содействовать успеху иностранного вторжения. Хотя, как казалось, союзники и готовы были заключить мир под условием очищения государств Европы, но на самом деле их планы шли гораздо дальше. Наполеон, рассерженный на неожиданную и неуместную оппозицию Законодательного корпуса, недолго думая, распустил его. Это первое сопротивление возвещало начало уже не внешних, а внутренних отступничеств. Первой отступилась Россия, за ней последовала постепенно вся Германия, а теперь примеру их хотели последовать не только Италия, но и сама Франция. Все, однако, и теперь зависело от результатов кампании, продолжавшейся, несмотря на зиму. Наполеон сосредоточил в военных действиях все свои надежды и 25 января выехал из Парижа, чтобы выполнить свою бессмертную кампанию 1814 г.
Империя подверглась нападениям со всех сторон. Австрийцы двигались по Италии; англичане, за последние два года ставшие хозяевами всего Пиренейского полуострова, под начальством генерала Веллингтона перешли Бидассоа и появились за Пиренеями. Три армии теснили Францию с севера и востока. Главная союзная армия численностью в 150 000 человек под начальством Шварценберга шла через Швейцарию; Силезская армия из 130 000 человек под начальством Блюхера вступила во Францию через Франкфурт; наконец, Северная армия из 100 000 человек под начальством Бернадотта заняла Голландию и переходила в Бельгию. Неприятели теперь также не обращали никакого внимания на крепости; наученные опытом, они, как и бывший их победитель, ускоренным маршем двигались по направлению к столице Франции. В тот момент, когда Наполеон покинул Париж, армии Шварценберга и Блюхера были близки к соединению в Шампаньи. Лишенный поддержки народа, сохранившего за собой чисто наблюдательную роль, Наполеон оказался один против всего света, один с горстью старых солдат и своим гением, ничего не потерявшим ни в своей силе, ни в своей смелости. Чудное зрелище представлял он в это время; он не был более ни притеснителем, ни завоевателем, а только защитником своей родины, шаг за шагом рядом новых побед отстаивающим родную землю, а вместе с ней свою корону и свою военную славу.
В Шампаньи он двинулся сразу против обеих больших неприятельских армий. Генералу Мезону поручил он атаковать Бернадотта в Бельгии, Ожеро — австрийцев в Лионе, Сульту — англичан на юге. Принц Евгений должен был действовать в Италии, и империя, хотя и занятая в самом своем центре неприятелем, при помощи своих зарейнских гарнизонов протягивала свои длинные руки до самых отдаленных уголков Германии. Наполеон совершенно не отчаивался при помощи сильной военной реакции отбросить всех своих врагов снова за пределы Франции и перенести свои знамена снова на вражескую территорию. Он искусно поместился со своей армией между Блюхером, спускавшимся по Марне, и Шварценбергом, двигавшимся вдоль Сены; он перебегал от одной армии к другой и разбивал их поочередно. Блюхер был им разбит при Шампобере, Монмирайе, Шато-Тьерри и Вошане, а когда его армия была окончательно рассеяна, он вернулся к Сене, опрокинул австрийцев при Монтеро и погнал их перед собой. Его комбинации отличались такой определенностью, его деятельность была так велика, а удары, им наносимые, так верны, что, казалось, он был в состоянии достигнуть полного рассеяния этих двух армий и, таким образом, уничтожения всей коалиции.
Однако, если он оказывался победителем всюду, где находился лично, неприятель подвигался вперед везде, где его не было. Англичане заняли Бордо, где нашлась партия, высказавшаяся за Бурбонов. Австрийцы подвигались к Лиону. Неприятельская армия, оперировавшая в Бельгии, соединилась с остатками армии Блюхера, снова появившегося в тылу у Наполеона. Отступничество началось в его собственном семействе, и Мюрат в Италии последовал примеру Бернадотта и присоединился к коалиции. Высшие чины империи хотя и продолжали служить императору, но спустя рукава, и он находил прежнюю горячность и прежнюю преданность только во второстепенных генералах и своих неутомимых солдатах. Наполеон снова двинулся против Блюхера, который три раза ускользал от него; на левом берегу Марны пруссаки были загнаны в болота и должны были в них найти свою гибель, но внезапный мороз сковал трясину и позволил им благополучно выбраться; при Эне пруссаки были окружены, и им не оставалось никакого выхода; измена Суасона им, однако, этот выход открыла; при Лаоне Наполеону помешала дать решительное сражение беспечность герцога Рагузского, позволившего захватить себя врасплох в ночное время. После стольких несчастных случайностей, расстраивавших его самые верные планы, Наполеон, не получая почти никакой помощи от своих генералов и окруженный со всех сторон коалицией, задумал смелый поход на Сен-Дизье, чем полагал закрыть выход неприятелю из Франции. Этот смелый, можно сказать, гениальный поход на мгновение поколебал было уверенность противников, ибо отнимал у них всякую возможность отступления; однако затем, возбуждаемые тайными поощрениями, они, не заботясь о своем тыле, двинулись к Парижу.
И вот на равнинах, окружающих этот громадный город, единственную из столиц на континенте, которая еще ни разу не была занята неприятелем, показались войска всей Европы, и Парижу предстояло испытать такое же унижение, как и другим столицам. Париж был оставлен на произвол судьбы. Императрица, назначенная несколько месяцев перед тем регентшей, покинула его и переехала в Блуа. Наполеон был далеко. Париж при том не имел ни того отчаяния, ни той любви к свободе, когорые одни делают народы непобедимыми; война велась не между народами, а между правительствами, и император сосредоточил все общественные интересы в одном себе, а все средства к защите — в своих регулярных войсках. Усталость была велика; только чувство гордости, чувство вполне законное, одно делало прискорбным приближение неприятеля и заставляло щемиться сердце каждого француза при виде неприятельских войск, столько времени повсюду разбиваемых и теперь попирающих родную землю. Но это чувство не было достаточно сильным, чтобы поднять всю массу населения против неприятеля, а происки роялистской партии, во главе которой стал в это время герцог Беневентский, призывали его в столицу Франции. 30 марта, правда, произошло небольшое сражение под стенами Парижа, но 31-го уже были открыты для союзников его ворота, и они заняли Париж на основании условий капитуляции. Сенат докончил всеобщее отречение от Наполеона и покинул своего бывшего повелителя; Сенатом руководил в это время Талейран, с некоторого времени находившийся в немилости у императора. Талейран был как бы обязательным участником всякого государственного переворота, и теперь он стал действовать против императора. В сущности, он не принадлежал ни к одной партии и политически был человеком совершенно индифферентным, но он обладал способностью с удивительной проницательностью и задолго предвидеть падение всякого правительства; это позволяло ему всегда вовремя покидать его и, когда наступала решительная минута поражения, помогать этому поражению всеми имеющимися в его распоряжении средствами, своим влиянием, своим именем, своей властью, которую он всегда старался хотя до известной степени сохранить за собой. При Учредительном собрании он был за революцию, 8 фрюктидора он был за Директорию, 18 брюмера за Консульство, в 1804 г. за империю; теперь, в 1814 г., он ратовал за реставрацию королевской фамилии. Он был каким-то главным церемониймейстером власти, и казалось, что именно он, а никло другой, ниспровергает одни и устанавливает другие правительства. Под его влиянием Сенат назначил временное правительство, объявил Наполеона низвергнутым с престола, престолонаследие в его роде уничтоженным и французский народ и армию освобожденными от присяги ему. Сенат признал тираном того самого человека, деспотизму которого он так много способствовал своей продолжительной лестью.
Тем временем Наполеон, побуждаемый к тому своими приближенными и с целью оказать помощь столице, оставил свой поход в Сен-Дизье и двинулся к Парижу во главе 50-тысячного отряда, надеясь поспеть вовремя и воспрепятствовать занятию его неприятелем. 1 апреля он приблизился к Парижу и тут узнал о заключенной накануне капитуляции; он удалился тогда в Фонтенбло, и сюда к нему пришло известие об измене Сената и о свержении его с престола. Тогда, видя, как все вокруг него рушится и как в минуту несчастья его покидают постепенно и народ, и Сенат, и генералы, и царедворцы, он решился сам отказаться от престола в пользу своего сына. Решив это, он в качестве полномочных послов послал к союзным государям, действовавшим против него, герцога Виченцского, князя Московского и герцога Тарентского; они должны были прихватить по дороге с собой еще герцога Рагузского, прикрывавшего во главе одного корпуса Фонтенбло. Наполеон со своей пятидесятитысячной армией и прочным военным положением мог еще принудить коалицию признать на французском престоле своего сына. Но герцог Рагузский дезертировал со своего поста, вступил в переговоры с неприятелем и оставил Фонтенбло без защиты. Наполеону не оставалось ничего другого, как принять условия союзников, а их требования по мере побед все более и более возрастали. В Праге они оставляли Наполеону Голландию и Италию; после Лейпцига они говорили уже только об империи, имеющей границами Рейн и Альпы; вступив во Францию, в Шатильоне они соглашались оставить ему владения в границах королевства до 1789 г.; несколько позже они вовсе отказывались от переговоров с ним самим и соглашались на переговоры только в пользу его сына; теперь, наконец, решившись разом покончить со всем, что осталось еще от революции в Европе, с ее победами и с выдвинутой ею династией, они принудили Наполеона к полному и безусловному отречению от престола. 6 апреля 1814 г. ему пришлось от своего имени и от имени своих наследников и потомков отказаться навсегда от престола Франции и Италии; взамен своей обширнейшей империи, границы которой еще недавно простирались вплоть до берегов Балтийского моря, он получал маленький островок Эльба. 20-го, после трогательного прощания со своими солдатами, Наполеон уехал в свои новые владения.
Вот каким образом произошло падение человека, наполнявшего собой одним весь мир в продолжение четырнадцати лет. Его гений предприимчивости и организаторский талант, его кипучая натура, сила его воли, его любовь к славе и, наконец, возможность располагать теми громадными силами, которые революция отдала ему в руки, сделали из него одного из самых предприимчивых полководцев и наиболее гигантского из поработителей. Все, что в судьбе другого было бы прямо необычайно, то в его судьбе было мелочью. Выйдя из полной неизвестности, он достиг затем высшего в государстве положения: из простого артиллерийского офицера он сделался главой одной из величайших наций, и вот он не только посмел мечтать о всемирной монархии, но ему на момент удалось осуществить эту мечту. Установив своими победами империю, он желал при помощи Франции подчинить себе всю Европу, а при помощи Европы он думал справиться с Англией; Европу он порабощал своей военной системой, а Англию — континентальной блокадой. В продолжение нескольких лет его планы в этом отношении увенчивались полными успехами; все народы и все правители Европы, от Лиссабона до Москвы, слушались его генеральского пароля и подчинялись наложенному им секвестру. Но, действуя таким образом, он изменил той восстановительной миссии, которую он принял на себя 18 брюмера. Пользуясь полученной им властью только в свою собственную выгоду, покушаясь своими деспотическими учреждениями на свободу народа, а войнами — на независимость государств, он не мог не возбудить против себя всех, ибо он не удовлетворил ни мнений, ни интересов человеческого рода. Он возбудил против себя всеобщее неудовольствие; нация отступилась от него, и вот, пробыв долгое время победителем, водрузив свой флаг в столицах всех государств Европы, в продолжение десяти лет непрестанно увеличивая свою власть и каждой битвой выигрывая по государству, при первой же неудаче он оказался один против всего света, — и он пал, лишний раз доказав на своем примере, насколько невозможно в настоящее время установить и поддержать деспотизм.
Однако Наполеон, несмотря на бедственные результаты своей системы, дал континенту благотворный толчок; армии его переносили с собой более передовые нравы, идеи и цивилизацию Франции. Европейские общества были сдвинуты с их древнего основания. Народы вследствие более частых сношений между собой несколько перемешались; перекинутые через пограничные реки мосты и большие дороги, проведенные через Альпы, Пиренеи и Апеннины, сблизили отдельные территории; Наполеон, таким образом, для материального состояния государств сделал то же самое, что революция сделала для умов. Блокада дополнила толчок, данный континенту; чтобы обойтись без услуг Англии, поневоле континентальной промышленности пришлось позаботиться о своем самоусовершенствовании и продуктами своих мануфактур заменить товары, до сих пор привозившиеся из колоний. Таким путем Наполеон, волнуя народы, способствовал их цивилизации. Во Франции он своим деспотизмом был, конечно, предводителем контрреволюции, но его завоевательный гений сделал из него новатора для Европы, где некоторые народы, до него находившиеся в полусне, после его прихода стали жить жизнью, в них возбужденной. Во всем этом Наполеон повиновался исключительно своей натуре. Он был рожден войной, и война составляла его главную склонность, его наслаждение; владычествовать — вот была цель его жизни. Он желал покорить весь мир, и обстоятельства доставили ему к этому полную возможность.
Наполеон являлся во Франции, как Кромвель в Англии, представителем власти армии; правление войска становится всегда неизбежным, как только революция близка к поражению, она незаметно в это время меняет свой характер и из гражданской становится военной. В Великобритании внутренняя гражданская война не усложнялась войной внешней; причина тому географическое положение страны, совершенно отделяющее ее от других государств: как только были разбиты враги реформ, армия тут с поля битвы непосредственно перешла к кормилу правления. Вмешательство ее было преждевременно, ибо ее генерал, Кромвель, застал партии еще в самый разгар их борьбы и фанатизма их верований и исключительно против них направил всю свою военную администрацию. Французская революция, действуя на континенте, встретилась с народами, расположенными к свободе, и рядом с ними с правителями, стакнувшимися друг с другом из-за страха перед возможным освобождением масс. Ей пришлось сражаться не только с внутренними, но также и с внешними врагами, и пока партии старались взаимно уничтожить друг друга в Законодательных собраниях, армия должна была отражать нашествие всей Европы. Военное вмешательство произошло гораздо позднее; Наполеон нашел партии истощенными борьбой, а верования почти совершенно оставленными; ему нетрудно поэтому было добиться от нации полного себе подчинения, и все силы правительства он мог тогда направить против Европы.
Эта разница в положении не могла не оказать громадного влияния на образ действий и характер обоих необыкновенных людей. Наполеон, располагая громадной силой и неоспоримым могуществом, совершенно свободно и безопасно мог отдаться своим планам и роли завоевателя; Кромвель же, лишенный той пассивной поддержки, к которой приводит усталость нации, и все время без перерыва подвергавшийся нападениям партий, все свои старания должен был направить на натравливание одних партий на другие и до самого своего конца действовал как военный диктатор партий. Наполеон свой гений употреблял на то, чтобы делать нечто новое, а Кромвель только на то, чтобы удержаться на своем месте, первый действовал открытой и решительной силой, второй — хитростью и лицемерием сдерживаемого честолюбия. Подобное положение должно было уничтожить господство их обоих. Всякая диктатура не может не быть временной, и как бы человек ни был велик и силен, ему никогда не удастся долгое время держать в повиновении партии или долго занимать королевский престол. Кромвель должен был, если бы он прожил несколько дольше, пасть вследствие внутренних заговоров, а падение Наполеона должно было иметь причиной восстание против него Европы. Такова судьба всякой власти, рожденной свободой, но переставшей на нее опираться.
В 1814 г. империя была разрушена; партии революции не существовали уже с 18 брюмера; все правительства этого политического периода пали одно за другим. Сенат обратился к прежней королевской фамилии. Уже и без того малопопулярный вследствие своей прежней раболепности, он окончательно упал в общественном мнении, издав конституцию, в общем довольно либеральную, но в которой решались, как одинаково важные, вопросы о гарантиях народа и о пенсиях для сенаторов. Граф д'Артуа, первый покинувший Францию, первый же и возвратился в нее в качестве королевского наместника. 23 апреля он подписал Парижскую конвенцию, по которой территория Франции была уменьшена до ее границ на 1 января 1792 г., и от нее были отобраны Бельгия, Савойя, Ницца и Женева, а также и громадное количество различных военных припасов. 24 апреля Людовик XVIII высадился в Кале и 3 мая 1814 г. торжественно въехал в Париж, предварительно, 2 мая, обнародовав Сент-Уанский манифест, которым он устанавливал принципы представительного правления; 2 июня этот манифест был подкреплен изданием хартии.
Этой эпохой начинается новый ряд событий. 1814 год служил гранью для великого движения, совершавшегося в течение двадцати пяти предыдущих лет. Революция была политической, так как направлена была против абсолютной власти двора и классовых привилегий, и военной, ибо на нее напала Европа. Реакция, проявившаяся тогда, была направлена исключительно против империи; она вызвала в Европе коалиции, она ввела во Франции представительное правление; таков должен был быть ее первый период. Позже она создала Священный союз против народа и партийное правительство против хартии. Это ретроградное движение должно иметь свое течение и свой предел. В дальнейшем нет больше возможности создать сколько-нибудь прочное и длительное правительство не иначе, как под условием удовлетворения тех обеих потребностей, ради удовлетворения которых была произведена вся революция. В правительственных учреждениях должна заключаться действительная политическая свобода, а в обществе — то материальное благосостояние, которое зависит от все далее развивающейся цивилизации.
Примечания{8}
1 Политическое деление королевства перед 1789 г. Перед началом революции Франция, по словам Мирабо, представляла собой неорганизованное соединение взаимно чуждых народностей. Короли владели сначала только одним французским герцогством (duché de France), а затем уже мало-помалу расширили свои владения присоединением различных провинций, причем присоединение это производилось покупкой, захватом, как вымороченные или посредством браков. Таким образом, присоединенные провинции имели собственные законы, свои обычаи, свою таможню, свою магистратуру; нередко соблюдение тех или иных привилегий становилось условием самого присоединения.
Таким образом, по словам Шампьона{9}, перед 1789 г. мы находим во Франции „бретонскую нацию“ и особую бретонскую конституцию, на которую опирается поместное дворянство. Мирабо говорит о „провансальской нации“. Дофине пользуется всяким удобным случаем, чтобы напомнить, что оно уступлено французским королям под непременным условием не быть включенным непосредственно в состав королевства; оно „принадлежит королевству, но вовсе не составляет его части“. Бургундия в лице своего дворянства и духовенства говорит, что вообще „право жителей каждой провинции сохранять свои законы, обычаи и суды“ и что, в частности Бургундию, не могут облагать налогами даже Генеральные штаты. „Независимое королевство“ Наварра имеет претензию чеканить свою собственную монету и указывает на то, что король может „жаловать угодья и титул названного королевства исключительно подданным последнего“.
Различие между „провинциями“ было столь велико, что Мирабо не верил, чтобы когда-нибудь во всей Франции мог царить один закон. Порталис (один из будущих творцов Code civile) утверждал, что об этом нельзя и думать, а Рабо Сент-Этьен писал: „Не утопия ли мечтание о слиянии всех провинций под властью единого закона и введение повсюду однородной администрации?“
Хаосу местных законов, обычаев и привилегий естественно образовавшихся провинций чрезвычайно способствовало еще и искусственное, по произволу введенное то соединение нескольких областей в одно, то, наоборот, раздробление их. Иль-де-Франс и Париж, например, составляли две губернии; Гавр был выделен из Нормандии и т. д. Некоторые местности находились на совершенно странном положении: община Рарекур, например, лежавшая между Лотарингией, графством Бар и Шампанью, была вовсе свободна от государственных налогов, но платила подати королю, принцу Конде и австрийскому дому! Вся Франция была поделена на 129 духовных епархий, но 19 из них целиком или частью находились в зависимости от иностранных архиепископов.
2 Цехи и корпорации. Ремесленные корпорации (цехи) существовали с давних времен; во Франции это были строго замкнутые союзы ремесленников различных специальностей, и новые члены к ним допускались только с общего согласия и по выдержании известного испытания. Каждая корпорация платила королю известную сумму ежегодных налогов, и это совершенно независимо от налогов местных, за право торговли на рынках и т. п. Монополия, предоставленная корпорациям, к тому же зачастую узурпируемая королями, допускала к занятиям ремеслами лишь небольшую группу людей, создавала из ремесла известного рода привилегию, часто даже наследственную, ибо во многих мастерствах установился обычай, по которому сын наследовал мастерство своего отца без всякой санкции корпорации и без обязательного для всякого „мастера“ экзамена.
3 Марсовым полем называлось народное собрание во времена Меровингов и Каролингов. В нем принимали участие все свободные французские воины. После крещения Хлодвига в Марсовых полях начали принимать участие архиепископы, своим влиянием и ведением прений на латинском языке мало-помалу вскоре захватившие на этих собраниях всю власть в свои руки. Франкские воины, разделенные к тому же по своим поместьям, все в меньшем числе стали являться на Марсовы поля, и вскоре они потеряли характер народных собраний. При Карле Мартеле под влиянием вновь пришедших орд франков они снова становятся более популярными и получают название Майских полей, ибо собираются в мае месяце. Особенно оживленны они были в VIII ст. Карл Великий часто обращался к совещательному содействию Марсовых полей, собирал их часто два раза в год, но при нем они постепенно становятся местными, областными, и участие в них принимают исключительно знать и духовенство.
4 Вотчинные суды. Одной из привилегий феодальных вельмож было право суда над своими подданными. При этом некоторым из них предоставлено было безапелляционное право суда по всем уголовным и гражданским вопросам, с наложением самых разнообразных взысканий и наказаний вплоть до смертной казни, а другие могли налагать только денежные взыскания, и их приговоры могли быть обжалованы сюзеренному правителю. Такое различие, впрочем, появилось довольно поздно, а раньше всякий считал себе присвоенным право суда постольку, поскольку мог его защитить своей шпагой. Вотчинные суды руководствовались обычным правом, да и то постольку, поскольку это выгодно было для феодального владыки; в них царствовал самый грубый произвол, усиливавшийся еще различного рода суевериями, приводившими к так называемому Божьему суду в виде поединков и различного рода испытаний.
5 Генеральные штаты. Генеральные штаты являются прямым продолжением Марсовых полей. Собирались они исключительно по желанию короля и не имели правильной периодичности. По указу короля, объявленному через соответственных чинов по всему королевству, дворянство и духовенство непосредственно выбирали своих депутатов, а третье сословие, как городское, так и сельское, на особых собраниях выбирало сначала выборщиков, которые затем собирались по округам и выбирали депутатов из своей среды. Каждое первоначальное собрание избирателей третьего сословия, кроме того, составляло список своих пожеланий и жалоб, а собрание выборщиков комбинировало из них общий окружной список. Число депутатов не было строго определено, да и не играло особой роли, ибо голосование в Генеральных штатах производилось по сословиям, а не поголовно. Такой общий способ составления Генеральных штатов имел, однако, и многочисленные исключения. В некоторых провинциях крестьяне, например, не пользовались совершенно никаким избирательным правом, а рядом с этим подобным правом обладали такие учреждения, как Парижская коммуна, университет и т. д. Выбранные депутаты собирались в назначенном королем месте, и каждое сословие отдельно выбирало свое бюро; затем происходило первое общее заседание под председательством короля; на нем король произносил тронную речь, а государственный канцлер излагал причины созыва Штатов. Королю тотчас же отвечали по одному оратору от духовенства, дворянства и, наконец, третьего сословия. Во время речи последнего оратора все низшее сословие стояло с непокрытыми головами и вообще оно было всячески перед остальными сословиями принижаемо. После королевского заседания каждое сословие работало отдельно и составляло из принесенных депутатами от избирателей мандатов один общий для всего сословия лист пожеланий (cahier de doléances). Затем назначалось второе королевское заседание, и на нем каждое сословие при соответствующей речи представляло королю свою cahier de doléances; затем вотировались, как это обыкновенно требовалось, те или иные налоги или другие финансовые меры, и Генеральные штаты распускались, не дождавшись никакого ответа на свои „листы пожеланий“.
Первое собрание Генеральных штатов было произведено королем Филиппом в 1302 г.; в них король искал поддержки в своей борьбе с папой Бонифацием VIII. Иногда Генеральные штаты собирались не со всей Франции, а только с части ее, и таким образом создались „провинциальные штаты“, роль которых, впрочем, в XVIII ст. была совершенно ничтожна, ибо они находились в полном распоряжении чиновников короля. Из наиболее значительных собраний Генеральных штатов можно указать на Штаты 1356 г., собранные в Париже для северной части Франции, и в Тулузе — для южной. Тулузские штаты, между прочим, настаивали на периодичности собраний депутатов от народа и непосредственном участии их в законодательной деятельности правительства; это же требование и так же безрезультатно было возобновлено Штатами, собранными в 1484 г. В 1614 г. Генеральные штаты были собраны в последний раз; на них в первый раз был возбужден вопрос о работе всех трех сословий вместе и о голосовании поголовном, а не по сословиям. Во время этих Штатов в первый раз с достаточной силой третье сословие показало свое нежелание подчиняться своим „старшим братьям“, т. е. дворянству и духовенству. Далее, короли, видя несогласия между сословиями и все более возрастающую силу сословия третьего, боялись уже созывать Генеральные штаты, и боязнь эта, с их точки зрения, была основательна, ибо Генеральные штаты, созванные в 1789 г., повели уже к революции.
6 Lettres de cachet. Так назывались запечатанные в конвертах приказы короля, касающиеся самых разнообразных предметов. Приказы эти всегда вначале собственноручно подписывались королем, а с XVI в. государственным секретарем. Обыкновенно при помощи подобных Lettres de cachet производилось заключение или ссылка неугодных королю лиц, и здесь с давних пор известна была масса злоупотреблений. Против них восставали еще в 1560–1561 гг. Орлеанские Генеральные штаты.
7 Парламент. Во времена варварства под названием парламента понимали всякого рода политические сборища, в том числе и Марсовы поля. Затем парламентом стали называть королевский совет, составленный из великих вассалов, прелатов и других знатных близких к королю лиц. Таков был парламент Филиппа-Августа и Людовика Святого; он собирался два раза в году, на Троицу и в день Всех Святых, и имел функции законодательные, финансовые и юридические.
Филипп Красивый дал большую правильность организации парламента и сделал из него высшую судебную инстанцию. Политические функции парламента отошли к Государственному совету, а финансовые — к счетной палате. Сам парламент распадался на три палаты: 1) палата челобитная, 2) палата следственная и 3) палата великая, или золотая — судная.
Вначале на каждое собрание парламента (происходившее, как мы видели, дважды в году) королем назначались отдельные члены из феодальных баронов, прелатов и юристов, но затем после того, как застой в судебных делах заставил из собирающегося периодически сделать парламент учреждением постоянным (это произошло во второй половине XIV ст.), должности членов парламента одно время стали выборными, а затем быстро превратились в дорого продающуюся привилегию.
К началу царствования Людовика XI (1461) парижский парламент состоял из 100 членов; 12 пэров Франции, 8 челобитчиков и 80 советников, наполовину духовных, а наполовину светских. К 1635 г. число членов парижского парламента было увеличено до 120. Должность советника парламента была пожизненной и, как мы уже указывали, могла быть продаваема. Все советники должны были иметь титул доктора, но он давался не за научные заслуги, а попросту продавался королем Франции.
Рядом с парижским парламентом, начиная с 1443 г., понемногу стали учреждаться парламенты провинциальные также с исключительно юридическими функциями. В 1769 г. таких парламентов (исключая парижский) насчитывалось двенадцать. Каждый парламент являлся высшей судебной инстанцией в своей провинции или области, но, надо сознаться, нередки были случаи, когда Совет короля или Государственный совет, узурпируя власть, кассировал их решения.
Итак, парламенты постановлением Филиппа Красивого были лишены всякой политической власти, но у парижского парламента была оставлена одна функция, имевшая близкое соприкосновение с законодательством. Он обязан был заносить в особые парламентские регистры все издаваемые королем законы, и действие всякого закона начиналось только с момента зарегистрирования его парламентом. Из этой, как было предположено, простой формальности парламент сделал средство политической борьбы. Перед регистрацией он начинал обсуждать новый королевский закон и зачастую отказывал в его регистрации до нового более строгого приказа короля (du très expès commandement du roi), которому не подчиниться уже не было возможности. Однако, и в этом случае парламент оказывал, случалось, оппозицию, заявлявши делавшийся известным всей стране протест (remontrances). Подобного рода протесты имели большое нравственное значение, и они в свое время если не вызвали, то поддержали Фронду. Завоеванное парламентом политическое значение то усиливалось (Мария Медичи, например, во время малолетства Людовика XIII приняла на себя обязательство слушаться советов парламента; в начале царствования Людовика XIV парламент объявил себя стоящим выше Генеральных штатов), то ослаблялось и совершенно замирало (как во время Ришелье и во вторую половину царствования Людовика XIV). Часть борьбы парламента за политическую власть и преобразование его канцлером Мопу изложены у Минье несколько далее.
8 Сословия. Во Франции считалось три сословия: дворянство, духовенство и третье сословие.
Дворянство, ко времени, непосредственно предшествовавшему революции, дворянство состояло из поземельного дворянства — потомков завоевателей Галлии (было время, когда дворянство исключительно связывалось с землей, и существовало даже выражение: Point de seigneur sans terre), из дворянства, жалованного королем, и, наконец, из дворянства, приобретшего это звание службой (служилое дворянство). Дворянство до 1781 г. давала военная служба, причем менялись только несколько раз условия (продолжительность службы, чин и т. д.), при которых оно давалось; давала его служба в парламентах и некоторых высших государственных должностях (noblesse de robe), давало его занятие мест в некоторых городских управлениях (noblesse de cloche). За малыми исключениями все служилое дворянство было потомственным и давало право на все принадлежащие этому классу привилегии, а они были значительны. О привилегиях чисто феодальных мы скажем позже (см. примечания 21 и 22), а теперь укажем на то, что земли дворянства были освобождены от земельных податей и что дворянство имело к своим услугам особые суды. Служба, как мы видели, давала дворянство, но и тут в конце концов создались привилегии, и, например, с 1781 г. офицерские должности стали доступными только для дворян. Общее число дворян ко времени 1789 г. определить довольно трудно. Тэн считает, что в это время во Франции было до 140 000 дворян и что, таким образом, одно дворянское семейство приходилось на тысячу жителей. Расчет этот, однако, очень приблизительный. Чрезвычайно сравнительно многочислен был класс людей, не обладавших дворянством, но получивших право приобрести феодальные дворянские земли; много было постоянно людей, ложно присваивавших себе дворянское звание, и проверка дворянских грамот, предпринятая в 1666 г. по настоянию Кольбера, открыла 40 000 таких самозванцев.
Духовенство было по численности почти таково же, как дворянство; Тэн считает во Франции в 1789 г. 130 000 духовных лиц. Влиянием во Франции духовенство пользовалось огромным. Вначале, тотчас после крещения франков, влияние это зависело от культурности и образованности духовенства сравнительно с остальным населением (даже высшими его классами), а затем оно поддерживалось однажды уже завоеванным привилегированным положением. Духовенство пользовалось всеми феодальными привилегиями дворянства, но, кроме того, имело много и своих социальных преимуществ, прав и вольностей. Оно имело свои суды и все время боролось (подчас весьма успешно) за расширение их компетенции; одно время, например, им подлежал разбор всех дел, касающихся браков и завещаний; они добивались ведать все дела несчастных (вдов, сирот, вообще неимущих), как находящихся на попечении церкви. Земли духовенства были освобождены от налогов, да и вообще духовенство не платило почти никаких налогов, а само получало десятину, т. е. десятую часть всех доходов, получаемых с земли. Сначала десятина была свободным даром верных детей церкви, но затем указом Карла Великого была сделана обязательной.
Третье сословие, или, как его еще называли, „общины“, было сословием горожан, и в него входили все самостоятельные французские подданные, не состоящие на чьей-либо службе и независимо занимающиеся каким-либо промыслом{10}. Основание ему дали те городские общины или коммуны, которые получили свое начало на юге Франции еще во время владычества в Галлии Рима, а затем в течение XII ст. вся Франция была покрыта сетью почти самостоятельных демократических городских общин, и это общинное устройство сплотило и организовало третье сословие во Франции так, как ни в одном другом государстве. Образование новых общин и помощь старым составляло сначала заботу французских королей, ибо в общинах они находили поддержку в своей борьбе с феодальным дворянством. Однако доброе согласие между коммунами и королевской властью продолжалось недолго, и в XIV ст. (во второй его половине) произошел между ними полный разрыв. На собрании Генеральных штатов в 1357 г. третье сословие открыто выступило против королевской власти и своей нравственной силой принудило к ряду довольно либеральных реформ. При Генрихе IV и во время Фронды третье сословие опять оказалось на стороне короля, но конец царствования Людовика XIV и все царствование Людовика XV с произволом его любовниц и любимцев окончательно порвало связь короля с общинами, и они стали в оппозицию к королю, как все время были в оппозиции с дворянством и почти все время с духовенством. Королевская власть в XVI и XVII вв. мало-помалу совершенно уничтожила самостоятельность городских общин, но организованность третьего сословия, бывшего к тому же незамкнутым и все время освежавшегося притоком новых сил, осталась, и она позволила затем буржуазии победоносно выступить во время революции.
9 Интенданты. Интендантами назывался целый ряд разнообразнейших чиновников, но здесь речь идет о так называемых intendants des provinc. Такое наименование со времен Ришелье получили особые чиновники, посылаемые королем в различные части королевства „для наблюдения за всем, что касается отправления правосудия, полиции и финансов, для поддержания во всем порядка и исполнения поручений короля или королевского совета“. Подобного рода интенданты были облечены громадной властью. Вообще говоря, власть их была административная: они наблюдали за протестантами, в их непосредственном ведении находились евреи; они должны были наблюдать за содержанием и ремонтом приходских церквей и заботиться о квартирах для священства, а также на их обязанности лежал и еще ряд дел, касавшихся религии и духовенства. Их заботам были поручены университеты, гимназии и публичные библиотеки; земледелие в самом широком смысле слова, торговля и промышленность, включая пути сообщения; они наблюдали за набором рекрутов и содержанием солдат, их контролю подчинены были сборы всевозможных податей, — короче говоря, нет почти ни одной отрасли государственного и общественного управления, которых так или иначе не касались бы интенданты. Рядом с административной властью интендантам короли зачастую передавали и власть судебную, когда желали какое-либо дело изъять из ведения обыкновенных судов; судебная власть интендантов в этом случае была выше таковой же парламентов, и решение их было безапелляционно.
10 Деятельность Тюрго. О деятельности Тюрго, в значительной степени способствовавшей развитию общественного самосознания, мы приведем еще выписку из „Французской революции“ В. Блосса{11} „Тюрго был против займов и повышения налогов: он стоял за полную свободу торговли и сношений. Ему удалось испугать молодого двадцатидвухлетнего короля страшным призраком революции и склонить его к своим планам. Прежде всего он объявил свободу торговли хлебом. Это было важное нововведение, так как раньше перевозить хлеб из одной провинции в другую можно было только с разрешения властей. За противозаконную торговлю хлебом грозила ссылка на галеры и даже смертная казнь. Поэтому в одной провинции мог свирепствовать голод, тогда как в другой был излишек в хлебе. Так как урожай 1774 г. был плох, то Тюрго введением свободы хлебной торговли думал принести пользу стране. Но против него вооружились все привилегированные. Лишь чрезвычайное королевское заседание „на подушках“ заставило парижский парламент, представлявший интересы привилегированных, внести эдикт о свободе хлебной торговли в регистры. Но в народе распространился слух, что свобода хлебной торговли вызвала дороговизну хлеба, и невежественная толпа разъярилась против министра-реформатора. Дело дошло до мучной войны: народ разграбил и разрушил государственные и частные хлебные магазины, что, конечно, только ухудшило его положение. Но неудача реформы Тюрго произошла главным образом оттого, что сношения были тогда еще не развиты и не организованы.
Эта первая неудача не ослабила энергии Тюрго Он снова расположил молодого короля в пользу своих реформаторских идей, и, таким образом, 6 февраля 1776 г. появилось шесть знаменитых декретов, сильно взволновавших старую Францию.
В этих декретах молодой король объявлял французам отмену барщинных работ. Затем, ими отменялось много старых предписаний, стеснявших торговлю предметами первой необходимости. Четвертый из этих декретов уничтожал цехи и звание мастера, а также вводил полную свободу торговли и промыслов. Только цирюльники, аптекари, золотых дел мастера, литографы и книгопродавцы были изъяты из действия этого декрета.
Тюрго дал этим декретам, правда, несколько доктринерскую, но удачно изложенную мотивировку. Так, в декрете об уничтожении цехов говорилось: „Мы считаем своей обязанностью обеспечить всем нашим подданным полное и неограниченное пользование их правами; особенно обязаны мы охранять тот класс людей, который не имеет иной собственности, кроме своего труда и прилежания, и который поэтому больше всего имеет нужду и право черпать в полном размере из этого единственного источника все средства для своего существования. С болью видели мы многочисленные и разнообразные нарушения, которым подвергалось это естественное и всеобщее право путем различных ограничений; ограничения эти хотя имеют за себя давность, но они не могут быть узаконены ни временем, ни господствующими взглядами, ни даже авторитетом, который их, по-видимому, освятил“. Такие слова в устах французского короля производили тогда огромное действие. Здесь формально объявлялось право на труд, как действительно и говорится в другом месте этого замечательного документа, где сказано, что Бог, давший людям различные потребности, дал также в собственность каждого человека и право трудиться. „Право на труд“, как мы дальше увидим, неоднократно снова всплывало в различные периоды революции. Конечно, о том, как воспользоваться этим „правом“ на деле, тогда были еще менее ясные представления, чем теперь.
В общем же деятельность Тюрго была направлена лишь к осуществлению системы свободной конкуренции.
Тут-то и заволновались привилегированные. Цехами они бы еще пожертвовали, но отмена барщины задела их за живое. У дворянства и духовенства совесть была неспокойна: они боялись, что теперь, чего доброго, вскоре еще обложат налогами их имения и доходы. Цеховые мастера были в высшей степени возбуждены: они должны были потерять привилегированное звание мастера. Говорили, что после объявления свободы промыслов все сельское население устремится в города, и некому будет обрабатывать землю. Двор и парламенты, восстановленные лишь Людовиком XVI, вооружились против реформ Тюрго. Правда, шесть его декретов были внесены в регистры королевским заседанием „на подушках“, но противодействие парламентов все еще продолжалось. Когда же Тюрго выразил мысль, что необходимо созвать собрание народных представителей, против него восстали соединенными силами двор, дворянство, духовенство и разъяренный, обманутый ими народ, в пользу которого Тюрго предпринимал свои реформы. Слабого и бесхарактерного короля уверили, что Тюрго лишь притворяется, будто он хочет предотвратить революцию, что на самом деле он старается вызвать ее. И король удалил Тюрго — ровно через два месяца после того, как он заставил парламент занести в регистры его декреты. В августе 1776 г. цехи с некоторыми изменениями были снова восстановлены; восстановлена была и барщина. Тюрго избавил фабрики от „регламентов“, — теперь они снова были введены“.
11 Генерал-контролер финансов наблюдал за всей государственной отчетностью и вел записи приходов и расходов. Должность эта была создана в 1547 г. королем Генрихом II, но до 1661 г. их функции заключались исключительно в проверке оправдательных документов по государственному приходо-расходу и выработке совместно с финансовыми интендантами списка сумм, выплачиваемых Лувру. С 1661 г. генерал-контролер финансов стал вообще во главе всей финансовой администрации страны. Первым таким генерал-контролером был Кольбер, и он занимал эту должность вплоть до 1683 г. В 1791 г. должность генерал-контролера была заменена должностью министра финансов (ministre des contribution et revens publics).
12 Собрание нотаблей заменяло собой Генеральные штаты в период от 1614 до 1789 г. Уже Карл V, встречая в выборных Генеральных штатах оппозицию, неоднократно вместо них созывал собрания, всех членов которых сам непосредственно назначал. В 1367 и 1369 гг. им были созваны собрания, например, из прелатов, дворянства, юристов и представителей богатой буржуазии, подтвердившие его решимость воевать с англичанами и ввести некоторые реформы в администрацию королевства. В XV в. Людовик XI собирал нотаблей в Туре, а в 1527 г. Франциск I в Колонне. Собрание нотаблей обсуждало в 1560 г. различные государственные дела в Фонтенбло; наконец, Ришелье собирал нотаблей в 1626 г. Следующее обращение к нотаблям было при Колоне и, наконец, последнее непосредственно перед Генеральными штатами 1789 г. при Неккере. Собрание при Колоне состояло из 137 членов; 129 из них принадлежало к дворянству и духовенству, а 8 к богатой буржуазии, тянувшейся во дворянство.
13 В дополнение к тому, что говорит Минье об общем положении Франции перед Великой революцией, мы вкратце по Блоссу (Французская революция. СПб., 1906) рассмотрим положение крестьян и затем приведем выдержки из статьи Э. Шампьона „Франция в 1789 году“, помещенной в виде вступления к русскому переводу „Великой французской революции“ Ф. Олара (М., 1906).
Ко времени революции всего во Франции числилось до 25 миллионов жителей, и из них 21 миллион занимался земледелием на 35 миллионах гектаров пригодной для сельского хозяйства земли. 2/3 этой земли находилось во владении мелких собственников только во Фландрии, Эльзасе и Северной Бретани, бывших сколько-нибудь зажиточными, а в остальной Франции, в особенности в Шампани и Лотарингии, живших в страшной бедности, раздробление земли было чрезвычайное, существовали земельные участки в несколько квадратных сажен. Среднего сословия среди земледельческого населения не было вовсе; были крупные землевладельцы и сельский пролетариат. Только в Вандее между дворянством и крестьянством сохранились патриархальные отношения, везде же в других местностях землевладельцы эксплуатировали крестьян до самых крайних пределов возможности. Жизнь сельского населения представляла собой адскую муку и мало чем отличалась от жизни неразумного животного.
„Крестьяне{12} жили в жалких глиняных лачугах, крытых соломой, многие из которых не имели окон. Они неизбежно должны были пребывать в грязи, среди грубости и невежества, так как господствующие слои нисколько не были заинтересованы в том, чтобы бросить в эту несчастную массу, погруженную в безысходный мрак, спасительный луч образования. Лишь очень немногие из крестьян умели читать и писать. Среди сельского населения перед революцией было еще полтора миллиона крепостных, плативших оброк своим господам и отбывавших повинности работой. Они были подсудны помещику, не могли делать завещаний и свободно располагать своим движимым имуществом. Крестьянин должен был безропотно терпеть убытки, причиняемые ему дичью, и под страхом большого наказания не смел держать оружия.
Чрезвычайно обременительны для крестьян были десятины, которые они обязаны были давать землевладельцам и духовенству. Десятина должна была равняться десятой части валового дохода с хозяйства, но счеты были здесь так неопределенны, что она могла дойти до третьей части, половины или даже трех четвертей и более чистого дохода и, таким образом, могла лечь страшным бременем на крестьянина. Значительное число участков должны были отдавать с акра седьмую часть пшеницы. Крестьяне, возделывавшие виноградники, также должны были отдавать седьмую часть спирта. Со Средних веков удержалась, в качестве „исторического права“, масса натуральных повинностей; с некоторых участков взимались экстраординарные поборы зерном, птицами, свиньями, яйцами, дровами, воском и цветами; рядом с обыкновенной барщиной также существовали еще экстраординарные натуральные повинности. Неоднократно вводились и особые сборы деньгами. Но рядом с феодальным господством к крестьянину предъявляло свои требования и государство, и государственные сборы взыскивались с такой же строгостью. Здесь первое место занимал поземельный налог (taille), от которого дворянство почти вполне избавилось, духовенство же было совершенно свободно; между тем как крестьянин должен был платить его беспрекословно. Общая сумма поземельного налога простиралась до 110 миллионов франков. Затем следовал столь ненавистный налог на соль с целым рядом пошлин с товаров, съестных припасов, дорожных пошлин. Высчитано, что в тех местностях, где поборы были особенно тяжелы, крестьянин платил с каждых 100 франков 53 франка государству, в виде поземельного, подушного и подоходного налогов, 14 — землевладельцу, 14 — духовенству, в виде десятины. Из остальных 19 франков надо было платить еще налог на соль и предметы потребления. Поэтому достаточно было таких крестьян, которые всю жизнь голодали.
Существовала целая масса способов увеличивать число зависимого от землевладельцев земледельческого населения. В некоторых местах крепостным становился всякий, проживший хоть один день свыше года в данном поместье. Все имущество его, где бы оно ни находилось, становится собственностью владельца поместья. Свободный человек, женившийся на дочери крепостного, сам оставался свободным, но если, по несчастью, он жил в доме своей жены и перед смертью не успевал куда-нибудь уехать, то дети его становились крепостными!
Существовала, сверх того, масса способов лишить крестьянина того немногого, что ему удалось скопить. В некоторых монашеских владениях существовал закон, например, что если будет доказано, что девушка, вступавшая в брак, первую ночь после него провела в доме мужа, а не у родителей, то она теряла право наследования после своего отца, и оно переходило к монахам!
К такому страшному гнету присоединялось первобытное ведение сельского хозяйства и частые неурожаи. Немудрено, что крестьяне время от времени не выдерживали и дело доходило до восстаний, подавляемых военной силой“.
Вот что пишет Э. Шампьон о положении непосредственно перед революцией армии, народного просвещения и общем обнищании страны.
Армия. „Указы последнего времени, касавшиеся способа раздачи высших военных чинов, исторгли у дворянства стоны (это его собственное выражение). Со времени министерства г-на Сен-Жермена военная служба становится, благодаря распоряжениям Военного совета, почти унизительной для провинциального дворянства, которому Совет предоставляет только низшие военные звания, объявляя, что к командованию армиями призвано по преимуществу придворное дворянство“.
Торговля чинами, эта „гангрена“, продолжала „разъедать армию, как и все другие части государственного строя“; военная карьера представляла собой ряд денежных сделок, — и дворянство, „со слезами на глазах, с болью в сердце, умоляло Его Величество открыть заслугам доступ к высшим чинам“. За деньги можно было стать прево, фурьером, трубачом, военным лекарем, аптекарем, священником кавалерийского штаба или французской гвардии.
То же дворянство говорило королю: „В армии царит всеобщее недовольство, национальная честь гибнет под ударами сабли и палки, так что целая гренадерская рота силой открывает ворота города, находящегося на военном положении, и передается врагу, чтобы избегнуть позорных наказаний… Многие полковники — палачи, большинство из них торгует чинами и не имеет других достоинств, кроме виртуозного умения унижать своих равных“.
Несоразмерность между жалованьем солдата и стоимостью съестных припасов была „вопиющей“, да и это ничтожное жалованье выплачивалось неаккуратно. Нужда и дурное обращение заставляли многих дезертировать. Содержание армии обходилось не менее 100 миллионов в год.
Народное просвещение. „Университеты, очень малочисленные и, главное, плохо распределенные, до известной степени сохраняли варварские приемы преподавания, процветавшие в Средние века, но совершенно утратили свою тогдашнюю дисциплину и блеск. В некоторых университетах, как, например, в Анжерском, преподавание все еще велось на латинском языке. Орлеанский университет заявлял, что как профессора, так и студенты работают мало. Занятия почти всюду сводились к пустым формальностям. Экзамены носили смехотворный характер. Студенты легко получали разрешение не присутствовать в классах, иногда даже — отлучаться в учебное время и „несли только денежные повинности“. На юридическом и медицинском факультетах всякий без труда мог купить ученое звание.
Упадок коллежей становится в течение XVIII в. все более заметным. Уничтожение иезуитского ордена образовало в преподавательском персонале пробел, который не был пополнен. Вне Парижа большинство коллежей, находившихся некогда в цветущем состоянии, терпели нужду в достойных доверия учителях. Лишь о немногих учебных заведениях установилось мнение, что они избегли общего упадка: в их числе указывали на коллежи Лиможа, Сента и Пюи. Дворяне жаловались — одни на коллежи, посещаемые их детьми, другие — на отсутствие достаточно близких к их местожительству коллежей. Многие коллежи терпели недостаток в денежных средствах. Здание коллежа в Труа, единственного крупного учебного заведения во всей епархии, разваливалось; в таком же состоянии находились коллежи Ангулема и Барселонетты, немногим лучше было и положение Арльского коллежа. Профессора большей частью получали ничтожное жалованье и были недостаточно обеспечены, чтобы жить „и пользоваться уважением“. Некоторые учебные заведения были открыты исключительно либо для дворян, либо для католиков; 42 мальчика, принадлежавших к протестантским семьям Ларошели, воспитывались вдали от своих родителей, потому что их вероисповедание закрывало им доступ в коллеж родного города.
Королевские указы несколько раз — в 1695, 1724 гг. — предписывали учредить школы во всех приходах. Они так плохо исполнялись, что в 1789 г. очень большая часть королевства была лишена органов первоначального образования. Даже в крупных городах многие дети не получали доступа к последнему: в Париже из 800 девушек Сальпетриера только 24 учились писать; чтению училось большее число, но крайне неудовлетворительно. Из 1300 детей Воспитательного дома только 12 учились читать и писать.
Там, где школы существовали, учителя часто были непригодны для своего дела и не отличались рвением. Счету обучали лишь очень немногие. Орлеанский университет полагал, что от них нельзя требовать ничего более, как преподавания элементов чтения и письма. Протоколы и наказы, составленные в период созыва Генеральных штатов, во многих случаях подписаны лишь половиной, четвертой или даже меньшей частью явившихся: „остальные не сумели“. А уметь подписаться не значит уметь писать. Характер подписей заставляет думать, что многие из тех, кто с таким трудом написал их, только и умели, что выводить буквы своего имени. В 1790 г. многие члены Учредительного собрания указывали на такие сельские общины, где не более двух человек умело читать“.
Обнищание страны в последний период старого порядка. „Всеобщая, глубокая нужда, царившая в королевстве, возмущала Артура Юнга: „Как страшно должно терзать совесть власть имущих зрелище миллионов трудолюбивых людей, обреченных на голод гнусным режимом деспотизма и феодализма!“ Привилегированные единогласно признавали существование зла, являвшегося в огромной части плодом тех беззаконий, из которых они извлекали выгоду. Маркиз Буйлье признает, что большая часть французов „изнурена, почти изнемогает“. Но лучше послушать, что говорит само сельское население. В 1789 г. оно открыло наиболее почтенным экономистам и филантропам, считавшим себя знатоками социальных вопросов, такие потрясающие подробности, о которых статистика и административные донесения умалчивали. В Сюрене даже двадцатая часть жителей не могла рассчитывать на то, что их старость будет ограждена от ужасов полной нищеты: в течение года 150 домохозяев из 320 получили пособие от приходского священника, и, наверное, еще многие нуждающиеся остались ему неизвестны. В Роканкуре жители, призванные высказать свои желания, отвечали, что они умирают с голода. „Не знаю, чего и просить, — сказал один из них, — нужда так велика, что невозможно добыть хлеба““.
Жители Монтегю в Комбрайле, рассказав королю о своем бедственном положении, каются, что лишь занятие контрабандой дает им возможность прокормиться. „Лишь навлекая на себя стыд и бесчестье, — прибавляют они, — можем мы уплачивать подати, взимаемые от Вашего имени“.
Вычислили, что неимущих, лишенных всяких средств к жизни, было около миллиона, в том числе половина неспособных к труду. Пятьдесят тысяч больных обходились общественной благотворительностью в 12–15 су каждый ежедневно. В Hôtel Dieu на большие кровати клали по четыре, иногда по шести и даже восьми больных, не обращая внимания на заразные болезни, от которых здесь регулярно умирала четвертая или пятая часть. Что касается рожениц, то из них умирала одна на тринадцать.
Шайки нищенствующих бродяг — „позор и бич королевства“ — бродили по проселочным дорогам Булони, Нормандии, Гаскони, Бигорра, Иль-де-Франса, грозя разбоями и поджогом, если им отказывали в приюте и пище. Страх, внушаемый ими, удерживал население от доносов, и опыт оправдывал осторожность крестьян: если кто пытался оказать им сопротивление, они обращали в пепел его избу и ригу. Ежегодно задерживали в среднем десять тысяч бродяг и столько же ускользало от властей. Там, где для охраны дичи держали 200 сторожей, безопасность населения ограждали только 13.
14 Хранитель государственной печати первоначально действительно только хранил государственную печать и носил ее постоянно привешенной на шее, чтобы никто не мог воспользоваться ею в его отсутствие. Затем мало-помалу функции хранителя печати стали расширяться, и он является уже заместителем государственного канцлера и высшим сановником королевства. Разница между ними только та, что звание государственного канцлера было пожизненным, а хранитель государственной печати назначался и менялся по желанию короля. В 1790 г. должность эта была уничтожена и снова восстановлена только при Наполеоне I. С этой поры она неразрывно связана с должностью министра юстиции.
15 Богатство духовенства. Перед революцией духовенству во Франции принадлежала 1/5 всей земли, приносившая свыше 100 миллионов франков дохода. „Десятина“ давала, сверх того, до 23 миллионов франков. Богатству духовенства способствовало еще то, что оно обладало правом самообложения, т. е. приходило на помощь государственным расходам добровольными дарами, никогда не превышавшими 16 миллионов франков в год. Все громадные доходы церкви, однако, распределялись между высшими членами духовенства; доход приходских священников колебался между 500 и 2000 франков, из которых они в виде „добровольного дара“ должны были отдавать правительству до 100 франков.
16 Зал Jeu de pommes, или зал для игры в мяч. Игра в мяч с древних пор была любимой игрой французов, и ею занимались с одинаковым увлечением и короли, и сановники, и духовные лица. Для этой игры в большинстве городов в XVIII ст. существовали особые залы. Версальский зал для игры в мяч отличался громадной величиной; это был продолговатый манеж с продольными стенами, на одну треть не доведенными до потолка и дававшими, таким образом, массу света.
17 Вот формула клятвы, произнесенной депутатами 20 июня: „Клянемся впредь не расходиться и собираться повсюду, где лишь позволят обстоятельства, до тех пор, пока не будет создана на прочных основаниях конституция королевства“.
18 Пале-Рояль — дворец, построенный Ришелье и оставленный им в наследство Людовику XIII. При дворце этом существовал сад, с трех сторон окруженный галереями с магазинами роскоши. Этот сад и служил для народных сборищ во время революции.
19 Иностранные войска в штате королевской гвардии во Франции существовали со времени Людовика XI; в 1616 г. швейцарцы образовали особый полк из четырех батальонов. Германская гвардия (Royal allemand) являлась конным полком, образованным в XVII в. и составленным почти исключительно из немцев.
20 Бастилия, или отдельно стоящее укрепление в Сент-Антуанском предместье, существовала с очень давнего времени в том же виде, как ее застала революция; она была начата постройкой в 1370 г. и окончена в 1382 г. Тотчас по постройке она была обращена в государственную тюрьму, и первым в нее был заключен по обвинению в ереси Этьен Марсель, старшина парижского купеческого сословия, наблюдавший за ее постройкой. Бастилия состояла из восьми громадных башен, соединенных стеной толщиной в 8 футов. Окружена она была широким и глубоким рвом. В Бастилию чаще всего помещались арестанты по королевским lettres de cachet; тот произвол, который существовал при подобного рода арестах и который был разоблачен перенесшими заточение в Бастилии Латюдом, адвокатом Ланге и другими, сделал из нее в глазах народа какое-то воплощение королевского произвола.
21 Относительно феодальных прав и личной крепостной зависимости, существовавших еще ко времени революции, отсылаем к последнему примечанию Токвиля в его книге „Старый порядок и революция“. Кроме того, считаем интересным привести описание феодальных поместий Бле и Бросс, приложенное к книге П. Тэна „Происхождение общественного строя современной Франции“ (цитируем с некоторыми пропусками по русскому переводу. СПб., 1880).
„Поместья Бле и Бросс расположены в Бурбоннэ: они находятся в ленной зависимости (dans la mauvance) от короля — вследствие существования тут королевского замка и крепости Эве — под именем города Бле. Он был когда-то очень населенным; но гражданские войны шестнадцатого века, а в особенности выселение протестантов сделали его пустынным; так что на место 3000 жителей, считавшихся в нем прежде, в нем находится в настоящее время едва ли и 300 человек; это общий жребий всех городов этой местности“.
Все поместье, считая тут обе земли, оценено в 369 227 ливров. — Земля Бле заключает в себе 1437 арпанов, возделываемых 7 фермерами, которые снабжаются скотом от помещика; скот этот оценен в 13 781 ливр. Они платят помещику все вместе 12 060 ливров арендной платы (кроме оброка курами и известного числа дней барщины). Один из них снимает большую ферму и платит за нее 7800 ливров в год; другие платят 1300, 740, 640 и 240 ливров в год. — Земля Бросс заключает в себе 515 арпанов, находящихся в руках двух фермеров, которые снабжены помещиком скотом на сумму 3750 ливров; оба эти фермера вместе платят помещику 2240 ливров.
Все поместье оценено следующим образом:
I. Поместье Бле, — согласно местному обычаю, по отношению к дворянским или благородным землям (terres nobles){13}, — оценено из 25 процентов, т. е. в 373 060 ливров, из которых следует вычесть капитал в 65 056 ливров, представляющий лежащие на этой земле ежегодные обязательные платежи (жалованье священнику (portion congrue), починки, исправления и пр.), не считая личных обязательств владельцев, каковы „двадцатины“ (les vingtièmes). Оно приносит в год чистых 12 300 ливров и стоит 308 003 ливра чистыми деньгами.
II. Поместье Бросс, согласно местным обычаям, оценено из 22 процентов, потому что земля перестает быть дворянской (noble), вследствие перенесения ленных прав (droits de fief) и владельческого права суда и расправы на землю Бле. При такой оценке она стоит 73 583 ливра, из которых следует вычесть капитал в 12 359 ливров, представляющий лежащие на этой земле ежегодные имущественные обязательства; она приносит в год чистых 3140 ливров и стоит 61 224 ливра чистыми деньгами.
Доходы с этих двух поместий проистекают из следующих источников:
Прежде всего из арендных плат за вышеупомянутые фермы. — Затем из феодальных прав, перечисление которых следует ниже.
Полезные и почетные права, связанные с владением поместьем Бле:
1. Право отправления уголовного и гражданского суда в первой, второй и третьей инстанции (droit de haute, moyenne et basse justice) на всей земле Бле и в других деревнях, как то в Броссе и в Жале. На основании этого права, и как это видно из явочного акта, составленного в Шатле, 29 апреля 1702 г., владетель Бле „ведает все имущественные и личные, гражданские и уголовные дела, даже и в тех случаях, когда дело касается до поступков дворян и духовных; ему же принадлежит описывание и опечатывание мебели, одежды и другого движимого имущества, опека, попечительство и заведование делами несовершеннолетних, а также управление их вотчинами и наблюдение за принадлежащими им по обычаю сеньориальными правами и доходами и пр“.
2. Право лесного надзора (droit de gruerie), на основании эдикта 1707 г. Лесничему сеньора подведомственны все дела касательно воды и лесов; он разбирает относящиеся сюда обычаи и судит все преступления и проступки против правил охоты и рыбной ловли.
3. Право дорожного надзора (droit de voirie), т. е. полицейский надзор за улицами, дорогами и дорожными сооружениями (за исключением больших дорог). Сеньор назначает окружного судью (bailli), лесничего (gruyer), дорожного надзирателя (voyer) и казенных дел стряпчего (procureur fiscal); он может сменить этих лиц. — „Пошлины за внесение в книги явочных актов (droits de greffe) отдавались прежде в аренду в пользу сеньора, но в настоящее время, ввиду чрезвычайной трудности отыскать в этой местности толковых и знающих людей для выполнения этой должности, сеньор уступает свои права на эти пошлины тому человеку, которому он поручает должность повытчика или актуариуса (greffier)“. (Сеньор платит окружному судье 48 ливров в год, с тем, чтобы он открывал заседание однажды в месяц, и 24 ливра в год казенных дел стряпчему за присутствие на этих заседаниях).
Сеньор получает в свою пользу штрафы, назначенные постановленными им судьями, и конфискованный ими скот. Этот источник приносит ему ежегодно средним числом 8 ливров.
Он должен содержать тюрьму и тюремщика.
Он имеет право назначать 12 нотариусов; в действительности только один нотариус — в Бле, „да и тому совсем нечего делать“. Эта должность дана ему даром и только для того, чтобы не дать праву сеньора впасть в неупотребление и забвение.
Он назначает также пристава (sergent), но уже с давних пор этот пристав не платит ему никакой аренды за свою должность и вообще не доставляет ему никаких доходов.
4. Личная и имущественная подать (taille personnelle et réelle). В Бурбоннэ, в старину, подать принадлежала к тому разряду, который называется taille serve (рабская или крепостная подать), а крепостные принадлежали к разряду т. н. serfs mainmortables (не имевших права располагать своим имуществом после смерти). „Сеньоры, сохранившие еще за собой в полной неприкосновенности и на всем протяжении своих ленов и судебных округов (leurs fiefs et justises) феодальное право, называемое droit de berdelage{14}, пользуются еще и в настоящее время правом наследовать после своих вассалов во всех решительно случаях, даже в ущерб родным их детям, если эти последние не были постоянными жителями данной местности и не жили под одним кровом со своим умершим родителем“. Но в 1255 г. Год де Сюлли даровал своим вассалам хартию, в которой он отказался от этого права на имущественную и личную подать, получив взамен того право взимания известного налога за право гражданства в его владениях (droit de bourgeoisie). Этот налог взимается еще и в настоящее время (см. ниже).
5. Право на бесхозные вещи, т. е. приблудный скот, на найденную утварь и одежду, на залетевшие пчелиные рои и на откопанные клады (в течение последних двадцати лет по этой статье не было никакого дохода).
6. Право на имущество лиц, умерших без наследников; а также право на наследование после незаконнорожденных и пришлых людей (aubains), умерших на его земле, равно как и право на имущество людей, присужденных к смерти, к пожизненным галерам (каторжным работам), к изгнанию и пр. (никаких доходов).
7. Право охоты и рыбной ловли, причем второе оценивают в 15 ливров в год.
8. Право взимания особого налога за право гражданства (droit de bourgeoisie, см. статью 4) на основании хартии 1255 г. и земельного описания (le terrier) 1484 г. — Самые богатые люди должны платить ежегодно по 12 мер овса, по 40 фунтов каждый, по 12 парижских денье, люди среднего состояния — по 9 мер и по 9 денье, все остальные платят по 6 мер и по 6 денье.
9. Налог на охрану (droit de guet) замка Бле. Королевским указом 1497 г. размер этого налога для жителей города Бле и для всех живущих в пределах этого судебного округа, как то для обитателей Шарли, Буамарвье и пр. был определен в 5 су в год с каждого дыма (par feu), что и было приведено в исполнение. Все жители этой местности всегда признавали себя подлежащими этому налогу на охрану и стражу (guet et garde).
10. Дорожные пошлины (droit de péage) со всех товаров и припасов, провозимых через город Бле, за исключением зернового хлеба, круп, муки и овощей.
11. Право отлива (droit de potage), т. е. право взимания в пользу сеньора 9 пинт с каждой бочки вина, продающейся в розницу в городе Бле. Это право отдано в 1783 г. на откуп, на 6 лет, за 60 ливров в год.
12. Пошлины с убоя скота (droit de boucherie), или право получать язык от каждой рогатой скотины, убитой в городе, а также головку и ножки от всех зарезанных телят. В Бле нет мясника; однако же, „во время жатвы и в течение всего года убивается около 12 быков“. Эта пошлина взимается управляющим и ценится в 3 ливра в год.
13. Сбор с ярмарок и рынков, с мер (погонных и сыпучих) и весов. Пять ярмарок и еженедельный рынок; но и ярмарки и рынки немноголюдны; крытого рынка нет. Это право ценится в 24 ливра в год.
14. Право на требование конной и пешей барщины (corvées de charrois et à bras). В качестве верховного местного судьи (haut-justicier) сеньор Бле пользуется этим правом по отношению к 97 человекам в самом Бле (22 конных дней и 75 пеших) и к 26 человекам в Броссе (5 конных дней и 21 пеший). При пешей барщине сеньор выдает по 6 су в день на прокормление каждого человека и при конной по 12 су на человека с повозкой и четырьмя быками.
15. Обязательное пользование мельницами владельца (Banalité de moulins) (судебный приговор 1736 г., присуждающий земледельца Руа к обязательству молоть свой хлеб на господской мельнице в Бле и к штрафу за то, что он перестал молоть его там три года тому назад). Мельник взимает шестнадцатую часть смолотой муки. Водяная господская мельница, вместе с ветряной и с 6 арпанами прилежащей земли, отдается в аренду за 600 ливров в год.
16. Обязательное пользование господской печью для печения хлеба (Banalité de four). По сделке, заключенной в 1537 г. между сеньором и его вассалами, он дозволяет им иметь в собственных домах небольшую печь, с подом из трех глиняных плит, по полуфуту каждая, для печения пирогов, лепешек и сухарей; они же, со своей стороны, признают себя обязанными пользоваться господской печью для печения хлеба. Сеньор может взимать шестую часть теста; это право могло бы приносить по 150 ливров в год; но несколько лет тому назад хлебопекарня обрушилась и не была выстроена заново.
17. Право держать голубятню (droit de colombier). Таковая имеется в парке замка.
18. Право наследования вассалами (droit de bordelage). На основании этого права сеньор считается наследником своих вассалов, за исключением того случая, когда родные дети умершего жили под одной кровлей с ним в момент его смерти.
19. Право на пустыри и заброшенные земли, а также на земли, намытые рекой.
20. Чисто почетное право на скамейку подле клироса, на каждение перед его особой, на упоминание его имени на ектинии, на погребение в церкви, под клиросом, также на внутренний и внешний траурный пояс с гербами при похоронах.
21. Крепостные пошлины (droit de lods et ventes) с чиншевиков (censitaires), вносимые сеньору приобретателем чиншевого участка в течение 40 дней по совершении покупки. Сеньор Бле и Бросс взимает их в размере 6 процентов. Считается, что продажи имеют место по разу в течение каждых 80 лет. — Это право дает ежегодно 254 ливра.
22. Церковные десятины и сборы с мясных продуктов (droit de dîmes et charnage). Сеньор приобрел все десятины, за исключением очень немногих, у каноников Ден-ле-Руа и у приора Шомонского. В уплату десятин здесь идет 13-й сноп. Эти десятины включены в арендные контракты фермеров.
23. Право на т. н. „господский сноп“ (droit de terrage ou champart). Это — право взимать, после отделения десятины, известную часть произведений земли. „В Бурбоннэ „господский сноп“ взимается в очень различных размерах; иногда в пользу господина взимается 3-й сноп, иногда 5-й, 6-й или 7-й, всего же чаше 4-й; в Бле взимается 12-й сноп“. Сеньор Бле взимает „господский сноп“ только на некотором числе земель своих владений. „Что касается до земли Бросс, то там, по-видимому, все земли, состоящие во владении чин-шевиков (censitaires), подлежат этому сбору“.
24. Чинш (cens), добавочный чинш (surcens) и ренты, платимые за разного рода недвижимости, — как то дома, поля, луга и пр., — находящиеся во владениях сеньора.
В имении Бле к этой категории принадлежат 810 арпанов земли, разделенные на 511 участков и состоящие в пользовании 120 чиншевиков; общая ежегодная сумма получаемого с них чинша состоит из 137 франков деньгами, из 67 четвериков пшеницы, 3 четвериков ржи, 159 четвериков овса, 16 пулярдок, 130 куриц и 6 петухов и каплунов; все это оценяется в 575 франков.
В имении Бросс сюда принадлежат 85 арпанов, разделенные на 112 участков и находящиеся в руках 20 чиншевиков; общая сумма годового чинша состоит тут из 14 франков деньгами, из 17 четвериков пшеницы, 32 четвериков ржи, 26 пулярдок, 3 кур и 1 каплуна. Все это ценится в 126 франков.
25. Право на общинные земли (124 арпана в имении Бле и 164 арпана в имении Бросс).
Вассалы имеют по отношению к общинным землям только право пользования. „Почти все земли, на которых они пользуются правом выгона, принадлежат в собственность сеньорам, которые обязаны терпеть одно только это право пользования их собственностью со стороны вассалов; да и то это право пользования дается не всем, а некоторым лицам“.
26. Право на лены (fiefs), зависящие (mouvants) от баронии Бле.
Некоторые из этих ленов, а именно 19, находятся в Бурбоннэ. В Бурбоннэ лены (fiefs), даже находящиеся во владении простолюдинов (roturiers), обязаны по отношению к сеньору, при каждом переходе из одних рук в другие, только выполнением некоторых почетных формальностей. В старину сеньоры Бле взимали при этом случае некоторый налог, взамен своего права выкупа (droit de rachat); но впоследствии они дозволили этому выйти из употребления.
Другие лены находятся в Берри, где существует еще право выкупа. В Берри у сеньора Бле имеется только один лен, а именно — Кормес, находящийся во владении архиепископа Буржского. Он состоит из 85 арпанов, кроме того, в число его доходов нужно включить некоторые десятины; всего же он приносит в год 2100 ливров. Принимая один переход из рук в руки в течение каждых 20 лет, этот лен дает ежегодно сеньору Бле 105 ливров.
Кроме вышеисчисленных обязательств, лежащих на поместье Бле, на нем лежат еще следующие другие обязательства:
1. Жалованье священнику Бле (portion congrue). На основании королевского указа 1686 г. оно должно равняться 300 ливрам. Вследствие сделки, заключенной в 1692 г., священник, желая обеспечить себе правильную уплату этого жалованья, уступил сеньору все десятины, сборы с новин (novales) и пр. — Когда указом 1768 г. священническое жалованье было определено в 500 ливров, священник потребовал себе этой суммы официальным путем.
2. Содержание стражника. Кроме помещения и отопления, ему дается в пользование 3 арпана залежи и 200 ливров.
3. Управляющему за хранение архивов, за надзор за починками и исправлениями и за взимание штрафов полагается 432 ливра и, кроме того, ему дается в пользование 10 арпанов залежи.
4. Уплата королю „двадцатин“ (vingtièmes). В прежнее время Бле и Бросс вносили 810 ливров, в качестве „двух двадцатин“, и затем по 2 су с ливра. Со времени же установления „третьей двадцатины“ они платят 1216 ливров.
22 Вот кое-какие подробности о некоторых привилегиях из уничтоженных Собранием и о которых Минье нашел нужным упомянуть отдельно.
Право охоты принадлежало исключительно дворянству. Нарушение этого права преследовалось с беспощадностью. Генрих IV, например, издал указ, по которому подвергается смертной казни всякий, кто несколько раз будет застигнут за охотой на крупную дичь в королевских лесах. В связи с правом охоты находится и право на голубятни, причем законодательство различает droit des fuies et droit des colombiers; и colombiers, и fuies — голубятни, но первые значительно большего размера, чем вторые. Сеньоры пользовались исключительным правом иметь голубятни и помещать их среди крестьянских полей, чтобы птица могла питаться зерном с них. Право охот и право на голубятни являлись настоящим бичом крестьянского землевладения.
В то время, как сеньор и его люди ломали изгороди и топтали хлеб, охотясь для своего развлечения за дичью, крестьянин обязан был оказывать ему уважение. Под страхом штрафа, тюремного заключения и ссылки на галеры в случае рецидива, он должен был давать им опустошать свое поле, должен был поддерживать и в случае надобности насаждать на нем кусты терновника, в которых могла бы держаться птица. Он не мог ни полоть сорной травы, ни жать, ни пахать в удобное время, ни выпускать на волю свою собаку, разве искалечив ее или привесив к ее шее чурбан. Он не имел права убить вороны, а на его глазах сторож сеньора убивал кошку, защищавшую его гумно от полевых мышей и крыс. Убытки, которые причиняли крестьянину помещичьи дичь и голуби, были так велики, что жалобы на них почти всегда занимают первое место в крестьянских челобитных и иногда наполняют их с начала до конца.
23 Под именем случайных доходов духовенства (casuel des curés) Минье подразумевает побор за исполнение священниками тех или иных треб.
Аниатами назывался особый побор в пользу папского престола; в пользу папы поступали доходы первого года с каждого нового источника дохода во всем католическом мире, с каждого вновь учрежденного монастыря, с каждой епархии и т. д.
24 Декларация прав человека. Вот подлинный текст декларации:
I. Люди родятся свободными и равноправными и остаются таковыми на всю жизнь. Различия между ними в общественном отношении могут иметь основание свое исключительно в общем благосостоянии.
II. Всякий гражданский союз имеет своей целью охранять естественные и никогда не теряющие своего значения права человечества: свободу, собственность, безопасность и противодействие насилию.
III. Истинным первоисточником всякой верховной власти в силу самой ее сущности не может не быть нация. Ни одна корпорация, ни один частный человек не могут иметь независимой от нее власти.
IV. Свобода состоит в том, что каждый может делать все, что только не вредит никому другому; таким образом, пользование естественными правами каждого человека может быть стеснено лишь теми ограничениями, которые обеспечивают остальным членам общества пользование их естественными правами. Эти ограничения могут быть определены только законом.
V. Закон вправе воспретить только те поступки, которые вредны обществу. Никто не может делать каких бы то ни было препятствий тому, что законом не воспрещено, или принуждать кого бы то ни было делать то, чего закон не предписывает.
VI. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право принимать участие в выработке его лично или посредством своих уполномоченных. Как охраняющие, так и карающие законы должны быть одинаковы для всех. Так как в глазах закона все граждане равны, то все они должны пользоваться в одинаковой степени доступом ко всем общественным чинам, местам и должностям — без всяких различий, кроме тех, которые устанавливают между ними добродетель и таланты.
VII. Никто не может быть обвинен, задержан или взят под стражу, кроме тех случаев, которые определены законом, и с соблюдением законом же определенных форм. Всякий, кто добивается произвольных распоряжений, дает их, исполняет или позволяет исполнять, должен понести наказание, но всякий гражданин, которому будет предъявлено какое-либо требование на основании закона или который на основании закона же будет задержан, — немедленно должен повиноваться: всякое противодействие в этом случае наказуемо.
VIII. Закон не может налагать никаких иных наказаний, кроме тех, которые очевидны и в самом строгом смысле необходимы. Никто не может быть наказан иначе, как на основании закона, данного и обнародованного раньше соответствующего преступления и притом с самым строгим соблюдением всех его точных требований.
IX. Так как каждый должен считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не доказана, то если окажется неизбежным взять кого-либо под стражу, — законом должны быть строжайшим образом воспрещены все стеснения, не необходимые для его задержания.
X. Никто не должен терпеть каких бы то ни было беспокойств из-за своих мнений, включая сюда и мнения религиозные, если только их обнародование не нарушает порядка, установленного законом.
XI. Драгоценнейшим правом человека является право свободного обмена мыслей и мнений; каждый гражданин должен обладать в полной мере правом свободно говорить, писать и печатать, и единственное допустимое ограничение этого права — ответственность по закону за злоупотребление этой свободой.
XII. Общественная власть необходима для ограждения прав человека и гражданина. Власть эта имеет целью благо всех, а не частную пользу лиц, облеченных ею.
XIII. Для содержания общественной власти и для расходов по управлению необходимы взносы в общественную казну. Они должны быть распределены между всеми гражданами сообразно их состоянию.
XIV. Все граждане имеют право непосредственно или через посредство особых уполномоченных определять необходимость общественных взносов, утверждать их без всякого постороннего влияния и надзирать за их расходованием. Всем гражданам принадлежит также определение той части, которая падает на долю каждого, и способы распределения и собирания этих взносов, и то, на какое время они учреждаются.
XV. Общество имеет право требовать от каждого правительственного агента отчета в его действиях.
XVI. Всякое общество, в котором права не обеспечены и не установлено разделения полномочий, лишено прочных установлений.
XVII. Так как собственность является священным и неприкосновенным правом, то никого нельзя лишать ее, разве только в случаях, когда этого без всякого сомнения потребуют общественные, точно установленные нужды и то при непременном условии полного и заранее определенного за нее вознаграждения.
25 Активные и пассивные граждане. Учредительное собрание разделило всех французских граждан на два класса; один — привилегированный класс, обладающий всеми политическими правами, составили граждане активные, а другой класс, всяких политических прав лишенный, — граждане пассивные.
„Закон от 22 декабря 1788 года, — говорит Ф. Олар{15}, — устанавливает три категории активных граждан: 1) Избирателем первого разряда, имеющим право голоса в первичных собраниях, может быть только гражданин, которому не менее двадцати пяти лет, который год живет оседло, не состоит на частной службе за жалованье и платит прямой налог не менее как в размере трехдневной заработной платы. Число активных граждан во всем королевстве равнялось, по декрету от 27 и 28 мая 1791 года, 4 298 360. 2) Право быть выбранным в избирательное собрание, на муниципальные должности, в администрацию округа или департамента имел лишь тот, кто платил прямой налог не менее как в размере местной заработной платы за десять дней. 3) Право быть избираемым в Национальное собрание имели те, кто платил „прямой налог в размере марки серебра (около 50 ливров) и сверх того владел некоторой земельной собственностью“. Этот декрет о марке серебра вызвал такой ропот, что в 1791 году, во время пересмотра конституционных законов, Учредительное собрание решило отменить его и постановило, что депутатом в будущем Национальном собрании может быть всякий активный гражданин. Но на деле оно ограничило это право, постановив, что участвовать в избирательном собрании, члены которого выбирались в каждом департаменте первичными собраниями и которое назначало депутатов, может лишь гражданин, владеющий на правах собственности или узуфрукта имуществом, приносящим, по оценке податных списков, доход, равный местной заработной плате за двести дней в городах с населением свыше 6000 душ, за полтораста дней в городах с населением менее 6000 душ и в селах, или же нанимающий жилое помещение, доход с которого в тех же списках признан равным стоимости полутораста или ста дней труда, смотря по народонаселению города, или, наконец, арендующий поместье, оцененное в 400 дней труда“.
26 Административное устройство департамента. Вот некоторые подробности внутреннего устройства департаментов, как их приводит Олар{16}:
„В каждом департаменте было учреждено высшее административное собрание под названием управление департамента, а в каждом уезде — низшее административное собрание под названием управление уезда. Первое, состоявшее из 36 членов, выбиралось избирательным собранием, которое назначало депутатов в Национальное собрание; второе, состоявшее из 12 членов, выбиралось теми же избирателями, но для этой надобности избиратели, вместо того чтобы образовать одно общее избирательное собрание, делились на столько собраний, сколько было уездов. Эти административные собрания наполовину обновлялись каждые два года. Кроме того, в состав управления департамента входил генеральный прокурор-синдик, в состав управления уезда — прокурор-синдик, избираемые тем же способом. Тотчас по избрании эти собрания выбирали себе председателя и разделялись на две секции: исполнительную — директорию департамента, директорию уезда и законодательную — совет департамента, совет уезда. Директория функционировала беспрерывно; советы имели право заседать: департаментский — не более одного месяца в году, уездный — не более пятнадцати дней. Уезд был вполне подчинен департаменту.
Управление департамента имело двоякого рода функции: 1) под надзором Законодательного корпуса и на основании его декретов оно распределяло прямые налоги между уездами, которые, в свою очередь, распределяли их между муниципалитетами, составляло податные списки плательщиков каждой общины, организовало и контролировало сбор и передачу казне податных сумм и выдавало ордера на уплату расходов; 2) от имени и под надзором короны оно заведовало всеми отраслями администрации.
Уездные власти участвовали в этих функциях лишь по поручению и под надзором управления департамента.
Компетенция генерального прокурора-синдика и прокурора-синдика была плохо определена. Всякий доклад должен был предварительно быть представлен им, и управление не могло ничего постановлять, не выслушав их. Избираемые активными гражданами, они как бы являлись адвокатами, защитниками народа. На практике эта их роль была то ничтожна, то значительна, смотря по человеку и обстановке“.
27 Вакационными палатами назывались особые судебные установления, разбиравшие самые неотложные судебные дела во время вакационного отдыха судов постоянных. Учреждения эти были источником постоянных судебных злоупотреблений.
28 …смешное восклицание… намек на одно из многочисленных народных собраний в саду Палс-Рояля, где принято было решение о роспуске Учредительного собрания. Все подобные резолюции Пале-Рояльских собраний никакого значения не имели и не представляли никакой действительной опасности.
29 Уничтожение капитулов и замена каноников викариями. Канониками назывались вначале лица обязательно священного сана, которым принадлежало исключительное право распоряжаться всей материальной частью католической церкви. Сначала они все были обязательно монахами и не имели ни личного имущества, ни личных привилегий. Затем мало-помалу они завладели частью церковных доходов и отчасти получили полную независимость от епископов (в Париже, например, два каноника, помимо епископальной власти, назначались советом других каноников). Собрание каноников носило название капитула. Одно время капитулам принадлежало право избрания архиепископов, капитулы управляли епархиями, пока в них бывала свободной епископальная кафедра.
Привилегии и доходы, которыми пользовались каноники, сделали то, что эти места стали раздаваться людям светского звания и даже женщинам.
Французские короли не гнушались занимать места каноников церквей, обладавших большими доходами. В некоторых местах должности каноников были наследственными.
Викарии были помощниками священства, ведавшими материальную часть, но не пользовавшимися ни особыми доходами, ни привилегаями.
30 Вот некоторые подробности нового судебного устройства, введенного Учредительным собранием:
„На первое место{17} был поставлен третейский суд, как наиболее разумный способ улаживать споры между гражданами, но это был суд факультативный. В каждом кантоне был мировой судья, избираемый, как и его асессоры, активными гражданами из числа граждан, пользовавшихся правом избрания, сроком на два года; вторично он не мог быть избираем. Тяжбы на сумму не свыше пятидесяти ливров он решал безапелляционно, на сумму до ста ливров — с правом апелляции в уездный суд. В каждом уезде существовал гражданский суд из пяти судей, которые избирались на шесть лет и могли быть переизбираемы. Уездные суды служили апелляционными инстанциями один для другого. Для уголовного судопроизводства были установлены три степени: 1) суд полицейский, ведавший простые нарушения полицейских правил; он был вверен муниципалитету; 2) суд исправительный, ведавший проступки; он был вверен мировому судье и его асессорам; 3) наконец, суд уголовный, ведавший преступления, он был вверен уголовному трибуналу. Такой трибунал находился в каждом департаменте, всегда на одном и том же месте; он состоял из трех судей, выбираемых избирательным собранием, и президента, избираемого так же. В его состав входили обвинительное жюри (Jury d'accusation) и жюри, постановлявшее приговор (Jury de jugement). (Конституанта отказалась ввести суд присяжных в гражданское судопроизводство). Прокуратура состояла из государственных обвинителей, избираемых на время, и королевских комиссаров, назначаемых королем пожизненно. Существовал также кассационный суд, заседавший при Законодательном корпусе; члены его избирались департаментами.
Наконец, Конституанта учредила Верховный национальный суд, нечто вроде высшего политического суда, который должен был разбирать все те преступления и проступки, в которых обвинителем выступал Законодательный корпус. Члены этого суда, называвшиеся Hauts jurés, выбирались избирательными собраниями в числе двух от каждого департамента. Он должен был заседать на расстоянии не менее 15 миль от Законодательного корпуса; он заседал в Орлеане“.
31 Внутреннее устройство Учредительного собрания. Минье почти ничего не говорит о внутренней организации Учредительного собрания. Приводим поэтому соответственное место из Олара, „Великая французская революция“{18}.
„После соединения сословий депутаты формально были признаны вполне равноправными; однако, в первое время собрание старалось составлять свои бюро и комитеты почти поровну из представителей привилегированных сословий и представителей третьего сословия. Что касается протестов и абсентеизма депутатов дворянства и духовенства, ссылавшихся на свои непреложные инструкции относительно голосования по сословиям, то Учредительное собрание постановило (8 июля 1789 г.) что ни протесты, ни абсентеизм этих депутатов не могут остановить его деятельности.
Во главе себя собрание поставило президента, избираемого всего на пятнадцать дней, и дало ему в помощь шесть секретарей. Обязанность нынешних квесторов исполняли т. н. commissaires de la salle.
Каждый член имел право внести предложение; но оно могло быть обсуждаемо лишь в том случае, если его поддерживали два других члена. Собрание решало, должно ли оно подвергаться обсуждению или нет. В случае утвердительного решения, если проект касался законодательства, конституции или финансов, его печатали и раздавали членам, а собрание решало, следует ли передать его в бюро, или обсуждать без предварительного рассмотрения в бюро. Наконец, происходили публичные прения, при чем могли быть предложены поправки и дополнения, и собрание постановляло приговор большинством голосов путем вставания, а в спорных случаях — путем поименного голосования. Оно имело право объявить вопрос безотлагательным, и тогда эта процедура сокращалась и упрощалась.
Бюро представляли собой секции собрания. Их было тридцать; в них участвовали все члены собрания, сменявшиеся по очереди в алфавитном порядке.
Комитеты, избираемые бюро баллотировкой из числа всех членов собрания, представляли собой постоянные комиссии, на обязанности которых лежала подготовка дел для работы собрания. Наиболее известным и важнейшим из этих комитетов был конституционный. Из числа прочих следует назвать финансовый, церковный, феодальный, или комитет феодальных повинностей, военный, колониальный, комитет по искоренению нищенства, следственный комитет (нечто вроде Комитета общественной безопасности), наконец, дипломатический. Чрез посредство этих комитетов Учредительное собрание наблюдало за деятельностью исполнительной власти и в их лице часто превышало свою компетенцию, так что, вопреки принципу разделения властей, оно фактически участвовало в управлении Францией.
Собрание допускало к своей решетке петиционеров и депутации, и, таким образом, не раз в зале его заседаний раздавался голос народных ораторов.
Заседания были публичны, и хотя мнение о давлении, которое производила на его деятельность трибуна, и преувеличено, тем не менее нельзя отрицать, что поведение публики неоднократно оказывало сильное влияние на дебаты и даже на вотум собрания“.
32 Говоря об Учредительном собрании, необходимо сказать несколько слов относительно муниципального устройства Парижа.
Декретом от 21 мая 1790 г. Собрание разделило Париж на 48 секций.
Все жители Парижа, имеющие право участвовать в выборах, составляли советы этих секций. Они выбирали 16 комиссаров на помощь главному полицейскому комиссару, также избиравшемуся населением; они, далее, следили за исполнением предписаний муниципального совета и, в свою очередь, обращались к нему с требованиями, пожеланиями и советами. Собрания секционных советов происходили регулярно раз в неделю, но по требованию 50 секционеров секция должна была быть тотчас же собрана на экстренное заседание. 8 секций имели, кроме того, право требовать, чтобы по данному вопросу высказались все секции.
La commune de Paris (Парижская коммуна), что играла затем такую большую роль в революции, состояла из мэра, 16 администраторов, муниципального совета из 32 членов, Генерального совета из 96 членов, генерального прокурора и его двух помощников. Мэр являлся председателем Исполнительного совета города, состоявшего из 16 администраторов, отправлявших каждый особую обязанность. Муниципальный совет собирался по меньшей мере раз в две недели, а по желанию мэра и чаще. Собрания совета могли, кроме того, потребовать половина его членов. Генеральный совет не имел периодических собраний, но собирался по желанию мэра или требованию муниципального совета, или половины администраторов; кроме специальных 96 членов, в него входили: весь муниципальный совет, администраторы и мэр, так что общий состав его был в 147 членов. Именно этот Генеральный совет и вел последующую борьбу с правительством.
33 Логографом называли лицо, ведшее протокол собрания.
34 Внутреннее устройство Законодательного собрания. Оно было организовано почти так же, как и собрание Учредительное и точно так же делилось на секции. Наибольшее значение получили в этом собрании комитеты, захватившие в свои руки со временем всю власть. Особенно надо отметить деятельность комитетов наблюдательного и дипломатического.
35 Выборы в Конвент и его полномочия. Законодательное собрание избиралось лишь активными гражданами. Ценз этот по новой конституции был отменен, и было установлено, что избирательное право принадлежит каждому французу, достигшему 25-летнего возраста и живущему своим трудом. Двухстепенность выборов была удержана, несмотря на сильную пропаганду против нее, предпринятую Маратом. Первичные собрания происходили с 26 августа 1792 г., а со 2 сентября начались собрания выборщиков. Общее число депутатов Конвента было около 750. Между ними была почти вся левая Законодательного собрания и немало членов собрания Учредительного.
„Париж{19} взял своих депутатов почти исключительно из крайней демократии и избрал тех лиц, на которых с большим или меньшим основанием старались взвалить вину за переворот 2 сентября. Этими выборами Париж еще раз дал свое подтверждение энергичным мерам переворота.
Большинство голосов в Париже получил Робеспьер; теперь началась его великая политическая роль. После него по большинству голосов следовал Дантон, оставивший пост министра, чтобы баллотироваться в Конвент, так как он понял, что правительство будет теперь в самом Конвенте. В Париже был избран также Марат. Таким образом, Париж послал в Конвент трех вождей демократии. Кроме того, в Париже были избраны: Дюссо, которого Марат называл „неопасным старым болтуном“; затем, друг Дантона Фабр д'Эглантин, Бийо-Варенн, которого таланты и энергия скоро должны были провести в правительство, Колло д'Эрбуа, имевший разделить судьбу Бийо, Камиль Демулен, Осселен; затем, Сержан и Панис — из комитета надзора Коммуны, Буше и знаменитый живописец Давид, бывший в то время ярым якобинцем. Среди парижских депутатов меньше всего голосов получил герцог Орлеанский“.
„Каковы были{20} функции и полномочия Конвента? Ему не было дано никакой определенной инструкции, для него не составили наказов, и в протоколах избирательных собраний редко упоминается о политических прениях. Можно только констатировать, что почти всем членам Конвента были даны неограниченные полномочия. По основному вопросу о том, следует ли сохранить монархию, или установить республику, ясно высказалось, из 83 избирательных собраний, только одно — парижское, которое потребовало „республиканской формы правления“. Сохранения королевской власти не потребовало ни одно из этих собраний, но за нее высказалось небольшое число первичных собраний. Франция решилась пожертвовать монархией Бурбонов в интересах национальной обороны, но, по-видимому, боялась, как бы республика, которую наиболее демократически настроенные политики того времени называли несбыточной мечтой, не оказалась тождественной с федерализмом или анархией, между тем как главной задачей минуты было сплотить Францию против иноземного врага“.
36 Подробности о первом заседании Конвента Вот некоторые подробности о первом заседании Конвента, как их приводит Олар{21}.
„Первое заседание Конвента состоялось в Тюильри 20 сентября 1792 г. Так как налицо был уже 371 депутат, то он объявил себя в законном числе и избрал свою канцелярию: президента — Петиона (235 голосами при 253 голосовавших) и секретарей — Кондорсе, Бриссо, Ласурса, Верньо, Камю. Таким образом, первый акт носил жирондистский характер. На следующий день Конвент перешел в Манеж, где занял зал Законодательного собрания (здесь он заседал до 10 мая 1793 г., когда окончательно перешел в Тюильри). В этом заседании 21 сентября он вотировал несколько успокоительных и относительно консервативных постановлений: 1) что единственной законной конституцией является та, которая принята народом; 2) что личная и имущественная безопасность находится под защитой нации; 3) что не отмененные законы будут временно исполняться, что власти не отозванные или не упраздненные временно сохраняются и что установленные подати должны и впредь быть уплачиваемы, как доныне. Заседание уже готово было закрыться, а вопрос о форме правления еще не был поднят, как вдруг Колло д'Эрбуа, бывший председатель того парижского избирательного собрания, которое высказалось за республику, бросился на трибуну и потребовал упразднения королевской власти. Ему стали возражать, указывая на „права народа“ и на необходимость избегнуть упрека в том, что столь важный шаг был вызван вспышкой энтузиазма. Но Конвент чувствовал, что ему нельзя отступать, и единогласно постановил, что „королевская власть упраздняется во Франции“. Ни один из ораторов не упомянул слова республика.
Вечером этот декрет был оповещен в Париже при свете факелов, и народ выразил свою радость новым возгласом: Да здравствует республика! В тот же вечер Конвент, собравшийся в этот день вторично, допустил к своей решетке две секции, которые явились, чтобы клятвенно обещать ему охранять республику, хотя официально о ней еще не было и речи. Таким образом, столица взяла на себя почин решить, не обинуясь, этот страшный политический вопрос, перед которым Конвент стоял в нерешительности. На следующий день, 22 сентября, по инициативе Бийо-Варенна было постановлено отныне датировать правительственные акты первым годом республики. Этот важный декрет был вотирован без всякой торжественности; о нем сообщили лишь немногие газеты, и позднее Робеспьер не встретил возражений, сказав с трибуны, что республика „украдкой пробралась“ между партиями. Страна принуждена была обратиться к республике, потому что упадок королевской власти сделал ее неизбежной. Мало-помалу она приобрела популярность, особенно под влиянием военных успехов; позднее у нее явились свои герои и мученики, — она стала почти религией“.
37 Maximum — закон, устанавливающий известную цену, по которой могут быть продаваемы те или иные продукты. 27 сентября 1792 г. Парижская коммуна впервые установила таксу, выше которой в Париже не могли быть продаваемы съестные припасы. 3 мая 1793 г. Конвент распространил закон максимума на всю Францию, поскольку он касался хлебного зерна и муки. 29 сентября того же года закон был распространен на свежее и соленое мясо, сало, масло коровье и постное, соленую рыбу, всякую живность, вино, водку, уксус, сидр, пиво, каменный уголь, дрова, свечи, масло для освещения, соль, соду, мыло, поташ, сахар, мед, бумагу, кожевенные товары, железо, чугун, свинец, сталь, медь, пеньку, все сырые материалы для фабрик, табак и обувь. Цена на все эти предметы была закреплена та, что существовала в 1790 г. Наконец, 22 февраля 1794 г. закон о максимуме получил некоторое, последнее изменение, — к установленной цене на различные продукты прибавлялся тариф за провоз. Все декреты относительно закона о максимуме были аннулированы 24 декабря 1794 г.
38 О Конституции 1793 г. Конституция 1793 г., которой — как и Конституции 1791 г. — предпослана была Декларация прав{22}, отличавшаяся, впрочем, более уравнительным характером и выставлявшая целью социальной жизни "общее благо", освящала систему всеобщего голосования, установленную 10 августа, но отменяла двухстепенность выборов, предоставляя избрание депутатов непосредственно первичным собраниям по округам с 50 000 жителей в каждом, созываемым ежегодно первого мая. Всякий француз, достигший 21 года, приобретал все политические права без каких бы то ни было имущественных ограничений. Члены департаментской и дистриктной администрации, равно как члены суда, по-прежнему избирались двухстепенной баллотировкой. Законодательная власть была вверена Национальному собранию, состоявшему приблизительно из 600 депутатов, которые избирались лишь на один год. Всякий закон, принятый Национальным собранием, должен быть представлен народу; если спустя сорок дней после обнародования в половине департаментов, с прибавлением одного, десятая часть первичных собраний каждого из них не заявит протеста, закон считается окончательно принятым; в противном случае сзывались первичные собрания. Здесь, таким образом, мы снова встречаемся с прежним veto, приобретшим демократическую форму. Исполнительная власть была вверена Исполнительному совету из двадцати четырех членов, избираемых таким образом: избиратели второго разряда в каждом департаменте назначают одного кандидата; из списка этих кандидатов Национальное собрание выбирает членов Совета, половина которых обновляется по истечении каждого законодательного периода, т. е. ежегодно. Наконец, конституция должна была быть подвергнута плебисциту. Все было рассчитано на то, чтобы рассеять беспокойство тех, которые опасались диктатуры Парижа: благодаря установлению чего-то вроде народного veto последнее слово по всякому вопросу оставалось за департаментами. Кроме того, всякая возможность установления личной диктатуры была предотвращена путем учреждения Исполнительного совета из двадцати четырех членов, в избрании которых участвовали все департаменты.
39 Организация революционного управления{23}. „Отсрочка Конституции 1793 г. была равносильна продлению действия Конституции 1791 г., правда, измененной упразднением королевской власти и введением всеобщего голосования, но вполне сохранившей свой децентрализационный характер. Мало того: упразднение монархии еще увеличило независимость выборной администрации, что немало способствовало успеху федералистического движения. Во Франции царила анархия, время от времени вызывавшая со стороны Конвента исключительные меры, произвольность и противоречивость которых были вместе и одним из последствий, и одной из причин террора. 1 августа Дантон потребовал, чтобы правительство национальной обороны было, наконец, организовано одним общим декретом, который фактически приостановил бы действие конституции, по существу непримиримой с внешним и внутренним положением Франции. Он хотел, чтобы Комитет общественного спасения был превращен во временное правительство. Конвент ограничился тем, что предоставил в распоряжение Комитета пятьдесят миллионов для секретных целей. Лишь 10 октября тем самым декретом, которым отсрочено было вступление в силу Конституции 1793 г., он наметил первые черты временного революционного управления. Этот план был изменен и дополнен обширным декретом от 4 декабря 1793 г. (14 фримера II года), главной целью которого было сломить силу выборных департаментских властей. Здесь формально объявляется, что „в отношении революционных и военных законов и мер, касающихся государственного управления и общественной безопасности, иерархия, ставящая дистриктные, муниципальные и все другие органы власти в зависимость от департаментов, упраздняется“. Компетенция департаментов была ограничена разверсткой податей между дистриктами, учреждением мануфактур, проведением общественных дорог и каналов и заведованием национальными уделами. Сохранив всего восемь членов, которые составляли их директорию, будучи лишены своего Генерального совета, президента и генерального прокурора-синдика, департаментские собрания отныне не играют никакой роли в общей администрации и государственном управлении Франции. Надзор за исполнением революционных законов и правительственных мероприятий, за общественным благом и безопасностью в департаментах был возложен исключительно на дистрикты, которые были обязаны аккуратно каждые десять дней представлять отчет Комитету общественного спасения относительно правительственных мер и общественного блага, и Комитету общественной безопасности — по делам общей и внутренней полиции и относительно поведения отдельных лиц. Один из главных недостатков Конституции 1791 г. заключался в том, что она не устанавливала при выборных собраниях никакого агента от центральной власти. Декрет от 14 фримера заменил дистриктных прокуроров-синдиков и прокуроров Коммуны национальными агентами, которые были назначены Конвентом. Все органы власти, — департаментские, дистриктные и муниципальные, — быстро очищенные комиссарами от неблагонадежных элементов, были строго подчинены Комитету общественного спасения. Им воспрещено было соединяться в союзы. Областные революционные армии и всевозможные конгрессы и комитеты были уничтожены, исключая революционных или блюстительных комитетов, на которых лежала обязанность задерживать подозрительных, да и им заранее преградили путь к достижению независимости, предписав им сменять своих президентов и секретарей каждые две недели. Что касается центральной власти, то Конвент провозгласил себя „единственным центром правительственного воздействия“. Считалось, что он управляет через посредство своих двух комитетов — общественного спасения и общественной безопасности, которые в обыденной речи получили название правительственных комитетов. Граница между их компетенциями была плохо определена. Фактически все управление сосредоточивалось в руках Комитета общественного спасения, и Комитет общественной безопасности был ему подчинен. Но когда с переменой обстоятельств террористический строй утратил свой смысл, между этими двумя комитетами возник конфликт, бывший одной из форм революции термидора.
Правительственные комитеты заведовали управлением и администрацией через посредство временного Исполнительного совета (которого не упраздняли еще в течение нескольких месяцев), командированных депутатов, которые были подчинены Комитету общественного спасения, через посредство дистриктов, национальных агентов, революционных комитетов, а также через посредство Якобинского клуба и его многочисленных филиальных отделений, которые являлись помощниками правительства в деле очищения правительственных органов от подозрительных лиц. Конвент сохранил за собой право назначать командиров сухопутной и морской армии. Прочих высших офицеров назначал Исполнительный совет, но они утверждались Комитетом общественного спасения. Командированным депутатам было предоставлено право отрешать и временно назначать чиновников всякого ранга, под условием доносить об этом Комитету общественного спасения. Европе было официально сообщено, что последний представляет собой правительство Франции: „Комитет общественного спасения нарочито уполномочен производить важнейшие дипломатические операции, и он непосредственно будет совершать все акты, вытекающие из этих операций“. Сверх того, путем основания законодательного бюллетеня, декрет 14 фримера обеспечивал быстрое и однообразное исполнение предписаний Конвента“.
40 О революционном календаре. Началом новой эры для Франции было признано 22 сентября 1792 г., „день осеннего равноденствия, тот момент, когда солнце вступило в созвездие Весов, в 9 ч. 18 м. 13 с. утра по часам Парижской обсерватории“. Значение названий месяцев таково: вандемьер — месяц сбора винограда; брюмер — месяц туманов; — фример — месяц морозов; нивоз — месяц снега; плювиоз — месяц дождя; вантоз — месяц ветра; жерминаль — месяц произрастания; флореаль — месяц цветения; прериаль — месяц лугов; мессидор — месяц жатвы; термидор — месяц зноя; фрюктидор — месяц плодов.
В дни общественного мнения можно было безнаказанно говорить все, что угодно. Раз в 4 года санкюлотидов было не 5, а 6, и этот шестой день, „революционный“, был днем особого национального праздника.
Чтобы сгладить след „монархических и церковных предрассудков, грязнивших каждую страницу календаря“, Конвент заменил имена святых названиями сельскохозяйственных продуктов и земледельческих орудий. Таков был республиканский календарь, державшийся более двенадцати лет и официально отмененный лишь 1 января 1806 г.
41 Уже 18 октября городской совет отменил всякого рода религиозные церемонии; были удалены отовсюду мощи и статуи святых, и запрещены крестные хода и хождения по святым местам. Парижане встретили эти меры как будто бы с одобрением, и это побудило Эбера и Шометта убедить парижского конституционного епископа Гобеля, ради примера для других, сложить с себя сан. Гобель с готовностью согласился на это; 7 ноября 1793 г. он явился со своими викариями в Конвент в сопровождении Шометта, сложил знаки своего священнического достоинства и надел красную шапку. Гобель сказал при этом: „Я принял сан, возложенный на меня народом. Я стал епископом, когда народ еще хотел епископов; я оставляю этот сан, когда народ уже не желает епископов. Духовенство, подчиненное мне, проникнуто такими же мыслями“. Священник Вожирар подтвердил это заявление, и многие священники сложили с себя сан.
Поступок Гобеля вызвал подражание в департаментах. Из церквей забирались драгоценности, кресты, облачения и т. д., и все это отправлялось в Конвент для употребления на пользу отечества. Колокола переливались в пушки…
Но из всего этого вовсе не значит, чтобы христианский культ был уничтожен: даже священники, не отказавшиеся от своего сана, оставались чиновниками государства. Во всем движении предполагалась полная его добровольность. Священник Грегуар, известный своей полной преданностью республике, все время оставался, например, верующим христианином. Только создание вместо христианства (для тех, кто его добровольно бросил) культа чистого разума придает некоторый видимый насильственный облик религиозной реформе.
Собор Парижской Богоматери был превращен в храм Разума. Сюда собирались поклонники нового культа; читались конституция и Декларация прав человека или устраивались иные чтения и сообщались известия с театра военных действий; играла музыка, пелись патриотические песни. Тут стоял ящик в виде головы животного, называвшийся „ртом мудрости“; в него опускались анонимные предложения, жалобы и советы по вопросам общественного блага.
Вот как описывает В. Блосс одно из торжеств нового культа: „Длинная процессия шла к собору Парижской Богоматери. Впереди несли бюсты Лепелетье и Марата, а за ними „богиню разума“. Она сидела на троне, несомом четырьмя мужчинами. Существует общераспространенное сказание, что богиню разума изображала проститутка. Это совершенно неверно: ее изображала жена депутата Моморо, известная своей красотой. Около нее находилась „богиня свободы“, изображаемая актрисой“.
Уверения, будто с праздниками Разума были соединены оргии, — тоже гнусная клевета. Напротив, именно Шометт уговаривал экзальтированных женщин не выходить из пределов женственности. 18 ноября толпа фантастически разубранных женщин проникла, под предводительством некоей Розы Лакомб, в зал Коммуны и держала себя здесь очень навязчиво. Шометт напомнил им об их обязанностях, как матерей и хозяек, и, восхвалив верную и заботливую супругу, закончил такими словами: „Мы должны презирать бесстыдную женщину, — плевать на ту женщину, которая одевается в мужское платье и отвратительно меняет красоту, данную ей природой, на пику и красную шапку“. Было решено не принимать вперед подобных женских депутаций, не вторгаясь, впрочем, как сказал Шометт, в их права.
42 Св. Дионисий (St-Denis), по словам католической легенды, будучи обезглавленным, продолжать жить и ходил, держа свою голову под мышкой.
43 После казни королевы и жирондистов в Париже началась какая-то резня. Казнены были: г-жа Ролан, герцог Орлеанский, генералы: Люкнер, Кюстен, Ушар, Богарне и Бирон, затем Барнав, Дюпор, Шапелье, Дантон, Эбер, Клоотс, принцесса Елизавета и, наконец, 5 декабря 1793 г., Дюбарри, любовница Людовика XV. Далее идут уже жертвы, совершенно неизвестные; 2 декабря гильотинируют (приводим только примеры, а не полное перечисление всех гораздо более многочисленных казней) двух сапожников за поставку плохих сапог в армию; 9 декабря казнят четырех портных; 22 декабря 60-летнюю дворянку и ее прислугу, а также камердинера Дюбарри. 7 января была казнена некая г-жа Лекенже за то, что подписалась на роялистский журнал; 16 января — парикмахер, смеявшийся над Конвентом, 21 марта — г-жа Лорье за то, что она назвала казнь своего мужа делом тирании; 24 апреля казнят 33 обывателей Вердюна за то, что они когда-то с радостью встретили вступление в город пруссаков. 8 мая казнен был знаменитый химик Лавуазье; он просил отсрочки казни на четыре недели, чтобы окончить одно важное открытие, на что президент трибунала Кофеналь ответил ему: „Нам не надо ученых!“ Часто нельзя даже разобрать, за что казнили тех или иных людей.
10 мая умерли две монахини 60 лет и одна швея 77 лет; 28 мая — винодел, портной с женой, поденщик, опять винодел и портной, мельник, чернорабочий одного извозчика, бочар, слуга, швея, опять поденщик, рабочий табачной фабрики, стекольщик; 13 июня — портной, два стекольщика, торговец деревом, извозчик, живописец, мясник, садовник, типографщик и одна 24-летняя прачка из Гамбурга. С этих пор дневные списки становятся длинными; число жертв доходит до 80 в день. Уже список 16 июня содержит 54 жертвы: между ними 39 рабочих и 10 человек служащих. Списки остаются такими вплоть до низвержения Робеспьера; на пятьдесят осужденных всегда приходится около сорока лиц из бедных трудящихся классов, т. е. из народа, по определению самого же Робеспьера.
44 Милленариями назывались английские сектанты, ожидавшие скорого наступления на земле Царства Божия.
45 Робеспьер давно уже стоял на той обычной точке, что образованный человек может обойтись без религии, а для народа она необходима. Уже в ноябре 1793 г. он говорит: „Атеизм — аристократичен. Мысль о великом существе, которое охраняет угнетенную невинность, карает торжествующее преступление, в высшей степени народна. Если Бога нет, то его нужно выдумать“.
46 Вот некоторые подробности относительно законодательных мер, принятых Конвентом по настоянию демократии: 28 марта было постановлено организовать общественную помощь, которую объявили общественным долгом господствующих классов. Затем принялись за раздел общинных земель. Triage, „историческое право“ землевладельцев на треть общинных имуществ, еще раньше было уничтожено: общины получили обратно все свои имущества. Но и теперь люди не сумели сконцентрировать общинную собственность и устроить хозяйство в крупных размерах. Общинные имущества и общинное самоуправление, как говорит один современный писатель, могли бы образовать самые прочные устои демократии. Но Конвент, в противоположность Парижской коммуне, не хотел и знать ничего о широком самоуправлении общин; таким образом, общинные имущества были раздроблены. Сперва было постановлено разделить общинные угодья между теми гражданами, которые имели не более 100 франков дохода; впоследствии декретом 10 июня было предписано разделить общинные угодья между всеми жителями по числу душ. Но этот раздел был произведен лишь до известной степени.
Таким образом, Конвент увеличил число собственников мелких участков. Этим он создал тот класс, который должен был стать таким сильным тормозом дальнейшего демократического развития Франции. Конвент не воспользовался удобным случаем для организации обработки земли в крупных размерах. Люди не думали о том, чтобы восстановить старинное общинное хозяйство в улучшенном и более совершенном виде: в мелких собственниках они видели настоящих буржуазно нормальных людей. Таким образом, новая демократия стала на наклонную плоскость, что не могло обещать ей долговечности. Можно возразить, что эта демократия в борьбе с внутренними и внешними врагами не имела времени основательно подумать о преобразовании земледельческого хозяйства. Но ни у одного из ее самых светлых умов не появилось даже мысли о том, что увековечение карликового хозяйства воспитает эгоистическое, недоступное для идеалов поколение. Две наполеоновских империи были плодом системы этих мелких участков{24}.
47 Вряд ли здесь мы имеем дело с настоящим покушением на жизнь Робеспьера. Вернее, что видя, какое всеобщее сочувствие к Колло д'Эрбуа возбудило покушение на него Адмира, Робеспьер из ничего не значащего инцидента раздул громкое дело. Ножички, найденные у Сесиль Рено, были совершенно игрушечные. Как бы ни было, на Адмира и Сесиль посмотрели как на глав большого заговора, устроенного Питтом, и всех, кто только был близок к арестованным, привлекли к этому делу. Вместе с Сесиль обвинили ее отца, братьев, ее тетку. В это дело впутали госпожу Сент-Амарант, ее дочь, сына, зятя и прежнюю любовницу этого последнего, а также и всех их слуг. Тут было 61 человек и среди них — десять женщин. Все протесты оказались тщетными, и Адмира, когда он заявлял, что не знает всех этих людей, даже не слушали. Эти лица были приговорены к смертной казни, в качестве членов одного и того же заговора, и 17 июня отправлены на эшафот в красных рубахах, как „отцеубийцы“. Этот необычайный процесс раздувал главным образом старый Вадье, так как он знал, что Сент-Амарант содержала игорный дом, где, как говорили, бывал брат Робеспьера. Он хотел этим скомпрометировать Робеспьера.
48 Решение провозгласить веру в Верховное Существо было принято Конвентом после речи Робеспьера, в которой он доказывал, что вера в бессмертие души увеличивает мужество и патриотизм. „Невинность на эшафоте заставляет бледнеть тирана на триумфальной колеснице; она обладает этой силой только потому, что смерть уравнивает угнетающего и угнетенного!“ — сказал Робеспьер между прочим. Конвент проголосовал за бессмертие души и бытие Верховного Существа и большинством голосов постановил: „Французский народ признает бытие Верховного Существа и бессмертие души и считает, что служение этому Верховному Существу должно состоять в исполнении обязанностей человека. Для напоминания людям идеи божества и величия его бытия следует установить праздники, которые должны быть посвящены славным событиям нашей революции, различным добродетелям и силам и благодеяниям природы. 20 прериаля должно быть осуществлено первое празднество в честь Верховного Существа“.
Празднество это, о котором Ф. Минье говорит только несколько слов, носило скорее не торжественный, а комичный характер. Всех речей Робеспьером было произнесено три, и именно третья кончалась словами, приведенными у Ф. Минье. После первой речи Робеспьер подошел к группе аллегорических статуй, сделанных из картона, которые должны были изображать раздор, атеизм и эгоизм; их нужно было уничтожить. Новый первосвященник зажег факелом статуи; из их пепла должно было подняться изображение мудрости. Изображение это показалось несколько почерневшим от дыма, и когда кто-то заметил, что мудрость нового первосвященника помрачилась, Конвент засмеялся. Робеспьер произнес вторую речь, относившуюся к этому акту. Затем Конвент направился на Марсово поле, причем Робеспьер с сияющим лицом шел на несколько шагов впереди Конвента. Это выделение озлобило членов Конвента; послышалось слово „тиран“, а какой-то голос даже крикнул: „От Капитолия до Тарпейской скалы — лишь один шаг!“
49 Федералистами во время революции называли тех граждан, что в различных провинциях и департаментах соединялись вместе для защиты принципов 1789 г.
50 Companies de Jesus (Общества во имя Иисуса). Правильное название этих обществ Companies de jéhu (Общества вуйя), и только по созвучию недостаточно образованные люди называли их Companies de Jesus. Сообщества эти, основанные после 9 термидора, держали в страхе весь юг Франции; члены их за преступления карали преступлениями же и совершали неслыханные жестокости. 24 апреля 1805 г., они, например, напали на Лионскую тюрьму, избили 80 заключенных там террористов и побросали трупы их в Рону.
51 Доступ в избирательные собрания имел только тот, кто платил какую-либо прямую (поземельную или личную) подать. Избирателями же во вторичном собрании могли быть только владельцы имущества, приносящего доход, смотря по местности, в размере, равном 100–200 дневным заработкам.
52 Кроме того, по Конституции III года были сохранены выборные департаментские административные должности, но число их сокращено до пяти, и они всецело подчинены исполнительной власти, которая при каждой из них, как и при каждом муниципалитете, держала сменяемого комиссара, обязанного требовать исполнения законов и следить за их применением. Департаменты сохранили свои названия, исключая парижский, который был назван Сенским департаментом, как бы с целью показать, что гегемония столицы кончилась. Дистрикты были упразднены. Мелкие муниципалитеты были уничтожены: теперь существовали только кантональные муниципалитеты, представлявшие собой соединение муниципальных агентов, избранных порознь всеми общинами кантона. Париж составлял особый кантон, разделенный на двенадцать муниципалитетов с центральными бюро для общих дел.
53 Бабеф говорил, что равенство, которое до сих пор так часто объявлялось, было лишь обманом. Он хотел установить фактическое равенство, положив в основу его собственность. С этой целью он хотел образовать для своего нового общества общенациональное владение (grande communauté nationale), которое имело составиться из имуществ всех осужденных и беглых реакционеров. Путем отмены права наследования это общенациональное владение имело увеличиваться и, наконец, охватить всю страну. Главным образом в общее владение должна была поступить земля. Воспитание молодежи должно вестись однообразно в больших национальных заведениях. Все граждане обязаны заниматься полезным трудом, каким должны считаться земледелие, ремесла и военная служба. Должны быть организованы рабочие классы, состоящие под надзором выборных лиц; каждый гражданин должен вступить в один из таких классов. Продукты труда должны сдаваться в государственные и общинные магазины, откуда все граждане могли бы получать поровну все необходимое. Леность должна была наказываться принудительным трудом. Деньги уничтожались, и вся внешняя торговля становилась монополией правительства. Как ученик Робеспьера, Бабеф желал также восстановления культа Высшего Существа. Для политических преобразований руководящей нитью служила Конституция 1793 г.{25}
54 Великий раздаватель милостыни (Le grand aumônier) заведовал домашней дворцовой церковью и благотворительными дворцовыми учреждениями (госпиталями, приютами и т. д.). Одно время в его заведовании находились все вообще госпитали Франции; он, между прочим, назначал всех учителей в Collège de France.
55 Превотальные суды — были суды исключительные, для разбора известных дел. Законом 10 октября 1810 г. суды эти были установлены для разбора дел по контрабанде. 20 декабря 1815 г. они были возобновлены для разбора всех дел против общественной безопасности. Приговоры этих судов были безапелляционны. Председательствовали в них высшие чины армии, носившие название прево. Превотальные суды были окончательно уничтожены в 1817 г.
Комментарии К. Дебу
1 Во время резни, устроенной Парижской коммуной 2 сентября, он спасал всех, кто ему попадался; по своему собственному побуждению он выпустил из тюрьмы Дюпона, Барнава и Шарля Ламета, бывших его личными врагами.
2 Вот несколько ответов этой геройской девушки перед Революционным трибуналом: „Каковы были ваши намерения при убийстве Марата?“ — „Прекратить мятежи во Франции!“ — „Давно ли у вас составился этот план?“ — „После дела 31 мая, дня изгнания народных депутатов!“ — „О том, что Марат — анархист, вы узнали из журналов?“ — „Да, я знала, что он развращает всю Францию. Я убила, — прибавила Корде, сильно повышая голос, — одного человека, чтобы спасти сотни тысяч, я убила злодея, чтобы спасти невинных, кровожадного зверя, чтобы дать покой моей родине. Я была республиканкой раньше революции, и у меня всегда было достаточно смелости“.
3 Вперед, дети родины, настал день славы; против нас тирания, и над нами занесен уже окровавленный ее топор
4 Examens critiques des consderations de madame de Staël sur la Révolution française, par M. J. Ch. Bailleul, ancien député. T. II. P. 275 et 281.
5 Эта конституция сообщена нам членом Конвента Дону; частые разговоры со Сьейесом дали ему возможность верно изобразить пружины этого малоизвестного политического механизма.
6 Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte Hélène T. I P. 248.
7 Слова эти взяты из записок Тибодо о Консульстве. В этих весьма любопытных записках имеется ряд политических разговоров Бонапарта, подробности относительно его внутреннего правления и относительно главных заседаний Государственного совета; все это проливает яркий свет на эпоху Наполеона-консула
8 Переводчик, не претендуя нисколько на исправления и опровержения некоторых в настоящее время далеко не всеми историками разделяемых мнений Минье, счел полезным собрать здесь те разъяснения, которые ему лично приходилось делать при чтении Минье людям, недостаточно знакомым с предшествовавшей революции историей Франции, с ее внутренним устройством и т. п. Не надо забывать, что, как ни популярно написана книга Минье, она все же написана для французского читателя. Примечания наши не претендуют даже на полноту, — далеко не все, нуждающееся в книге Минье в разъяснении и в дополнениях, нашло в них место, но полагаем, что все же они могут принести некоторую пользу.
К. Дебу
9 Champion Е. La France en 1789 // Histoire générale sous 1. r. De M-s Lavisse et Rambaud. T. VII.
10 Автор комментария слишком сужает понятие третьего сословия. В него, кроме горожан, входили крестьяне.
11 Блосс В. Французская революция. СПб., 1906.
12 Блосс В. Французская революция. СПб., 1906, С. 14 и 15.
13 Т. е. землям, не платящим подати (la taille), в чьих бы руках они ни находились.
14 Т. е. право наследования после вассала, в ущерб его наследникам, даже родным его детям, не жившим в момент его смерти под одной с ним кровлей.
15 Олар Ф. Великая французская революция. М., 1906. С. 80.
16 Олар Ф. Великая французская революция. С. 85–86.
17 Олар Ф. Великая французская революция. С. 187.
18 Олар Ф. Великая французская революция. С. 110–111.
19 Блосс В. Французская революция С. 139.
20 Олар Ф. Великая французская революция С. 160.
21 Олар Ф. Великая французская революция С. 160.
22 Вот характерная выписка из этого введения в Конституцию 1793 г.: „Общественные вспомоществования составляют священный долг. Общество обязано оказывать поддержку несчастным гражданам тем, что оно доставляет им работу, или тем, что оно обеспечивает средства к существованию неспособным к труду“ Здесь мы имеем нечто вроде признания „права на труд“.
23 Олар Ф. Великая французская революция.
24 Блосс В. Французская революция.
25 Блосс В. Французская революция



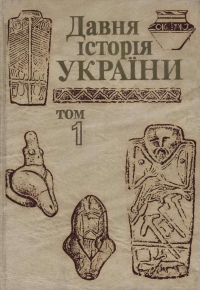
Комментарии к книге «История Французской революции с 1789 по 1814 гг.», Франсуа Минье
Всего 0 комментариев